В прицеле «Азов»
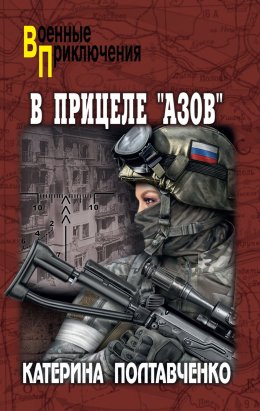
Военные приключения
«Военные приключения»® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательский дом «Вече». Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.
© Полтавченко К., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Пролог
В практически пустом городе, на немноголюдной улице к себе может привлечь внимание любой человек. Уже тем, что живёт здесь, идёт по улице, занят какими-то делами, не прячется, ведёт себя, будто так и надо («А что, город как город. Уехать? Не понимаю…»), он вызывает к себе некоторое уважение и симпатию, даже если ты не знаком с ним и не в курсе обстоятельств, заставивших его здесь остаться. В военном городе. На этих улицах – широких и пафосных, рассчитанных на огромную толпу, а теперь только и простирающихся на многие километры для таких вот смельчаков. Потому что никогда не знаешь, в какую часть этой улицы и в какой момент «прилетит»… И вообще, этой ли улицы или соседней. Или соседнего района…
Город миллиона роз превратился с некоторых пор в город миллиона сюрпризов. В основном печальных. Практически город-призрак, который только и удерживают ещё в реальном мире такие вот личности, как ни в чём не бывало идущие по улице по своим делам. Имеющие здесь дела.
Пока у людей есть дела именно в этом городе – город живёт.
Люди в камуфляже, пожалуй, привлекают к себе поменьше внимания. Как и автомобили защитной расцветки с белой латинской буквой Z на стёклах. Как раз, что они здесь делают – вполне понятно. С 24 февраля 2022 года, когда российским президентом была объявлена специальная военная операция, призванная защитить республики Донбасса от вооружённой агрессии украинских властей, такая картина здесь стала повседневностью. Да и не стоит на них чересчур пялиться. Люди работают. Проходи мимо – не всё тебе надо знать.
И тем не менее девушки в военной форме невольно обращают на себя внимание. Нежные феи с маникюром, аккуратной причёской и подкрашенными ресничками, облачённые в камуфляж, вызывают сложную гамму чувств, являющую собой в основном смесь грусти и восхищения. Не камуфляж бы им носить, а летние сарафанчики, не берцы, а туфельки на высоких каблуках. А уж если представишь, как эти наманикюренные пальчики ловко управляются с автоматом или снайперской винтовкой, меняют патроны, чистят ствол… Со всей ясностью понимаешь – не так что-то пошло в этом мире, нарушился некий порядок вещей, предписывающий этим девочкам заниматься совершенно другими делами. Более мирными. Более красивыми. Более…
А, собственно, эти девчонки, если подумать, и занимаются здесь мирными делами. Учитывая, что в этой кривой реальности часто именно оружие хранит мир.
Невысокая девушка в камуфляжных брюках и футболке, облегчённых берцах и жёлтых стрелковых очках на пол-лица, вышагивающая в этот жаркий летний день по улице Университетской, в общем-то не особенно была похожа на нежную фею. Скорее вызывала ассоциации с фэнтезийными сериалами об амазонках и всевозможных девах-воительницах, которые её же поколение увлечённо смотрело в девяностых. Крепкая ладная фигурка, уверенная и скупая на движения походка – каждый шаг, каждый взмах руки будто загодя продуман, в резких движениях своеобразная грация пантеры, готовящейся к прыжку. Густые светло-русые волосы, вызывающие совершенно неуместную и грустную ассоциацию с пшеничными полями Украины, подстрижены в каре, но не хотят послушно лежать в причёске – лёгкий ветерок, будто заигрывая, бросает их девушке на лицо, оглаживает прядями щёки, будто ласкает. Камуфляжная кепка висит на боку, пристёгнутая к поясу, – единственная вольность, позволенная себе в увольнении. Ну, ещё нет за плечом верной «эсвэдэшки» – без неё девушка явно чувствует себя неуютно.
Впереди показались здания Донецкого национального университета. Девушка неспешно перешла проезжую часть, остановилась перед крыльцом филологического факультета. Остановилась, будто глубоко о чём-то задумавшись или что-то вспоминая. Теперь здесь малолюдно, хотя и время экзаменов. Всё обучение в донецких вузах проходит дистанционно. Если бы не война, толпились бы студенты на крыльце, проходили строгие преподаватели, девчонки хихикали, обсуждая чью-то личную жизнь или новую покупку, а парни темпераментно обсуждали новую компьютерную «стрелялку».
Теперь все «стрелялки» только в «реал-тайме» – на передовой.
Девушка вздохнула и совершенно будничным, усталым движением сняла очки. И все, кто мог бы видеть её в этот момент, удивились бы – насколько может поменяться облик человека, стоит лишить его привычного аксессуара. Теперь это была уже отнюдь не фэнтезийная амазонка. За сплошным жёлтым стеклом стрелковых очков скрывались огромные, опушённые длинными ресницами и будто всё время удивлённые серо-голубые глаза, в которых чётко отражалось расчерченное белоснежными инверсионными следами небо – казалось, подойди, всмотрись и утонешь, провалишься в это самое небо и улетишь к облакам…
Никто ведь не видел, как эти глаза могут становиться опасными и холодными, когда глядят в прицел снайперской винтовки. Такой взгляд для посторонних не предназначен, а тем, на кого он направлен, жить оставались считаные доли секунды…
Но сейчас эти серо-голубые глаза в сочетании с симпатично-округлым овалом лица, аккуратным чуть курносым носиком и льняной копной волос вызывали мирные ассоциации с гоголевскими героинями – девчатами в веночках, собиравшимися на вечерницы, поющими колядки на Рождество и гадающими на суженого. Образ, довольно-таки редкий для края роз и терриконов, хоть и позиционирующего себя как многонациональный. Казалось, что и имя её должно быть соответствующим – какая-нибудь Галя, или Маричка, или, допустим, Оксана…
– Юля! Глазам своим не верю! Ты ли это?
Девушка вздрогнула – она явно не ожидала встретить сейчас здесь знакомых. И встреча её явно не очень обрадовала, хотя и не особенно огорчила.
– А, Витёк, – небрежно бросила через плечо, даже не обернувшись полностью, только чуть повернув голову в сторону собеседника. – Могу задать тебе тот же вопрос – ты ли это? Я слышала: из дому не выходишь, от призыва прячешься. Никак за пивком вышел короткими перебежками? Или за сигаретами?
Голос у девушки был низким, чуть хрипловатым, но благозвучным, однако сейчас в нём сквозило ничем особо не скрываемое презрение к давнему знакомому, с которым когда-то на первом курсе вместе «грызли гранит науки». Юлия, допустим, не догрызла – посчитала, что в то время другие дела важнее, но и Витька довольно быстро зубы сломал…
Молодой человек это презрение, по-видимому, ощутил всей кожей – вздрогнул, стушевался, но тут же взял себя в руки, в глазах заплясали злые огоньки.
– А тебе-то что?
Девушка безразлично пожала свободным от снайперки плечом:
– Ровным счётом ничего. Ползи дальше за своим бухлом и куревом. Успешного дезертирства.
– Ты… Да ты… – Откровенно говоря, самое разумное, что мог сделать в данной ситуации этот Витёк, – действительно последовать доброму совету и исчезнуть за ближайшим углом, а отнюдь не лезть с разговорами к человеку в военной форме. Но в том-то и дело, что, сколько знала его Юля, не отличался он разумным подходом к жизни, а её и вовсе воспринимал по каким-то своим непонятным соображениям, как собственную молчаливую поклонницу, которая не вешается ему на шею только потому, что подойти стесняется. Юлька его особо не разубеждала – как говорится, чем бы дитя ни тешилось… Но одно дело, когда «дитю» при этом лет семнадцать-восемнадцать, и совсем другое, когда восемь лет прошло, а ума он и до сих пор, судя по его дальнейшим словам, не набрался.
– Кто б говорил про дезертиров! – Витькин голос сорвался и пустил петуха. – Вон, слышала, как мы землячков твоих по всем фронтам гоняем…
– «Мы»? – с насмешливым удивлением приподняв брови, уточнила Юлия. – Может быть, лично ты где-то отличился?
Витёк выпятил грудь и открыл было рот, намереваясь что-то ответить, но тут же как-то сник, замялся. Ответить было решительно нечего.
– За землячков не отвечаю, – со спокойным достоинством сообщила девушка. – Небось, все с паспортами, своя голова на плечах. А вот меня упрекнуть не в чем. Я с самого начала пошла в армию защищать эту землю и с большим основанием могу теперь считать её своей, чем ты… коренной дончанин.
Бывший однокурсник был явно не из тех, на кого подобные высокие понятия производят впечатление.
– Так, может, тебе медаль за это дать? – спросил с язвительной улыбочкой.
– Может, и дать, – без тени улыбки согласилась Юлия. – Только не ты меня к ней представишь.
– Ой, да ладно! Небось, в тылу под кустами отсиживалась, а теперь камуфляж напялила и выпендриваешься. Ну, что ты там делала? Жратву, наверное, готовила? Полевая кухня, а? На что ещё там бабы годятся?
– Можешь считать так, если нравится, – легко согласилась Юлия. – Кстати, на полевой кухне ещё сумей поработать. Ты-то уж точно через час свалишься.
– Очень оно мне надо! – с величайшим презрением хмыкнул Витёк. – В армию идут одни идиоты…
– Чтобы вместо тебя твой город защищать?
– Ой, слушай, Юлька, не дави на совесть! Побывала где-то на побегушках – и уже королева… Слушай, а может, ты там не того… другие боевые задачи выполняла? Мужиков же там много…
Закончить мысль «диванный эксперт» не сумел, поскольку в следующую секунду обнаружил себя лежащим на асфальте, в глазах яркими звёздочками вспыхивал фейерверк, а сквозь него красиво просматривалось где-то вверху голубое небо с белоснежными инверсионными следами. Двое проходивших мимо военных обернулись, бросили взгляд на лежащего долговязого парня с фингалом под глазом, потом на невысокую девушку в камуфляже и сделали вид, что ничего не заметили. Только понимающе усмехнулись. Вот в этом случае вызывать патруль военной комендатуры было явно лишним…
Когда фейерверки в глазах Витька слегка угасли, Юлии рядом уже не оказалось, зато мимо проехал патрульный автомобиль.
– Блин! – наконец-то вспомнил о своей незавидной судьбе парень и исчез за ближайшим углом…
А девушка, поднимаясь по лестнице в приёмную комиссию, размышляла про себя: «Вот интересно, и почему именно у прячущихся от армии такой длинный язык? По логике вещей, раз уж «морозишься» – сиди и молчи в тряпочку. Он же сегодня несколько раз нарваться мог! Да хотя бы и я вполне могла пойти и доложить в комендатуру. По-видимому, трусливая натура, отсутствие мозгов и длинный язык как-то между собой взаимосвязаны».
Она не стала доносить на бывшего однокурсника в комендатуру из сочувствия отнюдь не к нему, а к армии ДНР. Если туда наберут таких, победы Донбассу точно не видать.
Глава 1
Видимость мирного города
Был же нормальный мирный город, так нет – надо было его освобождать! Освободили…
Из телефонного разговора
Мариупольская зима обычно снегом не радует. Разве что мокрым, липким, тут же переходящим в дождь. К вечеру, правда, слегка распогодилось, но тучи продолжали бродить по серому небу, всем своим видом грозя возможными осадками.
Жителей большого рабочего города это, впрочем, не пугало. Ярко светились городские огни – всевозможные кафе, супермаркеты и маленькие магазинчики работали допоздна. Сияли рекламные щиты, среди которых неизменно мелькал патриотичный жёлто-голубой лозунг: «Марiуполь – українське мiсто»[1].
Скользя по ледяным тротуарам, осторожно переступая самые опасные места, мариупольцы тем не менее домой не спешили. Бродили по улицам, глазели на витрины, заходили за покупками, невольно проникаясь проходящей красной линией во всех средствах массовой информации гордостью: «У нас здесь нет комендантского часа – не то что в соседних так называемых “ДНР” и “ЛНР”…»
Приставка «так называемый» и кавычки были неизменным атрибутом любого понятия, должности или организации, находившихся в упоминаемых республиках – непризнанных, но просуществовавших уже тем не менее восемь лет. На это уже даже внимания не обращали – когда у тебя постоянно что-то перед глазами и на слуху из каждого утюга, так или иначе начинаешь воспринимать это как должное и уже не представляешь, как может быть по-другому. Да и станет ли обыватель вдумываться, что-то сопоставлять?.. Ежедневных забот хватает.
Иногда, правда, ходили некие разговоры. «Нелояльные» разговоры, неправильные… Поэтому – исключительно вполголоса, с оглядкой и на кухне. Ну не привыкать нашему народу с оглядкой и разговорами вполголоса на кухнях входить хоть в коммунизм, хоть в Европу. Не привыкать не верить тем, кто нам это обещает, но улыбаться и кивать показательно – достигнем, конечно, достигнем «светлого будущего», никто ж не сомневается, только тут бы о настоящем подумать…
И это тоже воспринималось как норма. А как же иначе? На улице опасно – не дай бог, эти услышат. А там, кто его знает – вон, сосед Марии Фёдоровны, мужик горластый и резкий, недавно в очереди в банк за не слишком большой пенсией высказался критически в адрес украинской армии, так сейчас от него что-то ни слуху ни духу. Уже неделю как не видно. А в школе, где учится внучка Натальи Петровны, недавно учительницу истории уволили. Да, вот так взяли и совсем уволили. Ну, вроде бы она там что-то сказала по поводу русского языка в школе, чтобы совсем его не отменять… А может, что-то ещё сказала, мы ж не знаем… Нет, ну что вы, она никуда не пропала – вон, на рынке цветы продаёт. Ну, кто ж её теперь в школу работать пустит? Правильно, наверное, язык должен быть только государственным… Хотя… Голос понижается до шёпота, в котором проскальзывает оправдательное: «Так я ж ничего, я только говорю, что знания языков лишними не бывают…»
А разговоры продолжались шёпотом, с предварительной проверкой, не сидит ли кто на лавочке под окнами, плотно ли закрыта форточка. О действующей в республиках с 2017 года гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса – своеобразном политическом ходе Донецка и Луганска в противовес безразличию киевских властей к собственным гражданам. Программа была направлена прежде всего на медицину, образование, выплаты ветеранам и помощь семьям, которых разделил вялотекущий вооружённый конфликт. Об украинской власти, которая, наоборот, неприкрыто презирает жителей «неблагонадёжных» регионов, и у неё снега зимой не допросишься. О разрыве выстроенных за многие годы связей между предприятиями, оказавшимися теперь по разные стороны фронта. О том, как родственница ездила в Донецк делать операцию, и какие там профессиональные врачи, и стоит всё дешевле, а обслуживание выше всяких похвал, да и просто отношение человеческое. О том, как у соседки дочка взяла да и уехала туда, и поступила в Донецкий политехнический… Да-да, принимают и с этой стороны, да ещё и льготы какие-то… О том, что за коммуналку «там» не выкладывают всю зарплату и пенсию, да ещё и сверх того занимают… Что? Субсидии? А зачем они им? Так газ же (шепотом с оглядкой) из России… Вы послушайте, какие у них тарифы и сравните…
Надоедает шёпот за закрытыми окнами, надоедает напряжение, надоедает необходимость следить за каждым своим словом на работе, и вечером люди расслабляются, гуляют, смотрят на неоновые рекламные огни, убеждая себя, что всё совсем не плохо. Вот, комендантского часа нет, например.
В «тоталитарных сепаратистских республиках», наверное, уже все по домам сидят, только полиция ходит с автоматами. Недавно вроде чья-то знакомая приезжала сюда за пенсией, так восхищалась, смотрела, как на чудо, – говорила, что уже давно вечернего города не видела… Да, она сама и говорила… Ну, то есть с её слов рассказывали… А может, репортаж на эту тему был в новостях, сейчас уже и не вспомнить… Да и какая разница? Просто не говори лишнего да избегай, на всякий случай, этих на улице, да и живи себе спокойно… ну, почти спокойно.
Там, где по улице проходили эти в камуфляже и с эмблемой «Азова» на рукавах, вокруг них заметно образовывалось пустое пространство.
Они демонстративно не замечали такого к себе отношения, презрительно ухмылялись.
Они считали себя в этом городе хозяевами.
Небольшой магазинчик на тихой улице, ведущей к частному сектору, в это время тоже ещё не закрывался. За стойкой скучала внушительной комплекции продавщица с высокой причёской, взбитой в своеобразном художественном беспорядке по моде давно ушедших восьмидесятых годов – точнее, в беспорядке, соответствующем художественному вкусу гранд-дамы. Несколько припозднившихся покупателей задумчиво бродили между полок с товарами – выбирали продукты на ужин. Продавщица взирала на них с безразличием и лёгким раздражением – и чего бродят? Выбирали б побыстрее, да и шли себе с богом…
– Так, магазин закрывается! – Всё молчаливое раздражение обернулось на входившего посетителя – крепкого румяного мужичину средних лет в хорошей кожаной куртке с меховой опушкой. Посетитель сообщению не внял – пройдя между прилавками с овощами напролом, как танк, опёрся о стойку и, дохнув на продавщицу недешёвым куревом, осведомился громогласно:
– Дiвчино, а чому не українською мовою? Ось я на вас скаржитись буду[2].
Однако любительница моды восьмидесятых годов не испугалась, как следовало ожидать, а, узнав, по-видимому, посетителя, хмыкнула и чуть подалась внушительным бюстом через прилавок ему навстречу.
– Тю, Степан, шо б ты ещё мне рассказал? Шоб ты ещё сам ту свою украинскую мову знал! Та иди жалуйся хоть сто раз! Только кому?
Посетитель хмыкнул и придвинулся поближе.
– Шо, сам тут, у себя? – спросил вполголоса.
– Та гляди, как же! Укатил с полдня. Будет он тут тебе сидеть! Это мы, люди подневольные…
– Ладно, не бидкайся[3], Валентина. По тебе видно, какая ты подневольная. Сумки-то домой таскаешь, а?
– Все жить хотят, – пожала плечами продавщица. – У всех семья…
– Та какая у тебя семья! – прогрохотал Степан и, нервно оглянувшись, приказал: – Гони этих лохов в шею. Всё равно ничего не купят. А тут разговор есть.
– Магазин закрывается! – громко объявила Валентина, однако немногих посетителей уже и след простыл – только один мужичок в потёртой, видавшей виды куртке и чёрной шапочке, подвёрнутой на ушах, подзадержался, глубокомысленно разглядывая прилавок с пиццей и гамбургерами. На знакомом продавщицы Валентины не было сейчас ни камуфляжа, ни нашивок с изображением нацистского «волчьего крюка», однако «азовцев» мирные обыватели чуяли за версту – уже каким-то особым звериным чутьём, которого сроду не бывает у мирных обывателей в обычном мирном городе, ни к чему им. Хотя Мариуполь, конечно же, город мирный, спокойный…
– Та пусть, – махнул рукой Степан. – Оно им триста лет не надо… Так вот… – Он наклонился к дородной Валентине и ещё больше понизил голос: – Сегодня жду его на школе, как обычно. Там и перетрём всё. Скажи ему только, если он хочет оставить за собой эту сеть, пусть выполняет наши условия. Проблем не надо никому, а мы ему их таки создадим, если будет выкобениваться. Вот так прямо и скажи.
Во время всей этой речи продавщица Валентина как-то преобразилась, вытянулась и, кажется, даже похудела, взгляд её из мутно-равнодушного стал серьёзным и холодным. Когда её посетитель закончил говорить, она лишь коротко кивнула, принимая сказанное к сведению, и… тут же, как по волшебству, преобразилась обратно, будто в её тело, как в кино, на миг вселялась другая личность.
– Мужчина, так вы будете шото брать или нет? – громко, с профессионально-скандальными нотками в голосе обратилась она к запоздалому посетителю. – Шо вы там мнёхаетесь?
Мужчина в потёртой курточке уже шёл к ней с охапкой гамбургеров и кофе в пакетиках. От неожиданного окрика вздрогнул, один гамбургер выронил и неловко затоптался на месте, пытаясь его поднять и не выронить при этом всё остальное. Был он высокий, несколько нескладный и весь какой-то мягкий, с внушительным брюшком, делавшим его похожим на большого мохнатого медведя, продающегося неподалёку в магазине игрушек. Близорукий щурящийся взгляд только усиливал ощущение полной безобидности и даже некоторой беспомощности, исходящей от этого человека.
Валентина раздражённо подняла к потолку густо обведённые чёрным карандашом глаза.
– Ох ты ж боже ж мой! И зачем столько набирать, руки всего две. Та подходите ж уже к кассе, я вам пакет дам. – И вполголоса добавила: – Сам уже как гамбургер, а всё гребёт. Всё никак не наедятся…
Степан только ухмыльнулся, наблюдая эту сцену.
– Ладно, Валя, задержался я у тебя. Пойду.
– Ну, ты заходи ещё, Степанчик, – защебетала Валентина. – Как будет моя смена, так заглядывай.
– Хм… – Он снова бросил оценивающий взгляд на внушительный бюст, улёгшийся на прилавок так, будто тоже поступил в продажу. – Я смотрю, не особо ты тутошнему хозяину верная.
– Я себе верная, Степанчик. – В подведённых глазах на миг опять проступила «другая личность». – Кто мне больше платит, тому и верная.
– Резонно, – одобрительно хмыкнул её собеседник. – Правильный подход к жизни имеешь. Деньгами не обижу, только ж и ты смотри…
– Да-да, – согласно качнула «взрывом на макаронной фабрике» Валентина.
В дверях Степан столкнулся с неловким посетителем, не глядя, отодвинул его плечом и первым вышел из магазина. Тот виновато прищурился.
Но если бы кто-то мог видеть его со стороны, когда он вышел вслед за Степаном, поразился бы произошедшей в нём перемене. Исчез неловкий безобидный человек, напоминающий большого плюшевого мишку. Близорукий беспомощный взгляд сделался острым и внимательным – казалось, в нём даже мелькнул красноватый отблеск прицела, когда он провожал взглядом удаляющуюся широкую спину «азовца» Степана. Внимательно провожал до тех самых пор, пока спина эта не приблизилась к перекрёстку и не исчезла за поворотом. Потом окинул быстрым взглядом улицу, ближайшие дома, будто что-то про себя прикидывал, кивнул, соглашаясь с какими-то мысленными расчётами, и направился в противоположную сторону к трамвайной остановке. Бесшумным и мягким шагом, будто танцуя, – казалось, даже следы тут же заметались свежим снежком, будто бы он был с погодой в сговоре. Внимательный и знающий наблюдатель легко вычислил бы по этой походке человека, длительное время осваивающего технику китайского боевого искусства вин-чун.
Только отнюдь не рассчитано это преображение на посторонних наблюдателей. Улица в этот час оказалась совершенно пустой.
– Для полного антуража мне бы ещё машинку старенькую. Эх, где сейчас дедов «жигуль», – автоматчик Игорь Полёвкин с позывным «Философ» глубоко вздохнул, губы его чуть тронула характерная улыбка, появлявшаяся каждый раз, когда он вспоминал о чём-то приятном или забавном. Он тщательно проверял боекомплект своего «калашникова», что не мешало ему, однако, излагать в ролях вечерний поход в магазин.
В такие моменты человеку, не знающему его, могло бы показаться, что «Философу» разглагольствовать – не мешки ворочать, и к делу, да и вообще к жизни он относится совершенно несерьёзно. И сам он это впечатление зачем-то периодически поддерживал, невозмутимо заявляя: «Я донецкий разгильдяй мариупольского разлива». Сообщение смысла не имело, поскольку те, кому доводилось его постоянно слышать, прекрасно знали, что в своём деле Игорю равных нет. Автомат он мог разобрать и собрать обратно с закрытыми глазами, его тонкие пальцы интеллигента, казалось, не вязавшиеся с внушительной фигурой, в эти моменты будто исполняли классическую музыку на фортепиано. В разведгруппе шутили: «Можно вечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как “Философ” собирает автомат».
Понятно, что на шутливо-критические характеристики, даваемые Игорем самому себе, товарищи не реагировали, относились, как к шуму ветра, только Юлька бесилась, фыркала и уходила в сторону: «Пора новую шутку придумать, эта надоела уже». – «Юленька, у меня ж ни мозгов, ни фантазии придумывать что-то новое», – неизменно отвечал на это счастливый обладатель двух высших образований, способный часами рассуждать на тему восточной философии, за что и получил свой позывной.
– Ты ж говорил, дедов «жигуль» так и стоит где-то у тебя во дворе, в гараже, – напомнил худощавый флегматичный радист Димка, дожёвывая принесённый товарищем гамбургер.
– Стоит, – грустно согласился «Философ». – И дом стоит пустой. Вот бы где и устроить было днёвку, да нельзя. И приближаться туда нельзя – соседи вокруг, на глаза кому-то запросто попадём. А меня тут многие узнать могут.
– Мог бы и не объяснять, – хмыкнул Димка. – Да и машина, наверное, не на ходу. Уже сколько лет там простояла, и не ездил на ней никто – ты прикинь! Давно уже всё ржавчиной покрылось…
– Не факт, – неожиданно донёсся комментарий из того угла, где Юлька заряжала свою «эсвэдешку». До сих пор оттуда доносилось лишь ритмичное характерное: «щёлк, щёлк, щёлк», и теперь парни вздрогнули от неожиданности и обернулись. Разговоров об автомобилях, как и о любой технике, Юлька в принципе не поддерживала. В том числе, как ни парадоксально, и об оружии.
Долгие разглагольствования о затворах, коллиматорных прицелах, коробчатых или барабанных магазинах большой вместимости и прочих премудростях неизменно вызывали у снайпера Юлии с позывным «Пантера» только лишь тоску зелёную. «Чего об оружии разговаривать, из него стрелять надо, – неизменно заявляла она. – А я вообще девочка, мне эти темы неинтересны». Боевые товарищи, которые видели эту «девочку» на боевых, только фыркали.
Между собой не раз вспоминали случай, когда к Юльке в увольнении подкатил некий «диванный аналитик», коих обычно разводится великое множество, стоит где-нибудь начаться боевым действиям. Юлия была одета «по гражданке», являла собой нежнейший образ белокурого голубоглазого ангелочка, и парень по неосторожности решил блеснуть перед прекрасной незнакомкой, расписывая ей прелести западного вооружения. Что заставило его выбрать столь скользкую тему, так и осталось загадкой – по-видимому, решил, что в таком специфическом вопросе девушка точно не разбирается и потому будет слушать его открыв рот.
– Я бы не сравнивала американский Barret-M82 с нашей винтовкой Драгунова, – невозмутимо заявила Юлия, казалось, думая в этот момент вообще о чём-то своём. – Вы же учитывайте, что «Баррет» создавалась не столько для борьбы с живой силой противника, сколько для уничтожения техники… ну, или ее критического повреждения. Из 12,7‑миллиметровой винтовки можно в автомобиль или вертолёт попасть с расстояния более двух километров. А на средней дистанции она легко прошьёт лист брони до трёх сантиметров. «Драгуновка» же изначально выпускалась с шагом нарезов ствола 320 миллиметров, как у спортивного оружия. Это обеспечивало лучшую кучность стрельбы, но, понимаете, нет здесь однозначного понятия «лучше – хуже». Достоинство может стать в чём-то и недостатком. Например, рассеивание бронебойно-зажигательных пуль, наоборот, при таком шаге резко увеличивается. Поэтому шаг нарезов со временем решили изменить на 240 миллиметров. Казалось бы, меньше, кучность хуже…
«Эксперт», кажется, уже мало что соображал. Сидел, глядя на девушку, как на аномальное явление, и молчал, хлопая глазами. А Юлия, продолжая думать о чём-то своём, закончила речь, рассеянно попрощалась и ушла, оставив несостоявшегося ухажёра в полнейшем когнитивном диссонансе.
Сослуживцы же порой и сами не смогли бы сказать, как они относятся к этой немногословной девушке с весьма неоднозначным характером, состоявшим, казалось, из сплошных противоречий. Имея довольно-таки привлекательную внешность «девушки с обложки», она напрочь была лишена обычного женского кокетства, хотя отнюдь не избегала мужского внимания, комплименты принимала со спокойным достоинством, но не любила при этом банальности вроде тоста «за милых дам». Какой темой в разговоре можно было бы её увлечь, боевые товарищи только догадывались, хотя и прослужили с ней вместе уже довольно длительное время – казалось, она и сама этого не знала наверняка. Но часто бывало так, что то, от чего она вчера ещё могла зевать и морщиться, сегодня уже вызывало её живой интерес, однако от чего зависели такие перепады в настроении и увлечениях, оставалось загадкой. Юля была интеллигентна, начитана, но при этом не падала в обморок от крепких словечек, могла сама их употребить метко и к месту, однако именно перед ней почему-то смущались и приносили извинения за нецензурные ругательства, хотя она никогда никого за них не отчитывала. О себе говорила мало, держалась особняком, но при этом сохраняла со всеми ровные дружеские отношения, могла посмеяться над весёлыми шутками, в общении была проста, но не вульгарна, невольно заставляя уважать себя каждого, кто с ней общался. Было в ней что-то такое… изысканное, чуть ли не аристократическое – в глаза не бросалось, но улавливалось на уровне подсознания, хотя, как уверяла сама Юлия, аристократов у них в роду никогда не водилось – одни «гречкосеи».
Подобное словечко выдавало в ней явно неместную. И это тоже было правдой, приехала она – тогда еще до войны – поступать в Донецкий национальный университет из Полтавщины.
– Что не факт, Юля? – непонимающе спросил Димка.
– Не факт, что машина не на ходу, – пояснила девушка. – У нас во дворе стояла долго соседская машина. Ну, точно, несколько лет – зимой снегом покрывалась, летом её солнце жарило. Между собой все смеялись – вот, значит, достоится до того, что распадётся на металлолом, и всё. Никто ни разу не видел, чтобы сосед на ней куда-то ездил. А недавно мне мама написала, что исчезла машина уже с неделю как. И сосед исчез – на окнах жалюзи, его не видно. Уехал, значит. Фотку прислала – наш двор без этой машины. Непривычно аж как-то[4]…
Все заухмылялись, послышались удивлённые возгласы. И дело было не только в том, что случай довольно-таки странный. Нечасто Юлька рассказывала что-то о своей родине – в основном отмалчивалась. А уж когда её родную Полтавщину начинали сравнивать с Западной Украиной, при этом непонимающе пожимая плечами, – мол, какая разница? – и вовсе уходила в себя. Из всех её донецких знакомых только Игорь «Философ» видел разницу – ещё в мирные времена довелось ему побывать и на Западенщине в детстве с матерью, где, как он уверял, его приняли за своего – так хорошо говорил по-украински, и в Полтаве, куда уже взрослым приезжал просто погулять, отдохнуть от деловитой суеты края роз и терриконов.
– Так что, думаешь, надо мне «жигуль» проверить? – мягко улыбнулся Игорь. – Вдруг заведётся?
– Сейчас не надо, – улыбнулась в ответ Юля. – Вот освободим Мариуполь, тогда и приедешь победно в Донецк на дедовом «жигуле».
– С победным грохотом, как лягушонка в коробчонке, – подхватил радист Димка. – А ещё как махнёшь левым рукавом – кости посыплются кому-то в глаз, махнёшь правым – пивом всех забрызгаешь…
Вполне великовозрастный Димка, как ни странно, любил сказки, знал их все наизусть, но цитируемые им сейчас сцены из «Царевны-лягушки» как раз очень подходили к «Философу», который, задумавшись, мог что-нибудь уронить или пролить. Вокруг снова послышались смешки.
– Так, ну хватит, отставить разговоры не по делу. – Из угла большого помещения с кирпичными стенами поднялся высокий худощавый человек с тонкими, даже, можно сказать, аристократическими чертами лица. В коротко стриженных волосах поблёскивала седина, хотя лицо было довольно молодым. Командир диверсионно-разведывательной группы Фёдор Можейко в общих разговорах участвовал редко, больше отмалчивался. До сих пор никто не знал, откуда он родом, есть ли семья, где служил раньше. Однако каждый из его подчинённых знал, что может обратиться к нему с любым вопросом или проблемой, и проблема впоследствии волшебным образом решается. Совершенно буднично, без лишних слов.
Острый взгляд окинул группу одного за другим, остановился на Игоре «Философе».
– Говоришь, встреча у них в школе. И ты знаешь, какая это может быть школа?
– А там, товарищ капитан, поблизости только одна школа. Я в ней учился. С закрытыми глазами найду.
– С закрытыми глазами – это лишнее, – позволил себе шутку командир. – Глаза, а также уши – наш главный инструмент. Значит. ты, Игорь, и поведёшь. Проверим эту школу – насколько я понял из твоего рассказа, у них там серьёзная встреча.
– Разборки местных авторитетов, – вполголоса хмыкнул радист Димка. – Девяностые, блин…
– Отставить, – взгляд переметнулся на радиста. – Девяностые или не девяностые, но этих «авторитетов» мы должны запомнить. И доложить о них, куда следует. Авторитеты, бывает, меняются.
Это глубокомысленное заявление, которое могло бы опять сойти за шутку, было произнесено без намёка на улыбку, а острый взгляд, казалось, мог видеть сквозь кирпичную стену. Между собой ребята сплетничали, что их командиру ни к чему очки ночного видения – он и так видит в темноте, как кошка, а носит их исключительно, чтобы никто не догадался.
– Через пять минут выходим. Всем сверить часы.
Шутки стихли, лица стали серьёзными, в заброшенном доме на окраине ощутимо повеяло холодом – небольшой костёр, сложенный из сухих веток, догорел. Очередной временный приют был оставлен. Диверсионно-разведывательная группа отправлялась на задание.
Снег не скрипит под ногами – он здесь несмелый, сырой и тут же тает, только успев коснуться земли. Следы заметает свежим снежным налётом, который моментально превращается в кашу под ногами. Удобная погода для того, чтобы быть незаметными.
Заряженная СВД с глушителем, массивным оптическим прицелом и складным прикладом привычно оттягивает плечо. Возможно, она тяжёлая, но Юлька уже давно научилась этого не замечать. Ладонь лежит на висящем у бедра укороченного «Калаша», как на холке верной собаки – друга, который не предаст. Всё это уже воспринималось как должное, как нечто неотъемлемое от себя. Когда-то она думала, что это невозможно. И ведь не так уж много времени с тех пор прошло, а кажется, несколько жизней…
Впереди маячит спина Игоря «Философа». Едва заметно – то ли человек, то ли тень, а то ли и вовсе галлюцинация. Скользит бесшумно между давно уже нежилыми домами, между полуразрушенными постройками. Серовато-белый, мешковатый и грязноватый маскхалат органично сливается с заснеженным пейзажем – посторонний и не поймёт, то ли человеческая фигура движется, то ли снег повалил гуще, то ли качающийся впереди фонарь создаёт иллюзию непонятного движения.
Со всех сторон по стенам давно уже никому не нужных строений скользили такие же люди-тени – её боевые товарищи. По безлюдным пригородам, по глухим закоулкам пробирались в город, на нужную улицу. Никто не терял из виду Игоря, знавшего дорогу, по которой можно пройти незамеченными. Правда, город большей частью и так уже спал, но рисковать не следовало. Большой город, комендантского часа нет, конец рабочей недели… Забытые реалии из мирной жизни, которые теперь следовало себе напомнить, чтобы из-за глупой случайности не провалить задание.
Шорох из подворотни. Чуть слышное бормотание. Совсем рядом… Юлька скользнула за угол, уйдя от света фонаря. Белые неясные фигуры рассеивались, растворялись, становились частью неприглядного пейзажа, чтобы не привлечь внимания неизвестного. Возможно, это слуховой обман и никого здесь нет – только ветер воет за углом. Острый взгляд снайпера прошёлся по кривому домику с покосившейся крышей – ей показалось, что в маленьком окне с приоткрытой трухлявой ставней мелькнул свет. Неужели здесь может кто-то жить? Вот тебе и заброшенный район… Свет продолжал неровно мигать – то ли свечка, то ли отблеск уличного фонаря на стекле. Верный АКСУ мгновенно ожил и привычно лёг в ладони, беспрекословно исполняя команду хозяйки. Увенчанный толстой трубкой глушителя ствол деловито и неспешно прохаживался по хлипкой постройке – окно, стена, угол дома… Стоп. Свет в окошке исчез, хотя фонарь продолжал светить, неровно покачиваясь на ветру. Значит, человек вышел…
Медленно текли минуты. Покачивался и скрипел на ветру фонарь. Юлька сама превратилась в этот фонарь, эти хлипкие покосившиеся стены, этот равнодушный снег. Ни движения, ни дыхания – только взгляд. Острый, как ядовитая стрела, взгляд сквозь мушку и целик автомата…
Несколько долгих минут ничего не происходило, потом из-за угла невзрачного домишки явственно выдвинулась фигура. Высокая, несуразная, пошатывающаяся. Бородатый растрёпанный мужик в ватных штанах, валенках и растянутом вязаном свитере с огромным воротом двигался прямо в сторону притаившейся за углом Юльки, щедро подставляясь прямо под прицел. Он явно не был тем, кого им следовало вычислить. Полуночный бомж, ищущий себе ночлег среди этих нежилых строений. Однако он шёл прямо к ней, и выбора не было…
Палец лёг на спуск, укороченный «Калашников» смотрел чётко в грудь бородатого мужика. Считаные секунды и…
Бомж остановился в нескольких шагах от прицелившегося снайпера, задумчиво почесал бороду, будто вспоминая, куда это он только что собирался. Мутный нетрезвый взгляд был устремлён куда-то в пространство, а возможно, глубоко в себя. Казалось, выйди сейчас Юлька из укрытия и встань прямо перед ним со своим автоматом – не заметит. Один он здесь? А если нет? Прошла казавшаяся бесконечной секунда, прежде чем обладатель нечёсаной бороды пришёл к выводу, что за соседний угол ему не надо, развернулся и поковылял обратно к своему ночлегу. Снег, ещё несколько минут бесшумный под осторожными шагами разведывательной группы, под ним скрипел теперь, как несмазанное колесо телеги.
«Дуракам и пьяным всегда везёт», – всплыла в памяти известная истина. И вслед за ней фраза доктора Ливси из «Острова сокровищ»: «А сейчас мы спасём эту трижды никому не нужную жизнь». Будет вот так дальше жить, бродить бездумно, пить водку и не узнает, что однажды оказался в нескольких шагах от собственной смерти. А если бы узнал – изменило бы это что-то в его мировоззрении? Вряд ли.
Прошло несколько минут после того как утих скрип снега под тяжёлыми шагами, когда Юлька перестала быть фонарём, стенами и снежным пейзажем и снова стала собой. Отлепилась от стены, безошибочно отыскала взглядом будто из воздуха нарисовавшиеся вновь фигуры товарищей и продолжила неслышное движение к цели. Неслышное движение вооружённых людей по ночному мирному городу.
Мирному ли?
Слишком большую цену иногда приходится платить за мир в твоём городе. Да и мир выходит на самом деле хрупкий, стеклянный, кажущийся – именно из-за этой цены. Слишком о многих событиях ушедшего уже 2014 года жителям Мариуполя пришлось забыть, либо делать вид, что их и вовсе не было… И ходить с тех пор, как по тонкому льду, не глядя по сторонам, чтобы не заметить фигуру в камуфляже с нашивками «Азова» на рукаве.
Признак отнюдь не мира…
Формально они здесь считались «захисниками». Защитниками. «Защитниками чего?» – перешёптывались между собой мариупольцы, стараясь, чтобы это было не слишком громко. Однако людям, действительно, было непонятно, что именно пришли защищать эти агрессивные люди (люди ли? У многих местных всерьёз были сомнения) на их земле. Они здесь казались более чужими, чем находящаяся всего лишь в нескольких километрах Россия. Да и зачем от России защищать?
«Марiуполь – українське мiсто» – этот лозунг казался и вовсе непонятным. Нет, дело вовсе не в том, что жители города не знали украинского языка. Отчего же – знали, в школе проходили, а старшее поколение училось ещё при УССР. К тому же, как любому приморскому городу, Мариуполю была свойственна многонациональность – русскими и украинцами здесь население отнюдь не ограничивалось. Здесь жили и греки, и армяне, и евреи – и, в общем-то, любая речь на улице была отнюдь не диковинкой. Всё это придавало городу особый колорит, сложившийся сам собой и существовавший естественно, как воздух. И тем более странными и диковатыми были все эти попытки покрасить город в одинаковые цвета. Жители смирились, но в восторге отнюдь не были. Хотя и молчали – почти все, за некоторыми исключениями.
«Нормальный город – строится, развивается», – говорили украинцы, глядя по телевизору заказные, «джинсовые», как говорят сами журналисты, репортажи в «самых правдивых» новостях. В них из Мариуполя делали буквально витрину, конфетку – показательный пример того, как хорошо живётся тем, кто остался под нынешней националистической украинской властью, а не стал частью непризнанной Донецкой Народной Республики. И чего ещё надо? Зачем против чего-то протестовать – живи и радуйся. Ну, «азовцы» там – так что же в них плохого? Защищают город…
И действительно, в телерепортажах бойцы батальона «Азов», наряду с местной полицией, якобы охраняющие покой и мирную жизнь в Мариуполе, были показаны буквально «няшками и лапочками» – ну, прямо героями фильмов о благородных рыцарях. И конечно, нигде не упоминалось о том, что все эти восемь лет пребывания в приморском рабочем городе, карательный, по сути, батальон «Азов» терроризировал местное население. Основной его деятельностью на протяжении этого периода были разбои, похищения, убийства и факельные шествия, не замечать которые было трудно, но к чему только не притерпится человек, когда хочет элементарно выжить.
«Не замечали» и мариупольцы, на многое закрывали глаза. В полиции же откровенно боялись связываться с «нациками». Полицейские – тоже люди, им, так же, как и любому на их месте, хотелось вернуться вечером домой, к семье, а не исчезнуть по дороге в неизвестном направлении. Об этих «направлениях», куда периодически исчезали неугодные, ходили по городу страшные слухи…
Помнили мариупольцы и День Победы в 2014 году, когда националисты заживо сожгли в здании местных полицейских, отказавшихся стрелять по вышедшим на митинг мирным жителям. Многие вспоминали шёпотом, как подожгли отделение полиции, закрыв там сотрудников – молодых парней. Всё время, пока горело здание, не подпускали к нему пожарных и «скорую помощь». «Фактически тут была вторая Одесса, но обо всём этом умолчали. Пускай весь мир узнает, что делают эти твари», – позже уже не шёпотом скажут жители Мариуполя, как только получат возможность говорить громко.
Однако не все сотрудники полиции согласились сотрудничать с «азовцами», если это вообще можно было так назвать. Разумеется, они были объявлены «сепарами» и чудом вырвались в Донецк, а те, что прибыли им на смену, не защищали закон и порядок, а наоборот, скорее помогали поддерживать вокруг беспредел и анархию. В частных секторах практически не было дворов, где не «отжали» бы автомобиль или ещё что-нибудь из имущества. Случалось, забирали автомобили прямо на трассе, высаживая водителей и пассажиров буквально в чистом поле. Это в лучшем случае. В худшем водители исчезали вместе с автомобилями. На предпринимателей вешали самые нелепые обвинения и «конфисковывали» имущество – заниматься бизнесом в городе стало, мягко говоря, затруднительно и небезопасно. Подавать жалобы на разбой было бесполезно – их не принимали. Беспредел, как правило, списывали на «неустановленных лиц в масках».
Пока одни «воины света» терроризировали коммерсантов и занимались откровенным рэкетом, другие взялись за юное поколение, всячески вовлекая в свои ряды школьников. Часто было так: учитель говорил детям, что урок отменяется, после чего в класс входил боец «Азова» во всём блеске новой формы, с националистическими наколками – брутальный и уверенный в себе, похожий на героев американских боевиков. Рассказывал школьникам, что украинцы – едва ли не избранный народ, единственно достойный того, чтобы их защищать, ну а Россия, соответственно, агрессор. И далее всё в таком духе. Это называлось «патриотическим воспитанием». И как могли отреагировать на такого «героя», появившегося во всём своём блеске и великолепии, неокрепшие юные души?..
Не все, конечно же. Ведь дети в некоторых случаях понимают гораздо больше, чем привыкли думать взрослые. Да и разговоры дома за закрытыми дверьми слышат разные – отнюдь не всегда лояльные пришедшей новой «власти». Однако это ничего не решало – поскольку родители боялись за детей и умоляли их в школе молчать о том, что слышали дома, учителя больше не были на своих уроках хозяевами и вынуждены были поддакивать любой ахинее, которую слышали, под угрозой увольнения и лишения права преподавать, ну, а подростки… Подростки, как никто другой, нуждаются во взрослых авторитетах. Убедительных авторитетах, уверенных в себе – тех, кем можно восхищаться и на кого равняться. А на кого ещё они могли в этом городе и вообще в этом искривлённом мире равняться? На уставших родителей? На испуганных учителей? На настоящих героев былых времён, о которых им просто-напросто никто не рассказывал – запрещено было? История как угодно перекручивалась в угоду новой власти, переписывались учебники, правда оставалась похороненной где-то под ворохом новых указов и постановлений. Всё это здорово напоминало роман Джорджа Оруэлла «1984», если бы кто-то взялся сравнить.
А между тем «защитники» и «воины света» всё больше занимались, глядя со стороны, всячески благим делом – организацией досуга юного поколения. Создавались какие-то футбольные клубы, спортивные лагеря, военно-патриотические движения. Некоторые родители возмущались и пытались не пускать туда своих детей, но на это никто не обращал внимания – всё было легализовано на самом высоком уровне. А между тем в этих «спортивных лагерях» воспитывался самый настоящий современный гитлерюгенд.
Такой вот «мир» был в Мариуполе, как и в других городах Донбасса, остававшихся под пришедшей на Украину преступной, националистической – откровенно фашистской – властью. Таким стало «освобождение» этих городов от «террористов и сепаратистов», остававшихся, по мнению этой официальной власти, в молодых непризнанных республиках, регулярно подвергавшихся все восемь лет обстрелам со стороны «освободителей».
Как выразился однажды «кровавый пастор» Турчинов, исполнявший с 23 февраля по 7 июня 2014 года обязанности Президента Украины: «…Нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В Украине нужно завершить антитеррористическую операцию на Донбассе и перейти к новому формату защиты государства от “гибридной войны” с Россией»[5].
Не зря получил этот украинский политик столь красноречивое прозвище в народе. Именно он как исполняющий обязанности президента в тот период подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», этими столь красивыми формальными намерениями, по сути, развязав военную агрессию на Донбассе.
Для защитников самопровозглашённых молодых республик Донбасса, возникших и существующих не «благодаря», а «вопреки», эти заявления по факту были пустым звуком, ведь им и так приходилось противостоять в одиночку практически всей военной мощи впавшего в агрессивный маразм «жёлто-блакитного» государства, в которое превратилась Украина. Как говорится, не привыкать. Но и выхода из ситуации не видно… Если не придёт помощь.
Долгие восемь лет ситуацию пытались решить относительно «мирным» политическим путём. Безуспешно. Республики оставались непризнанными. На их территории продолжали погибать люди. В городах Донбасса, подконтрольных украинской власти, продолжался произвол националистов. Полная безнаказанность. Полное отчаяние…
И вот наступил 2022 год, когда правительством России, на помощь которой так надеялись жители молодых республик, было принято решение об их официальном признании. А вслед за этим, во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с теперь уже официально признанными республиками, российский президент принял решение о специальной военной операции.
«Её цель, – как было подчёркнуто в обращении к российскому народу, – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации»[6].
Тут, пожалуй, следует подчеркнуть, что к этому времени многие жители Республик Донбасса успели получить российские паспорта, поэтому данное заявление в полной мере и без оговорок можно было отнести и к ним.
И вот на календаре 22 февраля 2022 года. Не все знают, что через два дня начнётся спецоперация, объявленная Россией. Не знают об этом и бойцы диверсионно-разведывательной группы, посланные в Мариуполь с заданием – определить координаты объектов противника и доложить о них своему командованию в ДНР.
Каждый день с момента скрытного проникновения в приморский город разведчики «Старика» выходили в Мариуполе на позиции, вели тщательное наблюдение за местами дислокации украинских нацистов «Азова» и других подразделений армии и полиции. Снайпер «Пантера» часами лежала неподвижно с винтовкой и с электронным биноклем, определяя дистанцию до заданных объектов, азимуты, отмечая характерные ориентиры, вела подсчет живой силы и техники противника.
Каждый вечер командир разведгруппы суммировал всю добытую за день с огромным трудом разведывательную информацию и составлял аналитические разведсводки. Каждую ночь связист разведгруппы разворачивал параболическую антенну-«тарелку», и в космос улетал сжатый миллисекундный шифрованный цифровой «пакет» информации. После этого разведгруппа сразу же снималась с места и кочевала на другое, заранее разведанное. В этом и заключалась первая – разведывательная фаза деятельности спецназовцев ДНР в Мариуполе.
Глава 2
«Пойду в герои… зарабатывать»
Прийшов до висновку – українська мова вiд Бога. Бо нечисть нею розмовляти не може[7].
Глубокие мысли из соцсетей
Радист Дима был совершенно прав, язвительно упоминая девяностые и «разборки местных авторитетов». Такие разборки часто происходили между азовцами, занявшимися в подконтрольном им городе, как они говорили, «бизнесом».
«Бизнес» этот большей частью заключался в том, чтобы «отжать» у местного населения не только личное имущество, но часто и дело, которым человек занимался, приносившее ему небольшой, но стабильный доход. К таковым относились и торговые точки вроде упомянутого продуктового магазинчика.
Бывший владелец магазинчика давно уже испарился где-то на необъятных российских просторах, радуясь, что вообще остался жив, а в его магазине заправлял теперь новый «хозяин». Петро Залипака сорока лет, бывший «герой Майдана», до поры до времени чувствовал себя вполне вольготно в освоенном им портовом городе, радуясь тому, как легко добыл здесь достаток. Работа в магазинчике давно уже была налажена, продавцы не имели возможности так быстро исчезнуть, как сделал это бывший владелец – средств нет начинать где-то новую жизнь, либо на подъём тяжелы, либо возраст уже не тот, чтобы менять налаженный быт и искать новый заработок где-то на чужбине. Петро обещал оставшимся сотрудникам зарплату сохранить, если не будут «рыпаться». «Рыпаться» ни у кого желания не было – надо было кормить семьи.
Старшая продавщица Валентина, в противовес внушительной неповоротливой комплекции обладающая быстрым и гибким умом, умеющим приспосабливаться к любой перемене жизненных обстоятельств, сориентировалась моментально и благодаря тесным взаимоотношениям с новым владельцем без особых проблем взлетела по карьерной лестнице до управляющей. Она же была постоянным осведомителем Петра о событиях и настроениях, происходящих в городе, намётанным глазом вычисляя нелояльных и небедных, которых можно было «потрясти», и Петро таким образом в скором времени присоединил к магазинчику ещё несколько торговых точек, создав вполне себе процветающую сеть. Валентина предусмотрительно не задавала лишних вопросов, хотя догадывалась, что у её покровителя есть официальная семья, которой он периодически отсылает деньги куда-то в посёлок на Закарпатье. Перевозить семью в Мариуполь он, впрочем, не спешил – его устраивало такое положение дел, он наслаждался «свободой», как он это называл.
Валентину, надо сказать, оно тоже устраивало – чего она в этом замужестве не видела такого, что могло её удивить? Хлебнула лиха с бывшим муженьком, который в девяностые, когда стоял завод, не нашёл ничего лучшего, чем заливать безденежье водкой, а она в это время на нескольких работах корячилась. С тех пор и пришла к выводу, что бабья жертвенность – это не для неё, а верность она будет хранить исключительно тому, кто обеспечит ей безбедную жизнь. А там пусть хоть десять у него семей по всему миру – её ли это проблемы? Главное, чтобы она, Валентина, от этого была не в ущербе.
Так и жил Петро Залипака, решая свои дела и, в общем, на жизнь не жалуясь, пока не намекнули ему однажды, что доходами следует делиться. Не то чтобы он раньше об этом не подозревал, но хватка и изворотливость в нём всегда каким-то причудливым образом сочетались с авантюрной натурой и некоторым легкомыслием, когда кажется, что всякие там неприятности – это где-то далеко, но только не с тобой. Именно это качество когда-то толкнуло Петра, когда на Украине произошли известные политические события, бросить поездки на заработки в Польшу и ехать в Киев на Майдан, митинговать. Ой, как ругалась тогда жена, как голосила! Он, честно говоря, и не подозревал, что она слова такие знает.
– Революционер ты хренов! Приключений захотел на свою задницу? Недоприключался в сопливом возрасте? Ты подумал, на шо мы жить будем? Ты подумал, сколько мог бы заработать, пока будешь там скакать? Та сейчас же ж сезон самый! Та кому ты потом будешь нужен…
– Цыть! – оборвал Петро эти ругательства. – Недальновидный ты человек, Мария, дальше своего носа не видишь. Та я там ещё больше заработаю. От посмотришь, мы ещё всю Украину будем… вертеть.
Мария хмыкнула скептически, однако попытки остановить его прекратила. Особенно когда узнала из сплетен, ходивших по посёлку, что за этот митинг на Майдане деньги платятся.
– Та и не только деньги, – значительно шепнул ей муж, – а ещё и форму дают, и зброю[8].
– Шо ещё за зброю! – всплеснула руками Мария. – Ты шо, в полицию собрался чи в бандиты?
– В герои, – со значением бросил Петро и больше ничего не объяснял.
Батальон «Азов» был создан в мае 2014 года, однако его костяк сформировался задолго до официальной даты и событий на Майдане. Вначале это был добровольческий батальон в составе патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины и только потом перерос в полк нацгвардии, получив в качестве воинской части возможность иметь собственную артиллерию и танки. А благодаря покровительству министра внутренних дел, боевики «Азова» всегда считались «белой костью» – у них было лучшее и новейшее вооружение и хорошее финансирование. Некоторые бойцы «Азова» до этого, действительно, были участниками протестов на киевском Майдане в составе небезызвестного объединения радикальных националистов «Правый сектор». Парадоксально, что лидерами украинского радикального движения были люди, говорящие по-русски, – выходцы преимущественно из Восточной и Центральной Украины. Собственно, многие «азовцы» до сих пор говорят по-русски. Такой вот парадокс – представляя угрозу для русскоговорящих жителей Украины, им бы следовало начать с себя…
В общем-то, и создан был батальон «Азов» на основе неонацистской организации Харькова, который и тогда, и впоследствии считался пророссийским городом. Среди первых бойцов там были футбольные хулиганы и представители маргинальных националистических кругов. И первым командиром батальона стал харьковчанин Андрей Билецкий по прозвищу «Белый вождь». Не хулиган, не маргинал – человек с высшим историческим образованием, защитивший диплом о деятельности Украинской повстанческой армии. Билецкий работал с молодёжью, преподавал в вузах и, по-видимому, был человеком достаточно харизматичным и убедительным, чтобы уметь увлечь своими идеями.
Героев для подражания и возвеличивания он, во всяком случае, выбрал не тех, о которых слышал некогда в школе. Где-то в начале 2000‑х он возглавил харьковское объединение организации под названием «Тризуб имени Степана Бандеры», а позже создал свою организацию «Патриот Украины». Через три года параллельно стал ещё и руководителем неонацистской расистской организации «Социал-национальная ассамблея». Впрочем, и раньше они с соратниками устраивали факельные шествия по аналогии с маршами гитлеровской Германии, хотя тогда ещё и не ожидая, что всё это будет возведено на вполне официальный государственный уровень.
Откровенно неонацистскими проповедями Билецкий и компания не ограничились. Они не скрывали и даже гордились тем, что громят точки наркоторговцев, нападают на нелегальных мигрантов. А одновременно тайно подрабатывали банальными рэкетирами и «кошмарили» бизнес, переходя и к насилию.
Всё это позже стали практиковать в «Азове». И впоследствии легко и естественно продолжили подобную деятельность в Мариуполе, где у «Азова» после событий 9 мая 2014 года образовалась своеобразная штаб-квартира.
После того как было объявлено об «антитеррористической операции» на Донбассе, начали формироваться добровольческие батальоны. Упомянутый Билецкий возглавил теперь «Чёрный корпус». К тому времени он уже успел отсидеть в харьковском СИЗО за нападение на антифашиста и выйти на свободу как «жертва политических репрессий».
Нашивки, прямо апеллировавшие к войску СС, сохранились в «Азове» и после его легализации в рядах МВД. «Герои-патриоты», а по сути – террористы на службе киевского режима, начали свою кровавую «деятельность» в городах Восточной Украины – в Луганске, Донецке, Харькове, – борясь с «сепаратизмом». Это и было начало батальона «Азов».
В родной посёлок в Закарпатье Петро не вернулся. Жизнь казалась исполненной высокого смысла, и можно было не мотаться на побегушках в Польше среди таких же «заробитчан». Деньги жене он исправно присылал, подозревая, что этим она и удовольствуется, а лицезреть его персону дома для неё совсем не обязательно. Да и привыкла уже к его отсутствию – всё равно он мотался по заработкам, как и большинство его односельчан. Наверное, и не почувствует разницы.
Для него же, между тем, разница была огромная. Теперь у новоиспечённого «героя» появились друзья, «побратимы», с которыми он делал общее дело – защищал территориальную целостность Украины от посягательств сепаратистов. Так ему объяснили в самом начале, и тогда ещё Петро в это верил.
А громко батальон «Азов» заявил о себе именно в Мариуполе 9 мая 2014 года. Утром «азовцы» в чёрной форме с оружием проехали по городу колоннами автомобилей.
– Мы покажем, кто здесь главный! – говорили новые соратники Петра. – Пусть все видят и знают, что Мариуполь – украинский город!
Петро слушал и соглашался – душу приятно щекотал восторг. Он в этот миг неимоверно гордился собой в новенькой, «с иголочки», чёрной форме, с внушительным АКМ в руках, рядом с экипированными и вооружёнными так же товарищами – настоящими «воинами света», с которыми сейчас ощущал себя единым целым, несокрушимой силой. Ну кто станет с этой силой спорить? Да местные «немытые шахтеры» их только увидят, сразу преисполнятся восторга и безропотно примут новые условия…
И мариупольцы приняли в итоге новые условия жизни. Но отнюдь не безропотно. Приморский город в Донбассе не принял переворот в Киеве точно так же, как и Донецк с Луганском, и День Победы его жители собрались отмечать так, как привыкли, чтя память отцов и дедов, воевавших против фашизма в Великую Отечественную войну. Даже с ещё большим воодушевлением, в свою очередь намереваясь выразить свою позицию по отношению к произошедшим в Киеве политическим событиям. Тогда ещё люди не подозревали, что с неугодными могут просто жестоко расправиться. И когда тысячи жителей Мариуполя вышли на демонстрацию, чтобы отпраздновать священный для них день, пришедшие на их землю «воины света», не задумываясь, ринулись на тяжёлой бронетехнике прямо в толпу.
«Защитники целостности Украины» защищали её весьма своеобразно, расстреливая автомобили, микроавтобусы с красными крестами подоспевшей «Скорой помощи», убивая безоружных мирных людей. Цель была одна – запугать, подчинить, устранить несогласных. Цель… ну ведь правильная же? Суровые времена требуют жёстких методов. В этом ещё пытался убедить себя Петро, когда в подкорку закрались некие сомнения – а надо ли так уж… Это ж люди… такие же, как его жена, дети… Однако сомнение как пришло, так и ушло, когда кто-то толкнул его в бок: «Шо смотришь? Стреляй по сепаратюгам!»
Яростное словечко – однозначное, не оставляющее сомнений, – подстегнуло, отрезвило… или наоборот, опьянило, во всяком случае, Петро не думал, не осознавал, что творил дальше. В ушах громким звоном отдавалось это «сепаратюги». Не люди – «сепаратюги». Запроданцы московские, стоящие на пути счастливой жизни, богатой и процветающей Украины, – так, как Петро, основательно накачанный к тому времени пропагандой, её уже себе представлял. Стоит ли с ними церемониться?
Бои тогда шли в разных точках города. Вмешалась мариупольская милиция, отказавшись разгонять протестующих и вступив в открытый бой с неонацистами. А на защиту милиции в свою очередь встали местные жители.
Те самые «сепаратюги»…
А на деле люди, которые хотели жить в своем городе так, как они считали нужным. Отмечать свои праздники, чтить своих героев – тех, которых всю жизнь привыкли считать героями. Могли ли они с восторгом принять тех, кто так внезапно и агрессивно ворвался в их жизнь, навязывая чуждые им взгляды?
В тот год 9 мая в Мариуполе обернулось трауром. Возле здания горсовета жители начали возводить баррикады. А на следующий день печальный список жертв только увеличился. Рассредоточившиеся по улицам «воины света» продолжили карательные акции, убивая мирных жителей. Были подожжены здания городской прокуратуры, горсовета и воинской части. Сторонникам федерализации Украины был выдвинут ультиматум: в течение трёх суток покинуть Мариуполь – в противном случае по мирным жителям «воины света» были готовы стрелять из реактивных систем залпового огня «Град».
А небезызвестный лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил с комментарием, который никак нельзя было понять двояко: «Когда мы победим, нужно всех пособников террористов лишить украинского гражданства. Предатели уже хуже врага!»[9] Следует отметить, что этот политик в то время был кандидатом в президенты Украины. А предателями он назвал граждан Украины – мирных людей, отмечавших вполне официальный, святой для всех праздник и вставших на защиту своего города от откровенного разбоя и убийств.
Но это, конечно же, ни в коем случае не было войной украинского правительства, объявленной против собственного народа…
Это и было подтверждено впоследствии правительствами западных стран, обвинивших в страшных событиях в Мариуполе силы народного сопротивления – «пророссийских активистов», как было объявлено. Так в кривом зеркале мировой политики отобразилась новая реальность и новые понятия добра и зла, причудливым образом поменявшиеся местами – да так, что весь мир поверил.
А тем, кто не поверил, лучше было молчать…
У человеческого сознания есть интересная особенность – забывать собственные неблаговидные поступки, либо нелицеприятные или даже преступные события, в которых довелось участвовать лично. Даже не то чтобы забывать, а перекручивать их в собственной памяти так, что себе находятся железобетонные оправдания: «А я там не был», «А меня заставили, обманули, ввели в заблуждение» либо «А я тут и вовсе ни при чём». И человек в таких случаях не врёт, не лицемерит – он искренне верит в то, что всё так и было. По-видимому, срабатывает некая защитная функция человеческого мозга, не дающая сойти с ума от осознания собственных страшных ошибок или тем более – преступлений. Ведь на самом-то деле не так и много настоящих «отморозков», честно признающих, что совершали преступления, и гордящихся этим. Подавляющее большинство людей всё-таки считают себя людьми хорошими и правильными, и если пошли где-то против общепринятых норм добра и зла, внушённых им с детства, спешат оправдать себя прежде всего в собственных глазах. Отсюда и повальное количество «переобувшихся в прыжке», когда стала приподниматься завеса над всеми страшными преступлениями, совершёнными украинскими неонацистами на Донбассе.
Забыл о том 9 мая и Петро Залипака. То есть выборочно забыл – не помнил тех людей, по которым стрелял, не сравнивал их больше с собственной женой и детьми, не мучился угрызениями совести. Оставил в памяти и в сознании только однозначное «сепаратюги» и твёрдое убеждение, что действовал и продолжает действовать в интересах Украины.
Потом и об интересах Украины забылось – вышли на первый план интересы собственные, когда банально надо было выживать в занятом его «побратимами» городе у моря, где каждый сантиметр был схвачен и «отжат». И «побратимы» тут уже не случайно взялись в кавычки, ибо из таковых превратились в конкурентов, а то и откровенных врагов. Нового для них тут ничего не было – как уже упоминалось, свою деятельность они некогда начинали именно с рэкета, грабежей, «наездов» на торговые точки. То есть по «опыту работы» и выполняемому теперь «списку обязанностей» вполне подходили для этого «вида деятельности».
Петро же, основным занятием которого до всех военно-политических событий были заработки за границей, то есть работа на хозяина, сроду не занимавшийся никаким бизнесом, вначале с трудом вписался во всю сложившуюся уже здесь иерархию отношений, но быстро сообразил, что прежде всего следует обзаводиться полезными знакомствами с людьми, лучше него умеющими «крутиться». Среди таких была и уже упомянутая Валентина, и ещё несколько приближённых, которым Петро до поры до времени доверял.
Не то чтобы он совсем не ждал неприятностей. Однако, когда в магазин хозяйским шагом зашёл высокий круглолицый человек с колючим взглядом и без обиняков заявил, что ему полагается доля со всех торговых точек на этой территории, Петро, мягко говоря, слегка приуныл и озадачился. На размышления ему дали один день, а требуемая сумма была весьма существенной.
– Больше, чем ты сможешь заплатить, не требую, – с издевательским добродушием заявил ему новоявленный «хозяин территории». – Я ж не зверь какой. Но то, что назвал, плати или лети отсюда сизым голубем.
Петро действительно мог заплатить указанную сумму, но проблема в том, что тогда вся его торговая деятельность просто не имела никакого смысла, ибо, если столько будет требоваться каждый раз, он останется в сплошных убытках.
– А это уже, дорогой, твои проблемы, – добродушно усмехаясь, сказал нежданный посетитель. – Меня они, как ты понимаешь, не колышут.
Петро от своих осведомителей попытался разузнать о госте, и от того, что узнал, его прошиб холодный пот. Степан Новиков, коренной харьковчанин с высшим экономическим образованием, начинал свою деятельность ещё вместе с Билецким в «Социал-национальной ассамблее», а его уверения, что он «не зверь какой», были, мягко говоря, слегка преувеличены. Среди приближённых он давно уже проходил под громким и красноречивым прозвищем «Поджигатель». Отличился ещё на Майдане, когда собственноручно жёг «беркутовцев», с усмешкой глядя им в глаза, потом деятельно участвовал в трагических событиях в Доме профсоюзов в Одессе, а приехав в Мариуполь, уже и вовсе не жалел никого, в принципе не воспринимая местных как людей.
В общем, это именно и был тот самый отморозок, который не ищет себе оправданий, прямо и цинично признавая все свои злодеяния и без обиняков заявляя, что будет совершать их ещё, пьянея от собственной безнаказанности. И безнаказанность эта была обоснованной, поскольку во всех торгово-экономических нюансах выпускник-краснодипломник харьковского вуза был уж явно не чета закарпатскому «заробитчанину», а верным людям, которых он успел собрать вокруг себя, Петровы приближённые и в подмётки не годились. Были там среди прочих и юристы, они под каждые неблаговидные методы ведения дел своего шефа могли подвести такую законодательную базу, что никакие проверки не подкопаются. Подкапываться, правда, никто и не спешил – официальные блюстители закона и порядка держались подальше от Поджигателя, держащего в страхе весь Мариуполь. Будь он попроще, и вовсе не беспокоился бы о законодательной стороне вопроса, определив сам себя законом и не слушая вообще никого. Однако предусмотрительный «воин света» предполагал, что не вечно в жизни этого региона будут длиться «девяностые», и хотел остаться на плаву, когда времена изменятся. А для этого нужны железные тылы и безупречная репутация. Причём безупречной она должна оставаться в любом случае – в какую бы сторону ни повернула жизнь.
С таким конкурентом Петро тягаться не имел сил и возможностей, но по привычке стал искать возможность выкрутиться. Ему как-то уж слишком деятельно помогала Валентина, отправляла каких-то своих знакомых на переговоры, о чём неизменно рассказывала Петру, ему же самому советовала под разными предлогами не попадаться Новикову на глаза. По-видимому, Петро ещё не догадывался, что никаких знакомых и в помине не было, а сама Валентина давно уже играла против него, переметнувшись к более влиятельному покровителю. Он всё ещё надеялся на свою удачу, от которой практически ничего не осталось.
Жить Петровой удаче, как, собственно, и ему самому, оставалось до сегодняшней встречи возле одной из обычных мариупольских школ.
Но пока что делящие власть в городе «герои Майдана» не знали, что на эту встречу явятся другие гости, которых уж все они точно – совершенно не ждали.
Глава 3
«Люди-тени», но просто люди
– Начиталась анекдотов про Штирлица, теперь если будут показывать – фильм такой серьёзный, а ты будешь сидеть и смеяться.
Разговор отца с дочкой-подростком
Вернёмся немного назад – всего лишь на несколько дней. Именно тогда, безлунной ночью, группа людей выдвинулась из столицы Донецкой Народной Республики в сторону «українського мiста» Мариуполя.
Отправились в дорогу пешком, не попадаясь никому на глаза. Путешествовать обычным образом, на автобусе среди других пассажиров, предъявляя документы на блокпостах, эти люди не могли – все, как один, были на территорию современной Украины невъездными.
Ополченцы в 2014 году в восставшем Донбассе. Затем – бойцы и офицеры Народной милиции молодой республики. Теперь – диверсионно-разведывательная группа, отправлявшаяся в тыл врага.
В представлении многих обывателей разведчики – это нечто загадочное, особая каста среди военных, буквально суперлюди, обладающие совершенно нереальными способностями просачиваться сквозь стены, проходить сквозь непреодолимые препятствия, становиться невидимками там, где это требуется, а если потребуется – полностью перевоплощаться в своих врагов, так что эти самые враги за своего примут. Знать их язык, психологию, образ мыслей, мотивы поведения. Становиться ими… чтобы в итоге устроить громкую диверсию в стане противника.
«Если слишком безупречная репутация – значит, шпион».
Да, если ты разведчик в тылу врага, над собственной легендой и имиджем следует очень хорошо поработать, чтобы даже таких подозрений ни у кого не возникло. «Истинные арийцы» вроде Штирлица из широко известного советского фильма до сих пор будоражат умы, вызывают восхищение и некоторый страх – это же надо так уметь владеть собой, чтобы ни разу ничем себя не выдать!
Но есть в этой профессии люди, о которых даже не говорят. Люди-тени – те самые «невидимки». И это не одиночки, а члены диверсионно-разведывательных групп – ДРГ. Сложной системы, в которой каждый – взаимозаменяемый винтик. Каждый вроде бы сам по себе, но все действуют слаженно и чётко ради единой цели – выполнить боевую задачу любой ценой. Это, без преувеличения, те самые суперлюди, с одной лишь оговоркой – они всё-таки люди. И каждый пришёл на эту очень своеобразную, полную опасностей службу своим путём. И у каждого были свои причины и мотивы пройти нелёгкую подготовку, навсегда его изменившую, что-то оставив позади, а что-то взяв с собой в самых потайных уголках памяти. И у каждого остаётся за душой что-то своё, тщательно скрываемое от посторонних глаз…
Приоткроем же самый краешек завесы и взглянем на людей, отправляющихся в эту холодную неуютную ночь в город, куда им открыто путь заказан.
Итак, командир группы – капитан Фёдор Можейко, позывной «Старик». Позывной, который никому ни о чём не говорил и не давал никакого представления о личности офицера. Стариком он не был – достаточно было взглянуть на его молодое и довольно привлекательное лицо с тонкими чертами и не обращать внимания на раннюю седину, которую он сам объяснял наследственностью, мол, все у них в роду седели рано. Было ли это правдой, либо он скрывал какие-то жизненные передряги, в которые приходилось попадать, никто не знал. Откуда он родом, никто не знал тоже, не любил «Старик» рассказывать о себе. Обычно происхождение можно обнаружить по говору, каким-то специфическим словечкам. Фёдор Можейко изъяснялся на безупречном литературном русском языке, однако без характерного московского или питерского акцента, что не давало возможности заподозрить в нём залетевшую к ним столичную птицу. Кто-то когда-то предположил, что он был школьным учителем до войны, на что Фёдор ответил, как отрезал: «Не был».
Никто ни разу не слышал, чтобы командир в свободное время общался по телефону с родными. В увольнениях ни к кому домой не спешил. Писем не писал. В общих разговорах он почти не участвовал. У подчинённых вызывал уважение вместе с некоторой опаской. Если у кого-либо возникала какая-нибудь проблема – помогал. Молча и без лишних слов. Впрочем, лишний раз со своими проблемами к нему старались не обращаться – оставляли это на самый крайний случай. Не то чтобы боялись, просто считалось дурным тоном лишний раз беспокоить командира вопросами не по делу.
Один из двоих автоматчиков – Игорь Полёвкин, «Философ», был коренным мариупольцем. В Донецк уехал давно – поступать в Донецкий национальный университет. Поступил – и остался навсегда. «Не люблю я свой родной город», – не раз честно признавал в разговорах Игорь. За всё время учёбы приезжал домой изредка, на выходные, помогал матери по хозяйству и в понедельник с радостью уезжал обратно – только пятки сверкали. Школьные товарищи его рано обзавелись семьями, кто-то спился, кто-то тянул привычную унылую лямку под названием «дом-семья-работа», и Игорь, в общем, догадывался, что его ждала бы такая же грустная судьба, вздумай он остаться после школы в родном Мариуполе. Причём, возьми по отдельности эти понятия – дом, семья и работа, – вроде бы ничего плохого в них и нет, даже наоборот, но в исполнении знакомых Игоря Полёвкина всё это выглядело настолько бездарно и беспросветно, что обзаводиться всем этим он решил когда-нибудь попозже и не на малой родине. Удивительно, что теперь, когда ему приходилось говорить об этом, он неизменно встречал глубоко понимающий взгляд голубых глаз снайпера Юлии из Полтавщины – тех краёв, где семья, род, «батькiвська хата»[10] считались вообще святыми понятиями. И занесло же сюда девчонку – видать, не зря… Как, собственно, и его самого.
За Донецк Игорь Полёвкин уцепился буквально зубами – этот город стал для него окном в большой мир, выходом из замкнутого круга, по которому ходили его товарищи детства и юности. Тянул одновременно два высших образования – биологию на дневном и журналистику на заочном. Параллельно увлёкся восточной философией, подумывал об аспирантуре, но амбициозным планам помешала война. «Ничего, всё закончится, ещё наверстаю», – решил Игорь, не привыкший отсиживаться в стороне во время важных событий. И пошёл в ополчение санитарным инструктором.
К разведчикам Игоря Полёвкина занесло, в общем-то, неожиданно – добрые люди настойчиво посоветовали. Именно был тот случай, когда за человека, как говорится, судьба решает. «Скоро намечаются большие события, – вполголоса намекнул старший товарищ по службе. – Очень нужны будут люди, хорошо знающие города на той стороне. Ну, и еще умеющие стрелять».
Стрелять Игорь действительно умел. За время службы ему приходилось иметь дело с разными видами оружия, не только в своём «калаше» он мог разобраться на ощупь, во сне, под гипнозом – как угодно. С пулемётом, пистолетом, гранатомётом и даже со снайперской винтовкой он умел обращаться. Знал особенности конструкции и наших, и зарубежных стволов. Просто обожал тактическую стрельбу и практически всё свое свободное время ещё до войны проводил на стрельбище.
«С таким отношением тебе и девушка не требуется», – шутили боевые товарищи. Хотя девушек Игорь Полёвкин любил. Всех практически. Той, что любил бы больше всех, пока не встретилось.
После смерти матери и деда с бабушкой с родным городом Игоря не связывало, в общем-то, ничего. И, как ни странно, именно тогда Мариуполь и стал ему периодически сниться. Не тосковал он, нет. И не скучал особенно. Просто казался диким сам факт: «Как это я не могу приехать в свой город, если захочу? Как это по моему городу гуляют нацисты и творят, что хотят?» Поэтому, услышав, что требуются люди, именно знающие города «на той стороне», Игорь, особо не возражая, прошёл необходимую подготовку и теперь являлся стрелком-разведчиком ДРГ, отправленной в его родной Мариуполь, который от нацистов вскоре предстояло освобождать.
Вторым автоматчиком в группе был Алексей Сотников, позывной «Лис», родом из небольшого посёлка под Волновахой. Маленький, рыжий, остроносый, вечно улыбчивый, он походил даже не на взрослого лиса, а на лисёнка. Или вообще на некое фэнтезийное существо, тем более что службу нёс он, казалось, между делом, в перерывах между чтением фэнтези. Эта кажущаяся несерьёзность могла ввести в заблуждение кого угодно. При выполнении задания рыжий Алекс имел совершенно потрясающую способность даже не сливаться с окружающим пейзажем, а вообще исчезать подобно человеку-невидимке, а потом по объекту прилетала невесть откуда автоматная очередь или что-нибудь более увесистое… Товарищи, шутя, перечисляли его боекомплект: «Шапка-невидимка, сапоги-скороходы, волшебный клубок, дудочка крысолова…»
Последнее, кстати, упоминалось не зря – говорили, что там, где появляется «мелкий Алекс», действительно, выманиваются «крысы». В бою он не жалел никого, из доброго мечтательного парня, как по волшебству, превращаясь в безотказную и жесткую машину для убийства. Его автомат Калашникова в такие минуты со своим владельцем буквально сливался, превращаясь в единое целое – опасное и смертоносное.
Алекс тоже в своё время приехал в Донецк учиться, да так и застрял, из-за войны не смог вернуться обратно, да, собственно, и не захотел. Принял единственно верное для себя решение. В родном посёлке у него оставались мать и двое младших братьев. Иногда он с ними созванивался – ходил после этого грустный. Скучал. Впрочем, надолго впадать в меланхолию не позволял себе – очень скоро на лице его появлялась уже знакомая всем улыбка. Лис – он и был Лис. Долго грустить он не умел, а повод для шуток мог найти, где угодно, или придумать из ничего. За это его любили.
Пулемётчиком и его «вторым номером» в группе были братья-близнецы. Коренные дончане Роман и Иван Погодины – позывные «Дождь» и «Ветер». Как ни парадоксально, именно они, в отличие от всех «понаехавших», как называли шутя товарищей из других городов, до войны не учились в вузе. То есть собирались в будущем в технический, а до этого единогласно решили поработать на заводе, как их отец и дед, приобрести опыт, а потом, возможно, пойти на заочное, совмещая работу с учёбой. Они вообще много чего решали единогласно, с самого раннего детства были как единое существо – их мнения, вкусы и взгляды на жизнь во многом сходились. Бывало, что их путали даже собственные родители, не говоря уже о друзьях и школьных учителях.
Война несколько помешала планам братьев насчёт высшего образования, однако, как они сами считали, всего лишь отложила их на более позднее время. «Зато потом мы там всех за пояс заткнём», – не сомневались братья. Роман управлялся с пулемётом так, что любо-дорого – из двух братьев, кстати, именно он получил среди своих прозвище «пулемётчик» отнюдь не за владение оружием, а за длинный язык, подвешенный, надо сказать, в нужную сторону. Он кого угодно мог убедить в чём угодно, причём так, что человек считал это именно своей идеей и инициативой. Запасные ленты к пулемёту и сменный ствол хранились у более молчаливого Ивана, которого Роман называл «хранитель имущества» или «ростовщик». Патроны у бережливого Вани, казалось, не заканчиваются никогда, но и разбрасываться ими он не позволял – выдавал импульсивному брату, как строгие родители выдают школьникам деньги на завтраки.
Крымчанин Олег Волин, позывной «Альбатрос», был оператором квадрокоптера. Личность в группе, пожалуй, самая загадочная, не считая командира, он, казалось, жил своей отдельной жизнью под названием «полёт», хотя и вёл наблюдение, по сути, с земли, однако через дистанционно пилотируемый летательный аппарат, а значит, и сам в какой-то мере в такие моменты находился не на земле. Но при этом с командой он неизменно составлял единое целое. Спокойный, флегматичный, доброжелательный, но одновременно не выходящий за рамки служебных отношений. В Донбасс приехал в 2014‑м «по зову сердца», как сам объяснил, и больше на эту тему не распространялся – пафоса не любил. Он был постарше остальных – из всей группы второй, кроме Игоря «Философа», с оконченным высшим образованием – техническим, и единственный семейный. На родине, в Симферополе, у него остались жена и маленькая дочь.
Радист Дмитрий Зимин, позывной «Дрозд», как и братья Погодины, был родом из Донецка. Из всех, наверное, именно он больше всего нашёл общий язык с оператором квадрокоптера Олегом. В жизни Димы было две страсти, никак между собой не связанных, – техника и птицы. Дома у него кто только не жил в клетках – дрозды, синицы, канарейки, – причём клетки никогда не закрывались, и если Диминым питомцам хотелось улететь на свободу, он их никоим образом не удерживал. На место улетевших прилетали новые – зимовать или лечить раненое крыло. Он запоминал каждого и всех знал по именам.
Так же трепетно Дима относился ко всевозможным «железкам» – собирал дома то радиоприёмник, то детский игрушечный автомобиль с самодельным мотором, который потом дарил кому-нибудь из племянников. Мать ругалась, грозилась периодически повыбрасывать весь этот склад железа из Димкиной комнаты, но никогда этого не делала.
– Вот, представляешь, – мрачно предвещали боевые товарищи, – приходишь ты домой из армии, а там ничего нет из твоих поделок.
– Нет, – спокойно возражал Димка, – она только грозится. Я в «увал» недавно приходил, смотрю – хранит всё, для каждого винтика своё место отвела, пыль вытирает… Говорит, возвращайся только.
В армию Дима ушёл со второго курса физико-технического факультета в Донецком национальном – мечтал изобретать что-то посолиднее машинок и радиоприёмников. Разумеется, учёбу после войны планировал продолжить.
Ну и, наконец, единственная в разведгруппе дама – снайпер Юлия Дымченко, «Пантера». Пафосный позывной был ею выбран вовсе не из желания «повыпендриваться».
– Не кошкой же мне называться – вроде менее удобно в использовании, – поясняла Юля, хотя именно с этим животным и отождествляла себя с самого детства. Коты были её страстью. Причём в основном чёрные – те, которых не любят суеверные люди. «Меня тоже не любят суеверные люди», – смеясь, поясняла девушка. Не верящая в приметы, не признающая никаких «так положено», не отмечающая религиозных праздников, Юлия, действительно, шокировала многих у себя на родине. А приехала она из патриархальной Полтавщины.
– И что это тебя аж сюда учиться занесло? – с удивлением спрашивали Юльку. – Поближе не нашлось?
– Интересно, – пожимала плечами девушка. – Я до этого в Донецке не бывала, познакомилась с дончанами в туристической поездке, они мне все уши про здешний универ прожужжали. Ну, решила здесь поступать на филолога… русиста.
– Ещё и русиста! – окончательно офигевали собеседники. – У вас же там, на Полтавщине, наверное, все только по-украински говорят.
– Почему же, не только. Это стереотип. У нас очень многие говорят по-русски. И, кстати, русский классик Гоголь, чтоб вы знали, родом из Полтавщины.
– Ну, так ты тоже тут станешь русским классиком, – в шутку предсказывали её знакомые. – Писать ничего не пробовала?
На это Юлька отмалчивалась.
Дома у неё остались родители и серый полосатый котяра Сэм. А коты на улице до сих пор вызывали у взрослой уже барышни совершенно детский восторг.
Война сорвала Юлю из университета буквально после первого курса. Началось с баррикад в областной администрации, куда впечатлительная девушка пошла после трагических событий в Одессе, ну а потом уже, как говорится, «вела судьба».
Разумеется, на родину Юлька давно уже была «невъездная»…
– Вскоре планируется освобождение наших городов, которые в настоящее время находятся под оккупацией украинской националистической власти. Мы должны будем выйти к административным границам областей, и тогда наши республики будут полностью свободны от нацистов. Ваша задача – собрать всю информацию о дислокации «Азова» в Мариуполе – фамилии, адреса, места встреч. Документация, разумеется – базы данных, инструкции какие бы то ни было… ну, мне вас учить не надо. Пройдитесь по всем этим так называемым тренировочным лагерям для подростков, добудьте их планы учебно-боевой работы, выйдите на их «тренеров», инструкторов. Эти личности нам весьма пригодятся… для недолгой, но обстоятельной беседы.
Майор Соболев криво усмехнулся, особо выделяя голосом «так называемым». Начальник отдельного разведбатальона армии ДНР с иронией относился ко всем этим «так называемым» понятиям, которыми определяли молодые республики украинские СМИ. «Они полагают, что, если возьмут нас в кавычки, мы перестанем существовать», – хмыкал убелённый сединами майор. Впрочем, презрение своё он лишний раз не выказывал. «Противника следует уважать, – считал он, – даже если он своими действиями и риторикой уважения к себе не вызывает. Расслабишься, отнесёшься к нему легкомысленно – считай, проиграл».
В этом он был прав – дураками боевики националистических батальонов отнюдь не были. И мотивация у них была, и воевать умели. Ну, а уж явно фашистская суть этой мотивации – это уже другая тема разговора…
– Физическое устранение противника не является вашей целью в данной операции, – продолжал Соболев. – Но если не будет другого выхода – не жалеть никого, спишется на разборки между своими, там их хватает. Ваша главная задача – собрать информацию, ничем не выдав себя. Только одно исключение…
Он на минуту замолчал, окинув взглядом разведгруппу. Ребята затаили дыхание, не сводя с командира внимательных взглядов. Во всех взглядах читался вопрос: «Исключение? Какое там может быть исключение? Кто?»
– По нашим данным, эта личность должна находиться в Мариуполе. Имя он мог сменить, не факт, что не сменил и внешность. Участвовал в террористических акциях в Киеве на Майдане, в Одессе, в Мариуполе 9 мая. Даже среди своих проходил под прозвищем «Поджигатель». Таких мы обычно в плен не берём, но он нам нужен живым. Обязательно живым – он о многом знает. Ваша задача – узнать его нынешнее местонахождение, но так, чтобы он не успел скрыться. И, поморщившись, как от головной боли, майор добавил сквозь зубы: – Если надо, хоть его близкими друзьями становитесь, но уйти от вас он не должен.
Глава 4
Дорога на Мариуполь и события в городе
– Ты где вообще? Откуда звонишь?
– Я в Мариуполе.
– Да ладно! За восемь лет уже и не мечталось, что такое услышу.
– Ещё и не то услышишь…
Частный разговор граждан ДНР, невъездных на Украину
В первый день их пути погода с утра была ясной и слегка морозной, а к вечеру набежали тучи и пошёл лёгкий густой снежок.
Разведчики помалкивали, лишь изредка и по делу перебрасывались краткими репликами и не забывали смотреть по сторонам.
В паре километров слева простиралась пустая в этот час дорога. Для рейсовых автобусов, везущих в основном пенсионеров Республики за пенсией – честно заработанными кровными еще во времена СССР, это был неурочный час. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась по снежному полю – мешковатые и в меру грязноватые белые маскхалаты практически сливались с окружающим пейзажем. Верное боевое оружие у каждого было наготове. Тут, главное, и не прохлопать ушами в случае чрезвычайной ситуации, и не хвататься за автомат каждый раз, вздрагивая от любого шороха. Типичная ошибка неопытного вояки – однако ребята были тёртыми, и их личное оружие давно уже стало неотъемлемой частью их самих, применяясь исключительно там, где это требуется. Это уже было на уровне рефлекса – всё равно что протянуть руку, чтобы взять нужную вещь, или поднять ногу, чтобы сделать шаг.
Можно было заметить, кстати, из истории каждого члена группы, что это были люди, так или иначе связывающие свою жизнь с высшим образованием, либо уже его получившие. Это вовсе не было случайностью. И представители других военных специальностей не зря в шутку называли разведчиков «академиками». В этой профессии мало было одной сноровки и приобретённых на полигоне навыков – здесь требовался интеллект. Разумеется, каждый из членов группы подчинялся приказам командира, но при этом зачастую сам принимал непростые решения – обратная сторона свободы действий, которую праздные поборники этой самой свободы очень сильно не любят. Ведь отвечать за свои решения в случае неудачи тоже придётся самому. А неудачи в их работе просто быть не должно – слишком дорого обойдётся.
Юля шла чуть в стороне от остальных, рука привычно лежала на воронёной ствольной коробке укороченного «Калашникова». Снайпер в группе и вовсе фигура обособленная – такой себе армейский «фрилансер». Даже переводится это вроде бы понятие из мирной жизни как «вольный стрелок». Когда её так окрестил однажды Игорь «Философ», Юля даже обалдела от неожиданности – настолько чуждым казалось это мирное определение здесь, среди военной действительности. Хотя перевод этого названия свободной деятельности с английского языка она, конечно же, знала. А дело в том, что снайпер по уставу – единственная тактическая единица, которая имеет право в определённых ситуациях самостоятельно ставить себе лично и выполнять боевую задачу. Без участия командира.
Девушка повела глазами чуть вправо, на вырисовывавшийся впереди немного размытый маскхалатом силуэт боевого друга. У него, как и у всех разведчиков, на плечах висел плотно набитый рюкзак. В нескольких шагах от него шёл Алекс «Лис» – второй автоматчик. Оба выглядели так, будто в любую минуту готовы стрелять – да, собственно, так оно и было. Неожиданность могла поджидать на каждом шагу. Юля тоже не стала слишком долго на них засматриваться, хотя в часы отдыха, надо сказать, поглядывала в сторону Игоря довольно часто, и ей самой это не нравилось. Только симпатий ей тут и не хватало! Тем более, совершенно непонятно, как относится к ней сам Игорь. У него каждый раз настроение, как флюгер, – то явно флиртует, то весьма обидно насмешничает, то вообще уходит в себя и хмурится раздражённо – типа, не мешайте все. А иногда – и Юля особенно ценила эти моменты – с ним можно было откровенно поговорить буквально обо всём. Правда, временами такие разговоры прерывались неожиданно и непонятно – он вдруг прерывал девушку резким: «Ну, давай быстрее, не тяни» или «Сто раз говорила уже». Юля тогда снова замыкалась надолго и обещала себе больше с ним не говорить, но, когда он сам к ней с чем-нибудь «подкатывался», не умела долго обижаться.
– Ровно через час выйдем на блокпост, – раздался в наушнике голос Олега «Альбатроса», успевшего уже запустить вперёд свою «птичку». – Расчёт верный.
– Действуем, как условились, – сменил его как всегда ровный, негромкий голос командира. – Всем занять свои позиции. Дима, держать связь.
– Есть!
Над пригородами Мариуполя сгущалась темнота раннего зимнего вечера. Едва заметно трепетал на холодном ветру жёлто-голубой флаг над укреплением блокпоста.
– Стеценко, ты это слышал?
– Шо?
– «Шо-шо»… Как вроде шото скрипнуло где-то рядом. Как кто-то тут совсем близко прошёл.
– Та то уже у тебя «глюки».
– То ты невнимательный – всё стоишь и мечтаешь. Вот смотри, прощёлкаем из-за тебя сепаров каких-нибудь…
– Шо ты трындишь? Нужны мы сепарам! Прямо так толпами тут и ходят. – Вздох. – Я бы и сам на их месте лучше сидел дома и чай пил. А ещё лучше и чего покрепче. Вон, ветрюган какой разыгрался! Оно надо вот это вот всё…
– А шо ж на своём месте не сидел, служить попёрся?
– Того же, шо и ты – грошей обещали.
– Ну, ты… Ты за меня не расписывайся! Я за идею пошёл.
– От только не надо тут строить из себя героя-добровольца! За идею он пошёл… Идея одна – погнали и не смог отвертеться. Шо, скажешь, не так?
Вздох, ещё более длинный и тяжёлый.
– Оно-то, может, и так, та ты б помалкивал… – Пауза. – Однако ж снова какие-то звуки…
– Та то ветер свистит.
– Ну хорош разговаривать – смотри в оба. Потом с нас с тобой спросят.
Ответа не последовало. В этот миг обоим собеседникам показалось, что сухое дерево слева от них заскрипело и будто бы наклонилось. Возможно, и от мороза.
Как можно было понять, часовые на блокпосту на въезде в Мариуполь отнюдь не проявляли большого энтузиазма воевать. Это были не боевики из националистических батальонов, считавшихся на Украине элитой, а простые вояки вэсэушники, заброшенные сюда, вполне вероятно, против собственной воли. Обычная в эти годы практика – призвали, заверили, что служить будет где-нибудь недалеко от дома, потом куда-то повезли, везли долго… Ну, а потом – здравствуй, Донбасс, край «немытых шахтёров и страшных сепаратистов».
Это о таких персонажах в украинских новостях беспокоились их заботливые мамаши: «Дайте нашим сыновьям новые бронежилеты – как же наши мальчики будут воевать?» Беспокоились, надо сказать, не без оснований, если оставить за скобками тот факт, что воевать «мальчики» должны с собственными же согражданами, и это обстоятельство ровным счётом никого не волновало. Но – то такое…
Ещё в начале 2014 года – собственно, до начала боевых действий в Донбассе, в украинской армии вместо «дубка», обнаружившего множество недостатков, появился пиксельный камуфляж ММ14, обеспечивающий, в общем, неплохую маскировку в условиях украинских степей и пейзажей с выгоревшей травой. Форму называли «гелетейка» по фамилии тогдашнего министра обороны. Вроде бы она была и всем хороша, однако украинцы во многом скопировали её с формы норвежской GARM от компании NFM. Скопировали довольно бездумно, не глядя, добавляя и много ненужных карманчиков и лишних деталей. К тому же ткань формы легко горела, что в условиях боевых действий было, мягко говоря, неуместным.
Правда, в 2017 году Вооружённые силы Украины получили новую форму, разработкой которой занимался специалист в этой области Константин Лесник. В ней уже было много реальных улучшений. Из главных достоинств кителя – сквозные нагрудные карманы, которыми удобно пользоваться даже с бронежилетом, высокий воротник, много элементов на липучках, вот только сам китель почему-то на молнии.
Что касается пресловутых бронежилетов, которых в 2014 году, действительно, катастрофически не хватало в украинской армии, то со временем их поставки в войска усилились. Во многом оснащение средствами индивидуальной бронезащиты осуществлялось за счёт поставок помощи из стран НАТО и волонтёрской помощи. Впоследствии к вопросу приобретения бронежилетов активно подключилось и Министерство обороны Украины. Самым массовым индивидуальным средством защиты в ВСУ стал бронежилет украинской разработки «Корсар М3», в которые и были сейчас облачены доблестные защитники украинского города Мариуполя, несущие службу на блокпосту.
Что же касается стрелкового вооружения украинских солдат, то здесь дела обстояли не очень радужно. Конечно, не то чтобы упомянутые вояки имели в данный момент один автомат на двоих, но фактически на вооружении «доблестных украинских героев» стояло всё стрелковое оружие, что смогли выгрести со складов длительного хранения, то есть, по сути, музейные экспонаты, которым давно уже следовало бы отправляться на пенсию. И на линии соприкосновения, и в тыловых частях, помимо прочего оружия, доставшегося по наследству от Советского Союза, на вооружении ВСУ до сих пор применялись такие почётные «старички», как, например, пулемёты «максим» образца 1900 года и крупнокалиберный ДШК образца 1937/44 годов. Это, конечно же, не лучшим образом говорит о состоянии дел с вооружением украинской армии.
Всевозможные попытки приблизиться к стандартам НАТО по стрелковому оружию потерпели крах по тривиальной причине – недостатка у Украины «грошей» для столь масштабного перевооружения армии. Не без того, что некоторые украинские чиновники продолжают вещать что-то на эту тему, но всё это продолжает относиться к разряду «хотелок». Правда, справедливости ради надо отметить, что наиболее массовым иностранным оружием, представленным в украинской армии, является автомат «Форт-221», собирающийся на Украине по израильской лицензии, – тот же «Тавор», но только под советский патрон, однако в войсках его можно увидеть разве что на парадах, поскольку количество единиц, находящихся в ВСУ, не превышает несколько сотен.
Но в данном случае украинские солдаты находились отнюдь не на параде, а в чистом поле, на блокпосту, обдуваемом всеми ветрами. И вооружены они были не суперсовременными поставками иностранных партнёров, о которых так много и красиво говорили по телевизору, а обычными «Калашами». Ещё у каждого имелась плохонькая рация, поддерживающая связь со сплошными помехами. Каждый, впрочем, не очень-то и жаждал общаться с высшим военным начальством и в случае чего рассчитывал ссылаться именно на ту самую плохую связь.
И, разумеется, каждый из них от души надеялся, что никаких исключительных ситуаций за время их дежурства не возникнет…
Тяжесть «броника» уже практически не ощущалась, Юля только вспоминала иногда, как в начале службы ей казалось, будто он пригибает её к земле, замедляет движения, делает тяжелее сразу килограмм на сто. Да и то эти воспоминания приходили всё реже. Человек привыкает ко всему – даже к некомфортным условиям и отнюдь не радужной действительности вокруг. А в особых случаях, когда у человека всё в порядке с силой воли, даже воспринимает эту действительность с юмором.
Юля считала, что у неё силы воли нет. Она не умела воспринимать с юмором то, над чем смеяться вовсе не хотелось. Но и ныть не любила – во всяком случае, старалась не ныть. Поэтому всё больше уходила в себя, не любила лишних разговоров – по сути, потихоньку отвыкала от них вообще. Теперь уже даже и не представляла вовсе, о чём ей говорить при встрече с гражданскими – как вести беседу, какие вообще бывают темы для неё. Обсуждать в сотый раз, как всё плохо? А смысл? Нет, если от этого жизнь станет лучше, и война закончится, она готова болтать часами. Но ведь не станет, и не закончится.
Так потихоньку терялись, уходили навыки обычной жизни, и Юля не хотела думать о том, что будет, если они потом не вернутся. Потом будет потом. А пока – делай, что должно, и будь что будет.
Военная форма воспринималась уже как вторая кожа, и Юля тоже смутно представляла себе то время, когда, как в песне Высоцкого, «сменит шинель на платьице». Она и в мирной жизни не очень-то любила платьица, предпочитала «моду унисекс»: джинсы и кроссовки. А теперь, честно признаться, её вполне устраивало, что не надо было заморачиваться, что надевать каждый день. Жизни гражданских сейчас, скажем прямо, не позавидуешь – надо жить, как обычно, и выполнять те же обязанности, что и в мирное время, только всё это сильно затрудняют военные условия. Чем хороша армия – здесь обо всём подумали за тебя люди более умные и компетентные. В том числе и что тебе носить.
Да и «броник» на самом-то деле был вовсе не стокилограммовый, как казалось поначалу хрупкой девочке Юле, пришедшей служить в армию. Конечно, увеличивал массу. Конечно, стеснял движения, да и то поначалу – от неопытности и неумения использовать его. Теперь же без бронежилета и «разгрузки» девушка чувствовала себя раздетой. Даже не на задании, а просто в каких-либо двусмысленных ситуациях рука сама собой тянулась к нужному кармашку или подсумку. И если кармашка не находила, это на мгновение вводило Юлю в ступор.
Сейчас из своего укрытия Юлия следила за двумя часовыми на блокпосту. Укрытие, надо сказать, было весьма удобным – будто специально для неё здесь и поставили это старое дерево с низкими раскидистыми ветвями, то и дело скрипевшее от ветра и мороза. Те двое оглядывались на этот скрип, но, не находя ничего интересного, тут же отводили взгляды.
Они не очень внимательны, отметила Юлия, – устали, и дежурство им надоело, мечтают о том, чтобы побыстрее смениться. С одной стороны, это хорошо, с другой – не очень: самим можно расслабиться и потерять бдительность. Противника всегда следует воспринимать всерьёз.
Дерево снова заскрипело от ветра – казалось, внутри широкого ствола сидит несчастное существо с зубной болью и всем на неё жалуется. Один из солдат на посту резко развернулся и направил в сторону дерева ствол своего «Калаша». И в тот же момент прямо над её ухом просвистело что-то и поднялось в нескольких метрах позади облачком снежной пыли.
– Ты шо, сдурел?! – воскликнул сердито его напарник. – Зачем зря патроны тратишь? Они у нас все под отчётом. Приедет командир роты – потом не рассчитаемся. Чем тебе то дерево не угодило?
– Там есть кто-то. Вот послушай, – украинский часовой держал автомат наизготовку, стреляная гильза улетела куда-то в снег.
– Ну, кто там может быть среди ночи?! Кому оно надо?
– Так скрипит.
– От мороза скрипит.
– Нам приказали любой шум не оставлять без внимания.
– Слушай, вот пусть сами и не оставляют! Нехай стоят тут на морозе и стреляют по деревьям. А тебе оно больше всех надо?
В этот момент оба вздрогнули и оглянулись. Им одновременно показалось, что совсем рядом с блокпостом кто-то прошёл. Прошёл и спрятался за низкой баррикадой из мешков с песком. Трепетал на зимнем ветру в свете прожектора жёлто-голубой флаг, отвлекая внимание.
– Так, ты стой здесь, – сказал тот, которому меньше было надо, – следи уже за своим деревом и вокруг поглядывай, а я обойду блокпост кругом.
В этот момент с крыши низкой постройки упал большой снежный сугроб. Жёлто-голубой флаг пошатнулся, но не упал – только древко наклонилось и уныло повисло полотнище.
– А шоб тебя… – выругался солдат, но тут же спохватился, выпрямился и направил автомат куда-то за постройку: – То есть это… Стой, хто идёт?
Отвечать ему никто не спешил. Вокруг было пусто, только ветер свистел по чистому полю, и поскрипывало старое дерево.
Вояки обошли блокпост с разных сторон, обошли дерево, но никого не обнаружили.
– Говорю тебе, показалось.
– А шо то свистело?
– Где свистело?
– Та вроде над самым ухом. Вроде как пуля пролетела.
– То у тебя уже в голове пули летают. Ты выстрел слышал?
– Та нет…
– Ото ж. От пули тут бы не осталось ничего.
Оба задумчиво покрутили головами и вернулись на пост. Их древняя рация только шипела помехами, но украинские вояки не сразу обратили на это внимание – как-то не горели желанием общаться со своими вечно пьяными офицерами. Утром выяснилось, что тонкая антенна то ли переломана, то ли перебита… Списали все на сильный ветер и старую советскую конструкцию. Правда, было еще кое-что: сгоревший антенный преобразователь. Металлическая коробочка в основании штанги попросту сплавилась, а ее электронная начинка выгорела.
– Короткое замыкание, чи шо?.. – почесал в затылке один из вояк.
Может, и замыкание… А может – прямое попадание зажигательной пули калибра 7,62 миллиметра.
В общем, их видавший виды, еще советский радиопередатчик находится в совершенно неисправном состоянии. Всё это сулило серьёзные неприятности, а потому и начальству вояки сообщать об инциденте не испытывали особого желания… Всё равно их же и выставят виноватыми. Проще было разбить эту треклятую рацию, которая и так сбоила, и списать её, как пришедшее в негодность армейское имущество. На это, правда, ушли пять бутылок «горилки», но нервы дороже. А по поводу недостачи патронов после шальной стрельбы в ночь – так у каждого уважающего себя солдата всегда «заныкана» пачка «5,45Ч39», как раз на такой случай.
Диверсионно-разведывательная группа продвигалась по сонному Мариуполю. Уже позади остались безлюдные пригороды, спальные районы. В двух шагах был центр города, если знать, когда и где сворачивать. Они, впрочем, сворачивать не спешили. Группу вёл Игорь «Философ», как местный, хорошо ориентирующийся в городе. Он знал здесь множество мест, удобных для днёвок.
Всем хотелось отдохнуть и расслабиться. Выспаться, наконец. Люди-тени – это всё-таки люди…
Шли молча, друг за другом, застывая на каждом углу, внимательно вглядываясь в сонную улицу. Юлька «Пантера» присоединилась к остальным и шла позади, прикрывая тыл. Модный «безухий» кевларовый шлем позволял без труда вертеть головой, а потому иногда девушке казалось, что глаза у неё везде – и на затылке тоже. На самом деле просто привычка не оставлять без внимания ни единого сантиметра окружающего пространства. «Просто» привычка… Хм… Ну да.
Идущий впереди «Философ» плавно опустился на одно колено, вскидывая вверх кулак. Увидев условный знак, разведгруппа бесшумно рассредоточилась.
– Впереди патруль, – едва слышный шёпот прошелестел в активных наушниках разведчиков.
По параллельной улице неспешно фигурировали двое военных с эмблемами «Азова» на рукаве. Никуда не торопились, поигрывали стволами своих АКС-74, лениво вертели головами вокруг, скользили взглядами по сонным домам. В неверном свете фонарей на белом фоне снега они были хорошо различимы. Особенно для зорких глаз разведчиков. Один совсем юный, худощавый, остроносый, с хищным взглядом небольших прищуренных глаз, другой постарше, где-то за тридцать, весь какой-то квадратный, круглолицый, с румянцем во всю щёку, вызывающий почему-то ассоциации с сельскими свадьбами.
Впрочем, такие ассоциации, возможно, появлялись только у Юли – она-то нагулялась на сельских свадьбах на родине, у всевозможных друзей и родственников. До сих пор иногда их вспоминала, смотря известный советский мультфильм «Жил-был пёс», как раз о Полтавщине… Как знать, возможно, этот круглолицый – её земляк…
И тут же одёрнула себя. Нет у неё среди этих земляков. Это враги. Не могут враги быть её земляками.
Снайперская винтовка уже смотрела на «азовцев» толстой трубкой глушителя. Тонкий чёрный ствол верной «Драгуновки» обмотан белым медицинским лейкопластырем, а поверх него – еще и лохматой камуфляжной лентой. В тепловизионном прицеле на сером фоне различимы нагретые лица – словно Юля видит их фантастическим зрением инопланетного Хищника из одноимённого боевика с Арнольдом Шварценеггером. Дистанция для СВД, меньше ста метров – тут и ребёнок не промахнётся…
– «Пантера», внимание, – прозвучал в наушниках строгий голос командира. – Без самодеятельности.
– Они приближаются и не свернут, – коротко возразила Юлия – не до субординации. – Разрешите работать.
Двое «азовцев» вальяжно приближались к перекрёстку, на котором застыла группа разведчиков. Спешить им было некуда – это был их город. Город, взятый и удерживаемый нацистами с молчаливого, хотя и недовольного согласия местных жителей. Но кого интересует мнение, а тем более удобство местных?
«Азовцы» приближались. Отвлечь их было нечем.
– Действуй, – коротко разрешил командир.
Старший группы не успел даже договорить это короткое слово. В следующую секунду указательный палец Юли мягко и плавно потянул спусковой крючок – винтовка привычно и жёстко лягнулась в плечо отдачей. Два выстрела слились в один – вот оно, преимущество автоматики над перезарядкой поворотом затвора. Звук массивная «банка» погасить полностью не могла, но зато существенно снизила.
Снайперская пуля пробила навылет круглую голову «азовца», не защищённую ничем, кроме чёрной шапочки. Видимо, «воины света» не считали нужным носить здесь что-либо посерьёзней. Зачем? Что может угрожать хозяевам во взятом ими городе? Плохо скрываемую ненависть местных они в расчёт не брали. Открыто пойти против них всё равно никто не решится – слишком запуганы.
Что ж, может, и так. Только теперь перед ошарашенным молодым «азовцем», оставшимся в одиночестве, были отнюдь не местные. И не запуганные.
Парень, моргая, всматривался в темноту – взгляд был уже не хищным, а затравленным, пальцы, чуть дрожа, нажимали на кнопки рации. В следующую секунду рация вылетела у него из руки, сбитая безошибочным выстрелом из СВД с глушителем, а юный «азовец» взвыл, схватившись за развороченную мощной винтовочной пулей окровавленную ладонь. Тёмные, почти черные капли падали на белый снег.
– Стоять, щенок, – на пустынной и тёмной заснеженной улице перед ним, как по волшебству, из ниоткуда возникали белые фигуры. На их фоне одинокий «воин света» выглядел уже отнюдь не внушительно. «Философ» сорвал с шеи противника автомат на ремне.
– А броник-то – обнять и плакать, – с презрением пробормотал себе под нос Алексей «Лис». – Не броник, а вечернее платье. Ничего не боятся, сволочи.
И правда – бронежилет на юном «герое», как и на его напарнике, был совсем несерьёзным – короткий, лёгкий, он был надет прямо на утеплённую камуфляжную куртку и не закрывал ни шею, ни нижнюю часть туловища, обвисая, казалось, на чересчур длинных регулирующих ремнях, как тяжкое бремя.
– Подумал бы – для красоты, так и красоты никакой, – продолжал мысль «Лис». – Эй, герой, ты что же, думаешь, тебя одна твоя эмблема защитит?
«Азовец» зыркнул на него молча и зло. А Юлька невольно тронула воротник собственного бронежилета. Не рискнула бы она выходить на задание, как этот «мальчик-красавчик». Да он и боевые задания-то, должно быть, воспринимал как развлечение. И людей, как фигурки в тире, не понимая ещё, что однажды может превратиться в одну из них. Вот и сейчас в глазах читается извечный их вопрос: «А меня за шо?» Им бы, ей-богу, это в качестве девиза на знамени запечатлеть.
