Теоретико-мыслительный подход. Книга 2: «Языковое мышление» и методы его исследования
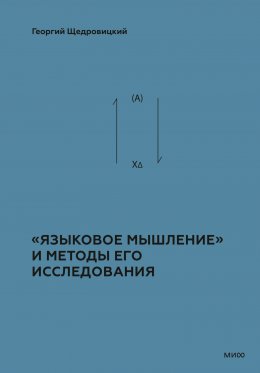
Издано при поддержке Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»
Редактор-составитель А. В. Русаков
Щедровицкий, Георгий Петрович
Учение Георгия Щедровицкого: в 10 т. / Г. П. Щедровицкий. – Москва: МИФ, 2024 —.
ISBN 978-5-00214-693-2
Том 2. Теоретико-мыслительный подход. Книга 4: «Языковое мышление» и методы его исследования. – 2025.
ISBN 978-5-00250-114-4
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Текст, составление. Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2025
© Примечания редактора, указатель имен, предметный указатель. А. В. Русаков, 2025
© Оформление. ООО «МИФ», 2025
Предисловие к многотомному изданию «Учение Георгия Щедровицкого»
Перед вами главный проект моей жизни – издание Учения Г. П. Щедровицкого. Ничего более существенного и полезного для людей я сделать не в силах.
Идея издания появилась с момента смерти Георгия Петровича в 1994 году. Появились отдельные книги. Их вышло около двадцати. Но это не было целым. А целое замысливалось то в хронологическом подходе, то в тематическом, собирались деньги, работы начинались и останавливались, при этом публикация Учения становилась, на мой взгляд, все более актуальной задачей.
В начале 2021 года я понял совершенно отчетливо, что человек не вечен и, если не начать, все может расползтись и исчезнуть. Единственным утешением могла оказаться только та работа по архиву Георгия Петровича, которая была проделана в последние годы. Этот архив собран, оцифрован и с ним удобно работать[1].
В этот раз составители предложили вместо хронологии и тематической логики логику подхода. И мне, после некоторых размышлений, эта идея показалась правильной. То ли потому, что я являюсь адептом СМД-подхода (системомыследеятельностного), то ли потому, что, будучи управленцем, понимаю, что главное, что подлежит трансляции в нашей среде, – это подход, то есть набор способов, инструментов интеллектуальной работы, которые позволяют нам мыслить мир, деятельность и мыследеятельность, участниками которой мы являемся.
Несмотря на политический флер, который в последнее время окружает Учение, когда разным как бы методологам приписывают серьезное политическое влияние на происходящее в России, я должен сказать, что «методологи» не оказали никакого, повторяю, никакого влияния на политические реалии.
При распространении Учение может кардинально поменять картину мира и, следовательно, мир как таковой. Но этот процесс займет как минимум сотню, а то и две сотни лет (хотя сетевые эффекты могут ускорять такие процессы).
Это не означает, что адепты Учения асоциальны. Нет, как люди они могут действовать: как управленцы – управлять, как образовыватели – учить, растить людей, способных меняться.
Люди живут лишь мгновенье, большинству попытка присоединиться к Великому и в нем существовать не нужна, ибо последствия зачастую несопоставимы с жизнью.
Жизнь апостолов, проповедников христианства – тому подтверждение. Только одному из них удалось умереть своей смертью – остальные были уничтожены людьми с предельной жестокостью. Но никто из них, несмотря на отсутствие интернета в то время, не исчез.
Это сравнение может показаться вычурным, но для меня оно житейское: если у тебя появилась идеология, то есть набор идей, которые после критического осмысления ты себе присвоил, превратив в подход, то они тобой движут, и ничего с этим не поделаешь.
Подход – это не концепции, это идеи и инструменты, реализуемые в живом мышлении, деятельности, коммуникации, мыследеятельности. Отдельные конкретные концепции могут быть ошибочными или неполными, а подход будет оставаться актуальным. Посмотрите на историю философии – там беспрерывно ошибались всю ее историю, но это, к счастью, не мешает человечеству философствовать.
Методология – это Учение, оно предполагает человека в деятельности, то есть человека, который постоянно практикует это Учение. А как только перестает практиковать, Учение исчезает.
Самое трудное – передать читателю Учение как подход. Поэтому мы решили, что предисловие должно состоять из живого текста тех, кто работал и продолжает работать в школе Щедровицкого, использует и развивает это Учение. Они ответили на вопрос: «Зачем это Учение нужно и что я делаю с ним?»
А. Г. Реус
Полный текст предисловия по ссылке: clck.ru/3AsXuY
Предисловие редактора
В этой книге впервые публикуется диссертация Г. П. Щедровицкого на соискание степени кандидата философских наук – по копии оригинала, хранящегося в отделе диссертаций Российской государственной библиотеки. Диссертация была защищена автором в июне 1964 года на кафедре философии Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
В 1953 году, после защиты диплома, совет кафедры логики МГУ рекомендовал Г. П. Щедровицкого в аспирантуру. Однако руководство кафедры в лице зав. кафедры В. И. Черкесова сделало все возможное и невозможное, чтобы «завалить» соискателя на вступительных экзаменах в аспирантуру. Подробно сам Г. П. Щедровицкий описал это в своих воспоминаниях[2].
Как пишет биограф Г. П. Щедровицкого и исследователь истории Московского методологического кружка А. А. Пископпель: «Формально (как окончивший [учебу в университете] с отличием) Г. П. получает распределение в аспирантуру, но его студенческая биография к тому времени была настолько “подмочена” (своей неуемной активностью и бескомпромиссностью он настроил против себя почти всю факультетскую профессуру), что поступить в аспирантуру он смог бы только после ухода с кафедры логики всех (или почти всех) преподавателей. Его тщетно уговаривали поступать в аспирантуру плехановского института, но он стоял на своем и в результате оказался “ни с чем” – школьным учителем»[3].
Тем не менее, не будучи аспирантом и не имея научного руководителя, в 1956 году Щедровицкий начинает работу над диссертацией. В результате в 1960 году им была подготовлена рукопись объемом более 900 машинописных страниц. В 1962 году он делает попытку защитить диссертацию в Институте философии Академии наук СССР, но в таком объеме ее там не приняли.
В 2006 году Фонд им. Г. П. Щедровицкого опубликовал сохранившиеся материалы к этой, так называемой «большой» рукописи диссертации под авторским названием «О методе исследования мышления»[4].
Для защиты в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова в 1964 году автор сократил эту рукопись до 559 машинописных страниц; были исключены главы: «Основные проблемы “системности” теории», «Основные идеи восхождения от абстрактного к конкретному», «Проблемы “нисхождения” при исследовании чувственно-множественного целого», «Особенности нисхождения и восхождения при исследования “органических” объектов»[5], существенно сокращен и переработан раздел «Опыт анализа отдельного текста, содержащего решение математической задачи»[6], а ряд материалов был вынесен в приложения.
В состав шести приложений к диссертации вошли результаты исследований Г. П. Щедровицкого, начиная с 1953 года[7]:
I. Анализ строения понятия «скорость механического движения».
II. Применение идеи «слоев» знания для решения проблем типологической классификации языков.
III. Применение «конфигуратора» в методологических исследованиях.
IV. Задачи логики в системе педагогических исследований.
V. Анализ процессов решения простых арифметических задач.
VI. Сравнительный анализ арифметического и алгебраического способов решения простых задач.
Часть этих материалов в более развернутом виде была опубликована автором еще до защиты[8], часть в последующие годы (в доработанном виде). Все эти работы, включая материалы, удаленные автором из текта «большой» рукописи, будут опубликованы в данном издании в других книгах.
Основной текст диссертации публикуется в точном соответствии с рукописью, которая была защищена автором. В разделе «Цитированная литература» приводится полный список использованных автором источников. Библиографические описания списка уточнены, исправлены и дополнены в соответствии с принятыми в современных научных изданиях стандартами, а также в соответствии с задачами цитирования. Список собственных работ автора по теме диссертации также приводится полностью – с необходимыми уточнениями.
Помимо основного текста диссертации в книге публикуется автореферат диссертации – по оригиналу, хранящемуся в Российской государственной библиотеке. В текст автореферата внесены уточнения и исправления по рукописи автореферата, представленной автором ученому совету Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (арх. № 0904).
По возможности цитаты сверены и исправлены по указанным автором источникам, но не всегда это было возможно (что оговорено в постраничных примечаниях редактора).
Все схемы пронумерованы редактором. Повторяющиеся в тексте диссертации схемы удалены (ссылки на схемы даются в соответствии со сплошной нумерацией).
Также редактором введен в обозначение пунктов текста диссертации знак «§», и все ссылки автора на эти пункты унифицированы как ссылки на «параграфы», а в оглавлении текста названия глав и подглав дополнены указанием на входящие в них параграфы.
Редакторские вставки в тексте диссертации заключены в квадратные скобки.
Текст диссертации дополняют примечания редактора, именной и предметный указатели.
А. В. Русаков
«Языковое мышление» и методы его исследования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Сейчас в науке все больше выдвигается на передний план задача специального изучения мышления. Четыре группы практических и теоретических проблем играют особенно важную роль в этом движении.
Первая относится к методологии научного исследования. Все большее число ученых в настоящее время осознает связь своих специальных наук с теорией знания и мыслительной деятельности. В XIX в. об этом говорили лишь немногие, а сейчас эту мысль выдвигает и обосновывает уже довольно широкий круг ведущих ученых – физиков, химиков, биологов, геологов, лингвистов, математиков. «Наш мозг с трудом привыкает к новым формам мышления. Мы можем научиться пользоваться ими, только выработав новый адекватный язык. Эта задача стоит сейчас перед философами и физиками, и они обязаны разрешить ее совместными усилиями для облегчения эволюции человеческого рода». Эти слова принадлежат видному французскому физику П. Ланжевену[9]. Не менее категорично формулируют подобные же требования А. Эйнштейн, С. И. Вавилов, П. Дирак, Н. Бор, А. Н. Несмеянов.
Изменение взглядов ученых на роль теории знания не является случайным: оно отражает объективные изменения в характере самих наук. Если первоначально предметом исследования были отдельные объекты и явления, рассматривавшиеся с разных, но не связанных между собой сторон, то теперь основным предметом изучения повсеместно становятся связи между этими сторонами и системы связей. С переходом к таким предметам изучения неизмеримо усложнилась «техника», или «технология», самой исследовательской работы. А знания о ней почти совсем не выросли, не развились.
Слабое развитие теории науки снижает общую культуру научно-теоретического мышления и, более того, в ряде случаев вообще не дает возможности решить проблемы. Каждое крупное научное открытие есть вместе с тем шаг в развитии «техники» мышления, усовершенствование его способов. Но эта внутренняя сторона научного прогресса часто умирает вместе с исследователем, а человечеству пока достается лишь «внешний» продукт его работы.
Так общий ход развития науки все настойчивее ставит задачу: выделить и выразить в обобщенных правилах сокровенную сторону мышления, его приемы и способы, его «технологию».
Вторая группа явлений, делающих крайне необходимой специальную разработку теории мышления, связана с организацией и хранением уже накопленных знаний. Темпы развития науки нарастают. Объем знаний быстро увеличивается. Растет дифференциация и специализация. Все чаще начинают повторяться в разных местах одни и те же исследования. Человечество уже приблизилось к такому моменту, когда оно не сможет полностью «переваривать» и использовать накопленные знания. Чтобы этого не случилось, надо непрерывно вести работу по классификации знаний, по отсеиванию ненужных знаний, надо непрерывно обобщать и, образно говоря, «уплотнять» их. Для этого, в свою очередь, нужно знать строение всех существующих видов знания, законы их развития и обобщения.
Подобную же задачу – исследовать строение научных знаний и операций мышления – ставит процесс обучения. Уже давно мы говорим о перегрузке школьников, а объем знаний, который им необходимо усвоить, непрерывно растет и будет расти в связи с возрастающей механизацией и автоматизацией производства. Где же выход? Решение проблемы может заключаться только в изменении характера учебного процесса, в предельной его рационализации. Ребенок должен усвоить максимум обобщенного знания в минимальные сроки, а педагог должен организовать такое усвоение. Но для этого он, прежде всего, должен знать, что усваивает ребенок, что представляют собой знания и мыслительные операции, каково их строение. Только в этом случае он сможет эффективно и быстро учить детей. Это – третья группа явлений, делающих неизбежным интенсивное развитие науки о мышлении.
Четвертый круг проблем ставится задачей автоматизации некоторых процессов умственного труда. Анализ показывает, что основные затруднения здесь возникают не столько из-за технических моментов, сколько из-за того, что мы не знаем природы, строения тех процессов, которые хотим автоматизировать. Например, тезис, что некоторые процессы мышления надо передать машине, получил сравнительно широкое признание среди математиков и инженеров. Однако при этом нередко смешивают мышление с физиологическими процессами в мозгу. Это облегчает рассуждения, но нисколько не продвигает техническое моделирование мышления. Таким образом, и здесь мы приходим к необходимости специального изучения мышления, в частности мыслительных процессов.
Таковы факторы, определяющие необходимость специального развития науки о мышлении, превращения ее в производственно-значимую науку. Не будет, по-видимому, преувеличением, если мы скажем, что уже в ближайшие десятилетия мышление станет одним из важнейших предметов научного исследования и технического моделирования[10].
Но до сих пор именно этот предмет – как особое и целостное образование – меньше всего изучался и разрабатывался. К мышлению подходили с разных сторон, но ни одно из представлений, созданных в частных науках, не могло и не может удовлетворить те запросы и требования, которые выдвигаются в настоящее время практикой. Необходимо совершенно новое расчленение объекта, выделение новых сторон и переосмысление уже известных. В этой связи с особенной остротой встает вопрос об исходных понятиях и принципах, на основе которых может быть построена новая теория.
Эти соображения определили тему диссертационной работы. В ней выясняются причины и обстоятельства, в силу которых понятия традиционной (то есть формальной и математической) логики не могут лечь в основу общей теории мышления, и сделана попытка наметить систему новых логических понятий, дающих такое основание.
Работа состоит из введения, трех глав и шести приложений[11]. Во введении характеризуются практические и теоретические задачи, сделавшие необходимым подобное исследование, и определяются основные методологические проблемы, которые предстоит решить при построении общей теории мышления.
Первая глава работы, называющаяся «“Языковое мышление” как особый предмет исследования. Первые схемы», посвящена исходным расчленениям мышления и выделению тех его сторон, которые могут быть предметом логического анализа. В основу всех рассуждений положена гипотеза о двухплоскостном строении любой единички мышления. Суть ее состоит в предположении, что мышление есть всегда движение одновременно в двух плоскостях – обозначаемого и обозначающего.
Это предположение подтверждается уже некоторыми общими представлениями: когда какой-либо человек строит свое рассуждение, то он основывается на «усмотрении» определенных элементов и связей в объективной действительности и одновременно выражает их в определенной последовательности знаков. Точно так же понимание языковых рассуждений другого человека невозможно без «мысленного обращения» к области действительности и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей в этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях.
Специальный анализ показывает, что аналогичное положение существует и в тех случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, знаковыми рассуждениями[12]. Поэтому, исследуя мышление, логик, психолог, лингвист должны представлять его в двухплоскостных схемах вида[13]:
Эта схема изображает тот факт, что в процессах человеческой познавательной деятельности одни объекты и действия с ними (на схеме они даны справа) по определенным законам замещают другие объекты и действия (изображенные на схеме слева).
При описании этой схемы и изображаемых ею единиц мышления употребляются понятия «формы» и «содержания», но не в их традиционном, формально-логическом смысле, а в том понимании, которое было выработано К. Марксом при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества[14]. Согласно этому пониманию, замещаемый элемент подобной структуры (на схеме – находящийся слева) может быть определен как содержание, а замещающий элемент (правый на схеме) – как форма, или знаковая форма. Тогда схема принимает вид:
Произведенное изменение смысла понятий формы и содержания мышления обосновывается в специальном разделе работы анализом истории развития этих понятий в философии и логике.
На основе двухплоскостного изображения мышления, представленного в схемах (1) и (2), рассматриваются существовавшие в истории науки попытки определить природу содержания мышления и значений знаковых выражений; дается классификация возможных точек зрения и описываются те трудности, с которыми каждая из них сталкивалась. После критического анализа вводится ряд новых понятий, определяющих исследование языка и мышления с точки зрения двухплоскостной схемы. Это – понятия «знака», «содержания мышления» и др.
Вопрос о том, что представляет собой «обозначающее» в языковых выражениях (или, иначе, их знаковая форма), фактически почти не вызывал споров: большинство исследователей соглашалось с тем, что это звуки, движения, графические значки, иногда просто предметы. Но значительные разногласия возникали в вопросе, что такое знак. Часто знак отождествляют с обозначающим или со знаковой формой[15]. Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языка и мышления (в частности, синонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру (2), включая в него и содержание. Это противоречит обычному пониманию отношения между знаком и обозначаемым и с необходимостью приводит к ненаучным идеалистическим выводам, пример которых дали В. Шуппе и Н. Лосский. Остается третье возможное понимание, которое мы и принимаем – знак есть образование вида:
(Как правило, у каждого знака целый ряд таких «значений», но мы оставляем это сейчас в стороне, ибо важно подчеркнуть сам принцип структурного изображения знака.)
Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). Эта трудность исчезает, как только мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по материалу, есть просто природное явление – звук, движение, графический значок, и в нем как таковом нет ничего, что делало бы его знаком. Эти природные явления становятся знаками, включаясь в известных ситуациях в определенную деятельность человека, и остаются знаками, поскольку они вновь могут быть включены в такую же, строго фиксированную, общественно-закрепленную деятельность, то есть поскольку они потенциально «остаются» внутри нее. Но тогда значение знака – собственно, и создающее его специфику как знака, создающее его знаковое «лицо» – есть не что иное, как то, что определяется деятельностью, способом использования природных явлений, образующих материал знака, в определенных общественных ситуациях. Изображение значений знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, весьма условным способом обозначения той деятельности, которая эти значения создает[16], и, чтобы раскрыть суть и природу значений, необходимо, следовательно, проанализировать природу и суть этой деятельности[17].
Самым важным здесь является вопрос, что представляет собой «содержание» мышления. Чтобы выделить и исследовать основные типы структур знания, мы должны прежде всего выделить и исследовать основные типы содержания мысленных знаний, а затем уже рассмотреть, как и в каких знаковых формах они выражаются, то есть, другими словами, мы должны вывести основные типы знаковых форм и структур знания из основных типов содержания. Но это не так-то просто сделать, и трудность заключается, прежде всего, в том, что содержание, или «обозначаемое», языковых выражений никогда не бывает дано исследователю языкового мышления само по себе, как таковое. Оно всегда дано или, как говорят, проявляется в определенной знаковой форме. (Кстати, это и есть та основная характеристика языкового мышления, которая позволяет применить к нему категорию «форма – содержание».) Хотя мыслящий человек, как мы уже говорили, исходит из «усмотрения» определенного положения дел в действительности, но то, что он «усмотрел» и выделил в качестве содержания своего знания, выражается всегда в определенной знаковой форме, и само это «усмотрение» и выделение невозможны без соответствующего одновременно происходящего выражения. Но это значит, что логик и психолог, если они хотят вывести типы знаковых форм и структур знания из типов содержания, должны предварительно, исходя из знаковых форм, фиксированных на «поверхности», выявить, реконструировать само это содержание и его типы. Таким образом, исследование строения языкового мышления предполагает сложное двуединое движение – сначала от формы к содержанию и затем обратно, от содержания к форме.
Приемы такого (специфически диалектического) исследования впервые были разработаны Гегелем и Марксом. Формальная логика не смогла выработать этих приемов. Поэтому, имея дело все время с мышлением, она так и не выделила того предмета исследования, который отражает специфические существенные стороны его, и вынуждена была в ходе своего развития, по сути дела, сменить задачи, а затем и предмет изучения.
В работе показывается, что структуры типа (1) или (2) являются теми минимальными образованиями, которые дают возможность выделить специфические стороны мышления. Но они еще не могут дать представления о мышлении в целом и выделяют лишь одну часть, а именно ту, которая может быть предметом логического анализа. Эта часть, в противоположность мышлению как целому, являющемуся предметом также еще психологического и лингвистического анализа, получает условное название «языкового мышления». С анализа «языкового мышления» надо начинать, чтобы потом постепенно двигаться к другим сторонам мышления[18].
Вторая глава работы, называющаяся «Принцип параллелизма формы и содержания мышления в традиционных логических исследованиях и его следствия», посвящена анализу тех принципов, понятий и методов, с помощью которых традиционная логика выделяла и развертывала свой предмет изучения. В ней показано, что понять историю развития логики можно только на основе четкого различения объекта и предмета науки. Объект науки логики – мышление. Но оно не является непосредственно данным объектом, и поэтому к нему не может быть непосредственно приложен эмпирический анализ. Исследователю в качестве объекта дан лишь материал знаковой формы мышления, а само оно в целом, чтобы стать предметом исследования, должно быть еще каким-то образом восстановлено, воспроизведено на основе этого материала. В зависимости от способа восстановления получаются различные модели мышления. Одни из них больше соответствуют действительному объекту, другие – меньше. Ход развития науки определяется динамикой взаимоотношения между предметом изучения, представленным в модели, и его интерпретациями на объективную действительность.
Традиционная логика, начиная с Аристотеля и до наших дней, выделяла свой предмет изучения, руководствуясь принципом параллелизма формы и содержания мышления. В работе показывается, какие проблемы и затруднения заставили принять этот принцип. Суть его состоит в предположении, что 1) каждому элементу знаковой формы соответствует строго определенный субстанциальный, гипостазированный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы. Благодаря этому структура области содержания, восстанавливаемая в соответствии с этим принципом, оказывается в точности такой же, как и структура области знаковой формы. Но тогда становится ненужным при описании строения сложных языковых рассуждений рассматривать две области – содержание и форму; достаточно описать одну – область знаковой формы, чтобы тем самым описать и другую[19]. В обосновании этого тезиса и состоит основное значение «принципа параллелизма». Он дает теоретическое, казалось бы, оправдание эмпирически сложившейся практике логического исследования, при которой сложные языковые выражения и рассуждения анализировались и описывались только со стороны структур их знаковой формы и это описание производилось независимо от исследования структур области содержания. При этом, конечно, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на «смысл» анализируемых выражений. Но этот «смысл» ясен исследователю, как всякому мыслящему человеку, и понимание его не связано с исследованием природы и строения самого «смысла». Таким образом, принцип параллелизма оправдывает традиционно сложившийся способ исследования строения сложных языковых рассуждений, основанный 1) на понимании «смысла» языковых рассуждений в целом и их элементов и 2) на отвлечении от исследования природы и строения этого смысла.
Поскольку принцип параллелизма формы и содержания мышления обосновывает отделение исследования строения сложных языковых выражений от исследования природы содержания этих выражений и их элементов, постольку он является исходным теоретическим принципом всей формальной логики. Более того, именно этот принцип есть то, что делает вообще возможным существование формальной логики как особой науки, он определяет ее предмет и метод[20].
В работе показано, что принцип параллелизма лежит в основе всех понятий формальной логики, именно он обусловливает и предопределяет, с одной стороны, ее продуктивные возможности, а с другой – ее принципиальную ограниченность и важнейшие затруднения в исследовании мышления.
Первое из них – методологическое – заключается в принципиальном расхождении между действительным строением объекта исследования, мышления, и строением его модели, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Мышление имеет двухплоскостную структуру. Ни одна из его частей – ни плоскость содержания, ни плоскость знаковой формы, – взятые отдельно, не сохраняют свойств мышления как такового, как целого. В соответствии с этим «передать», или, иначе, воспроизвести, специфические свойства мышления можно также только в двухплоскостных изображениях. А модель мышления, созданная в формальной логике, напротив, есть принципиально одноплоскостное образование, выражаемое «линейными» схемами и формулами. И это обстоятельство создает для формальной логики парадоксальное положение.
Действительно, пусть объектом изучения является языковое мышление, структура которого имеет вид (2).
Эта структура может рассматриваться в нескольких различных направлениях:
1) как целое и в то же время как элемент еще более сложного целого – с точки зрения его «внешних» связей и обусловленных ими свойств-функций;
2) как целое, изолированное от всяких внешних связей, со стороны атрибутивных свойств, обусловленных его внутренним строением и составом элементов;
3) как внутренне расчлененное целое, но взятое со стороны одного элемента, именно – знаковой формы;
4) как внутренне расчлененное целое, но взятое только со стороны объективного содержания как элемента этого целого.
Каждое из этих направлений исследования будет давать нам особое знание о структуре языкового мышления, каждое из них необходимо для общего знания об этой структуре в целом, и каждое особым специфическим образом, соответствующим его действительному месту в этой структуре, должно соединяться с другими в этом общем знании. Но дело в том – и именно здесь заложено основание рассматриваемого парадокса, – что способ объединения и группировки этих свойств, выделенных различными путями, определяется нашим пониманием структуры мышления, то есть той моделью мышления, которая существует и которая выражается в принятых способах изображения. Но модель, принятая в формальной логике, является одноплоскостным образованием, больше всего отвечающим структуре знаковой формы, и все свойства, выделяемые в языковом мышлении различными путями и, по существу, в разных «предметах» исследования (вся структура в целом, различные ее элементы и т. д.), должны объединяться и группироваться в соответствии со структурными возможностями этой одноплоскостной – по сути дела частичной – модели.
Это порождало массу ошибок в объяснении эмпирически выявляемых свойств мышления и в конце концов привело к полному отказу от эмпирических исследований в логике[21].
Другим важным следствием принципа параллелизма является то, что знаковая форма мышления рассматривается в формальной логике всегда как независимая от содержания. Наиболее четко и последовательно эта позиция выражается в положении о всеобщей применимости формул логики. Его можно найти в подавляющем большинстве логических работ. В античной и средневековой логике, в период Возрождения и в XVII в. это положение фиксировало одну из сторон логического понимания мышления; у Канта и после него оно стало не просто одним из принципов теории, но принципом, характеризующим специфику всего «формально-логического», определяющим область и возможные направления развития формальной логики[22].
Другим проявлением этого подхода стало то, что за пределами логики остались фактически основные области современного мышления, осуществляемого не с помощью слов обыденного языка, а с помощью знаков другого рода – чисел, буквенных изображений количеств, уравнений, формул состава и структуры, геометрических фигур, чертежей разного рода и т. п.[23]
Ограничение предмета логики, прежде всего знаковой формой мышления, предопределяло и возможное понимание природы и механизмов мыслительной деятельности: поскольку знаки и их содержания брались как уже готовые, сложившиеся, постольку мыслительная деятельность могла быть только комбинированием – объединением и разъединением – этих от начала заданных и остающихся неизменными элементов. В соответствии с этим операции в логике чаще всего рассматривались как изоморфные связи. Вместе с тем из сферы исследования логики выпадало самое главное в мышлении – выделение единиц содержания из общего «фона» действительности и «движение» по этому содержанию. Во всех логических исследованиях предполагалось, что эти содержания уже заданы.
Естественным и вполне закономерным итогом разработки логики в этом направлении явилась формула: логика исследует не мышление, а правила формального выведения, логика – не наука о мышлении, а синтаксис (и семантика) языка[24].
Поскольку мыслительная деятельность рассматривалась как комбинирование готовых элементов – терминов или предложений, – постольку логика никогда не могла решить вопрос, как образуются сложные знания. Попытки ответить на этот вопрос, оставаясь на почве исходных понятий формальной логики, приводили к априоризму. Отсюда формула, которая сначала (Ф. Бэкон, Р. Декарт) выдвигалась против традиционной логики как указание на ее неполноценность, а потом (А. И. Введенский, современные логические эмпирики) стала рассматриваться чуть ли не как единственное основание научности: логика исследует не процессы обнаружения чего-либо «нового», не процессы образования знаний, а процессы систематизации и изложения уже известного[25].
То обстоятельство, что логика не выделяла и не рассматривала действительные процессы мышления, исключало какую-либо возможность для нее исследовать развитие мышления. Ни фиксирование структур знаковой формы самих по себе, ни выделение различных видов содержания как таковых не дает основания для выделения связей развития.
Возьмем, к примеру, несколько форм знания, относящихся к близким разделам математики. Первая – это формула для определения площади треугольника:
S = ah/2,
вторая – формула для определения площади круга:
S = πR2,
а третья – формула для определения площади плоской фигуры, ограниченной кривой f(x), осью абсцисс и прямыми х = а и х = b:
Чтобы исследовать генетические взаимоотношения между этими формами знания, мы должны выяснить, какие из них сложнее, а какие проще. Но для этого, в свою очередь, необходимо привести все указанные формы к «однородному» виду, то есть к виду, в котором бы они предстали как составленные из одних и тех же элементов. Однако из приведенных примеров легко увидеть, что сделать это, ограничивая исследование исключительно формами знания, принципиально невозможно, так как эти формы составлены из простых знаков, имеющих различную «смысловую ценность», то есть принципиально разнокачественных и поэтому непосредственно друг к другу несводимых. Очевидно, что это различие в «качестве» знаков формы будет еще разительнее, если мы возьмем формы знания из разных областей науки.
Единственное средство генетически сопоставить между собой существующие в настоящее время разнообразные знания и выяснить, какие из них сложнее, а какие проще, заключается в том, чтобы перейти от знаний как таковых к порождающим их процессам мысли и постараться эти процессы свести к общим составляющим, с тем чтобы выяснить, какие из них, в свою очередь, сложнее и какие проще. Только таким путем, установив сначала генетические отношения между процессами мысли, порождающими определенные знания, мы сможем установить генетические отношения между самими знаниями[26].
Но понятия формальной логики непригодны для того, чтобы исследовать мыслительную деятельность, они не могут объяснить процессов образования знаний – формальная логика в принципе не допускает подобных тенденций в исследовании, а поэтому для нее полностью закрыт путь генетического исследования мышления.
Непригодность аппарата понятий традиционной формальной логики для исследования и описания реальных процессов мышления делает необходимой разработку новой логики, которая должна исходить из следующих положений:
1) мышление есть прежде всего деятельность, а именно деятельность по выработке новых знаний;
2) ядро, сердцевину этой деятельности образует выделение определенного содержания в общем «фоне» действительности и «движение» по этому содержанию;
3) знаковые структуры, составляющие «материал» мышления, и техника оперирования с ними зависят от типа того содержания, которое отражается в этих структурах;
4) мышление представляет собой исторически развивающееся целое.
Новая логика должна быть, следовательно, содержательной и генетической.
Требование генетизма в изучении мышления не равно требованию обязательно исследовать его эмпирическую историю. Генетизм, или историзм, в полной мере может и должен проявиться при исследовании «наряду данного» материала и воспроизведении системы «ставшего» мышления. Требование генетизма (историзма) есть лишь особое выражение факта зависимости между логическими средствами науки и типом выявляемого посредством их объективного содержания. Методически это требование означает, в частности, что нельзя исследовать «мышление вообще». Оно означает, что, приступая к исследованию непосредственно данного эмпирического материала мышления (как исторически следующего друг за другом, так и сосуществующего наряду), мы должны разбить его на ряд сфер; в каждую из них войдут логические средства, различающиеся между собой по структуре и типу выявляемого содержания и находящиеся между собой в определенных функциональных и генетических связях. Требование историзма, такими образом, объединяет в себе все те требования, которые были сформулированы выше, и означает преодоление всех перечисленных выше недостатков традиционной логики[27]. Результатом такого «исторического» исследования должна быть, прежде всего, теория функционирования современного, «ставшего», то есть уже сформировавшегося, развитого мышления, но теория – историческая.
Другой важнейшей особенностью новой логики является то, что она с самого начала объявляет себя эмпирической наукой, имеющей непосредственно данный материал, с анализа которого она начинает. Этот материал – все множество так или иначе зафиксированных текстов. Как эмпирическая наука логика становится в один ряд с такими науками, как физика, химия, биология. И это означает самое решительное изменение методов науки логики.
Третья глава – «Общий план построения теории “языкового мышления”»; в ней излагаются основные принципы и понятия, с помощью которых можно осуществить анализ единичных эмпирически заданных текстов и воспроизвести «языковое мышление» в виде исторической теории как один органический предмет.
Решение этой задачи осуществляется в два этапа. Первый этап – нисходящее функционально-генетическое расчленение эмпирически данных единичных текстов, второй этап – восходящее функционально-генетическое построение (генетическое выведение, или генетическая дедукция) исторической системы языкового мышления. Соответственно, делятся на две группы все общие методологические понятия о языковом мышлении: в первую входят понятия, связанные с «нисходящим расчленением» эмпирически данного материала, во вторую – понятия, связанные с «выведением», или построением системы на основе полученных на первом этапе элементов.
Здесь оказывается необходимым прежде всего сменить тот аспект, в котором обычно рассматривается языковое мышление, и подойти к заданному тексту не как к фиксированному знанию, а как к движению, процессу. При этом «процесс мышления» определяется как любая ограниченная часть выражаемой в языке познавательной деятельности, необходимая для получения определенного мыслительного знания об определенном объекте или «предмете» на основе других мысленных знаний.
Выделенные таким путем «процессы мышления» чаще всего бывают сложными образованиями и могут быть разложены на части, сохраняющие свойства процессов мысли. Общий метод такого разложения заключается в том, что мы ищем в выделенном тексте «промежуточные» знания, находим соответствующие им задачи познания и объекты или «предметы» знания и затем по ним реконструируем составляющие процессы мышления[28].
Однако осуществление этой схемы разложения в большинстве случаев наталкивается на затруднения.
1. Многие сложные рассуждения оказываются неоднородными: они содержат языки разных типов. Например, рассуждение в элементарной геометрии включает: а) язык чертежей, б) обычный словесный язык, описывающий преобразование фигур в чертежах, в) логико-алгебраический язык вида «А > В, В > С, следовательно, А > С» и др. Современное рассуждение в химии включает: а) обычный словесный язык, описывающий реально производимые преобразования веществ, б) язык формул состава, в) язык структурных формул, г) и д) словесные языки, описывающие преобразования формул состава и структуры, е) язык, описывающий квантово-физические модели взаимодействия веществ, и т. п. Чтобы правильно проанализировать подобные рассуждения указанным выше способом, необходимо предварительно выделить в них части, относящиеся к различным языкам, и каждую такую часть рассмотреть отдельно.
2. Лишь очень немногие процессы мышления оказываются построенными линейно, большинство же их организуется из более простых составляющих самыми разнообразными способами. В одних случаях «предметом» какой-либо части процесса мышления становится один элемент или какое-либо свойство «предмета» предшествующей части процесса, как, например, тогда, когда от рассмотрения всей геометрической фигуры в целом мы переходим к рассмотрению одной ее стороны или соотношения сторон. В других случаях знаковая форма знания, полученного в предшествующей части процесса, становится «предметом» рассмотрения в последующей части. Иногда от исходного объекта мы переходим сначала к модели самого объекта, затем к моделям модели, и так несколько раз, а потом «спускаемся» снова к исходному объекту. Очевидно, чтобы правильно разложить такие причудливо организованные процессы мышления, надо в каждом случае выдвинуть специальную гипотезу о виде и способе их организации[29].
3. Подавляющее большинство процессов мышления, после того как они включены в контекст более сложных рассуждений, не сохраняются в своем первозданном виде, а преобразуются за счет замены движений в плоскости содержания моделирующими их движениями в плоскости формы. При этом они сокращаются, свертываются, и это сильно затрудняет, а подчас делает просто невозможным выделение их истинного состава и структуры, а вместе с тем выделение «задач» познания и объектов или «предметов» знания. Чтобы преодолеть это затруднение, приходится обращаться к сопоставлению исторически следующих друг за другом способов решения одних и тех же задач. Такое сопоставление позволяет увидеть за сокращенными, свернутыми процессами мышления их исходные формы, найти законы и правила свертывания и на основе этого развернуть всю полную, реальную структуру анализируемых процессов мысли. Чисто функциональное разложение превращается благодаря этому дополнительному сопоставлению в функционально-генетическое.
Последовательное применение названного выше анализа к какому-либо выделенному процессу мышления должно в конце концов привести нас к таким процессам мышления, которые этим способом уже не могут быть разложены на составляющие. Такие далее неразложимые, или элементарные, с точки зрения этого способа анализа процессы мышления мы называем операциями мышления.
Разлагая таким образом различные процессы мышления, мы будем получать все новые и новые операции. Однако, с другой стороны, мы будем встречаться с уже выделенными ранее операциями. Хотя отдельные части существующего в настоящее время совокупного знания весьма отличаются друг от друга, а следовательно, отличаются друг от друга и процессы мышления, посредством которых это знание получено, тем не менее можно будет, по-видимому, найти конечное и сравнительно небольшое число операций мышления – таких, что все существующие эмпирические процессы мышления можно будет представить как их комбинации. Перечень всех этих операций мышления мы называем алфавитом операций.
На этом заканчивается первый этап исследования языкового мышления – нисходящее функционально-генетическое расчленение эмпирически данных текстов. Итоги этого этапа исследования: а) алфавит операций мышления, б) ряд относительно замкнутых однородных систем знаковой формы, объединяемых в формальные исчисления, в) знание о составе и принципах организации множества различных научных рассуждений.
Основная задача, которую должен решить второй этап исследования – выведение, состоит в том, чтобы генетически связать между собой различные операции, представить одни как развитие других.
Анализ выделенных к настоящему времени операций показывает, что все они складываются из двух функционально различных частей (называемых действиями) – сопоставления и отнесения. Сопоставления – это действия с объектами (или знаками, заместителями объектов), посредством которых выделяются определенные единицы объективного содержания; отнесения – это действия по установлению связи значения между объективным содержанием и знаковой формой.
Действие сопоставления образует ядро всякой операции мышления. С изменением типа сопоставления меняется тип выделяемого в действительности содержания. От характера сопоставления зависит также характер действия отнесения, а от них обоих – структура знаковой формы, фиксирующей выделенное содержание. В то же время между действиями сопоставления и отнесения существует своеобразное отношение: сопоставление всегда является необходимым условием и предпосылкой отнесения двух знаковых форм друг к другу или знаковой формы к объективному содержанию, и всегда в самом отнесении все отношения сопоставления «снимаются», элиминируются, и обнаружить их непосредственно в готовой структуре знания невозможно[30].
К примеру, чтобы выделить в определенной вещи (назовем ее исходной) какое-либо атрибутивное свойство и зафиксировать его в знаковой форме, мы должны привести эту вещь во взаимодействие с другой вещью (индикатором) и затем отождествить происходящее при этом в исходной вещи или в индикаторе изменение с соответствующими изменениями, возникающими при взаимодействии с индикатором вещи-эталона. Произведенное таким образом отождествление служит основанием для «переноса» на исходную вещь названия (А), которым раньше обозначалась вещь-эталон. Схема подобного сопоставления имеет вид:
а в возникающей на его основе структуре знания Ои – (А) эти отношения сопоставления элиминированы и непосредственно не обнаруживаются[31].
Чтобы получить знание о законе движения какого-либо тела, надо особым образом сопоставить между собой числовые значения длин «расстояний», пройденных за одно и то же время рассматриваемым телом и телом, движение которого принимается за эталонное. После [появления] всеобщего, или стандартного, эталона (часов) схема сопоставления движения двух тел сокращается, выражение v=s/t (или просто полученное на основе этой формулы числовое значение v) начинают относить непосредственно к движению исходного тела, и отношения сопоставления, таким образом, элиминируются[32].
Подобное строение имеют, по-видимому, все без исключения операции мышления. Входящие в них действия сопоставления будут меняться, усложняться от одной операции к другой, вместе с тем будут меняться и действия отнесения, но их функциональное отношение всегда будет оставаться неизменным. Поэтому даже в тех случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, чисто знаковыми рассуждениями, мы должны, если хотим выделить и исследовать действительные операции мышления, применить к этим рассуждениям указанную выше схему анализа и выделить среди входящих в них знаков: а) «заместители объектов», то есть знаки, функционально играющие роль объектов, и б) знаки, образующие форму знания, то есть знаки, фиксирующие результаты применения действий сопоставления к знакам – заместителям объектов. Собственно, только такой подход, как бы разносящий в две разные плоскости «материал» словесного или всякого другого языкового рассуждения, и создает специфику действительно логического рассмотрения[33].
Чтобы наглядно-символически выразить этот тезис, мы можем воспользоваться схемой вида:
где X – исследуемый объект, знак ∆ («дельта») обозначает действие сопоставления, (А) – знаковая форма, фиксирующая выделенное посредством ∆ объективное содержание, а вертикальные стрелки обозначают отнесение: стрелка, идущая вверх, – фиксацию отношений сопоставления в знаке, или его абстрактное значение, а стрелка, идущая вниз, – элиминирование отношений сопоставления и преобразование их в значение метки[34]. Эта схема есть вместе с тем операционно реконструированное изображение простейшего, а именно номинативного, мыслительного знания.
Выделение во всякой операции мышления действия сопоставления как основы и ядра самой операции создает необходимую предпосылку для анализа генетических связей между операциями. К настоящему времени обнаружено два основных типа таких связей.
1. Если определенная познавательная задача, взятая в применении к какому-либо объекту (исходному, Ои), в силу каких-то (ограничивающих) особенностей этого объекта не может быть решена посредством традиционно связанной с этой задачей мыслительной операции α, то этот объект, как правило, замещается другим (объектом-заместителем, Оэ) – таким, который тождествен исходному в исследуемом свойстве, но в то же время не имеет ограничивающих свойств и, следовательно, может быть познан с помощью мыслительной операции α. В ходе замещения между Ои и Оэ устанавливается определенное отношение, которое позволяет «переносить» знание об объекте-заместителе, полученное посредством α, на исходный объект.
Первоначально отношение, устанавливаемое между Ои и Оэ в ходе замещения, никак не выделяется и не фиксируется в знании. Но затем оно выделяется в самостоятельный предмет рассмотрения, осознается как отношение и особый вид отношения и с помощью новой операции β (нового сопоставления и нового отнесения) фиксируется в специальном знании. После этого познание такого отношения выделяется в особую задачу; мы называем ее рефлективно выделенной.
Хотя после описанного генетического процесса новая рефлективно выделенная познавательная задача выступает как лежащая наряду с исходной, а новая операция мышления β – как лежащая наряду с исходной операцией α, однако в действительности ни эти задачи, ни решающие их операции не являются равноправными и однородными. Рефлективно выделенная задача является вспомогательной, и ее решение первоначально необходимо лишь для решения исходной. Взятая сама по себе, она не имеет никакого смысла и значения. То же самое относится и к новой операции мышления: она возникает лишь как часть деятельности, необходимой для решения исходной познавательной задачи, и при своем формировании «опирается» на знания, являющиеся результатом первого процесса. Поэтому новую рефлективно выделенную познавательную задачу и соответствующую ей операцию мышления надо рассматривать как образования другого уровня, нежели исходная задача и исходная операция, – как образования, в своем появлении и в отношении к действительности опосредованные задачами, мыслительными операциями и знаниями нижележащего уровня.
Понятие уровня мышления, основанное на принципе рефлективного выделения нового предмета и новой познавательной задачи, впервые дает объективное основание для построения «рядов развития», или «рядов усложнения», содержания знания. Оно объясняет, почему существуют строго определенная зависимость и строго определенный порядок в появлении различных типов знаний и операций мысли, и показывает, что они должны располагаться не рядом друг с другом и не один над другим, а как бы по ступенькам лестницы, причем знания и операции, лежащие на высшей ступеньке, возникают и могут быть сформированы лишь после и на основе определенных знаний и операций, лежащих на низших ступеньках[35].
2. После того как в объектах путем сопоставления выделено определенное содержание и зафиксировано в знаковой форме, эта знаковая форма сама становится объектом рассмотрения: ее элементы сами определенным образом сопоставляются как объекты, и выделенное таким образом содержание фиксируется в новой знаковой форме. В зависимости от того, какое отношение существует между исходными объектами и их знаковой формой, то есть в зависимости от того, является ли знаковая форма моделью или символом исходного содержания, вторичная знаковая форма, соответственно, может или не может быть отнесена к исходным объектам. В первом случае новое, вторичное знание располагается как бы непосредственно над первичным, исходным; во втором случае – рядом с исходным. Но в обоих случаях мыслительные операции, применяемые к знаковой форме, по способу своего образования и функционирования оказываются зависимыми от операций, применяемых к исходным объектам.
Указанные два типа связей, очевидно, не исчерпывают всех возможных генетических связей между операциями мышления и получаемыми на их основе знаниями. Выявление других видов связей – задача дальнейших исследований.
Содержания, выявленные в одном объекте или в ряде объектов с помощью разных (по виду и типу) операций мышления, объединяются посредством фиксирующих их знаковых форм. Способы объединения знаковых форм разного по типу содержания различны. Сложные знаковые формы обособляются в формальные знания[36].
Появление формальных знаний существенным образом меняет процессы выработки знаний о единичных объектах или их группах. Наряду с процессами исследования, осуществляющимися исключительно посредством содержательных операций, то есть действий с самими объектами, появляются процессы выработки знаний, основанные на использовании уже готовых формальных структур и состоящие из чисто формальных действий по их преобразованию. Это – процессы соотнесения формальных знаний с единичными объектами[37].
Сложные структуры знаковой формы, возникшие на основе ряда как однородных, так и разнородных по своему типу содержательных операций, перерабатываются затем в «систему исчислений», обособляются от связи с теми или иными определенными объектами и становятся формальными «математиками». Характерный пример – геометрия в ее эволюции от Евклида до Гильберта. Но, по существу, такую же переработку претерпели арифметика, алгебра, дифференциальное исчисление, язык формул химических реакций и многое другое.
Формальные структуры «математик» (или исчислений) используются при исследовании сложных структурных или системных объектов. Но предварительно сами объекты приходится представлять в таком виде, чтобы к ним можно было применять существующие математические структуры. Эти представления мы называем системными[38]. Они выступают как особые модели объектов («идеализации») и являются, наряду с формальными математиками, важной компонентой знаковых средств мышления. Их, подобно эталонам, мы как бы «накладываем» на объекты, воспроизводя структуру последних, и лишь затем применяем математические средства, связанные с каждой из этих системных моделей.
При исследовании многих сложных объектов одного системного представления оказывается недостаточно. Объект раскладывается на несколько систем как бы по различным проекциям. Воспроизведение объекта в целом предполагает строго определенный порядок разложения и синтеза всех участвующих системных представлений. Они, таким образом, и сами выступают как одна жестко связанная система. Мы называем ее конфигуратором[39].
Изучение процессов формирования конфигураторов, а также функций, в которых они используются после своего оформления, составляет одну из важнейших задач логики. По-видимому, именно на этом пути удается объяснить механизмы складывания сложных эмпирических теорий и вывести принципы синтеза фрагментов различных математик в их системах.
Обобщая все изложенное выше, можно сказать, что «содержательно-генетическая» логика исследует мышление по трем основным направлениям:
1. Выявляет все возможные операции мышления; описывает лежащие в их основе типы сопоставления; устанавливает генетическую зависимость между этими операциями.
2. Выявляет правила образования формальных исчислений, соответствующих каждому виду операций или их группам (как, например, в геометрии); систематизирует и классифицирует все существующие и возможные исчисления.
3. Выявляет правила использования фрагментов этих исчислений при исследовании различных эмпирически данных сложных объектов; анализирует процессы «соотнесения», связанные с каждым из этих исчислений; исследует условия и механизмы комбинирования частей различных исчислений в одну форму сложного «теоретического» знания.
Эти три раздела образуют систему теории «языкового мышления»[40].
Кроме основной части, работа содержит шесть приложений, в которых показано, каким образом понятия содержательно-генетической логики применяются при решении конкретных проблем методологии науки и педагогики.
В первом приложении [«Анализ строения понятия “скорость механического движения”»] анализируется строение группы понятий, связанных с описанием механического движения[41]. Здесь отчетливо выясняется, что анализ понятий с точки зрения строения той мыслительной деятельности, которую они фиксируют (в противоположность анализу их «предметного содержания»), дает возможность представить развитие науки как строго детерминированный процесс, подчиняющийся определенным закономерностям.
Во втором приложении [«Применение идеи “слоев” знания для решения проблем типологической классификации языков»] идея «слоев» научного знания применяется для решения проблем типологической классификации языков[42]. В нем показана неправомерность дискуссий между последователями «нового учения» о языке Н. Я. Марра и представителями современного структурализма, определяется место и значение этих направлений в развитии науки о языке, намечаются возможные линии их дальнейшего развития.
В третьем приложении [«Применение “конфигуратора” в методологических исследованиях»] описываются методы и средства синтеза различных теоретических представлений одного сложного объекта. Вводятся понятия «конфигуратора-модели» и «алгоритмического конфигуратора». Эти понятия оказываются крайне важными при решении широкого круга проблем в самых разнообразных науках[43].
В четвертом приложении [«Задачи логики в системе педагогических исследований»] обсуждается возможность применения понятий логики в психолого-педагогических исследованиях. Схемы, представленные в нем, являются обобщением многих теоретических и экспериментально-теоретических исследований, уже проведенных в этой области[44].
В пятом приложении [«Анализ процессов решения простых арифметических задач»] описывается применение логических понятий для анализа решений простых арифметических задач[45]. Этот анализ дал возможность выявить причины затруднений у детей и наметить более рациональную и эффективную систему обучения дошкольников началам математики.
Логический анализ арифметического и алгебраического способов решения простых задач, изложенный в шестом приложении [«Сравнительный анализ арифметического и алгебраического способов решения простых задач»], с несомненностью показывает, что алгебраический способ значительно проще, чем арифметический[46], и обосновывает таким образом необходимость и возможность введения алгебры, начиная с первых классов средней школы.
Приведенные в приложениях материалы являются лишь немногими из тех практических исследований, которые уже проведены к настоящему времени на основе понятий содержательно-генетической логики в области методологии науки и педагогики.
«Языковое мышление» и методы его исследования
Введение. Задачи и проблемы теории мышления
Для современного этапа развития науки характерно увеличение удельного веса и значения дисциплин – их можно было бы назвать «методологическими» в широком значении этого слова, – предметом изучения которых является не сам по себе «вещный» мир, а процесс взаимодействия с ним человека. Важнейшее место в этой сфере научного исследования занимают дисциплины, рассматривающие: 1) способы получения и использования знания, 2) его организацию и строение, 3) способы хранения и, наконец, 4) передачу его другим людям, в частности подрастающим поколениям, и способы усвоения или овладения им.
Указанные дисциплины всегда имели важное значение в системе науки, но в последнее время их роль неизмеримо возросла, и не будет, по-видимому, преувеличением, если мы скажем, что сейчас они имеют первостепенное народнохозяйственное значение.
Первое место в ряду этих дисциплин занимает методология научного исследования, то есть процессов выработки и систематизации научного знания. В настоящее время в ее положении происходят важные перемены.
Прежде всего, это проявляется в том, что все большее число ученых – представителей специальных наук осознают неразрывную связь своих исследований с теорией познания или логикой. Если в XIX веке положение об этой связи высказывалось лишь немногими диалектически мыслящими исследователями и противоречило настроениям и мыслям большинства естествоиспытателей, то сейчас его выдвигает и обосновывает уже сравнительно широкий круг ведущих ученых – математиков, физиков, химиков, биологов, лингвистов.
Это изменение во взглядах исследователей не является случайным, оно отражает объективные изменения в характере самой науки. Первоначально предметом исследования в большинстве наук были отдельные объекты и явления, рассматривавшиеся с разных, но не связанных между собой сторон, или простейшие связи двух сторон или предметов. В этих условиях специфически логическая, теоретико-познавательная постановка вопроса тоже была необходимым моментом всякого научного исследования. Но она возникала только на весьма ограниченном участке этого исследования – при столкновении нескольких независимо друг от друга выработанных образов одного и того же объекта, – занимала исследователя сравнительно короткое время, и поэтому ей, естественно, придавалось мало значения. Начиная с XVIII века в некоторых отраслях, например в механике, а в XX веке уже повсеместно наука переходит к исследованию объективных систем связей. В этих условиях специфически логические постановки вопроса оказываются необходимой стороной всякого специального исследования, элементом каждого его шага. Без специфически логического анализа становится невозможным даже приступить к исследованию системного объекта, а вместе с тем становится дальше невозможным не замечать его. Именно этим объясняется та перемена во взглядах исследователей, о которой мы сказали: они все больше внимания начинают уделять логическим вопросам своего исследования, осознанию «техники» – приемов и способов – мышления. Так постепенно мы все ближе и ближе подходим к осуществлению программы, намеченной К. Марксом и Ф. Энгельсом 85 лет назад: естествознание и исторические науки впитывают в себя диалектику, тем самым превращая учение о мышлении – логику – в положительную науку [Энгельс, 1961, с. 525].
Второе и не менее важное место в ряду методологических дисциплин занимает методика обучения, исследующая процессы передачи и усвоения научных знаний и овладения соответствующими мыслительными навыками.
В настоящее время значительную часть своего времени и сил человечество должно тратить на обучение подрастающих поколений. Примерно треть жизни всякого человека уходит на то, чтобы «присвоить» те знания, которые накоплены человечеством в ходе развития и без которых он не может включаться в качестве полноправного члена в процесс производства. Чем быстрее развиваются науки – а темп этого развития сейчас неимоверно возрос, – тем большую сумму знаний и навыков должен осваивать человек и, соответственно, тем больше времени ему придется на это затратить. Но уже сейчас затраты времени на подготовку высокообразованного человека очень велики. Подавляющее большинство людей не имеет этого времени, и поэтому все более увеличивается разрыв между средней и верхней границами образования. Бурные темпы развития науки создают в этом отношении буквально угрожающую перспективу и заставляют человечество искать какие-то средства рационализации процесса обучения и воспитания, с тем чтобы значительную массу знаний и навыков можно было «давать» за сравнительно короткие промежутки времени.
Противоречие между объемом знания, который надо усвоить, и тем временем, которое общество может на это отвести, проявилось в какой-то мере и в ходе осуществляемой в настоящее время перестройки системы образования в СССР[47]. Учебная программа новой школы, предусматривающая сочетание политехнических дисциплин с производительным трудом при сохранении гуманитарного образования, неизбежно связана с увеличением материала, подлежащего усвоению. Вместе с тем хорошо известно, что уже при прежней программе наблюдалась перегрузка школьников учебными занятиями. Вопрос о необходимости сужения программы не раз поднимался в нашей печати, но опыт показал, что ни один из существующих предметов не может быть выброшен или существенно сокращен. Теперь же к ним прибавились еще новые предметы.
Выход из этого затруднительного положения может заключаться только в изменении характера самого учебного процесса, в предельной его рационализации. Главным средством такой рационализации является переход к «активным» методам обучения и воспитания, которые позволили бы учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями.
Одной из причин, почему при существующих методах имеется перегрузка учащихся, является то, что эти методы пока еще плохо используют скрытые возможности развития умственных способностей детей и почти не обеспечивают сознательной и систематической работы учителя по их формированию. Новые методы, напротив, должны быть рассчитаны прежде всего на воспитание способностей учащихся, причем особое внимание при этом должно быть обращено на формирование у них навыков самостоятельного умственного труда: умения самостоятельно планировать свою работу, анализировать ее состав, намечать этапы и т. п.
Недостатком существующих методик, в частности, является то, что при построении отдельных учебных задач и определении порядка их расположения в учебниках и задачниках учитывается в основном только предметное содержание этих задач и усложнение [этого] содержания и, как правило, не учитывается сложность тех действий, которые учащиеся должны проделать, чтобы решить задачу. Между тем главным фактором, определяющим развитие мыслительных способностей в ходе решения задач, является именно характер и структура той мыслительной деятельности, которую осуществляет учащийся, и последовательность усложнения этой деятельности в ходе обучения. Поэтому построение рациональной системы обучения, формирующей у учащихся мыслительные способности, основывается на системе логических и психологических знаний о структуре мыслительной деятельности, а также об условиях и закономерностях ее формирования.
Не меньшее значение в системе хозяйственной жизни общества имеет методика обработки и передачи научной информации, документалистика в широком смысле. Но и она точно так же может основываться только на исследованиях строения и принципов «уплотнения» и систематизации научного знания, то есть предполагает обширную систему логических знаний. Отсутствие рационально построенной методики систематизации и хранения человеческого опыта приведет к тому, что новые поколения должны будут вновь и вновь повторять элементы уже пройденного, с трудом будут справляться с неимоверно разросшейся, неорганизованной громадой знаний, а все это в конечном счете приведет к замедлению прогресса.
Наконец, нельзя не упомянуть инженерных проблем, связанных с разработкой методологических дисциплин. Вставшая уже реально в настоящее время задача моделирования определенных человеческих функций и деятельностей, в частности некоторых формальных мыслительных процессов, может быть решена только на основе соответствующих знаний об этой деятельности, о процессах мышления.
Перемены, происходящие в наши дни во всех сферах науки и техники, стали настолько ощутимыми, а основные тенденции этих перемен – настолько очевидными, что это позволило ученому-физику Дж. Томсону сказать, что «наш век знаменует собой начало науки о мышлении» [Томсон, 1958, с. 161].
Если иметь в виду только тенденции научного развития, то это положение абсолютно правильно. Если же говорить о достигнутых результатах, то придется признать, что, несмотря на значительные перемены, происшедшие в последние три десятилетия, несмотря на известные достигнутые успехи, темпы разработки методологических дисциплин остаются до сих пор явно неудовлетворительными и сами эти дисциплины до сих пор не могут занять в системе наук того места и положения, которое соответствовало бы стоящим перед ними задачам.
На сегодняшний день является фактом, что во всех этих дисциплинах существует резкая диспропорция между объемом и значением стоящих перед ними практических задач, с одной стороны, и степенью теоретического осознания средств решения этих задач, с другой. В частности, автоматизация некоторых процессов умственного труда, осуществляемая кибернетикой (например, машинный перевод, механизация поисков информации), наталкивается не столько на технические проблемы, сколько на трудности понимания природы и механизмов автоматизируемых процессов. Точно также и в педагогике практическая задача разработки новых «активных» методов обучения замедляется, прежде всего, из-за отсутствия четкого понимания природы и механизмов тех интеллектуальных способностей, которые должны быть сформированы у учащихся.
В то же время исследования, уже проведенные во всех этих дисциплинах, все более убеждают в том, что во всех них выступает на передний план одна и та же проблематика, а именно проблематика, связанная с изучением мышления. Поэтому можно сказать, что развитие всех методологических дисциплин упирается, прежде всего, в разработку теории мышления.
То, что мы называем мышлением, изучается целым рядом наук, прежде всего – логикой, психологией, теорией познания и, в значительной мере, языкознанием. Каждая из них имеет свои особые принципы и методы исследования; каждая сложилась и развивалась иногда в большей, иногда в меньшей связи с другими, но в общем и целом обособленно и относительно самостоятельно. Достижение этой самостоятельности было огромным успехом в развитии каждой науки, сохранение ее – залогом нормального существования в дальнейшем. Поэтому в какой-то мере оправданны и борьба с «логицизмом» в психологии, и борьба с «психологизмом» в логике, оправданны и устремления структурализма к созданию своего, «собственно лингвистического» метода исследования.
Но вместе с тем именно в последние 50 лет как в психологических и логических, так и в лингвистических исследованиях с особой остротой встал вопрос о тесной связи тех сторон действительности, которые рассматриваются в этих науках.
Исследования Вюрцбургской психологической школы[48] по так называемому «безобразному» мышлению показали исключительно важную роль речевого знака в процессах мышления и фактически привели к выводу, что мышление есть отражение посредством языка. Одновременно была показана тесная связь того, что называют мышлением, с процессами общения (Л. С. Выготский, К. Бюлер). Примерно в эти же годы в языкознании наметилась сильная линия, соединяющая лингвистическое исследование с исследованием мышления (В. Порциг, Г. Амманн, Й. Л. Вайсгербер и у нас, в иной форме, Н. Я. Марр). Осознавая давно сложившееся и устоявшееся положение вещей, многие логики в эти же годы приходят к выводу, что предмет истинного логического анализа есть не что иное, как язык. Ж. Пиаже, начиная примерно с 1938 г., постоянно подчеркивает связь психологии и логики, а созданный им центр по так называемой генетической эпистемологии пытается провести эту связь и во всех конкретных исследованиях. Все чаще и чаще делаются попытки создать «синтетические науки», объединяющие логику, психологию, лингвистику и теорию познания.
Самым важным обстоятельством во всем этом движении, на наш взгляд, является даже не столько выяснение того, что стороны действительности, изучаемые в логике, психологии, языкознании, связаны между собой, – это было очевидным и раньше, – сколько выяснение того, что понимание сторон, изучаемых в каждой из этих наук, зависит от понимания сторон, являющихся предметом изучения других [наук].
Этот факт позволяет нам сделать не только тот вывод, что указанные науки имеют один объект исследования, но и другой, значительно более радикальный, – что этот объект может быть представлен в виде одного сложного, внутренне дифференцированного структурного предмета исследования, который будет содержать в качестве своих сторон и элементов то, что раньше составляло предмет изучения логики, психологии, языкознания, а также в значительной мере и теории познания.
При этом оказывается, что этот предмет никак не может быть представлен в виде составленного, «сложенного» из предметов указанных выше наук, что он совсем не похож на трех- или четырехгранник, в котором каждая грань – предмет особой науки. Скорее он напоминает многогранник, в котором отдельные кусочки и грани, к примеру, традиционно психологического характера, с одной стороны, непосредственно примыкают к логическим, лингвистическим или теоретико-познавательным, окружены ими, а с другой – не связаны непосредственно между собой, разбросаны по разным частям этого многогранника.
Но это означает, в частности, что существующее расчленение наук о мышлении носило случайный, несистематический характер, что сейчас оно, по сути, уже устарело, перестало соответствовать практике научного исследования. Появление новых дисциплин (теории коммуникации, теории информации, кибернетики) и развитие традиционных наук (логики, психологии, языкознания) совершенно перепутало установленные ранее взаимоотношения между дисциплинами, границы их предметов. Поэтому возникает задача пересмотреть существующее понимание этих вопросов, составить общее представление или схему изучаемого объекта (она задаст нам тот или иной «синтетический» предмет изучения) и на основе этого выяснить более точно взаимоотношение (координацию и субординацию) существующих (и еще не существующих, но возможных) планов исследования.
Но каким должен быть этот предмет? И в какой, собственно, сфере действительности нам его искать? Что это – знаковые системы и связывающие их отношения «образования» и «преобразования», поведение отдельного человека с его психическими переживаниями или же производственная деятельность общества? Мышление искали в каждой из этих сфер, – и в каждой находили. В настоящее время мы имеем как логицистские и психологистические, так и социологические теории мышления. И каждая из них в достаточной мере оправданна. Вероятно, мышление лежит на «стыках» того и другого, и третьего или, точнее, входит и в то, и в другое, и в третье. Но признание этого не может означать ничего другого, кроме того, что методы, которыми мы до сих пор изучали мышление, неадекватны самому объекту и нужно найти какие-то новые методы, которые представили бы все эти стороны в единой системе.
Продуктивное решение этой задачи возможно только на основе сознательного логического или методологического подхода. Нужно уяснить себе, что мышление в логике, в психологии, в языкознании, в теории познания и в социологи – это всё разные предметы исследования, введенные в связи с решением различных задач, и как механическое объединение их в одно суммативное целое, так и прямое отождествление того и другого не могут соответствовать реальным отношениям в объекте исследования. Все эти представления есть не что иное, как проекции одного объекта, снятые в разных ракурсах. Наглядно-схематически отношения между ними можно выразить так:
Рис. 1
Одни и те же части и стороны объекта нередко воспроизводятся (по-разному) в разных проекциях, а другие не попадают ни в одну. Чаще всего задачу построения единого синтетического изображения мышления пытаются решить, либо просто отождествляя друг с другом эти проекции, либо же механически «приставляя» их друг к другу. Это так же ошибочно, как пытаться воспроизвести производственную деталь в целом, наложив проекции друг на друга или механически «сложив» их. Но даже и в тех случаях, когда между этими проекциями устанавливают более сложные связи, как правило, все равно допускают грубые ошибки: различные проекции одного объекта выдают за объективно разные явления, а формальную связь их сосуществования в системе знания (наук) – за объективную связь пространственно отграниченных друг от друга явлений. По смыслу, если говорить грубо, это напоминает интерпретацию предложения «береза – белая» как связи двух отграниченных друг от друга явлений «березы» и «белизны».
Логически правильное решение должно строиться по совсем иной схеме: нужно исходить из того, что существует один целостный объект, а все «мышления», представленные в различных науках, выделены в нем как абстракции в разных ракурсах. Логический анализ самих способов (или процедур) абстракции поможет нам выяснить отношение этих абстракций к исходному объекту, а на основе этого – построить структурную модель этого объекта и таким путем выяснить действительное объективное отношение всех этих абстракций друг к другу. Схематически этот путь решения проблемы можно изобразить так:
Рис. 2
Но тогда, очевидно, на передний план должны выдвинуться проблемы анализа тех способов абстракции, которые были произведены в каждой из названных выше наук. Анализ этих способов будет главным и узловым моментом в реконструкции общей синтетической модели мышления.
И это, по-видимому, общий принцип. Если какой-то объект зафиксирован в ряде различных системных представлений, то путь к реконструкции модели самого объекта лежит через анализ способов и процедур построения этих представлений. Кардинальный смысл работ Маркса в политэкономии заключался именно в этом, и в этом же – истинный смысл работ А. Эйнштейна в теории относительности.
Но, помимо уже названных методологических проблем, связанных с критическим анализом исходных абстракций в науках, касающихся мышления, есть еще ряд общих методологических проблем, которые необходимо решить, чтобы мы могли строить общую синтетическую модель мышления. Здесь мы опять-таки забегаем вперед, но это, по-видимому, необходимо для лучшего понимания всего дальнейшего.
Первая проблема. Мышление, каким бы мы его ни выделили и ни изобразили, представляет собой элемент более сложного целого – производственной деятельности общества. Главная его характеристика поэтому – функции внутри этого целого, а значит, необходимо такое выделение и изображение мышления, которое учло бы эти функции (еще до исследования структуры всего целого), не преобразовало бы и не изменило бы их. Эта задача есть задача правильного включения науки о мышлении в науку о производственной деятельности. Вместе с тем это есть вопрос о языковом мышлении как особом предмете исследования. Обсуждению этого круга вопросов посвящены первая и вторая главы работы.
Вторая проблема. Мышление представляет собой деятельность определенного рода. Но непосредственно схватить его как деятельность мы не можем. Для нас оно выступает в лучшем случае в виде продуктов этой деятельности. Отсюда важнейшая методологическая задача: разработать систему приемов, позволяющую на основании определенных знаний о продуктах мыслительной деятельности реконструировать саму эту деятельность, ее основные характеристики, ее строение. Эта проблема обсуждается на протяжении всей работы, особенно в третьей главе.
Третья проблема. Как в виде самой деятельности, так и в виде продуктов этой деятельности мышление не только является элементом, частью сложного структурного целого, но и само по себе, взятое изолированно, представляет собой структуру с множеством элементов и связей между ними. Чтобы исследовать и воспроизвести его как такую сложную структуру, нужно применить особые, очень сложные и изощренные приемы и способы исследования. Так как структуры такого рода только совсем недавно стали предметом научного изучения, то эти приемы и способы исследования остаются почти неразработанными, а там, где они уже возникли, – не отделены от частного эмпирического материала и не формализованы. О какой-либо общей теории подобных приемов и способов исследования до сих пор не может быть и речи. Поэтому на протяжении всей работы приходится одновременно и параллельно обсуждать как специальные вопросы логического содержания, то есть относящиеся непосредственно к мышлению, так и вопросы методологии структурного исследования, то есть относящиеся к способам анализа и изображения мышления.
Четвертая проблема. Мышление является не просто сложным структурным целым, а целым исторически развивающимся или, как говорил К. Маркс, «органическим». В этом отношении оно подобно такому объекту, как буржуазные производственные отношения. Методы исследования органических объектов разработаны значительно лучше, чем методы исследования неорганических, неразвивающихся объектов. Основная заслуга в этом принадлежит Марксу. Исследовав структуру функционирования и развития буржуазных производственных отношений, он создал образец необходимого в таких случаях способа мышления – метод восхождения от абстрактного к конкретному
