Истории земли Донецкой. От курганов до терриконов
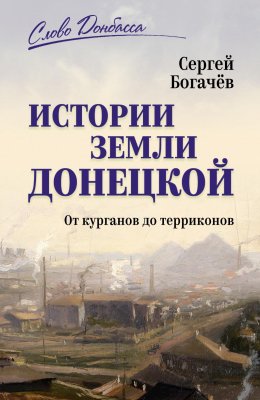
© Богачёв С. В., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Удивительная проза Богачёва
Читатель прекрасно знает, что настоящая литература не может просто так отпустить его от раскрытого перед ним произведения и не принять в свою душу боль и проблемы говорящего с ним писателя или героев его книги. Особенно важно это бывает, когда речь идёт о произведении, касающемся лиц или событий, так или иначе связанных с людьми, приключениями или местностью, с которыми ты пересекался в своей жизни и которые стали частью твоей собственной биографии. Так произошло со множеством людей, которые родились, жили, росли, работали, учились или хотя бы однажды бывали в Донецкой области и которым этот край навсегда вошёл в память и в душу. Потому что Донбасс – это не просто территория с угольными шахтами, металлургическими заводами, пшеничными полями и работающими на них людьми, а часть собственного сердца каждого, кто успел полюбить эту землю и с жаром вбирает в себя всё, что написано писателями об этой уникальной местности. Таким, в частности, автором является Сергей Валентинович Богачёв, всю жизнь пишущий книги о судьбе родного ему Донбасса и окружающей его Украины.
Земля донецкая – это не просто степи между Доном и Днепром, но также события, неразрывно связанные с историей киммерийцев, скифов, сарматов, остготов, греков, славян, крымских татар, хазар, древнерусских князей Святослава и Игоря, а также историей ряда других народов и непосредственно с жизнью самой нашей России. Нельзя, в частности, не отметить, что именно через Донецкий край проходили пути Великого переселения народов, в числе которых были такие многочисленные Шелковые торговые пути, как Кальмиусский, Изюмский, Муравский, а вблизи Кальмиуса (то есть реки, на которой стоит сейчас Донецк) произошла знаменитая битва на Калке.
Настоящая проза всегда сложна, глубока и многопланова, насыщена не только неожиданными поворотами сюжета, психологическими лабиринтами и философскими выводами, но и рассыпанными по всему пространству текста мелкими наблюдениями, способными претендовать на самостоятельные полноценные миниатюры. Таким мастерством прекрасно владеет донецкий прозаик Сергей Валентинович Богачёв, автор 180 научных работ, в том числе шести монографий и пяти учебников, а кроме того – порядка двух десятков историко-художественных романов, включая такие, как «Мизер с тузами», «Ударная волна», «Переход», «Газовый контракт», «Граффские наследники», «Проклятие Митридата», «Богдан Хмельницкий: искушение», «Век испытаний», «Незаконченный дневник», «Истории Дикого поля», «Последний приказ Нестора Махно», «Аляска – Крым: сделка века», «Охота на императора» и другие полуисторические, полудетективные или полукриминальные книги. Только что им в московском издательстве «Вече» выпущена в свет книга прозы «Истории земли Донецкой. От курганов до терриконов», в которой перед читателями раскрывается полная невероятно ярких и отчаянно горьких схваток русских воинов с половцами, монголо-татарами, турками, персами и воинами других народов. Вот, например, Сергей Богачёв в своём повествовании «Платов» рассказывает о столкновении воинов казака Матвея Платова с ордой татар:
«Склоны холма покрывались телами штурмующих татар, темнокожих арабов и прочих временных союзников Девлет-Гирея, возжелавшего ратной победы над русским войском, – пишет автор. – С каждым приступом, словно с приливом, выносящим на берег всё, что непотребно морю, количество трупов бусурманских увеличивалось. Уже и пробраться между ними не представлялось возможным – лезли турки на вершину укреплённого холма по телам своих убитых в схватке соплеменников и союзников, нарываясь на выстрелы, звучавшие уже не так стройно – за укреплением тоже несли потери».
А вот в рассказе «Славяносербия» он ведёт рассказ о битвах русских войск, включая братьев сербов, с турками. Он пишет:
«На южных рубежах Австрийской империи сербы держали границу против Османской империи, воины которой владели ружьями, имели пушки и давно пользовались убийственной силой пороха. Турецкие части невозможно было не заметить – они всегда брали количеством, новый же враг граничар, поселившихся на Донце, был бесшумным и быстрым, как тень совы в лунную ночь. Классические правила ведения боя против них не действовали – крымские татары никогда не шли в лобовую атаку, они перемещались, выманивая врага на себя, под основные силы. Маневрировали, на расстояние выстрела не приближались…»
И далее Богачёв пишет, обрисовывая происходящие события:
«Назвать настоящим боем то, что происходило дальше, было нельзя. Стрелы против ружей. Причем ружья явно проигрывали – стрелы из колчана ложились на тетиву гораздо чаще, чем пули в ствол. Граничары падали один за одним, не успевая приблизиться на расстояние сабельного удара. Татары то появлялись, то исчезали из-за холмов и оврагов, разя защитников редута поодиночке…»
Книга Сергея Богачёва целиком захватывает запечатлённые в ней исторические события, раскрывая перед читателями как периоды военных лет, так и развитие некоторых мирных времён в России. Писателя интересуют не только свист пуль и разрывы снарядов, но он пишет и про мирные дни. Вот он пишет в рассказе «Счастливчик Ханжонков» о жизни первого русского кинорежиссера Ханжонкова, проживающего в советском Крыму, к которому пришёл для беседы молодой сотрудник НКВД:
«Александр Алексеевич увидел в глазах молодого человека некоторый интерес, не связанный с прямыми его обязанностями. Разбираться в людях по взгляду его научила профессия. Актёр никогда не сыграет честно, если взгляд его не искренний. Камера требует подчеркнутых эмоций. Особенно если это немое кино, где не слышно слов, а все страсти нужно передать мимикой…»
Вот это умение «передать мимикой» какие-то чувства и ощущения является едва ли не главной чертой Сергея Богачёва, который управляет движением чувств персонажей своих произведений не хуже, чем актёры мимикой. Его необыкновенная проза дарит читателям такие же ощущения, как хорошие кинофильмы, которыми щедра отечественная киноиндустрия. Описывая в своих рассказах те или иные события, Богачёв будто воссоздаёт своим пером картины художественного кино. Вот в рассказе «Нокаут чемпиона» он описывает полёт одного из русских боксёров в Латинскую Америку для участия в боях. Виды из самолёта были великолепны:
«По пути в Киото их самолет пролетал над бесконечными зелёными коврами лесов, изредка рассекаемых голубыми ленточками рек. Если бы не оранжевые черепичные крыши домов, казавшихся игрушечными с высоты полёта, то можно было бы подумать, что это центральная полоса России или Западная Украина. Местами реки, разлившись по полям, отсвечивали солнечными бликами среди засеянных полей. Казалось, что жёлтые и зелёные прямоугольники посевов пробиваются прямо из зеркала – речная вода закрыла собой всю площадь полей…»
Самым близким к нам по времени является рассказ Сергея Богачёва «Марьинка», в котором раскрывается горькая правда о братоубийственной войне в Донбассе, показывающая, как вчерашние друзья и братья, выросшие на одной улице и ходившие в одну школу, вдруг оказываются по разные стороны военных «баррикад», где они вынуждены насмерть стрелять один в другого. И только настоящая дружба оказывается способной сохранить подлинные чувства и помочь вчерашним товарищам остаться верными своей многолетней дружбе…
Читая прозу Богачёва, нельзя не отметить его блестящего владения русским литературным языком, погружение в который доставляет читателям истинное удовольствие. Он не просто пересказывает в своих книгах те или иные исторические события, но будто рисует словами на своих страницах великолепные рисунки, которые ничуть не заслоняют собой эпизоды изображаемого сюжета. Можно без всякого преувеличения сказать, что Сергей Богачёв – не просто опытный и тонкий прозаик, но в буквальном смысле слова – художник, рисующий своим художественным словом прекрасные полотна.
С учётом того, что мы сегодня откровенно чувствуем витающее в воздухе дыхание большой международной военной грозы, каждое произведение русских писателей должно работать на укрепление духа патриотизма и веру в нашу обязательную победу. Вся глубина российской истории, весь опыт прогремевших над нами войн и прозвучавших над просторами России песнями говорит о том, что победа будет всегда за нами. И литературное творчество Сергея Богачёва не просто уходит в древние корни нашей истории, но напрямую говорит нам о сегодняшних событиях в Донбассе, наполняя дух людей именно этой мощной энергией и твёрдой верой в силу нашего великого народа, о бесконечной борьбе которого за свою свободу он писал и пишет сегодня в своих замечательных честных книгах.
Николай Переяслов
Охотник
В нескольких километрах от села Родники Амвросиевского района Донецкой области находится памятник мирового уровня, который широко используется учеными для социально-экономической и исторической реконструкции жизни древнего человека в эпоху позднего палеолита (XVIII–XX тысяч лет назад).
Открытый в 1935 году памятник состоит из стоянки древнего человека и костища бизонов. В ходе его исследования в одном из отрогов балки Казённой были обнаружены кости почти тысячи бизонов, погибших, по всей видимости, в результате загонной охоты древних жителей нашего края. Более ста тысяч изделий из кремня, которые служили орудиями при обработке шкур животных, были найдены при исследовании стоянки – базового лагеря древних охотников.
Одним из элементов современного герба города Амвросиевка является изображение каменного орудия древнего человека. Амвросиевская стоянка и костище включены в реестр мирового наследия археологических памятников ЮНЕСКО.
…Огромный бизон поднял свою тяжелую голову и посмотрел в сторону волка, который затаился в густой и высокой траве совсем недалеко от стада. Вожак сделал несколько шагов в сторону хищника, но потом остановился и, громко фыркнув, вновь опустил голову к сочной траве.
Приближались холода, но в степи еще можно было встретить участки с растительностью, выделяющейся на общем серо-желтом фоне яркими пятнами. Такие участки всегда располагались там, где раньше была вода. Вожак это хорошо знал и вот уже несколько дней вел свое стадо вдоль неглубокой реки с пологими берегами. Время от времени животные приближались к воде, чтобы утолить жажду. Но подолгу они здесь не задерживались. Какой бы вкусной не была чистая и прохладная вода в реке, пить ее много было нельзя. Избыток воды делал бизонов неповоротливыми, а значит, легкой добычей их врагов, одними из которых были волки.
Вожак опять насторожился и всем своим тяжелым телом повернулся в сторону затаившегося неподалёку волка. Нет, Вожак не боялся волка – он и его сородичи легко могли бы отбить нападение не только одного зверя, но и целой стаи. Но запах… Когда ветер менял направление и начинал дуть со стороны волка, Вожаку казалось, что он чувствует запах костра. Откуда этот запах, который всегда несет смерть?
Охотнику казалось, что красные глаза Вожака смотрят прямо на него. Нужно было уходить. Бык все чаще и чаще поворачивал голову в его сторону и принюхивался. Во всем виноват ветер, который вот уже в который раз меняет свое направление и начинает дуть в сторону бизонов. Стараясь не шуметь, Охотник стал осторожно удаляться от стада.
Скрывшись за ближайшим пригорком, он встал и принялся сворачивать шкуру волка, прикрываясь которой обманул Вожака. Этому приему его научил Отец, когда он сделал себе свое первое копье. С тех пор прошло много лет. За это время он стал одним из лучших охотников своего племени. Вот и сейчас он уже в который раз подтвердит это. Ему удалось выследить большое стадо бизонов. Лучшие следопыты из его племени не смогли этого сделать, а он смог. Для этого ему пришлось бродить по степи не одну неделю, мерзнуть под холодными осенними дождями, питаться сырым мясом и в одиночку отбиваться от волчьей стаи. Несколько раз ему встречались стада бизонов, но они были небольшие – всего в несколько десятков голов. Для его племени этого было мало. Приближалась зима, а вместе с ней и голод, который в прошлый раз унес жизни многих его сородичей. Еще несколько дней и это стадо бизонов уйдет так далеко, что его будет уже не догнать. Нужно торопиться… Подхватив сверток с волчьей шкурой и взяв наперевес копье, Охотник быстрым шагом направился в сторону стоянки своего племени.
– А ты не ошибся? Там действительно так много бизонов, что хватит нам на всю зиму? – уточнил у него Отец племени, с надеждой глядя на Охотника.
У костра собрались все взрослые следопыты и охотники племени, которые внимательно слушали разговор между Отцом и Охотником. Слишком высокой будет цена ошибки. Прошлой зимой многие их сородичи ушли в Страну Теней, не выдержав испытания голодом. Тогда им не удалось запастись нужным количеством мяса – стада бизонов ушли на юг раньше положеного времени, и даже самые быстроногие охотники не смогли их настичь. Узнав от охотников, что и в этом году стада животных повернули на юг раньше времени, Отец дал задание самым лучшим следопытам выследить крупное стадо бизонов, чтобы устроить на них облаву. Шли дни…
Один за другим охотники возвращались из степи, но у всех были плохие новости – ни одного стада бизонов рядом не оказалось. И только Охотник, вернувшийся на стоянку поздней ночью, принес известие, моментально разнесшееся по всему лагерю – стадо бизонов в нескольких днях пути. Мужчины сразу потянулись к костру Отца племени, а женщины с детьми с надеждой смотрели в их сторону, прячась в сумерках осенней ночи.
– Нет, Отец, я не ошибся, – ответил Охотник. – Стадо быков находится от нас на расстоянии нескольких переходов. Не так близко, как хотелось бы, но и не так далеко, чтобы это мешало доставить добычу в лагерь.
Вокруг костра раздался одобрительный шум, и слабый огонек надежды искоркой разнесся от одного костра к другому. Отец поднял руку, и шум голосов постепенно затих. Все смотрели на Охотника, который, взяв копье, прочертил им на земле извилистую линию.
– Это река. Стадо бизонов находится вот здесь и движется вниз по течению. – Он ткнул копьем в середину линии. – Если они переплывут на другой берег – нам их не догнать. Вожак уведет их еще дальше в Степь, и мы ничего не сможем сделать.
– Река, это плохо, – с тревогой в голосе произнес один из охотников. – Для быков это хорошая защита. Вожак стада, почуяв опасность, сразу же уведет стадо на другой берег. Мы не сможем переправиться так быстро, как эти животные, и нам придется бегать за ними по всей степи. Так уже было, и река много раз забирала нашу добычу.
– А никто и не говорит, что охотиться нужно возле реки, – с вызовом произнес Охотник. Пока он возвращался в лагерь, в его голове созрел план, который он и хотел предложить Отцу племени.
– Но и ты не всесильный дух Белого быка, чтобы направлять стадо куда захочешь, – не унимался опытный следопыт. – Ты хороший охотник, но ты не Вожак стада. Мы потратим много сил для того, чтобы убить нескольких быков, но на этом охота и закончится. Остальные уйдут от нас на другой берег.
Вокруг костра наступила тишина, и все посмотрели на Отца племени. Тот долго молчал, задумчиво глядя на огонь.
– Мне много лет и, может быть, эта охота будет для меня последней, – сказал он. – Мой дух все чаще навещает наших предков в Стране Теней, и ему все сложнее возвращаться оттуда. У меня нет выбора – если мы сейчас не добудем мяса для наших женщин, стариков и детей, наши предки мне этого не простят, и я сам по своей воле уйду к ним.
Он отвёл взгляд от огня и внимательно посмотрел на каждого из охотников, словно видел их впервые. Для многих из них он уже много лет был Отцом племени, его слово было для них законом, а его авторитет был для них непререкаемым. Никто из соплеменников не знал и даже не догадывался о том, что их Отец серьезно болен. Вот уже несколько месяцев он чувствовал, как силы медленно покидают его. Ему всё трудней было просыпаться по утрам. Каждую ночь его дух путешествовал в Страну Теней, где он встречался со своими предками и друзьями молодости, разговаривал с ними, ловил рыбу, охотился на бизонов. Ему нравилось быть гостем Страны Теней и не хотелось возвращаться назад. Вынырнув из плена сна, он с сожалением покидал его и с усилием заставлял себя встать, чтобы заняться делами племени. Каждое его утро начиналось с мысли, кого оставить после себя в Стране Степей? Кто станет Отцом племени после его ухода?
И всё чаще и чаще его взор останавливался на Охотнике, который прошлой весной встретил свою двадцать седьмую Луну. Самый подходящий возраст, чтобы возглавить племя: уже не молод, но еще и не стар. А учитывая, что большая часть мужчин редко доживала до встречи с сороковой Луной, – это самое время.
Огонь в костре внезапно вспыхнул с новой силой и лизнул своим языком ноги Охотника. Это был знак, и Отец племени понял, что и Дух Огня остановил свой выбор именно на Охотнике и ни на ком другом. «Да будет так, – подумал он. – Пусть эта охота станет для Охотника последним испытанием. Справится с ним – быть ему Отцом племени». Помолчав еще некоторое время, он сказал:
– Ну что же, Охотник, мы готовы выслушать твой план. Говори.
Охотник не любил много говорить, поэтому свой план охоты на стадо бизонов он изложил быстро, а вот детали предстоящей облавы они обсуждали долго. И только когда на горизонте показались первые лучи Огненного Круга, Отец племени устало закрыл глаза, показав тем самым, что совет закончен…
День в лагере всегда начинался рано. Первыми вставали пожилые женщины. Их сон всегда был короток, так как на их плечи была возложена священная обязанность – следить за тем, чтобы не погасли костры. Огонь – это жизнь. Не будет огня – не будет пищи и тепла. Если погаснут костры, волчьи стаи ворвутся на территорию стоянки, и всё будет кончено в считанные минуты.
Вслед за старухами просыпались женщины и взрослые дети. Одни из них начинали собирать пучки сухой травы для костров, другие направлялись в сторону ближайшей балки, где протекал небольшой ручей, чтобы набрать воды.
Никто из них и не догадывался о том, что через несколько дней именно эта неприметная балочка станет тем местом, от которого будет зависеть будущее всего племени.
План Охотника был простым и в то же время очень необычным. Раньше в охоте на бизонов принимали участие только мужчины племени. Выследив стадо животных, они отбивали от него нескольких быков и копьями с костяными и кремневыми наконечниками завершали свою работу. Когда у племени заканчивалось мясо, они опять выходили на тропу охоты. Так продолжалось до недавнего времени, пока несколько Лун назад, перед самым наступлением холодов, следопыты не смогли в Степи найти бычьих следов. Дух Белого быка увел все стада на юг и спрятал их следы от зорких глаз следопытов. В ту зиму в Страну Теней ушли многие соплеменники Охотника.
Этой ночью он предложил участвовать в охоте всему племени. И охотиться при этом не на отдельных быков, а на все стадо сразу. По его замыслу женщины, старики и дети, поднимая как можно больше шума, должны были отогнать быков от реки и направить их в сторону оврага, находящегося неподалеку от стоянки. Попав в ловушку, тяжелые и грузные животные не смогут выбраться на другую сторону рва и станут легкой добычей для копий охотников.
Отец племени не стал медлить, и к выполнению плана Охотника его сородичи приступили в этот же день. Первыми лагерь покинула группа мужчин, которые должны были переправиться на другой берег реки и не дать бизонам переправиться через нее. Нашлась работа и для женщин племени. Вместе с подростками они в некоторых местах начали углублять овраг, делая его противоположный край более крутым и высоким. Их работой руководил опытный пожилой охотник. По его приказу овраг был перекрыт камнями и землей, и теперь попавшие в ловушку животные не смогут уйти из балки, как бы они ни старались.
Опустившись на дно оврага, Охотник скрылся в нем с головой и улыбнулся своим мыслям: «Отсюда ни один бык не выберется, даже с помощью своих духов».
На противоположном берегу балки его уже ждали мужчины племени. Это были самые сильные и меткие охотники. Именно им предстояло завершить начатое всем племенем дело. Каждому из них Охотник указал то место, где он должен находиться во время облавы. При этом охотники видели друг друга, но один другому не мешал.
Не забыл Охотник проверить и их оружие, отдав приказ сделать дополнительные копья. Быков в стаде было много и для каждого из них должна быть готова Сверкающая молния. Так охотники называли камень, из которого они делали наконечники для своих копий, с помощью которых можно было легко и быстро разделать тушу самого большого бизона, очистить от жира и мяса его шкуру, разрезать ее на несколько частей и соорудить удобную накидку.
Вернувшись в лагерь, Охотник увидел небольшую группу пожилых женщин, которая не спеша уходила в Степь. Одна из них несла перед собой еле тлеющую ветку сухого дерева. Это был священный Огонь, который матери племени сохранят и вернут к жизни на новом месте. А в лагере старики старательно засыпали те места, где еще ночью горели костры. Им помогали дети, которые собирали мелкие кости, камни и ветки в одну глубокую яму и тоже засыпали ее землей. Они прятали все, что несет на себе запах человека. У бизонов опытный Вожак. Он может уловить запах своих врагов на большом расстоянии и предупредить стадо об опасности. Его нужно перехитрить. Поэтому Отец племени запретил разводить Огонь до окончания охоты и приказал всем своим сородичам покрыть тело слоем грязи, взятой из ближайшего болота. От этого все стали похожи на серые тени, которых Отец часто видел в Стране предков. «Лучше им покрыть себя грязью и стать серой тенью на время, чем остаться чистым и отправиться в Страну Теней навсегда», – думал он, глядя на своих соплеменников.
Духи были на их стороне. Стадо бизонов не успело далеко уйти от того места, где несколько дней назад его видел Охотник. Оно все так же паслось недалеко от реки, медленно продвигаясь вниз по ее течению. Низко наклонив головы к земле, самки и их телята сосредоточенно поедали пучки травы и, казалось, не обращали внимания на происходящее вокруг. Но это было не так. Самцы паслись в стороне от основного стада и не забывали поглядывать по сторонам. Был среди них и Вожак. От других самцов он выделялся крутым горбом и массивной головой с широким лбом, из которого росли загнутые немного внутрь большие рога. Его жесткая коричневая шерсть в лучах осеннего солнца отливала красным оттенком. Большие темные глаза внимательно следили за происходящим вокруг.
В очередной раз подняв голову, Вожак прислушался, а потом медленно двинулся в сторону холма, за которым притаились охотники. Время от времени он останавливался, высоко поднимал голову вверх, при этом его ноздри шумно втягивали воздух, после оглашал берега грозным мычанием. «Неужели уловил наш запах?» – подумал Охотник. Он и его соплеменники уже приготовились раньше назначенного срока показаться из-за холма, но в это время Вожак остановился и, рыкнув в очередной раз, повернул в сторону ближайшего болотца. Дойдя до него, бык всей своей массой погрузился в зеленую жижу и стал медленно перекатываться в ней, время от времени пофыркивая от удовольствия.
– Лучшего времени для охоты не будет, – произнес стоящий рядом с Охотником Отец племени. – Духи на нашей стороне – они закрыли глаза не только Вожаку, но и Белому быку – духу и покровителю всех бизонов. Тропа охоты перед нами открыта. Пора сделать первый шаг. Ступай, Охотник, пришло твое время.
Над головой Огненный Круг достиг условленной точки, и на противоположном берегу раздались крики охотников, в задачу которых входило отпугнуть стадо от берега реки. С громкими криками мужчины не раздумывая бросились уже в холодную воду и поплыли в сторону пасущихся бизонов. Животные как по команде подняли голову, но оставались стоять на месте. Телята прижались к бокам самок, а те сбились в одну большую массу. Вожак не ожидал нападения со стороны реки и вместе с другими самцами оказался на противоположной от охотников стороне. Ему не оставалось ничего другого, как уводить стадо от опасности, а значит, и от кромки воды. Развернувшись, бизоны шарахнулись в Степь, все быстрее и быстрее ускоряя свой бег. Быков было так много, что вскоре от топота копыт под ногами охотников задрожала земля.
При виде такого количества бизонов соплеменников Охотника захлестнул охотничий азарт, и они бросились вдогонку за животными. Рядом с мужчинами бежали женщины и дети. Они кричали, размахивали руками, били в ладоши, падали и вставали, не обращая внимания на ссадины и кровоподтеки. Азарт большой охоты захватил их всецело и превратил в один слаженный механизм, целью которого было одно – догнать и убить зверя.
Охотнику это чувство было хорошо знакомо. Он не вмешивался в ход облавы, но внимательно следил за тем, чтобы стадо бизонов было охвачено большим полукругом загонщиков. Окруженные с трех сторон бизоны были вынуждены бежать в том направлении, которое им оставили люди.
Животные оказались выносливее людей. Через несколько часов облавы Охотник стал замечать, что ряды загонщиков начали редеть. Обессиленные женщины и дети, не рассчитав свои силы, в изнеможении падали на землю. От основного стада бизонов также отстали несколько самок с телятами. Часть совсем маленьких детенышей погибла под копытами быков, но их взрослые сородичи не останавливаясь продолжали свой бег. До бывшего лагеря охотников оставалось совсем немного, но именно в этот момент быки замедлили свой бег и повернули левее, пытаясь обойти стороной место бывшей стоянки. Все-таки запах смерти эти животные чувствовали издалека и, как ни старались люди скрыть его, им этого сделать не удалось. Вожак, бежавший все это время впереди, стал уводить стадо в сторону. Сделав большой круг, животные опять возвращались к реке. А там вода, там спасение.
Отца племени, который всегда мог дать мудрый совет, рядом с Охотником не было уже давно – он отстал от него в самом начале облавы. Охотник понял, что в эти минуты Вожак бизонов может разрушить его план и стадо уйдет от приготовленного для него оврага. Захватив с собой нескольких своих соплеменников, Охотник бросился наперерез животным, уже на бегу рассказав друзьям, что им нужно делать.
А делать нужно было то, что они делали уже много раз, только охотясь на птиц и зайцев, которые прятались в высокой траве. Один из охотников достал из свертка, который висел у него за спиной, еле тлеющий трут и принялся что есть мочи дуть на него, пытаясь возродить к жизни Духа огня. Другие приготовили длинные ремни из шкур животных, к которым привязали пучки сухой травы, облитые жиром бизонов. Осталось только дождаться, чтобы Дух огня принял их жертву и охватил своим жарким пламенем приготовленную для него пищу. Не с первого раза, но это случилось. Робкий маленький язычок пламени сначала возник на одном кончике тлеющего трута, а потом легко перескочил на приготовленную для него траву. Схватив ремни за один конец, охотники бросились в Степь. За ними, разбрасывая в разные стороны снопы искр, словно какие-то маленькие зверьки, подпрыгивали пучки травы. Вскоре несколько огненных линий разделили Степь на две части. При этом пламя было небольшим – горели только некоторые кусты наиболее сухой травы, но этого было достаточно, чтобы стадо бизонов сначала замедлило свой бег, а потом, вслед за Вожаком, повернуло в сторону оврага, до которого оставалось совсем немного.
Плато, за которым находился овраг, было совсем небольшим и немного понижалось в сторону ловушки. Выскочив на него, Вожак попытался замедлить свой бег, чтобы оглядеться вокруг, но бежавшие за ним быки, надавив на него всей своей массой, не дали ему этого сделать. Более того, этот небольшой уклон Степи заставил бизонов бежать еще быстрее.
Когда Вожак оказался на краю обрыва и увидел перед собой его каменистое дно, он издал протяжный хрип, чтобы предупредить своих сородичей о грозящей им опасности. Только в топоте сотен копыт и тяжелом сопении уставших от бега быков его сигнал никто не услышал. Собрав последние силы, Вожак попытался перепрыгнуть препятствие, но, ударившись грудью о противоположный край обрыва, рухнул на каменное дно. Несколько копий охотников тут же ударили в его мощную шею, оросив камни оврага первой кровью. Бык попытался подняться, но было уже поздно. Тяжелые туши других бизонов стали падать на него один за другим.
Ни один, даже самый молодой и сильный бык не смог перепрыгнуть через овраг, что уж говорить о самках и телятах! Некоторые из самцов попытались спастись, отталкиваясь ногами от тел своих погибших и еще живых сородичей, но копья охотников, ожидавших стадо на другой стороне оврага, не дали им этого сделать.
Когда Охотник вместе с другими загонщиками вышел на плато, он увидел только нескольких маленьких телят, бестолково бегающих по краю оврага в поиске своих матерей. Ров, глубину которого он недавно проверял, был заполнен тушами животных почти до краев, а в воздухе стоял густой и липкий запах крови. Охотники ходили прямо по телам погибших животных и безжалостно добивали раненых короткими ударами своих копий.
Охотник с уважением относился к любой добыче, а отношение к бизонам у него было почти священное. Но сегодня ему этих животных было не жаль. «Мы спасены» – вот о чем он сразу подумал, когда увидел результаты своей охоты.
Через некоторое время хрипы раненых животных умолкли. Затихли и радостные возгласы соплеменников Охотника, которые продолжали радоваться богатой добыче, но уже тише. Огненный Круг, проделав свой обычный путь над головами людей, покидал их, уходя на свою далекую стоянку. Осенние сумерки наступили быстро, но это не остановило людей из племени Охотника. Вокруг оврага и в лагере зажглось множество костров. Предстояла большая работа – туши бизонов нужно было не только быстро разделать, но и успеть обработать мясо так, чтобы оно не испортилось до зимы. Для этого охотники готовили длинные ветки, на которые нанизывались большие куски мяса для копчения в густом дыму костров. Мелкие части туш вялились на плоских камнях, поверхность которых была нагрета в пламени костров.
«Здесь работы не на один день», – подумал Охотник, обходя лагерь в поисках Отца племени, которого видел в последний раз в самом начале охоты. Его голос он услышал со стороны оврага, а подойдя ближе, увидел в свете костра и его коренастую фигуру, которая опиралась на древко копья. Он внимательно следил за тем, как охотники по его приказу поднимали со дна оврага тушу Вожака, которую он запретил резать на части. С большим трудом несколько десятков охотников вытащили убитое животное на край оврага и положили его к ногам Отца племени.
Увидев Охотника, Отец сделал ему знак рукой и, когда тот подошел, положил ему на плечо свою руку.
– Ты сегодня не только спас свое племя от голодной смерти, но и выдержал последнее испытание. – На лбу Отца выступили капельки пота, его тело била мелкая дрожь, но голос оставался твердым и уверенным. – Отныне ты – Отец племени. Иди к своему народу. Ты им нужен.
Отвернувшись от Охотника, он достал из небольшого свертка узелок с красной и желтой охрой[1] и не спеша принялся наносить ее себе на лицо. Затем он наклонился над тушей Вожака и провел рукой по его массивному лбу, оставив на коричневой шерсти быка несколько красных полос. Взяв в правую руку копье, он сел рядом с бизоном и прислонился к его еще теплому боку. Закрыв глаза, он наклонился к уху животного и тихо произнес:
– Я узнал тебя, Вожак. Мы встречались с тобой несколько раз в Степи, и ты всегда побеждал меня – уходил целым и невредимым. Но сегодня пришел другой Охотник. Молодой, умный, сильный. Не обижайся на него: ты спасал свое стадо, а он спасал свое племя. Сегодня пришло время отправиться нам в Страну Теней. Ты был достойным противником и для меня будет большой честью отправиться туда вместе с тобой. Пошли, Вожак.
Дарий и скифы
Дарий I из династии Ахеменидов занял престол Персидского государства в 522 году до н. э. «Повелителю всех царей» в то время было 28 лет. Первые годы правления Дария прошли в постоянных войнах с народами, входившими в состав империи и стремившимися выйти из-под влияния Персии. Молодой царь с небывалой жестокостью подавил народные восстания в Эламе, Вавилоне, Мидии, Маргиане, Парфии, Армении, Египте. Стремясь закрепить свой авторитет, Дарий в 519 году до н. э. подчинил себе саков – среднеазиатских кочевников, обитавших в низовьях Амударьи и Сырдарьи. В 517 году до н. э. войска персов захватили северо-западную часть Индии. В годы правления Дария границы персидской державы простирались от Инда на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до нильских порогов в Африке.
В 514 году до н. э. персидская армия, форсировав Босфор и реку Истр, совершает поход в степи Северного Причерноморья, где стремится покорить Скифию. Понимая, что в открытом бою с многочисленными персами у них шансов на победу мало, скифские цари применили тактику «выжженной земли» – отступая, они угоняли скот, выжигали траву и засыпали источники с водой. Если верить греческому историку Геродоту, персы преследовали скифов до реки Танаис, потеряв при этом большую часть своего войска. Не имея достаточных запасов продовольствия и потеряв надежду встретиться со скифами в открытом бою, Дарий отдает приказ об отступлении. С трудом добравшись до берегов Истра, остатки персидского войска во главе со своим царем ушли во Фракию. Скифский поход Дария I в степи Северного Причерноморья закончился безрезультатно.
В одной из самых дальних палат дворца их было двое: он – повелитель всех царей Дарий I и его брат Артабан. Оба были сыновьями Гистаспа. Несмотря на то что отец у них был один, братья внешне значительно отличались друг от друга. Коренастый, широкий в плечах, с густой, черной как смоль бородой Дарий и высокий с миндалевидными глазами и длинными пальцами рук Артабан.
«Если бы ты не был мне братом, то уже давно бы твои красивые глаза достались стервятникам», – подумал Дарий, улыбаясь Артабану и протягивая ему золотой кубок с вином. Сегодня на охоте брат уже в который раз пытался отговорить его идти войной на скифов. Хорошо, что они в тот момент были вдвоем и никто из придворных не слышал, как младший брат позволил себе дерзость выступить против воли царя.
– Это безумие, вести многотысячное войско в страну, о которой известно только то, что она находится на краю земли и что ее населяют люди-лошади. У безбородых юнцов успеет вырасти борода, пока они достигнут пределов этой Скифии! – Артабан старался говорить потише, но то, как поглядывали в их сторону участвовавшие в царской охоте на леопардов сановники и военачальники, говорило о том, что отдельные слова все-таки долетали до их ушей.
Дарий натянул тетиву лука и выпустил стрелу в пятнистую кошку, которую загонщики выгнали на открытое пространство прямо перед своим повелителем. Стрела пролетела в сантиметрах от животного, и в следующий миг леопард, бесшумно оттолкнувшись от земли, скрылся в ближайших зарослях. От досады Дарий бросил лук на землю и повернулся в сторону брата:
– Мое терпение, Артабан, имеет пределы. Еще одно слово – и ты вообще пожалеешь, что появился на этот свет! Я уже отдал приказ собирать войска в Сузах и начинать строительство моста через Фракийский Босфор. Скоро все, кто может держать в руках оружие, выступят в поход, и ты в том числе.
Уже отъехав на несколько шагов от брата, Дарий развернулся в седле и произнес:
– Я не желаю, чтобы ты принимал участие в походе и не верил в нашу победу. Хочу тебе кое-что показать. С первой звездой жду у себя во дворце…
…Взяв из рук Дария золотой кубок, украшенный драгоценными камнями, Артабан в растерянности посмотрел на брата – еще никто не удостаивался чести получить чашу с вином из рук самого царя Персии.
– Что смотришь? – усмехнулся в бороду Дарий. – Думаешь, вино отравлено? Можешь пить смело. Я тебя позвал сюда не для того, чтобы насладиться твоей смертью.
Он первым сделал глоток из своего кубка и прошел вглубь царских покоев. Артабан даже не подозревал о существовании этого помещения и, сделав пару шагов вслед за братом, с интересом осмотрелся вокруг. Несколько мерцающих светильников освещали большой стол, на котором в беспорядке лежали свитки папируса, куски кожаного пергамента и глиняные таблички, поверхность которых была испещрена непонятными знаками, похожими на следы цапель, оставленных ими на мокром песке берегов Нила. Некоторые из них были написаны на языке Вавилонии, другие с помощью алфавита Элама и Египта. Взяв в руки один из папирусов, Артабан увидел рисунок, состоящий из тонких линий, рядом с которыми были нанесены знаки на арамейском наречии. Такие рисунки он видел у кормчих финикийских триер[2] и у купцов, караваны которых ходили в сторону греческих колоний и к далеким берегам Инда. Но для чего эти загадочные рисунки Дарию?
Голос брата заставил его отвлечься от размышлений.
– Подойди сюда, Артабан. Вот то, что я хотел показать тебе.
Опираясь на царский посох, Дарий в задумчивости смотрел себе под ноги. То, что увидел Артабан, подойдя к брату, заставило его на несколько секунд замереть, а затем из его груди вырвался возглас восхищения. У его ног раскинулось Персидское царство. С помощью глины и песка неизвестный мастер поместил огромное государство, которым владел его брат, на полу одной из комнат царского дворца. При этом реки и моря были заполнены настоящей водой, цепочки гор и их вершины сделаны из обработанных горных пород и переливающихся всеми цветами радуги минералов. Места расположения персидских городов были отмечены драгоценными камнями. На месте, где находилась столица империи Персеполь, покоился золотой самородок, форма которого напоминала приготовившегося к прыжку тигра.
– То, что ты сейчас видишь, Артабан, не дано видеть простым смертным. – Голос Дария звучал приглушенно. Опираясь двумя руками на царский посох, он не отрывал взгляда от миниатюрной страны, раскинувшейся у его ног. – Перед тобой Персия и государства, которые ее окружают. Мне говорят, что там, где они заканчиваются, находится край земли. Но ни один из говорящих не видел это собственными глазами. Разве тебе не хочется побывать на краю земли, Артабан?
Под сводами царских покоев раздался смех Дария. Насмешливо посмотрев в сторону брата, он продолжил:
– Приближенные ко мне сановники уже который месяц распускают слухи о том, что я хочу отомстить скифам за их давние походы в земли, которые сейчас принадлежат мне[3]. Они так стараются, что многие, в том числе и ты, поверили в это. С таким же успехом я могу высечь мумию нашего дяди, который отстегал нас в детстве за украденные из его сада финики. Истинной целью нашего похода, Артабан, будут колонии греков в их северных пределах. Подчинив себе Фракию и Скифию, мы отрежем этих высокомерных греков от земель, которые поставляют им хлеб, скот и рабов. Земля Эллады скудна и грекам с нее не прокормиться. Им придется признать нашу власть и склонить колени перед повелителем всех царей.
С этими словами Дарий ударил концом посоха в то место карты, где находились земли загадочной Скифии, так, что вода, наполнявшая реки, вышла из берегов, а берег моря с расположенными на нем городами греков обрушился в морскую пучину…
Наступила весна 514 года. В город Сузы, где собиралась армия персов, все прибывали и прибывали новые силы. Наконец наступил тот момент, когда в городе и его окрестностях не осталось и клочка земли, где можно было бы поставить даже самый малый военный шатер, а в стойлах для лошадей места, чтобы втиснуть туда даже самого худого мула. Дарий отдал приказ выступать, и многотысячная армия двинулась в сторону фракийского Босфора, где по приказу царя был построен мост, способный выдержать не только пешие колонны воинов и вес многочисленных колесниц, но и тяжесть боевых слонов.
Балдахин, в котором находился Дарий I Гистасп Ахеменид, вынесли на берег пролива. Приказав носильщикам остановиться, он ступил на каменистый берег и огляделся. Греческий зодчий Мандрокл Самосский свое обещание выполнил. Выбрав самое узкое место в проливе, он попарно соединил несколько сотен больших кораблей, перебросив через их палубы деревянный настил из толстых бревен кедра и дуба. Украшенные знаменами и штандартами массивные перила делали движение по мосту безопасным.
Повернувшись в сторону свиты, Дарий отыскал глазами Мандрокла и подал ему знак приблизиться. Согнувшись в поклоне и не смея поднять глаз на повелителя, зодчий подошел к Дарию и упал перед ним на колени.
– Встань, грек, – мельком взглянув на Мандрокла, произнес царь персов. – Тебе нечего бояться – ты хорошо сделал свою работу и будешь достойно вознагражден за это. Твое имя будет высечено на камне рядом с моим, и эти камни будут установлены на этом месте, где мы сейчас стоим. А сейчас отправляйся впереди моего войска и возведи такую же переправу через Истр[4]. Мне не терпится набросить аркан на шеи этих варваров еще нынешней весной.
Мандрокл не подвел своего господина и на этот раз. Пока войско Дария двигалось по землям Фракии, зодчий соорудил такой же мост и через Истр. После Босфорского пролива для грека это было детской забавой. Чтобы ускорить переправу, пешим воинам и кавалерии было приказано переправляться через реку вплавь. А по мосту нескончаемым потоком двигались боевые колесницы и обоз многотысячной армии.
Пересев в седло, Дарий с нетерпением пришпорил коня. Бескрайние просторы степи манили, а запахи весенней травы пьянили царя всех царей. Его не покидала мысль, что мост, по которому он перешел Истр и который остался далеко позади, был связующей ниточкой между двумя мирами. Своим и Чужим. Живым и Мертвым. Перейдя этот мост, все оказались в другом мире. С интересом оглядываясь вокруг, он вдруг обнаружил, что величие и мощь его армии затерялась в просторах и травах степи. Не стало слышно грозной поступи его воинов и грохота боевых колесниц, а затянутые в кожу и пластинчатые панцири всадники исчезли в траве, которая местами доходила до самого брюха их лошадей; яркие одежды некоторых его воинов и сановников на фоне зелени трав и цветов смотрелись пестро и безвкусно. Звезды, небо, облака, воздух, запахи – всё было настолько чужим и непривычным, что самому лучшему царю и самому прекрасному из людей – Дарию, сыну Гистаспа, царю персов и всего мира, становилось в этой степи одиноко и неуютно.
Копыта его коня окутали тонкие полупрозрачные нити ковыль-травы, а в нос ударил горький запах полыни. Спешившись, Дарий сорвал несколько стебельков с листьями серебристого цвета и долго держал их в руках. Никакие ароматы благовоний, которыми слуги каждое утро умащивали его бороду и тело, не смогли перебить этот терпкий запах. Дарию вдруг подумалось, что, наверное, запах этой травы – это запах его врага, который обитает в этих степях. От одной этой мысли ему стало неприятно, и он с отвращением бросил листья полыни на землю. Легкое дуновение ветра подхватило их и бережно опустило на зеленый ковер степных трав.
А Иданфирсу, царю скифов-кочевников, этот запах был привычен и дорог. Это был запах его родины. Он был везде – в молоке кобылиц, которых доила его мать; в шкурах одежд, которые шили ему его женщины; в гривах лошадей, табуны которых паслись на земле его предков.
В последнее время к терпкому запаху полыни прибавился запах Смерти. С тех пор как гонец от скифов, земли которых располагались на другом берегу Борисфена[5], принес известие, что войско персидского царя перешло Истр, этот запах становился все сильнее и сильнее.
«Дарий в степи» – с такой вестью помчались в разные концы Скифии гонцы от Иданфирса. Перед лицом грозящей опасности он призвал царей других скифских племён объединиться и дать достойный отпор незваному гостю. Сегодня должна состояться их встреча. Слуги Иданфирса доложили, что не все вожди племён откликнулись на его призыв. «Ничего, – размышлял скифский царь. – До вечера еще далеко, а кони у них хорошие – еще подъедут».
Вечером, когда Иданфирс вошел в шатер, он понял, что ошибся. На почетных местах сидели вождь будинов Таксакис и Скопасис – вождь савроматов. Места для вождей других скифских племён – тавров, агафирсов, невров и меланхленов пустовали. Не скрывая раздражения, Иданфирс приказал убрать золотые чаши, приготовленные для них.
– Не думал я, что некогда единая Скифия перед лицом опасности превратится в разодранную шкуру овцы, а ее отважные сыновья в упрямых баранов.
– Не говори так, Иданфирс, – возразил ему Таксакис. – Мы с тобой немало повидали на этом свете. С каждым прожитым годом солнце на небосводе движется все быстрее и быстрее, женщины становятся на одно лицо, пальцам все больше хочется обнимать чашу, чем рукоять меча, а взгляду ласкать взором внуков, чем смотреть в глаза врага. Это ты со своим народом продолжаешь кочевать по степи, как клочок высохшей травы. А они все больше тянутся к земле. Каждому свое – тебе меч Колаксая, им – плуг и ярмо Липоксая, кому-то – чашу Арпоксая[6].
– Судя по твоим мудрым речам, Таксакис, чаша Арпоксая досталась тебе. – Иданфирс присел рядом со своими соратниками.
Какое-то время они наслаждались горячим мясом, соленым сыром и прохладным кобыльим молоком. Поговорив о небывалом приплоде в табунах и обсудив родившегося с огненно-рыжей гривой жеребенка, они вновь вернулись к разговору о войне с Дарием.
– Персы, как саранча, медленно, но уверенно приближаются к Борисфену. Еще несколько дней и их взорам предстанут его крутые берега и прозрачные воды. – Скопасис, земли которого начинались сразу за Борисфеном, с возмущением ударил кулаком себя по колену. – Они уже несколько дней и ночей топчут нашу землю, а мы спокойно наблюдаем, словно нам до этого нет никакого дела! Чего мы ждем? Завтра они придут сюда, мы погрузим женщин, стариков и детей на повозки, сами на коней и айда в степь? А что будет с могилами наших предков?[7]
– Не горячись, Скопасис. – Слова Иданфирса прозвучали тихо, но уверенно. – Мы не сомневаемся в твоей смелости и доблести твоего народа. У вас еще будет возможность доказать это в бою. Я уже отдал приказ, чтобы жрецы убрали идолов с могил наших предков и хорошенько спрятали все наши святилища. Мы сделаем все для того, чтобы сандалии персов не осквернили священных для нас земель и они прошли бы их не останавливаясь. Нас мало и, если вступим в открытый бой с персами, нас ждет одна участь – погибнуть и стать героями. Но что будет после этого с нашей землей? Поэтому с Дарием и его войском мы поступим так…
До поздней ночи цари Скифии обсуждали план, предложенный Иданфирсом. Убедившись в том, что каждый правильно понял задачу, стоящую перед ним и его народом, Иданфирс пригласил гостей выйти из шатра.
Их лиц коснулась утренняя прохлада, их легкие наполнились свежим воздухом, а звенящая тишина плотной пеленой окутала царей Скифии. Степь еще спала своим по-весеннему чутким сном, и только тихие голоса дозорных и приглушенное ржание их лошадей нарушало этот вечный покой. Светлая полоска, появившаяся на востоке, предвещала скорый рассвет, а плач ребенка в невидимой повозке – новую жизнь.
Иданфирс провел своих гостей к площадке, где все было готово к клятве своим предкам. Возле пылающего огня на высокой треноге была установлена глиняная чаша, наполненная вином. Достав из ножен короткий меч-акинак, Иданфирс надрезал себе ладонь, и несколько капель его крови смешались с вином в чаше. Затем он протянул оружие Таксакису, который точь-в-точь повторил все его действия. Ни один мускул не дрогнул на лице Скопасиса, когда он разрезал себе ладонь и выдавил из нее капли своей крови. Появившийся из темноты жрец опустил в чашу акинак, секиру, копье и несколько стрел. Снова отступив в темноту, он повернулся лицом в сторону пробуждающейся зари и затянул длинную песнь заклинаний. Стоящие вокруг чаши цари Скифии несколько раз подхватывали их. После этого жрец снял чашу с треноги и протянул ее Иданфирсу. Сделав несколько глотков, он передал священный напиток Таксакису и Скопасису. Клятва гестиям – духам предков, которая проводилась только в особенных случаях, была совершена.
С первыми лучами солнца участники военного совета разъехались. Таксакис направил своих лошадей на север, Скопасис – на восток. Иданфирс, во главе отряда своих воинов, устремился навстречу врагу. Ему не терпелось приступить к осуществлению плана, который он сам же и предложил своим побратимам. Прибыв в расположение самых западных кочевий своего народа, которые находились на правом берегу Борисфена, он распорядился всем племенам и семьям забрать с собой все имущество до последней веревочки, весь хлеб до последнего зернышка, весь скот до самого немощного жеребенка и уходить в сторону священной реки. По пути они должны были сжечь все пастбища, оставшиеся у них за спиной, и, в последний раз набрав прохладной воды из родников, засыпать их землей и завалить камнями.
– Сделайте так, как я сказал. Пусть ваша рука не дрогнет, нанося раны родной земле. Победим персов, и у нас будут новые пастбища, мы засеем новые поля и выроем новые колодцы, – говорил Иданфирс, глядя в растерянные глаза своих соплеменников.
О том, что вблизи персидской армии появились скифы, Дарий узнал уже на следующий день. Выйдя из шатра к завтраку, он сразу же почувствовал едкий запах гари, а на горизонте заметил поднимающиеся вверх клубы дыма. Ничего не сказав, он подставил ладони под тонкую струйку воды, которую выливал ему на ладони из серебряного кувшина слуга. Вода была теплой. Убрав ладони, Дарий посмотрел в сторону прислуги. Те побледнели и попадали на колени.
– Прости нас, господин. Это вчерашняя вода. Источник, из которого нам всегда ее доставляли, этой ночью был засыпан. Мы ищем виновного, и он будет наказан.
Недовольно поморщившись, он приказал подать ему завтрак в шатер и вызвал к себе Артабана. С самого начала похода брат находился всегда рядом с Дарием. После беседы в покоях царя он стал его верным помощником и ярым сторонником войны со скифами.
– Ты можешь объяснить, что происходит? – спросил Дарий у вошедшего в шатер брата. – Вместо того чтобы строить войско и готовиться к битве с варварами, я вынужден дышать этой мерзостью и умываться водой с головастиками.
Артабан все так же оставался у входа в шатер. Затем, словно решившись, он сделал шаг в сторону Дария и с волнением произнес:
– Я могу вызвать твой гнев, господин, но кто-то должен тебе это сказать. Сегодня утром твоя армия осталась без воды, а отряды, посланные еще вчера днем для сбора продовольствия, не вернулись до сих пор. Все родники в ближайшей округе оказались засыпанными, а дичь, которая во множестве водилась в этих краях, в один момент улетела, спряталась в норы, убежала. Мы нашли воинов, которые были посланы пополнить запас продовольствия. Они… Они… Тебе лучше увидеть это самому, царь.
Место, куда направилась процессия персидского царя, можно было определить издалека – над ним кружились стаи голодных птиц. На небольшом пригорке была навалена груда камней и хвороста, в центре которых торчал скифский меч. Его острое лезвие пронзило грудь персидского воина, распластавшегося на камнях с застывшей гримасой боли и удивления на молодом лице. Золотая рукоять акинака была украшена фигурками фантастических животных, и на какое-то мгновение Дарию показалось, что когти этих необычных зверей впились в лицо погибшего перса, а их крылья вот-вот оторвут тело жертвы от земли.
Телами его мертвых воинов был усыпан весь склон пригорка. Все они были убиты ударом меча в грудь. После этого скифы сняли у погибших скальпы, и сейчас их головы кровоточили красной сукровицей, привлекая внимание хищных птиц.
– Кто их обнаружил? – спросил Дарий, не оборачиваясь к брату.
– Отряд лидийской конницы, – ответил Артабан и указал в сторону полусотни всадников с петушиными гребнями на шлемах, расположившихся неподалеку.
– Лидийцев убить. Этих, – царь кивнул в сторону погибших, – сжечь. Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь, кроме нас, видел позор персидской армии.
Вернувшись в лагерь, он отдал приказ идти маршем и днем и ночью, до тех пор, пока скифы не будут настигнуты и уничтожены.
Этот марш продолжался несколько суток. Обоз, основная часть которого состояла из повозок, запряженных волами, безнадежно отстал. Загнанных лошадей и вышедшие из строя колесницы просто бросали на обочине. Воины питались сушеным мясом, от которого пить хотелось все больше и больше. Когда же первые отряды персов достигли берегов Борисфена, воины и животные наперегонки устремились к спасительной влаге, одни – забыв о дисциплине и строе, другие – не обращая внимания на удары плетей.
К их общему счастью, Дарий этого не видел. Балдахин с царем всех царей появился на берегах реки уже после того, как его армия утолила жажду и начала готовиться к переправе. Греческого зодчего Мандрокла с его мостами на кораблях здесь не было, поэтому переправлялись по старинке – колесницы и повозки на специально построенных плотах, кавалерию с помощью лошадей, а пехоту на наполненных воздухом бурдюках[8], в которых до этого хранили воду или вино.
Персидские военачальники, стоя на правом, высоком берегу Борисфена, до боли в глазах всматривались в равнину, лежащую на противоположном берегу, пытаясь разглядеть там скифскую конницу. Но, кроме бескрайней степи, переходящей в бездонное небо, ничего так и не увидели.
И не могли увидеть. Скифы Иданфирса, измотав войско персов пожарами и мелкими стычками, ушли на север, в земли андрофагов и нервов, увлекая за собой основные силы противника. Благодаря этому маневру, племена скифов-земледельцев, не пожелавшие участвовать в войне с Дарием, оказались в самой гуще событий и были вынуждены взять в руки оружие. При этом одни из них проклинали ненавистного Дария, другие – хитрого Иданфирса.
А на левом берегу Борисфена готовились к встрече с персами савроматы Скопасиса. Их женщины, дети и старики ушли на восток в сторону Танаиса[9], где находились их родовые кочевья. Вместе с собой они угнали самое дорогое, что только есть у кочевника – табуны лошадей и отары овец. Остались те, кто мог натянуть тетиву лука. Царь савроматов хорошо понял задачу, поставленную ему Иданфирсом на военном совете, – сделать так, чтобы сандалии персов не коснулись могил предков, а глаза не осквернили бы их даже мимолетным взглядом…
Переправившись через Борисфен, персидское войско, отдохнув и пополнив запасы воды, вновь двинулось вперед. Запах большой реки и кружившиеся над ее водной гладью чайки остались позади. Заканчивалась четвертая неделя похода, а ожидаемой решающей битвы со скифами так и не случилось. В рядах персов появился страх. Страх перед врагом, которого никто не видел, но присутствие которого ощущал каждый.
Поддавшись на уговоры своих сановников, Дарий отправил к Иданфирсу своих послов с письмом, в котором спрашивал скифского царя: «Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее – вступайте с нами в бой. А если вы слабее – пришлите вашему владыке „землю и воду“ и покоритесь». Сегодня посольство вернулось назад. Сановники стояли у шатра царя всех царей и подталкивали друг друга вперед, чтобы огласить ответ скифского царя владыке всех персов.
Восседающий на троне Дарий находился в тени опахал из страусиных перьев, которые время от времени покачивали два черных как смоль эфиопа. У его ног распластался прирученный гепард, жадно раскрывающий свою пасть и страдающий от жары так же, как и все, кто принимал участие в церемонии встречи послов. Наконец, от группы сановников отделилась фигура, которая на негнущихся ногах сделала несколько шагов вперед. Втянув голову в плечи и с трудом сдерживая дрожь в руках, посол еле слышным голосом огласил ответ скифов: «Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор». В этом месте у посла перехватило дыхание и последние слова, сказанные в послании, услышали не все: «Ответил тебе Иданфирс, потомок Спаргапифа, который топтал Азию». Едва была произнесена последняя буква, как посол рухнул перед своим повелителем без чувств. Бросившиеся к нему слуги развели руками – посол умер от разрыва сердца.
«Ты, несчастный, даже не представляешь, как тебе повезло», – подумал об умершем Артобан, глядя в спину удаляющегося в шатер брата. Так Дария еще не оскорблял никто. И главное, чьи это были слова? «Доитель кобылиц», как называли Иданфирса персы. Самое печальное было в том, что царь всех царей не мог наказать своего обидчика. Разве можно наказать ветер?
Первыми почуяли беду мулы, которые тащили на себе поклажу в обозе персидской армии. Упрямые животные остановились и подняли такой рев, что распугали в округе все живое. Затем стали проявлять беспокойство кони – всхрапывая, они закусывали удила и норовили повернуть назад, не обращая внимания на туго натянутые поводья. Потом забеспокоились и люди, особенно те, которые находились в передовых отрядах персидской армии. Сначала они услышали шум, как будто это огромный табун лошадей мчался им навстречу.
– Скифы! Приготовиться к бою! – раздались команды военачальников.
Привычная и годами натренированная армия моментально приготовилась к столь долгожданной битве. Шум становился все громче и… На замерших в напряжении персов хлынула лавина грызунов. Полевые мыши, суслики, хомяки и другие мелкие обитатели степей волна за волной накатывали на армию персов. Не успели воины стряхнуть с себя всю эту нечисть, как степь выплеснула на них табуны диких лошадей, сотни лисиц, зайцев и волков. Стаи птиц проносились над головами растерявшихся воинов, цепляясь обгоревшими крыльями за острия копий и шишаки шлемов.
А затем показалось то, что гнало впереди себя степную живность. Пламя. Высотой в человеческий рост, оно, словно живое, гудело, перекатывалось, сыпало искрами и, пожирая все вокруг, стремительно приближалось к армии персов. Жар был настолько силен, что бороды и длинные волосы многих воинов сначала начали дымиться, а потом вспыхнули, как стога прошлогоднего сена.
Армию спасли греки из Ольвии, которые сопровождали персов в качестве проводников. Они не раз наблюдали пожары в степи и знали, как ведут себя в таких случаях скифы. Отступать назад смерти подобно – степь большая и пламя всегда найдет, чем в ней «прокормиться», особенно в летнее время. Поэтому, встретившись лицом к лицу с огнем, скифы не убегали от него, а, наоборот, смело шли в самое пекло, стараясь как можно быстрее проскочить опасные участки. По совету проводников сначала кавалерия, а затем и пешие воины, пересилив страх и ужас, один за другим «ныряли» в клубы огня и дыма, стараясь как можно быстрей пересечь огненную преграду.
Часть колонны, в которой находились «бессмертные»[10] и сам Дарий, вместе с обозом обошли огненный фронт, взяв правее и форсировав Геррос[11] чуть ли не у берегов Меотиды[12].
Скопасис ликовал. Он выполнил поручение Иданфирса – сандалии персов лишь слегка прикоснулись к священной земле предков и то, быстро убегая из огненной ловушки, которую устроили им савроматы. При этом им некогда было озираться вокруг и их презренные глаза так и не увидели могил предков, расположенных в этой части степи.
– О, великий Папай и могущественный Арей! – поднял вверх руки, обращаясь к богам, Скопасис. – Я благодарю вас за то, что вы не отвернулись от меня и не оставили мой народ в беде. Вы закрыли глаза нашим врагам, и они прошли мимо могил наших предков. Примите эту жертву и отпразднуйте победу вместе с нами.
После этих слов своего царя жрецы задушили десяток лошадей, а воины окропили кровью захваченного в плен перса короткий меч, воткнутый в кучу хвороста. Отпраздновав победу, Скопасис отправил к Иданфирсу гонца с посланием, в котором было всего лишь одно слово: «Пора».
Стоя на берегу очередной реки, Дарий попросил привести к нему проводника из ольвийских греков.
– Послушай, эллин, – обратился к нему царь. – Мое войско находится в походе почти два месяца, а конца и края этой равнине все нет и нет. Как же тогда эти разговоры о Скифии, которая находится на краю земли? И что это за река, на берегу которой находится лагерь моего войска?
Уже немолодой грек оказался не из робкого десятка. Он попросил принести ему пару мешков песка, высыпал их у ног Дария и, взяв у телохранителя копье, стал выводить непонятные для всех линии.
– Смотри, мой господин. Вот Истр, через который ранней весной переправились твои войска. Вот другие реки, оставшиеся у тебя за спиной. Вот берег Меотиды, вдоль которого мы идем последние недели. Позади нас осталась река Оар[13], а перед тобой несет свои воды Танаис. Дальше этого места я не ходил, но слышал, что там находится большая пустыня и неприступные горы.
Дарий долго смотрел на карту, нарисованную греком, а затем спросил:
– Сколько дней пути до этих гор?
– Не знаю, великий царь. Только осмелюсь сказать – скоро в этих местах наступит зима. Она совсем не такая, как на твоей родине. Сначала с неба будет литься холодная вода, которая начнет превращаться в прозрачные кристаллы, а потом с неба упадут белые перья. Они покроют эту равнину таким слоем, что лошади не смогут найти себе травы для пропитания. Но самое страшное – это холодный ветер, от которого невозможно будет найти укрытие и который за одну ночь превратит твоих воинов в ледяных истуканов.
Грек замолчал, не смея поднять глаз на царя. Молчание Дария затянулось, и когда он сделал шаг в сторону грека, тот втянул голову в плечи и закрыл глаза. Царь персов снял с руки золотой браслет и протянул его проводнику:
– Возьми, грек. Это тебе за честность.
После этого разговора Дарий несколько дней не выходил из своего шатра. Артобан пытался попасть к брату, но всякий раз натыкался на сомкнутые копья «бессмертных». На третий день царь сам пригласил его к себе. Войдя в шатер, Артобан застал брата за странным занятием. Восседая на своем троне, он внимательно рассматривал предметы, лежащие перед ним. Это были мертвые мышь, лягушка, птица и пять наконечников от скифских стрел. Рядом стояли ближайшие сановники повелителя, лица которых выражали радость, удивление и растерянность одновременно.
– Посмотри, Артобан, на подарки, которые мы сегодня получили от скифов. – Дарий кивнул в сторону странного набора предметов, на которые были направлены взоры всех присутствующих. – Их доставил гонец Иданфирса. Я приказал его казнить, но перед смертью этот варвар сказал, что если вы, персы, умные, то поймете, что хотел сказать мой царь.
Дарий кивнул одному из сановников, и тот, поклонившись царю царей, торжественно произнес:
– Разум доителя кобылиц Иданфирса прояснился, и этим странным на первый взгляд посланием он признает власть царя царей Дария I Гистаспа из рода Ахеменидов властителем над Скифией и над ним, презренным. Мышь и лягушка – это земля и вода скифов, птица – это их кони, а пять наконечников стрел – это их оружие на службе Персии.
Другие сановники многозначительно закивали, и в шатре раздался одобрительный гул их голосов.
– Что скажешь, Артобан? – Дарий бросил быстрый взгляд на брата.
Артобан подошел ближе и, посмотрев на мертвых животных, взял в руки наконечники стрел. Они были одинаковы только на первый взгляд, но, если внимательно присмотреться, каждый из них имел какую-то характерную особенность. У одного, к примеру, втулка была массивней, чем у других. У второго был длиннее боковой шип, у третьего шире лопасти. Почему наконечников именно пять, а не шесть или семь? Сколько племён скифов воюет против нас?
– Мне кажется, эти предметы означают что-то другое, – задумчиво сказал Артобан. – И я знаю, кто нам может помочь с этим разобраться. Давайте покажем эти предметы проводнику из Ольвии.
Старого грека разыскали быстро. Он так же, как и Артобан, долго рассматривал наконечники стрел, но в отличие от него, уделил внимание и мертвым животным. У птицы он расправил крылья, у лягушки поднял полупрозрачное веко, провел ладонью по короткой шерстке мыши-полевки.
– Я надеюсь, старик, что ты будешь так же честен, как и в прошлый раз. – Голос Дария заставил проводника вздрогнуть. – Как, по-твоему, что означают эти предметы?
– Тебя, царь, предупредили, – к удивлению Артобана, голос грека звучал спокойно. – Если вы, персы, как мыши, не спрячетесь в землю, не уйдете в воду, как лягушки или как птицы не подниметесь в небо – то все вы погибнете от скифских стрел.
У сановника, который недавно предвещал персам победу, от страха застучали зубы. В наступившей тишине это было хорошо слышно. Все затаили дыхание. Дарий какое-то время продолжал смотреть на грека, будто ожидая от него продолжения рассказа, и поняв, что этого не будет, устало махнул рукой. Толкая друг друга, сановники бросились к выходу. После них вышел грек, не понимая, почему его слова вызвали такую реакцию у царя и у вельмож.
Выйдя к берегам Танаиса, воины Скопасиса повернули на север, где их ждали отряды Иданфирса и Таксакиса. Об этом объединении вражеских сил стало известно персам. Искушенные в битвах военачальники Дария сразу же увидели опасность, которая нависла над их войском. Если скифы решатся на атаку, то могут прижать их армию к берегам Меотиды, чем лишат ее маневренности и возможности для контратаки. По приказу Дария они начали возводить земляные укрепления, которые протянулись от реки Оар до Танаиса.
– Свершилось! Свершилось! – с этими криками молодой скиф, один из тех, кто наблюдал за действиями персов, примчался в лагерь Иданфирса. Соскочив с коня, он приблизился к своему царю.
– Твое послание персам начинает сбываться – одни из них, как мыши, зарываются в землю, другие, познавшие жажду в жаркой степи, не отходят от пресных вод Танаиса.
Довольный этой новостью, Иданфирс собрал военный совет. На этот раз план дальнейших действий предложил Таксакис.
– Гордый Дарий пришел к нам воевать, а вместо этого мы заставили его бегать по степи, удостоив его великой чести лицезреть хвосты наших лошадей. Силы персов на исходе, но они по-прежнему сильны духом. Мы заставим их усомниться в своей силе. Мы превратим эту силу в их слабость. Мы покажем им, какова сила духа у сынов Скифии.
Уже через несколько дней мечта персов сбылась. Они увидели народ-призрак, конные лучники которого открыто приблизились к армии Дария. Раздались протяжные звуки труб, и персидские воины выстроились в боевые порядки. Несмотря на многодневный, выматывающий все силы переход, персидская армия предстала во всей своей красе и силе. В центре выстроились победители вселенной – персы. На фоне тёмно-красных одежд и щитов чернели их пышные бороды и длинные волосы, схваченные золотыми обручами. Справа и слева от них расположилась конница аравитян, лидийцев и гордых сынов Бактрии. Колесницы мидийцев, египтян и ассирийцев, изготовленные из красного дерева, были украшены золотом, серебром и слоновой костью. К их колёсам были прикреплены сверкающие косы, приготовившиеся собрать свою смертельную жатву. Черные как ночь нубийцы и косматые бактры наводили ужас только одним своим видом.
Оглядев свое войско, Дарий остался доволен. Сжимая в руке копье, он вновь почувствовал себя покорителем вселенной, самым лучшим царём и самым прекрасным из всех людей.
Громкие крики и резкие возгласы, раздавшиеся со стороны скифской конницы, отвлекли его от приятных мыслей. По узкой полоске степи, разделившей приготовившихся к битве воинов, огромными скачками мчался заяц. Прижав длинные уши к спине, испуганное животное металось из одной стороны в другую, пытаясь найти выход из длинного коридора, состоящего из людей и лошадей. То, что произошло дальше, поразило персов и их царя. Ровный строй скифских всадников вдруг распался, и все бросились ловить зайца. С гиканьем, улюлюканьем и свистом они свешивались до самой земли, пытаясь ухватить заячьи уши. Не обращая никакого внимания на персов, скифы проносились настолько близко к их рядам, что Дарий хорошо видел их веселые глаза и разгоряченные охотой лица.
Погоня затягивалась, и в рядах персов стал слышен ропот. Они растерянно переглядывались, а головы командиров дружно повернулись в сторону своих военачальников. Такого развития событий никто не ожидал. Похоже, что скифы и не собирались вступать в битву. Их луки болтались у них за спинами, колчаны со стрелами были закрыты, а мечи так и остались в ножнах. Сообразив, что спастись он может, только выскользнув из этого живого коридора, заяц что есть мочи рванул в степь. Добыча ускользала из их рук, и скифы ринулись догонять зверька. Через несколько мгновений только удаляющиеся крики да небольшие клубы пыли напоминали о том, что здесь были скифы…
Такого унижения Дарий не испытывал никогда. В эту же ночь, взяв с собой телохранителей и поменяв в обозе волов на лошадей, царь царей отправился в обратный путь. В лагере персов продолжали гореть костры, стонать раненые, перекликаться дозорные. Только их повелителя рядом с ними уже не было.
Хвала богам! Царя царей не подвели верные ионийцы, и, переправившись с их помощью через Истр, он через некоторое время был у себя на родине. Во дворце шли приготовления к празднику по случаю завершения похода. Народ прославлял царя, который пересек страну скифов, дошел до края земли и благословенный богами, живой и невредимый вернулся домой.
Слуга подал Дарию кафтан, который повелитель захотел надеть по случаю такого события. Надевая его, царь уловил горький запах полыни, который сопровождал его на протяжении всего похода. Перед глазами Дария промелькнула переправа через Истр, его первые дни в степи, пригорок с телами принесенных в жертву персов, лицо старого грека-проводника. Из-за обшлага кафтана выпала сухая веточка степной травы. Отшатнувшись от нее, как от змеи, Дарий долго смотрел на серебристую полоску, а затем с ненавистью стал топтать ненавистную траву, запах которой будет преследовать царя царей до конца его дней.
Святослав Игоревич
Святослав Игоревич (942–972) – князь Новгородский, князь Киевский. Формально правителем Киевской Руси стал в трехлетнем возрасте (945), после трагической гибели своего отца, князя Игоря Рюриковича. Однако, учитывая малолетний возраст Святослава, фактически Киевской Русью правила его мать – княгиня Ольга. Не исключено, что свое детство малолетний князь провел в Новгороде. Воспротивившись воле матери, которая приняла христианство, Святослав остался язычником.
Полноценным правителем Киевской Руси он стал в 959–961 годах. В 964 году Святослав осуществил один из своих первых военных походов, пытаясь покорить славянское племя вятичей. Впервые о киевском князе, как о выдающемся полководце, заговорили после 965 года, когда он разбил войско Хазарского каганата и захватил в Нижнем Подонье их крепость Саркел. В последующие три года (966–968) Святослав покоряет хазарскую столицу, расположенную в устье Волги – город Итиль и один из крупнейших городов хазар – Семендер, находившийся на побережье Каспийского моря. Под ударами русичей Хазарский каганат прекращает свое существование.
В 968 году войско Святослава принимает участие в военном конфликте между Болгарией и Византией на стороне Империи. После разгрома болгар обосновался со своей дружиной на Дунае, в Переяславце, планируя сделать этот город новой столицей Киевской Руси. В 968–969 годах Святослав срочно возвращается в осаждённый печенегами Киев и отбрасывает кочевников в степь. В 970–971 годах, уже в союзе с болгарами, венграми и печенегами, нападает на владения Византии во Фракии. В битве под Аркадиополем основные силы Святослава были разгромлены. Русичи укрылись в крепости города Доростола, и Святослав предложил византийскому императору мир, при условии, что его дружина беспрепятственно покинет пределы Болгарии. На обратном пути в Киев, в районе днепровских порогов, часть дружины русичей попала в засаду, организованную печенежским ханом Курей, и Киевский князь Святослав погиб.
…Весна в этом году была ранняя. Казалось, не яркое и еще не проснувшееся после зимней спячки солнце будет долго ласкать своими нежными лучами белоснежные сугробы, оставшиеся после долгой и холодной зимы. Ан нет. Зимобор[14] взял свое быстро. Снег таял на глазах, и вскоре многочисленные малые речки и ручьи понеслись в Данапр[15], превратив его и без того стремительные воды в один ревущий поток.
В эту пору года переправляться через реку, и тем более – плыть супротив течения, осмелился бы не каждый. Святослав осмелился. Как не уговаривал его воевода Свенельд идти до Киева «на конех», молодой князь все же настоял на своем и, погрузив на ладьи малую дружину, выступил в родные края по воде. «Пока кони по весенней распутице станут грязь месить, мы на веслах поднатужимся и через пару-тройку дней будем в Киеве» – так думал Святослав, провожая Свенельда во главе конной дружины русичей. А уже поутру, еще раз проверив, надежно ли закреплен груз, достатно ли взято провизии и воды, киевский князь отдал команду «На весла!». Скинув с себя плащ, Святослав остался в одной рубахе и, закатав рукава, взялся за одно из вёсел на головной ладье. «Ух! Ух!» – понеслись над водной гладью реки возгласы гребцов, задающие нужный ритм всей княжей флотилии. Забурлила за бортом вода, полетели в разные стороны брызги, окатывая своей прохладой разгоряченные спины дружинников. Попервах ладьи шли наперегонки, потом чинно выстроились друг за дружкой, а ближе к вечеру растянулись так, что некоторых пришлось подгонять окриком. Все-таки сказывалась голодная зима, да и с течением побороться спозаранку и до вечоры, опять же, дело сурьезное. И все одно молодцы – за день на веслах отмахать столько, сколько купеческие караваны два дня идут – не шутка.
Крепко ухватившись за кормило[16], Святослав привстал на скамье, пытаясь рассмотреть в опустившихся над рекой сумерках Хортичий остров[17]. По всем приметам на берегу, он бы уже должён быть.
– Зевало не разевать. Смотреть в оба! – наказал князь. – Прозеваем – и лоб расшибем и лодьи погубим.
И все одно серые скалы Хортичьего острова вынырнули из сумерек перед самым носом первой ладьи. Хорошо гребцы ученые – выставили весла напередки и сумели упереться. То, что пару вёсел в щепы и ребра захрустели – не беда, бывало и хужей.
Причалив, князь отдал приказ отдыхать, но при этом костров не разжигать и от берега далеко не уходить. Это он так – для пущей надёги, всё ж таки по обоим берега Данапра простиралась Пачинакия[18]. Что за людишки эти печенеги, его дружинники хорошо знали: и в союзниках успели с ними походить, и в бою стыкались не один раз. Именно эти поганцы о прошлом годе специально поджидали дружину у Хортичьего острова. Знали нечистивые, что с богатой добычей возвращаются русичи из дальнего похода. Одних только откупных от Византии было получено 15 кентинариев золотом[19], не говоря уже о трофеях, добытых в богатых городах Болгарского царства. Прознают поганые, что дружина сызнова на Киев путь держит – не отвяжутся, пока не получат своих подарков. А подарков они потребуют – будь здоров! Ладьи враз наполовину полегчают.
Именно из-за трофеев Святослав и выбрал водный путь. Знал, что опасно, но как по-другому? Не везти же все это верхи! Это ж сколько лошадей для этого дела понадобится? Да и печенеги народ конный – разденут, разуют, да еще и в рабство продадут. Князь рассчитывал, что выступившая «по суху» конная дружина Свенельда отвлечет на себя внимание печенегов, а он в это время вместе с малым количеством русичей незаметно минует грозные пороги Данапра, а там уже по чистой водице не догонят.
Дождавшись, покуда лагерь угомонился, Святослав, прихватив с собой переметную сумку, направился вглубь острова. Несмотря на темноту, князь уверенно шел по еле заметной тропинке, хорошо зная, что все дороги на Хортичьем острове ведут к одной поляне, где растет Дерево. Дерево русичей, посаженное еще до сотворения мира, когда не было ни земли, ни воды, а один только море-окиян.
Добравшись до опушки рощи, Святослав остановился: «Негоже, чтобы Перун увидел его запыхавшегося и второпях». Переведя дух, киевский князь степенно вышел на поляну, посреди которой рос огромный дуб. К зиме дерево растеряло всю свою листву и ночью, на фоне темного и стылого неба, выглядело огромным великаном, вросшим по пояс в землю и подпирающим огромный небосвод своими могучими руками. Их у «великана» было несчесть – каждая его ветвь имела множество отростков, а те еще и еще. Ночная птица, потревоженная шагами Святослава, взлетела с одной из веток дуба, медленно сделала круг в небе и снова опустилась на крону дерева. «Хороший знак», – сразу приободрился князь и подошел к стволу священного дуба почти вплотную.
Внизу кора дерева потемнела от копоти костров и крови животных, которых русичи приносили в жертву Перуну уже десятки лет. Немного выше из необъятного ствола дуба торчали клыки диких вепрей, убитых в честь главного божества язычников. Поклонившись своему покровителю, Святослав достал из сумки живого петуха и резким движением меча перерезал птице горло, направив струю крови, которая ударила из раны, на ствол дуба. Затем он поднес еще трепыхавшуюся в руках птицу к своим губам и сделал несколько жадных глотков.
Положив тело петуха у основания дуба, князь преломил над убитой им птицей две стрелы и с силой воткнул их в землю. Преклонив колено, Святослав на какое-то время замер и прислушался. И тут же раздался крик ночной птицы, все это время смело сидевшей на дереве. Ухнув несколько раз, филин расправил крылья, и, оттолкнувшись от ветки дуба, поднялся в ночное небо, но никуда не улетел и продолжал кружить над поляной, над священным деревом, над Святославом.
«Что ты хочешь мне поведать, мудрая птица?» – подняв к небу глаза, прошептал князь. А потом филина не стало. Птица будто растворилась среди низких облаков, и сколько не всматривался в небо Святослав, так и не понял, куда она подевалась.
Встав, и еще раз склонив голову перед священным деревом, князь направился в сторону лагеря, но, не доходя до него, резко свернул в сторону. Пропавшая в небе вещая птица не давала ему покоя. Куда подевался филин? Что за знак посылал ему вместе с этой птицей всемогущий Перун?
В этой стороне берег Хортичьего острова резко обрывался в Данапр высокими, покрытыми мхом и лишайниками скалами. Встав на одну из них, Святослав подставил лицо влажному ветру, дующему со стороны реки. Выглянувший из-за туч месяц осветил коренастую фигуру князя. На его гладко выбритой голове свисал в одну сторону длинный клок темных волос, а концы густых усов опускались к самому подбородку. В мочке уха сверкала золотая серьга, украшенная красным карбункулом[20] в обрамлении двух белоснежных жемчужин.
Киевский князь вновь обнажил свой меч. Но на этот раз жертвой был он сам. Приложив к острому лезвию ладонь, Святослав сделал на ней надрез и окропил клинок своей кровью. Затем поднял его над головой и со словами: «Тебе – всю, врагу ни капли» – бросил меч в темные воды Данапра.
В лагерь русичей Святослав вернулся уже под утро. Увидев его, стоявший в дозоре дружинник чуть не выронил копье:
– Что с тобой, княже? Ты же весь в кровище!
Грозно зыркнув в его сторону, Святослав направился к берегу. Сняв грязную одежду, он вошел в воду и с головой окунулся в еще холодную купель Данапра. Смыв с себя уже успевшую взяться коричневой коркой кровь, князь переоделся в чистое и, выбрав, где посуше, уселся на берегу реки, прислонившись спиной к черному стволу дерева.
Он знал, что не заснет. Да и зачем? Темнота ночи еще окутывала прибрежные скалы, деревья и воды Данапра, но приметы утренней зари уже были видны. На горизонте появилась еле заметная серая полоска восходящего Солнца, в прибрежных плавнях раздался шорох речной живности, а на поверхности ближайшего плеса пошли по воде круги, оставшиеся от удара хвостом проснувшейся и вышедшей на охоту щуки.
Течение реки в этом месте было очень быстрым. «Как моя жизнь, – подумал Святослав. – Вроде жил, а вроде и не жил вовсе». Пока жив был батюшка – великий князь Киевский Игорь Рюрикович, рос он при родителях. А опосля его смерти великая княгиня Ольга отправила сына в Новгород, вроде как княжить, а на самом деле – с глаз долой. Не хотела матушка, чтобы законный наследник Рюриковичей оставался в столице Руси Киевской. Сама хотела править. Спасибо, что не придушила. Вон, послов древлянского князя – одних в бане сожгла, а других так и вовсе – живьем в землю закопала. Меч поверх платья женского подвязала и поехала в землю древлянскую с убивцами батюшки разбираться. Разобралась – города пожгла, людишек на колья посадила.
Да и когда подрос он, все одно житья не давала. Сама крещение приняла и его хотела от веры отцов и прадедов отвернуть. Хоть и мал был княжич, а не поддался на уговоры мамкины, не предал своих побратимов, не изменил своей вере языческой. А с бабой этой, что учудила! Взяла и подложила под него свою ключницу Малушу. Напоила перед этим крепко, а потом сама им подушки пуховые и взбила. Будто он совсем дите малое и не понимает, что к чему. Да и была у него к тому времени девка – дочка одного из дружинников – Любава. Миловались они с ней, пока не узнала она про Малушу. Через пару дён Любаву утопшей из озерца тутошнего вынули.
Совсем нестерпимо ему в Киеве стало. Оттого и убегал он вместе с дружиною в далекие походы, чтобы только от матушки подале быть. Первыми, кому он отправил свое послание: «Хочу на вас идти», – были вятичи[21]. Не держал он на этот народец никакого зла, токмо путь на Хазарию через их земли проходил. А ужо на следующий год[22] довелось схлестнуться с противником посурьезней. Хазары – сила известная, однако ж не устояли они супротив напору и доблести русичей. Сначала на Дону Саркел уступили, а потом уж и до столицы черед дошел. Взял Святослав столицу Хазарского каганата город Итиль, а заодно и Семендер. Уж больно дружине хотелось в далеком море искупаться. Искупались, пыль придорожную с сапог смыли и назад возвратились. Нутром чуяли, что невзлюбил их народ тамошний, так и норовил пакость какую устроить.
А в Киеве что? Шпионы матушки ему проходу не давали, на пирах место отводилось припорожное, а на почетных местах уселись чернорясочники[23]. По праздникам от княгини всем подарки богатые – меха куньи да горностаевы, сапфиры горстями, кафтаны в золоте. А ему да его людям что? Кубок оловянный, да малахай лисий. Как такое стерпеть?
Прознал он от одного купца византийского, что совсем недалёко есть место, с виду очень похожее на родные берега Данапра, не то что пески Каспийские. Со слов купца, туда стекаются все блага земные: из Греческой земли – золото, вина, плоды разные; из Чехии и Венгрии – серебро и кони; из Руси – меха, воск, мёд и рабы. Зовётся это место Болгарским Царством. Да какая разница! Захотелось Святославу на это место глянуть. Вот по весне 967 года туда ватага княжья и двинула.
Царство это было на реке Дунае, и городов по ее берегам было не счесть. Не обманул купец византийский – любо князю стало в землях болгарских. А боле всего приглянулся Святославу городок под названием Переяславец. И не просто приглянулся – захотел князь столицу Руси Киевской перенесть на берег Дунайский, чтобы, значится, Переяславец стоял посерёдке подвластных ему земель.
Прознав об том, сильно разгневалась Ольга – говорят, посуду греческую била об чем попадя. Челядь несколько дней в палаты с оглядкой заходила. Кто знает, чем бы это закончилось, но тут к стенам Киева орда печенежская подвалила. Осадила город со всех сторон, решила горожан на измор взять. Киевляне весточку об такой проказе, конечно, князю своему отправили. Однако Дунай далёко! Пока весточка дошла, пока князь собирался, а потом еще и добирался… Короче, спромоглися земляки его город от навалы печенежской удержать. Ну а подоспевшему князю осталось только печенегов от города отогнать подале.
Осерчали на него земляки. Где это видано? Родной князь по чужим землям шастает, заставы уже тамочки обустраивает, а в родимой земле оставил на поругу печенежскую мать старую, да детей малых. Княгиня с ним даже разговаривать не захотела – глянула исподлобья, словно кипятком ошпарила, и удалилась в свои покои. Видно, сильно ее злоба захлестнула, слегла она. А через пару дён великой княгини Киевской Ольги вдруг не стало.
А что ж Святослав? Тот распорядился посадить на княжение своих сыновей – Владимира отправил в Новгород, Олега к древлянам, а Ярополка оставил в Киеве. Казнил для утехи пару-тройку чернорясочников, остальные разбежались сами. Опосля дождался хорошей погоды, сел на коня и айда обратно на Дунай в Переяславец.
Как не любо князю было в этих землях, но и здесь ему были не рады. Городские ворота Переяславца и Доростола местные жители ему так и не открыли. Пришлось Святославу показать болгарам характер княжеский и отвадить их перечить ему раз и навсегда. Ох и много же кровушки при этом утекло!..
Маленько отдохнув от трудов государственных, заскучал князь. Написал «Иду на вы» самому императору византийскому. Тот вызов принял и отправил навстречу русичам своего полководца Варду Склира. Крепким орешком оказался этот Варда. Избегая сражений, он подпустил войско Святослава почти к столице Византийской империи – Константинополю, а затем стремительной атакой не только опрокинул ряды русичей, но заставил их отступить и укрыться в городских крепостях Болгарии. Одна часть дружины укрылась в Преславе, другая в Доростоле. Византийские солдаты штурмом взяли Преславскую крепость и уничтожили большую часть русов. Осада Доростола, где находился и сам Святослав, длилась три месяца. В конце концов, Святослав принял непростое для себя решение. Он сообщил императору Византии, Иоанну Цимисхию, что готов уйти из Болгарии, при условии, что ему отдадут всех пленных и раненых русичей.
Император дал согласие, только одновременно отправил гонца к печенегам, кочевья которых располагались на берегах Данапра. Письмо, которое передал гонец печенежским ханам, было коротким: «…Князь киевский возвращается в свою отчину с малыми силами, но с великими богатствами». Однако и русичей на мякине не проведешь. Хорошо зная характер ромеев, они всю дорогу были начеку и как только заприметили всадников с обеих сторон Данапра, не стали лезть на рожон – повернули свои ладьи обратно и укрылись в Белобережье[24] на зимовку.
Ну а потом они с воеводой Свенельдом придумали хитрый план. И если всё идет так, как они задумали, то с высокого берега Данапра должна прийти весточка от верного воеводы. В предутренних сумерках мелькнул огонек. Раз, другой. Князь вскочил на ноги, с напряжением всматриваясь в сторону берега: «Неужто привиделось?» Но нет, еле заметный светлячок еще несколько раз вспыхивал и пропадал в предутренней синеве рассвета. Человек воеводы сообщил, что все идет по плану.
Забравшись в стоявшую рядом ладью, Святослав завернулся в плащ и улегся рядом с другими дружинниками. Один из них встрепенулся и, узнав князя, спросил:
– Пора, княже?
– Спи, окаянный. Кто ж на пороги по темноте идет?
А пороги вот они, туточки. В тишине шум перекатывающейся через камни выступающей из Данапра воды был слышен очень хорошо. Два из этих порогов так и прозвали – Будиловский и Звонецкий. Но особливую тревогу вызывал Ненасытец. Не было еще такого случая, чтобы эта каменная вражина пропустила через себя русичей, не забрав у них пару ладей, а то и жизнь неудачливого сородича. На всё воля Перуна, только эти каменюки завсегда старались обходить посуху, перетаскивая груз на своих плечах. Вот через эти пороги и предстояло пройти дружине Святослава.
Поутру Святослав разрешил разжечь пару костерков и приготовить на них рыбью юшку. Не гоже браться за весла, ежели живот к спине прилипает. Перекусив, дружинники поскидывали с себя кольчуги да плащи с рубахами и собрались вокруг одного из костров. Положив руки друг другу на плечи, они подняли лица к Солнцу и повели вокруг огня танец Хосра[25]. Постепенно их движения становились всё быстрее, а возгласы «Хоср! Хоср!» – все громче. В какой-то момент воины одновременно вынули из ножен свои мечи. Сомкнув их над костром в один сверкающий круг, десятки мужских глоток разом выдохнули: «Хоср-ррр!» Над водами Данапра эхом разнеслось рычание дикого зверя.
Взявшись за весла, русичи с новыми силами быстро достигли Криарийской переправы[26]. Во всей округе это было единственное место, где можно было безопасно переправиться через Данапр. После порогов стремительные воды реки успокаивались и превращались в тихую заводь. Именно сюда вели все дороги, расположенные по обеим сторонам реки. Люди, обученные военному ремеслу, знали еще одну особенность этого места – русло реки здесь сужалось настолько, что стрела, выпущенная сильной рукой из лука, запросто достигала противоположного берега, а середины реки и подавно.
Встав на носу головной ладьи, Святослав всматривался в правый, пологий берег Данапра. Неужели они с воеводой ошиблись? Но тогда кто подавал ночью сигнал?
Холодными зимними вечерами, сидя у костра на Белобережье, Святослав придумал, как перехитрить жадных до чужих богатств печенегов. Когда он поделился своим планом с воеводой, у того глаза от удивления стали круглыми, как у совы.
– Похоже, князь, ты свои мозги совсем отморозил, ежели такое предлагаешь, – с возмущением произнес Свенельд. – Где это видано, по своей воле в ловушку печенежскую свою головушку засовывать? И не думай даже!
Подождав, пока воевода малость выпустит пар, Святослав опять принялся рассказывать ему свою затею. А план у него был простой. Всеодно печенеги не отступятся и будут ждать их у порогов. Пусть думают, что золото у русичей в ладьях. Они же тайком перегрузят все добытые в Болгарии трофеи, в том числе и откупное золото Цимисхия, на лошадей, и Свенельд с большой дружиной выступит на Киев.
– Токмо не сразу, – поучал воеводу князь. – Для началу малость в степи пошатаешься, подале от берега. А когда мы на Хортичий остров прибудем, сигнал мне подашь, и я буду знать, что вы готовы. Утром я с малой дружиной на лодьях пойду к порогам. Ежели печенеги нам пакость какую готовят – все на нас кинутся безо всякой оглядки. Вот тут ты, Свенельд, и проскользнешь мимо них, аки вужик в плавнях.
– Ну а ежели не поверят печенеги? – уже не с таким азартом продолжал сопротивляться воевода. – Ежели не снимут со степи своих дозоров? Тогда как?
– Как же – не снимут! – засмеялся в ответ Святослав. – Уж тебе-то не знать про их жадность. Да они, как только прознают, что киевский князь с золотом ромейским на пороги вышел, бросят все и, как мухи на мёд, соберутся вокруг переправы.
– Ну хорошо, – не унимался воевода. – Допустим, сделаем по-твоему. Но зачем же самому-то рисковать? Нежто у нас дружинников мало?
– Э, нет! – возразил ему князь. – Чтобы у этого сучьего племени совсем никаких сомнений не осталось, нужно чтобы они меня среди дружинников на лодьях приметили.
– Да уж, не приметить такого, как ты, трудно будет, – пробурчал в ответ воевода, и Святослав понял, что его план принят.
Когда на берегу показался первый всадник, Святослав отдал команду: «К бою!» Дружинники, встав на одно колено, подняли свои щиты, прикрывая ими и себя, и тех, кто сидел на веслах. Поднял свой щит с княжеским гербом и Святослав. Пусть видят, что князь Киевский бросает им вызов: «Хочу на вас идти». Уже через короткое время на берегу собралось около сотни всадников и над головами дружинников просвистели первые стрелы. Повернувшись лицом к русичам, Святослав произнес: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим – должны сражаться. Так не посрамим земли родной, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не имут позора. Ежели побежим – позор нам будет. Так не побежим же, други, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь».
– Негоже так говорить, великий княже, – с обидой в голосе пробасил ему в ответ один из дружинников. – Мы с тобой и не в таких передрягах бывали. Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим.
Пока русичи готовились к схватке, течение реки отбросило их ладьи немного назад и приблизило к правому высокому берегу. Как только тень прибрежных скал накрыла спины гребцов, оттуда на их головы полетел град камней и стрел.
– А, разорви их поганые глотки! – раздался знакомый голос дружинника. – Княже, доколе будем терпеть выходки эти бесноватых? Командуй! Айда к берегу, погоняем этот народец. Благо их не так уж много.
Святослав и сам видел, что печенегов на одном и другом берегу не более двух-трех сотен. Наверное, это была одна орда, которая в отличие от других не откочевала в степь, а терпеливо ждала свою добычу. Особенно он обрадовался появлению печенегов на высоком берегу. «Значит, Свенельду в степи никто не помешает, – подумал князь. – Лишь бы кони выдержали – груз-то нешуточный!»
Еще раз прикинув расстояние, он дал команду гребцам развернуть ладьи в сторону берега, по которому метались всадники.
Печенеги не ожидали, что русичи осмелятся оставить свои ладьи – какое никакое, но все же – укрытие. Однако те, как только ладьи достигли берега, с криком: «Хосрррр!» – прыгнули в воду и устремились на врага.
Сказать, что была сеча, значит, ничего не сказать. Привыкшие воевать верхом, печенеги даже и не думали, чтобы спешиться. Мешая друг другу, они теснились у берега, пытаясь оттеснить русичей в воду. Те же, не обращая внимания на всадников, ловко шныряли под лошадей и коротким взмахом меча вспарывали им брюхо. Через минуты весь берег превратился в месиво человеческих тел и зловонных внутренностей животных. Крики людей и ржание несчастных лошадей заглушали друг друга, создавая единую музыку боя.
Но и печенеги знали, как воевать с русичами. Выставив впереди себя длинные копья, они по двое, а то и вчетвером нападали на одного дружинника и, одолев, поднимали его тело на пики. Один из дружинников, стоя по колено в воде, орудовал боевым топором. Толпа врагов то накатывала, приближаясь к нему, то отступала, оставляя на земле тела погибших. Удары воина были настолько сильны, что одним взмахом топора он рубил тела врагов от плеча до пояса. Отрубленные головы, руки или ноги печенегов разлетались вокруг этого богатыря, как брызги по воде. Но и его свалили печенеги. Один из них, подобравшись к воину из-за спины, отсек ему сначала саблей руку, а потом раскроил череп на две половинки.
Святослав бился вместе со своим воинами. Отбросив в сторону щит, он одним из первых прыгнул с ладьи на берег и стал прокладывать дорогу своим побратимам. В одной руке у него был меч, в другой – длинный боевой нож. Одновременно орудуя обеими руками, Святослав не оставлял ни одного шанса любому, кто стоял на его пути.
Скольких врагов в этом бою положил Киевский князь и как погиб он сам – никто не ведает. Через некоторое время шум битвы стал затихать, русичей становилось все меньше и меньше. Наконец, последний из них затих под ударами печенежских сабель. Малая дружина Святослава сложила свои головы у каменистых порогов Данапра…
Не обращая внимания на промокшую одежду, от одной ладьи русичей к другой метался печенежский хан Куря. Его глаза были полны растерянности и гнева.
– Где трофеи? – кричал он. – Где золото румеев?
В окованных железом сундуках, которые стояли промеж сидений для гребцов на ладьях русичей, были одни камни. Поняв, что его обманули, Куря в бессильной злобе сжал кулаки. В это время к нему приблизился один из печенежских воинов:
– Хан! Мы нашли тело киевского князя и выполнили твой приказ.
С этими словами он бросил к его ногам отрубленную голову Святослава. Лицо погибшего князя было спокойным, глаза были открытыми, а на устах играла презрительная улыбка.
Земля незнаема
(Одна из версий событий похода князя Игоря Новгород-Северского в Половецкую Степь весной 1185 года.)
Выдающееся литературное произведение древнерусской культуры «Слово о полку Игореве» известно многим, а имя одного из его главных героев – князя Игоря Святославича Новгород-Северского – служит образцом патриотизма и воинской доблести для многих поколений. О чем оно?
В 1185 году Игорь Святославович (1151–1202) князь Новгород-Северский решил «поискать града Тьмутороканя» да «испить шеломом Дону». Собрав дружину, он выступил в поход и вскоре оказался в «поле половецком» – землях Северного Причерноморья, находившихся в то время под властью половцев. Три дня длилось сражение между русичами и кочевниками, в результате которого дружина русского князя потерпела поражение, а сам Игорь попал в плен. Почти год он находился в ставке Кончака – половецкого хана и «свата» Новгород-Северского князя. Будучи союзниками в одном из военных походов, они чудом спаслись, после чего дали друг другу клятву породниться, соединив брачными узами своих детей. Половецкий хан сделал все возможное, чтобы русский князь не только остался в живых, но и оказался на свободе. Такое «родство» не мешало Кончаку почти четыре десятилетия оставаться главной угрозой для южных окраин Древней Руси.
Едва ли найдется другой памятник древнерусской культуры, о котором было бы написано и сказано столько, сколько о «Слове о полку Игореве». Вместе с тем многие события, описанные в этом произведении, до сих пор остаются не выясненными окончательно. Одной из таких загадок является легендарная река Каяла, на берегах которой и произошло сражение русичей с половецкими ордами. По одной из версий – это современный Кальмиус (Донецкая область, Украина), по другой – река Быстрая (Ростовская область, Российская Федерация). Как бы то ни было, но большинство исследователей сходятся во мнении, что одна из трагических страничек в истории Древней Руси произошла в бескрайних степных просторах Северного Приазовья.
Весеннее солнце припекало так, что дворовые мужики, которые возились в дальнем конце подворья, поснимали с себя не только душегрейки, но и зипуны. Оставшись в одних рубахах, они с удовольствием подставляли свои спины теплым солнечным лучам. По всему было видать, что соскучился народ по теплу. Выкатив из амбара пару подвод, мужики принялись ставить на их место отслужившие свое сани. Делали они это неспешно, но старательно. Знали, ироды, что князь за ними наблюдает.
Положив руки на резные балясины деревянного крыльца, Новгород-Северский князь Игорь Святославич[27] щурился и с ленцой, словно кот на припечке, поглядывал в сторону дворовых. Благостная улыбка играла на его лице. Все складывалось так, как он и хотел.
Вчера в гости приехал его младший брат – князь Курский и Трубчевский Всеволод. Этой встречи хотел сам Игорь и поэтому еще по снегу отправил в Трубчевск гонца с грамоткой – так, мол, и так, брате, приезжай, важное дело к тебе имеется. Покуда челомкались, покуда в мыльне[28] грязь дорожную соскребали – за столы сели уж к вечеру. Как положено близким сродственникам медовуху из серебряной братины[29], которая досталась им еще от деда Олега Святославича[30], хлебали по очередке. Говорили обо всем – о весенней распутице, о новостях киевских, о мечах булатных, о приспособлениях хитрых для метания жидкого огня. Наконец, так и не выяснив, чьи девки краше – трубчевские или северские, перешли к разговору сурьезному.
– Ты мне, брате, зубы не заговаривай, – положив руку на плечо старшего брата, произнес уже порядком захмелевший Всеволод. – Я же тебя знаю получше других. Говори, зачем позвал?
– Ну что ж, – усмехнулся в усы Игорь. – Тогда скажи мне, ты гонцов от Святослава Киевского давеча привечал?
– Привечал, – простодушно кивнул в ответ Всеволод. – И давеча, и тапереча. В поход зовет князь Киевский. Сызнова собирается в степь пощипать поганых. Просит подсобить.
– Вот, братка, – с готовностью подхватил Игорь. – И я об том же. Доколе мы с тобою будем подсоблять то одним, то другим? Не пора ли самим крыла распрямить да стать во главе рати славной?
Всеволод отодвинулся от Игоря, и пристально, будто увидев его в первый раз, посмотрел на брата.
– Ты что это, пустобрёх, задумал? Это ж тебе не лошадей у приезжих гостей[31] уводить. За это можно и головы лишиться.
– Не хнычь раньше времени. – Игорь хлопнул брата по плечу. – Мы не токмо Святославу Киевскому, мы всем сопатки утрем. Ты помнишь, где по молодости правил наш дед Олег Святославич? Правильно, в Тъмутороканском княжестве[32]. Это сыздавна земли князей Черниговских да Новгород-Северских. Токмо забыли мы про это, позволили половецким ханам вежи[33] свои ставить, где не попадя.
Игорь сделал большой глоток из братины и протянул ее Всеволоду.
– Мы с тобой не просто в поход пойдем. Захотелось мне, братец, дорогу в нашу Тъмуторокань поискать, а заодно и водицы из Дону испить. Ну, ты как, со мной?
То ли с перепугу, то ли от неожиданного предложения Всеволод громко икнул и, схватив братину с медовухой, сделал несколько больших глотков. Посмотрев на брата ошалелыми глазами, он вновь приложился к чаше.
А Игорь между тем продолжил:
– У нас с тобой уже седина в бородах засеребрилась, а мы всё у кого-то в помощниках ходим. Перед чадами[34] не стыдно?
– Ну а как же ханы половецкие? – наконец выдавил из себя Всеволод. – Неужто дозволят?
– А что ханы? – вскочил Игорь. – У них, после гибели Боняка шелудивого, силу набрал сват мой Кончак. Ты же знаешь, что однажды, спасаясь от неприятеля, мы клятву дали друг дружке – ежели выживем, породнимся кровнородственно. Я свое слово сдержу. Сыну Владимиру уже скоро пятнадцать, а у Кончака дочка на выданье. У него уже всё готово для свадебного пира. А ежели мы ещё в Тъмуторокани на княжий стол зятя его и моего сына Владимира посадим, то он будет рад вдвойне.
После этих слов Всеволод насторожился. Заметив это, Игорь рассмеялся и, подсев поближе к брату, обнял его за плечи:
– Да ты, братка, не пужайся. Неужто я родную кровиночку обижу? Как вернемся с походу – сразу на Переяславль пойдем, тряхнем маленько Рюриковичей. Ты как, не против стать князем Переяславским?
– Ну, ежели так, – растерянно произнес Всеволод, а потом, словно спохватившись, спросил: – А ты как же?
– Да ты за меня не переживай, – улыбнулся в ответ Игорь. – Давай лучше выпьем за будущий поход. – И видя нерешительность младшего брата, он решил повременить и о своих планах относительно Киевского престола рассказывать ему не стал. Успеется.
Не рассказал он брату и о том, что уже провел переговоры с Ярославом Черниговским. Хитрован этот сам в поход идти отказался, но пообещал прислать боярина Ольстина Олексича с отрядом своих поганых – ковуями черниговскими[35]. Воины из них так себе, но в таком деле проводники нужны хорошие и ковуи – как раз то, что надо. Степь они знали вдоль и поперек до самого Русского моря[36].
А вот племянник, сын брата Олега Черниговского, Святослав Рыльский токмо услышал про будущий поход, так сразу – плащ на плечи, мечи в ножны и на коня. Вот, что значит молодость!
Участники предстоящего похода собрались в Новгород-Северске ближе к середине апреля. Солнце уже припекало вовсю, зелёная поросль с жадностью тянулась к свету, но земля ещё не просохла и местами вместо дорог и тропинок булькали болота́ да хляби.
В горнице за большим столом собрались Ольговичи. Братья Игорь и Всеволод сидели во главе стола под самыми иконами. По левую руку от Игоря расположился сын его Владимир, а по правую от Всеволода – племянник ихний Святослав Ольгович Рыльский. Еще один участник похода – боярин из ковуев Ольстин Олексич присел, как и положено по роду-происхождению, немного в сторонке.
– Олексич, – расплываясь в улыбке, обратился к нему Святослав. – Вот я никак в толк не возьму, ты вообще – кто? При двух свечах вроде как свой, а стоит одну прислюнявить – и будто волчара поло́вый[37] на тебя из темноты зырит.
Сидевшие за столом рассмеялись. Потом внимательно посмотрели друг на друга и рассмеялись пуще прежнего.
– Да мы здесь все такие, – сквозь смех произнес Игорь. – Забыли, кем была наша бабка? Говорят, дед наш, Олег Святославич, ее из-под самого носа у половецкого хана увел. Так что ты бы, племяш, помолчал, а то если и над тобой свечечку прислюнявить, то еще неизвестно, кто на нас будет зырить.
Бросив взгляд на сына, уже серьезно продолжил:
– Вот и я годков пять тому назад в скрутную минуту Кончака встретил. Жизнь свою друг дружке доверили мы тогда и пообещали, что, если живы будем, обязательно детей наших оженим. Так что готовься, Владимир, быть тебе через пару недель зятем Кончаковским.
– Как через пару недель? – с нескрываемым удивлением выдохнул сын.
От такой новости опешили и другие гости.
– Я что-то не пойму, – угрюмо начал Всеволод. – Так мы в поход собрались или на пир свадебный? Что-то ты опять темнишь, братка.
Игорь, как будто не слыша Всеволода, встал и, повернувшись в сторону икон, перекрестился.
– Не темное, а богоугодное дело замыслил я, и вы в этом деле будете мне подмогой и опорой. Через пару дней отслужим с дружиной Пасхальный молебен[38] и в день моего покровителя и защитника небесного Святого Георгия[39] выступим в степь. Токмо оружием и щитами бряцать не будем. Возьмем с собою стяги да хоругви наши православные и пойдем на встречу с моим сватом ханом половецким Кончаком. Оженим моего сына князя Владимира на дочке Кончака. Обещал хан по такому случаю пир устроить небывалый. Что он там, не передумал?
Последний вопрос Игорь задал Ольстину Олексичу, который только накануне вернулся из степи.
– Не передумал, княже, – вставая, ответил ковуевский боярин. – Вежи его стоят по берегам далеко в степи. Старухи да девки половецкие котлы в реках моют, готовятся к пиру. В округе пасутся стада да отары тучные, а значит, и угощение будет знатное. Кончак велел передать, что, как и подобает, вышлет навстречу своих сватов да подружек невестиных с подарками для жениха и дорогих гостей.
– Вона, значит, как! – не скрывая радости, воскликнул Всеволод. – Так ежели пировать идем, зачем дружину за собой тянем?
– Пиры да утехи свадебные – это токмо начало, други. Такое условие было Кончака – сначала породниться, а потом он вместе с нами выступит на Тъмуторокань. Может, так оно и к лучшему. Пока гулять будем, степь подсохнет, трава для лошадей соку наберется, а в речках после весны воды поубавится, легче перелазы будет обустраивать. Да с такой подмогой, как Кончак, нам в степи никакой преграды не будет до самого синего моря.
Игорь дал знак прислуге накрывать на стол, и горница вмиг наполнилась запахами жареного мяса, еще теплого хлеба, хмельного кваса и медовухи. Участники предстоящего похода наперебой стали поздравлять князя Владимира сначала с предстоящей женитьбой, ну а после нескольких чарок медовухи и с княжеским столом в далекой и загадочной Тъмуторокани. Княжич принимал поздравления, смеялся наравне с другими, и только иногда в его глазах мелькала печаль, а быть может, и страх. Игорь Святославич наклонился к сыну и тихо, чтобы не слышали чужие уши, прошептал:
– Держись, сын. Не одному тебе тяжко. Земля неведомая ждет всех нас.
Дружину Игорь выстроил к походу по-тихому. Не в родном и многолюдном Новгород-Северске, а подальше от любопытных глаз – в маленьком и тихом Путивле. Да и какая это была дружина? Так, несколько тысяч конных русичей вместе с торками-ковуями. А без полков Всеволода, которые отдельно выступили из Курска, так и вовсе такую дружину ратью назвать язык не поворачивался. На этот раз пеших ратников в поход Игорь с собой не взял – слишком далеко была эта Тъмуторокань.
Окромя прочего, приказал Игорь в первые ряды вынести стяги-иконы с ликами Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы Марии. Величаво плывущие над головами стяги были заметны издалека и придавали дружине русичей праздничный вид. Троекратно перекрестившись, князь Новгород-Северский Игорь занял место во главе своего войска. Над колонной зазвучала лихая песня да скрип еще не разъезженных после зимы телег, на которые был погружен провиант и подарки для свата. Не годится ехать к побратиму без гостинцев.
Ехали неспешно. И все бы ничего, да только уже у самого Донца случилась в небе оказия редкая. Средь бела дня у них над головами вместо солнца ясного появился месяц серебристый. Все вокруг покрылось сумерками вечерними, животинка мелкая под листочек спряталась, а птица весенняя жизни радоваться перестала.
– Не на добро это знамение, – крикнул кто-то из дружинников.
И тут же над головами, словно эхо, понеслось: «Не на добро, не на добро-о-о…» Колонна, как по команде, остановилась и, дружно задрав головы вверх, уставилась на чудо небесное.
К Игорю подъехал воевода, сопровождавший князя в походах, когда тот еще был безусым юнцом.
– Дурной это знак, княже. Будет лучше, если повернем дружину домой. На твой век подвигов ратных еще хватит.
«И этот, старый хрыч, туда же, – наградив воеводу тяжелым взглядом, подумал Игорь. – Нежто надобно всем громко крикнуть, что не биться мы с погаными идем, что столы свадебные для них ужо наготовлены и что сват Кончак давно уж выглядывает их в степи, как самых дорогих гостей. Нет, не пришло еще время дружине правду знать. Вот подойдем ближе, тогда и откроюсь».
Если бы только знал князь, чем его тайны обернутся…
А пока Игорь привстал в стременах и громко крикнул:
– Братья! Тайна Божья никому не ведома. С чего вы взяли, что знак сей нам указ? Осеним себя знамением и под его защитой продолжим наш путь.
Переправившись в привычном месте через Донец, русичи вышли к Осколу и недалеко от его устья разбили лагерь. Надобно было, как и договаривались, подождать князя Всеволода с полками Курскими да Трубчевскими.
А уже совсем неподалеку половецкий хан Кончак Атракович готовился к встрече дорогих гостей. Разведка донесла, что дружина русичей, не таясь и подняв над головами разноцветные полотнища, вышла к Осколу и дожидается князя Курского и Трубчевского Всеволода.
– Значит, через день-два они по Русскому броду переправятся через Донец и вдоль Салницы[40] выйдут на сакму Залозную[41], – размышлял вслух Кончак и, повернувшись в сторону своей ханум[42], коротко распорядился: – Высылай навстречу сватов да подружек невесты с подарками. Пусть Игорь увидит, как я ценю своего побратима.
Последние дни нелегко было и половецкому хану. И если Игорь таился от Киевского князя Святослава, то Кончаку доставалось от молодых ханов. Они обложили его, как собаки старого вепря на охоте. Особенно усердствовал Гзак со своим сыном Романом. Что бы не делал Кончак, этому Гзаку все не так. Оно и понятно, не хотят Бурчевичи да Токсобичи, чтобы Кончак поднялся и возглавил все орды половецкие. Когда прознали они о свадьбе дочери хана с русским княжичем, тут такое началось. Только и успевай от этих мух отбиваться. А что будет, если узнают они о планах Кончака пропустить Новгород-Северского князя в земли Тъмутороканские, открыв перед ним Залозный путь к морю Русскому? Одна надежда на то, что во время свадебного пира, на который он пригласит всех половецких ханов, ему удастся их уговорить поддержать его союз с русичами. Ну а после этого, получив такого союзника в тылу, как Игорь, он разберется с этим Гзаком и со всеми остальными недовольными ханами. Да и зятя иметь во главе Тъмутороканского княжества совсем не лишним будет. Но всему свое время, а пока рот на замок.
Ну а дальше все было в руках случая и Божьего провидения. Дружина Игоря вышла на протоптанную по весне половецкими лошадьми Залозную сакму и устремилась на юг – к речке Сюурлий[43]. Где-то здесь уже начинались родовые кочевья Кончака.
За время похода молодые княжичи Владимир и Святослав стали не разлей вода. Куда один, туда и другой норовит. Вот и сейчас их полки оторвались от основных сил и взяли чуть левее, где простиралась долина еще одной степной реки, название которой было им не ведомо. Молодые княжичи уже не раз принимали участие в походах на половцев, но так далеко в степь еще ни разу не заходили. Здесь им было интересно все – и неистовое пение соловьев в ночной прохладе речных дубрав, и степные птицы, с шумом вылетающие из-под самых копыт лошадей, и каменные истуканы, установленные вдоль сакмы на невысоких холмах, и многое-многое другое, чего юношам до этого видеть не приходилось.
Отряд всадников хана Гзака появился перед русичами внезапно. Выскочив словно из-под земли на ближайший пригорок, половцы принялись осыпать их градом стрел. За спинами княжичей послышались крики и стоны получивших ранение дружинников, несколько человек были убиты. Переглянувшись, Владимир и Святослав обнажили мечи и повели полки в атаку на противника. Однако поганые повели себя странно – не дожидаясь, покуда русичи приблизятся, они развернули своих лошадей и скрылись из виду. Выскочив на пригорок, где только что еще гарцевали половецкие всадники, княжичи увидели перед собой широкую балку, по дну которой петляла небольшая степная речка с болотистыми берегами. Их взору открылась длинная вереница из телег, двухколесных веж и всадников. По всему было видно, что кочевала небольшая орда. Разгоряченные в пылу погони всадники замерли только на миг и, увидев перед собой врага, бросились на него не раздумывая.
А Гзаку только это и было надобно. Он вывел русичей на сватов да подружек невестиных, которые ехали навстречу жениху знатному, а сам в сторону улизнул, как и не было его вовсе.
Видя, что дело такой оборот принимает, испугались сваты и давай убегать. Да куда там! В спешке в болота заехали, и чтобы спастись, стали дорогу себе гатить коврами, шубами да одёжей разной в мехах и в золоте, которые в приданое полагались. Ну а русичи здесь порезвились от души – когда ж еще такое счастье привалит?! Девок красных полдня по всей округе ловили, а сватов за шиворот из всех окрестных болот тянули.
Кончак почуял неладное, когда увидел отряд Гзака на взмыленных лошадях. Они примчались с той стороны, куда утром ушел свадебный обоз, и наперебой стали рассказывать, как русичи посекли их уважаемых ханум и родных сестер, а почтенных сватов загнали в болото. Кончак метался от одного хана к другому, пытаясь объяснить, что произошла какая-то ужасная ошибка. Но его никто не хотел слушать. Орда рвалась в бой отомстить за поруганную честь своих матерей и сестер.
В нескольких десятках километров от них лютовал Новгород-Северский князь Игорь. Выхватив из ножен меч, он бросился на опьяненных легкой победой и богатой добычей безусых княжичей. Хорошо, что Всеволод оказался рядом, не зря его за силушку богатырскую прозвали Буй-Туром. Скрутил он разъяренного Игоря и не дал пролиться кровушке родственной.
– Уймись, бешеный. Откуда ж им было знать, что это сваты едут? Ты же сам запретил дружине про то сказывать. Вот и нарвались на неприятность.
– Неприятность? – у Игоря от злости и возмущения кровь ударила в лицо и перехватило дыхание. – Да знаешь ли ты, дурья башка, что они наделали? Мало того, что я после такого в глаза Кончаку смотреть не смогу, так быть еще и великой сечи! Половцы нам этого не простят. Уходить надо и чем быстрее, тем лучше. Поедем, други, через ночь, а далее, как бог даст.
– Простят, не простят. Чего уж тепереча говорить? – пытался успокоить брата Всеволод. – Лошадям отдых нужен. Если прорываться будем, то без них никак. Давай утром об этом поговорим.
Поутру стало понятно, что уйти русичам пешими или на комонях[44] не получится. Со всех сторон их окружили так, что, казалось, собралась вокруг них вся земля Половецкая. Была здесь и орда Кончака, который хорошо понимал, что, откажись он от участия в битве, потеряет не только власть, но и голову.
Игорь и Всеволод объезжали стан русичей, пытаясь определить место возможного прорыва, когда к ним подъехал молодой князь Вдадимир. Понимая всю тяжесть вчерашней провины перед отцом и дружиной, он не спал всю ночь, а на зорьке решил напоить своего коня и, миновав дозоры, направился к каменистому берегу речки с дивным названием Сюурлий. Хорошо, что был настороже и в утреннем тумане сумел рассмотреть засады половецкие. Об этом он и рассказал отцу.
Нахмурившись пуще прежнего, Новгород-Северский князь приказал собрать всех воевод своей дружины на военный совет.
– Други мои, – обратился к ним Игорь в полной тишине. Воеводы, любители позубоскалить и подшутить над другими, на этот раз молчали и со всей серьёзностью внимали словам своего князя. – Обложили нас поганые со всех сторон. Ну да это бы ладно – нам не привыкать. Хуже то, что отрезали они нас от речки и остались мы без воды. Люди это поймут и стерплют, а вот лошадям этого не растолкуешь. Ежели и вырвемся мы из облоги половецкой, то на охлялых комонях далеко не уйдем. Враз догонят. Побережем их силы, и к броду через Каялу будем пробиваться пешим строем. Уйдем на правый берег, а там по Торскому пути пойдем в отрыв к Донцу-батющке.
Весенние рассветы – они ранние. Зыбкая пелена утреннего тумана, которая надежно укрывала русичей от ночной прохлады и посторонних глаз, растворилась с первыми лучами солнца, напоследок зацепившись за острый край прибрежной скалы. Дружина Игоря была у половцев как на ладони. Окружив ее, они не пошли в атаку, а наоборот, умело избегая близкого боя, применили свой излюбленный прием – стали осыпать русичей градом стрел. Казалось, небо померкло над их головами. Прикрываясь щитами, они старались защитить и себя, и своих комоней, но разве такое мыслимо? Обезумевшие от ран кони метались в стане русичей, еще больше создавая там хаос и панику. Целый день, шаг за шагом истекающая кровью дружина Игоря приближалась к берегам Каялы, но только ближе к вечеру им удалось пробиться к заветному броду. Казалось, еще чуть-чуть и вырвутся русичи из смертельных объятий половцев.
Последним, прикрывая отход дружины, шел со своими воями князь Всеволод. Уже стоя на берегу Каялы, Игорь оглянулся и увидел, что без посторонней помощи полк Всеволода обречен – уж больно много половецких всадников кружило вокруг них.
– Держись, братка! – с этими словами Игорь устремился на выручку Всеволоду. Не раздумывая ни секунды, вслед за своим князем бросились и дружинники его полка. В короткой и жестокой схватке им удалось отбросить поганых и дать возможность русским полкам перестроиться. Но передышка была недолгой, и когда половцы вновь пошли в атаку, не выдержали ковуи, которые прикрывали правое крыло дружины русичей. Они стали беспорядочно отступать, смешав ряды стоящих за ними полков Всеволода и Игоря.
Сбросив с головы своей шлем, чтобы его легче было узнать, Новгород-Северский князь бросился наперерез отступающим ковуям.
– Стоять, пёсье отродье! Держать оборону!
Узнали князя и половцы. Сразу несколько лучников натянули тетиву своих луков, и калёные стрелы ударили в железные пластины его панциря. Одна из них угодила в левую руку. Словно почуяв запах крови, Чилбук, воин из орды хана Гзака, ринулся к раненому князю. Последнее, что увидел Игорь, было то, как падает выбитый из седла копьем половецким его брат Всеволод…
…Проснувшись, Игорь долго лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху за войлочным пологом юрты[45]. Этой ночью князь решился бежать из половецкого плена. Где же Лавр?
Почти год назад на берегах степной реки Каялы полегла под стрелами и саблями половецкими его дружина. Многие его побратимы попали в плен. Среди них были и его сын Владимир, и брат Всеволод, и племянник Святослав. В качестве награды за проявленную в бою смелость и храбрость их передали в разные половецкие орды. Игорь остался в вежах Чилбука близ речки Волчьей, Владимир перешел к Упте из Улашевичей, Всеволод к Роману Гзаку, а Святослав к Елдечукам из Вобурчевичей.
После битвы Игорь со своим сватом Кончаком не встречался, хотя помнит, что какой-то знатный половец в шлеме с маской-забралом, скрывающим лицо, подходил к нему и долго смотрел на поверженного князя. Что-то в глазах, сверкнувших из-под маски, показалось Игорю знакомым, но потом сознание князя помутилось, и больше он ничего не помнил.
Прошло месяца три, когда рана на руке у князя стала понемногу затягиваться и ему разрешили выходить на берег реки. Правда, следом за ним постоянно ходило три воина. «Прислуга уважаемому человеку», – назвал их хитро улыбающийся Чилбук, но всем был понятно, что такую дорогую добычу он без присмотра не оставит.
В одну из таких прогулок Игорь увидел всадника, неспешно направляющегося из половецкого стана в его сторону. Тот еще находился на приличном расстоянии от берега, но князь уже узнал знакомую фигуру и черты лица своего побратима. От волнения у Игоря пересохло во рту. Ему стало так жарко, что, наклонившись к мутному потоку реки, он ладонью зачерпнул воды и плеснул себе в лицо.
Спешившись, Кончак Атракович ласково похлопал по крупу своего коня, и тот, скосив глаз на хозяина, тут же потянулся влажными губами к траве. Хан подошел к Игорю и сел рядом с ним, привычно поджав под себя ноги. Игорь отвел взгляд, но Кончак, казалось, не обращал на него никакого внимания. Покачиваясь в разные стороны, он долго смотрел на протекающие мимо них воды Половецкой реки[46].
– Знаешь, кунак, – наконец произнес он, не глядя в сторону Игоря. – Если бы это случилось раньше, когда мы с тобой были молодыми и глупыми, тебя уже не было бы в живых, а моя сабля умылась бы твоей кровью. Я разговаривал с твоим сыном. Владимир мне рассказал, как все было, и я ему верю. Чем он отличается от нас в молодости? Ничем. Такой же горячий и жаждущий славы, как и его отец. Я его понимаю, как воин. А безрассудство, оно с годами уйдет. Это Гзак не его обманул, это он нас с тобой обманул. Обвел вокруг пальца, как дитей малых. Чилбук – его человек, но я с ним договорился и забираю тебя к себе под мое слово. Пойдем брат, будем петь песню жизни дальше. А какой она будет – веселой или грустной, это уж нашим богам решать.
Кончак забрал русского князя в свое кочевье, вежи которого стояли на берегах той самой Каялы. Поместив его в просторную юрту, хан выделил ему слуг и разрешил свободное перемещение не только в пределах своей ставки, но и в ближайшей округе. С помощью своих слуг Игорь узнал, что его сын и брат хоть и находятся в плену, но все живы и здоровы. Не было весточки только от его племянника – Святослава Ольговича князя Рыльского. В полон его взял сын хана Гзака Роман, и томится молодой княжич в орде своего самого лютого врага. Добра и поблажки от Гзаковичей не жди – они очень хорошо помнят, как трепал их вежи и побивал рать половецкую отец Святослава Ольговича князь Олег.
Все это время Игорь не видел своего сына, но сумел уговорить Кончака, чтобы дочь хана и его сын Владимир обвенчались по христианскому обычаю, став перед Богом мужем и женой. Для этого даже из новгород-северской земли доставили в половецкий стан попа.
Дни шли. Весна сменила холодную зиму, и степь вновь расцвела буйным цветом и разнотравьем. Только Игорю это было все не в радость. Приходя на берег Каялы, он подолгу вглядывался в ее тихие воды, и память, словно в отместку, услужливо рисовала ему картины прошлой битвы. Вот ковуи, сломав боевые порядки, понеслись прямо на полки русичей, вот Всеволод с копьем наперевес, отбивающийся от половцев на берегу озерца, а вот ухмыляющееся и довольное лицо Чилбука, склонившегося над поверженным князем.
Чтобы отвлечь Игоря от грустных мыслей, Кончак пригласил его на соколиную охоту. К этому времени степь укрылась серебряным ковром из ковыля, на котором любая дичь была хорошо заметна. Посадив на левую руку ястреба, русский князь привстал на стременах, пытаясь разглядеть добычу. Рядом раздался смех половцев-сокольничих – кто же высматривает добычу с боевой птицей на руке? Стараясь не обращать на сокольничих внимания, Игорь удалялся от них все дальше и дальше. Наконец, где-то вдалеке мелькнуло рыжее пятно. «Лиса!» – обрадовался князь, и сняв с головы ястреба кожаный мешочек, подбросил птицу вверх. Несколько взмахов сильных крыльев – и она исчезла в синем небе, чтобы через мгновение камнем упасть оттуда на свою жертву.
Увлеченный охотой, Игорь и не заметил приблизившегося к нему своего свата. Казалось, охота того не интересовала вовсе. Окинув взглядом окружавшую их степь, Кончак неожиданно рассмеялся.
– Ты знаешь, за что я люблю эту землю? – И не дожидаясь ответа, продолжил: – За то, что чужим ушам здесь не спрятаться.
Довольный своей шуткой, Кончак поравнялся с лошадью князя и сказал:
– Я вот о чем хотел с тобой поговорить, сват. От того, что ты здесь маешься, толку никакого не будет. Твоя Ярославна в Новгород-Северске выкуп за тебя будет собирать еще долго, а за сына и подавно. Я убедил Чилбука, что от князя кащея[47] в стане выгоды никакой нет и что ты быстрее, чем северские бояре, соберешь за себя выкуп. Сам понимаешь – отпустить он тебя не может, поэтому ты уйдешь в побег, и мои люди тебе в этом помогут. Только учти, что на этот раз ошибки быть не должно.
Отъехав от князя уже довольно далеко, хан повернулся в его сторону и крикнул:
– Да, и вот еще что! Сын твой Владимир и брат Всеволод побудут покуда у нас. Жить им или нет, решать тебе, князь…
…Задний полог юрты приподнялся, и Лавр, человек Кончака, тихо произнес: «Пора, князь…»
Стараясь не шуметь, Игорь шагнул в темноту. Недалеко от входа в юрту пировали сторожа и слуги князя. Хмельной кумыс сделал свое дело, и большинство из них сейчас меньше всего думало о спящем в юрте князе.
План Лавра был дерзок. Сев на лошадей, они направились в сторону Каялы. Размеренным шагом, на глазах у многих половцев, их лошади проехали через всё кочевье и приблизились к броду через речку. Дорога домой Игорю была хорошо знакома. Выйдя на Тор[48], беглецы направили своих лошадей на север – туда, где начиналась речка Салница, течение которой выводило их прямиком на Русский брод через Донец.
Опасаясь погони, они двое суток мчались на север не останавливаясь. Загнанные лошади пали под ними, но берег Донца-батюшки был уже рядом. А потом еще одиннадцать дней пешего пути с привалами на отдых в зарослях камыша и осоки. Опасаясь сторонних глаз, беглецы шли в основном ночью, и когда в предрассветной мгле показались стены первого на границе с половецкой степью русского города[49], Новгород-Северский князь тяжело опустился на колени и, осенив себя крестом, произнес:
– Ну, здравствуй, земля русская…
…Зима в 1188 году была ранней. Снег укрыл землю, а морозы сковали реки в аккурат на пяток Параскевы Великомученицы[50]. Холода стояли лютые. Добрый хозяин не то что скотину, собаку на улицу не выпустит.
Услышав какой-то шум, князь выглянул в окошко горницы – несколько всадников спешились на подворье, и стали посередке двора, в растерянности оглядываясь по сторонам. Что-то знакомое показалось Игорю в одном из них. В следующий миг он выскочил на крыльцо и бросился к приехавшим.
– Встречай внука, отец. – Князь Владимир взял маленький сверток из рук своей жены, половецкой ханши Кончаковны, и протянул его Игорю.
Приоткрыв покрывало, Новгород-Северский князь увидел маленькое личико ребенка, который морщился от холодного воздуха. Бережно прижав его к груди, князь заплакал.
Битва на Калке
Почти 800 лет назад, в 1223 году, в истории Киевской Руси произошло событие, в значительной мере изменившее ход ее развития. Древнерусские воины впервые столкнулись с монголами – народом до этого времени неизвестным ни на Руси, ни в Европе.
Преследуя половцев, 30-тысячное войско монголо-татар достигло берегов Днепра. Потерпев первые неудачи в стычках с грозным противником, половецкие ханы обратились за помощью к древнерусским князьям. На военном совете, который состоялся в Киеве, было принято решение помочь половцам и встретить врага на его территории, т. е. в степях Северного Приазовья. Пытаясь помешать созданию военного союза между Киевской Русью и половецкими ханами, монголы направили к русичам свое посольство с предложением мира. Киевский князь Мстислав Романович Старый не только отверг это предложение, но и выдал членов посольства половцам, которые их убили.
Переправившись через Днепр, древнерусские дружины, преследуя отдельные отряды монгольской конницы, углубились в степь и 28 мая 1223 года достигли верховьев реки Калка. По всей видимости, под этой речкой летописцы имели в виду современную речку Кальчик, правый приток Кальмиуса.
Битва состоялась 31 мая 1223 года. Воспользовавшись распрями между древнерусскими князьями и несогласованностью в их действиях, монголо-татары нанесли сокрушительное поражение объединенным силам Киевской Руси и половцев.
- Наш батюшка дурачок,
- Он плывет на другой бережок.
- Родной дом позади,
- Домовина впереди…
Гнусавый голос юродивого Плошки звонко разносился над водами Славутича[51], вызывая у одних улыбку, у других гнев.
– Да замолчи ты, окаянный, – в сердцах прикрикнул воевода Петеля и замахнулся на юродивого ножнами своего меча. – Каркаешь мне здесь… И без тебя воронья хватает…
Лодка покачнулась, и сидевший на веслах князь Александр Глебович с неодобрением посмотрел в сторону своего воеводы. Кошка между ними пробежала еще вчера, после княжеского совета, на котором было принято решение переправиться на левый берег Славутича и, выследив отряды степняков-монголов, дать им бой. Узнав о таком решении, воевода Петеля долго убеждал своего князя погодить и не торопиться с переправой.
– Ты, воевода, видать совсем из ума выжил, – еле сдерживаясь, ответил ему князь. – Мы ж не девки какие, чтобы в плавнях отсиживаться да за спины других прятаться. Ты себе это как разумеешь? Все князья со своими дружинами в бой выступят, а мы, значится, погодим?
– Выманывают они нас, княже, ей-богу, выманывают, – при этих словах воевода размашисто перекрестился. – Хотят, чтобы мы подальше от батюшки Славутича в степь отошли, а там они как у себя дома. Устроят нам кровавую баню, чует мое сердце – устроят.
– Не узнаю я тебя, Петелич. Что ты раньше времени заупокойную всем поешь? – сердито ответил ему князь. – Неужто испужался? Так я тебе в подарок чистое исподнее пришлю. Свое-то от испуга небось совсем загадил?
Воевода насупился, его лицо покрылось красными пятнами, а руки сжались в кулаки. Заметив это, великий князь внимательно посмотрел на своего воеводу и, положив руку на рукоять меча, спросил:
– Я свое слово сказал. Или ты перечить мне вздумал?
Перечить князю воевода не стал. Он хорошо помнил, чем закончилась перепалка между князем и его первой женой. Глупая женщина вздумала на людях возразить своему супругу. Схватив жену в охапку, князь бросил ее в большой жбан с медовухой и держал ее там вниз головой, пока несчастная не испустила дух.
Высокий, под два метра ростом, турово-пинский князь Александр Глебович Дубровицкий обладал недюжинной силой и крутым нравом. Зная характер своего господина, дворовые и другая челядь старались без надобности ему на глаза не попадаться. Вот и воевода Петеля – повздыхал, посопел себе в усы, но перечить князю больше не стал. Как говорится – себе дороже будет.
Нос большой лодки уткнулся в песок левого берега Славутича. Ловко спрыгнув в воду, Плошка подставил свою худую спину под сапог князя. Сойдя на берег, Александр Глебович оглянулся – в волнах неспокойной реки были видны головы его воинов, переправляющихся вплавь. Уцепившись за сбрую или гриву лошадей, дружинники одной рукой старательно гребли к берегу, помогая животным справиться с течением. Безлошадные, а в отряде князя были и такие, переправлялись с помощью надутых бараньих бурдюков. Этому приему они научились у своих союзников – половцев, с которыми уже не раз если не воевали, то ходили в военные походы за добычей в земли соседних княжеств. Над водами Славутича раздавалось громкое пофыркивание лошадей и людей.
Оставив воеводу следить за дальнейшим ходом переправы своей дружины, князь оседлал коня и с несколькими воинами направился в лагерь Мстислава Мстиславича Удалого. Ему не терпелось своими глазами увидеть трофеи, добытые Галицким князем во вчерашнем бою с монголами, а еще больше – посмотреть на захваченного в плен командира монгольского отряда Гемибека.
Возле шатра Мстислава Удалого было шумно. Повсюду горели костры, запах жареного мяса и хлебных лепешек разносился по всей округе. Александр Глебович спешился и, откинув полог, вошел в шатер князя. В полумраке шатра он увидел Мстислава Удалого, возлежавшего на коврах и мягких подушках. На почетном месте, рядом с хозяином, подогнув под себя ноги, сидел его тесть – половецкий хан Котян Сутоевич. Лицо еще не старого кочевника лоснилось от удовольствия и угощений. Наклонив набок голову, он пощипывал свою жиденькую бородку и не спускал своих маленьких глаз с молоденькой невольницы, которая прислуживала князю.
Увидев вошедших, князь Галицкий поднялся со своего места и сделал несколько шагов навстречу Александру Глебовичу.
– Что, князь, и ты решил разделить со мной победу? Где же вы все были вчера, когда победа добывалась вот этим мечом?!
Князь Мстислав выхватил из ножен меч и взмахнул им над головой. Видно, хмель ему ударил в голову, он покачнулся и, если бы не вовремя подставленное плечо Александра Глебовича, – лежать бы сейчас победителю посреди шатра.
Мстислав Удалой спрятал оружие в ножны и выкрикнул:
– Ничего, братья! Славы на всех хватит! Завтра соберемся в один кулак и погоним этих поганых по степи, как ветер колючку.
Только после третьей или четвертой чаши медовухи Александр Глебович спросил у хозяина о плененном им командире монгольского отряда. Мстислав отдал приказ и в шатер привели Гемибека.
Монгольский полководец был ранен. Вся левая сторона его головы была в запекшейся крови, а в правом плече кровоточила сквозная рана, оставленная, видимо, половецкой стрелой.
– Его сначала подстрелили из лука, выбили из седла, ну а потом уже добавили кистенем[52], – хвастливо сказал Мстислав. – Так бы ни в жисть не взяли, уж больно верткий.
С этими словами князь Галицкий подошел к пленному и протянул тому чашу с вином. Гемибек, словно не замечая князя, безучастно смотрел перед собой. По всему было видно, что полученные в бою раны доставляли ему боль, но монгол из последних сил старался удержаться на ногах и не упасть к ногам русского князя.
– Гордый, значит. – Мстислав Удалой медленно выпил вино из чаши и вытер мокрые губы рукавом кафтана. Александр Глебович заметил, как при этом губы пленника дрогнули в презрительной улыбке. Заметил эту улыбку и Мстислав. Он повернулся в сторону своего тестя, половецкого хана Котяна, и сказал:
– Хан, я хочу тебе сделать подарок. Отныне этот монгол твой. Делай с ним что хочешь, только запомни – сделай так, чтобы он больше никогда не улыбался.
Котян расплылся в довольной улыбке и трижды хлопнул в ладоши. Вбежавшие в шатер слуги хана повели Гемибека к выходу. При этом пленный, как и прежде, оставался спокойным. Казалось всё, что происходит вокруг, не имеет к нему никакого отношения. Перед тем как покинуть шатёр, монгол обернулся и обвел всех внимательным взглядом. Его губы тронула легкая усмешка.
- Налетела татарва, как мошка болотная.
- Разболелась от них у Котяна головушка,
- Голова болит половая,
- А водичкой потечет русичей кровушка…
Князь Дубровицкий прислушался к словам своего юродивого. Дурак дураком, а песни поет такие, что мозги от них завязываются в тугой узел и голова начинает гудеть, как церковный колокол по праздникам. Словно услышав, о чем думает князь, юродивый, который шел рядом с лошадью хозяина, поднял голову и улыбнулся.
– Чего лыбишься, убогий? – беззлобно сказал князь. – Допоешься ты у меня – посажу на кол, как пить дать, посажу.
Александр Глебович уже и не помнил, откуда взялся этот Плошка. Беззлобный, всегда улыбчивый дурачок пришелся ко двору – сначала, как заведенный, носил воду на кухню, потом стал в подспорье княжеским конюхам, а со временем начал прислуживать на княжеских пирушках. Гостям князя нравились рожи, которые строил им Плошка. Они бросали в него обглоданные кости, заставляли ездить верхом на большом хряке и петь похабные частушки. Когда князь со своей дружиной выступил в поход, Плошка увязался за ними. Он сплел себе из лыка новые лапти, подпоясал рваные портки веревкой и прицепил к ней деревянный меч, который ему вырезал из поломанного весла кто-то из дружинников.
Вот и сейчас, выхватив свой «меч», Плошка бросился вдогонку за большой птицей, с шумом вылетевшей из своего гнезда. Проводив ее взглядом, князь осмотрелся. Бескрайняя степь, словно водная гладь, окружила дружину князя. Легкий майский ветерок трогал верхушки ковыль-травы, отчего та колыхалась и бурлила, словно морская пена во время прибоя. Зеленая сочная трава доходила дружинникам до колен, а местами и по самый пояс. Из-под копыт лошадей то и дело срывались зайцы, лисы и волки. Что уже говорить о птицах! Дрофы, тетерева, кулики и куропатки сотнями поднимались в небо, потревоженные всадниками и пешими дружинниками. Воеводе Петеле пришлось даже распорядиться, чтобы те не тратили на них попусту стрелы.
Таких просторов Александру Глебовичу, который родился и вырос среди турово-пинских болот, видеть еще не приходилось. Оглядываясь вокруг и не видя перед собой привычных взгляду лесов, глубоких падей и болот, укрытых толстым слоем мха и морошки, князь чувствовал себя стоящим голым посреди подворья.
– Моголы! Моголы!
Крики дружинников отвлекли князя от его дум. Передовой отряд его дружины, состоявший в основном из половцев, заметил неподалеку разъезд монгольской конницы. И действительно, присмотревшись, где-то далеко, на пригорке, Александр Глебович увидел четырех всадников. Через некоторое время фигурки всадников разделились – две из них поскакали направо, две – налево.
– Петелич, как думаешь, что они затевают? – спросил у своего воеводы князь.
– Что у этих нехристей на уме я не знаю, но нам, княже, ухо надобно держать востро. Не ровен час, налетит эта саранча, беды натворит немалой.
Александр Глебович с укором посмотрел на своего воеводу. Опять он за свое! Другие князья уже обозами с добычей обзавелись, а он из-за такой осторожности своего главного дружинника четвертый день идет по степи, словно слепой, по сто раз проверяя впереди себя каждую ямку, каждый бугорок и кустик. На днях долетела весточка, что князь Даниил Волынский, дружина которого движется немного к северу от них, одолел еще один отряд монголов и взял несметную добычу. Золота и серебра – три пуда, шелка и парчи с версту, лошадей – несколько табунов. Такие новости еще больше раззадорили русичей, которые, почуяв запах крови и легкой добычи, рвалась в бой. И если бы не воевода Петеля, то князь уже давно бы отдал приказ своей коннице выследить один из монгольских отрядов и вступить с ним в бой.
В это время воевода, уже в который раз, попридержал конницу, давая возможность подтянуться пешим дружинникам. Громыхая деревянными щитами, украшенными металлическими умбонами, размахивая длинными копьями с конскими хвостами на концах, пехота влилась в общую колонну дружины князя Дубровицкого, растянувшуюся по степи на несколько сотен метров. Несмотря на то что русичи находились в пути уже четвертые сутки, настроение у всех было бодрое, можно даже сказать веселое. Отчего же не веселиться? Погода хорошая, дичи вокруг полным-полно, враг испугался так, что бежит где-то впереди, не чуя под собой ног. Ну а тот, который замешкался, сразу становится легкой добычей киевских дружинников. Так воевать можно!
Вначале показались половцы. Союзники русичей что есть мочи мчались в сторону дружины князя, надеясь найти у нее защиту. Вслед за ними, с криками и гиканьем скакали всадники, сидящие на невысоких лошадях. Время от времени они приподнимались в седле, размахивали над головой волосяными арканами и ловко набрасывали петли на шеи половцев, срывая их с лошадей и с радостными воплями уволакивая в степь.
– Изготовиться к бою! – подал команду воевода. Дружинники сомкнули ряды, подняли щиты и ощетинились длинными копьями. Многие воины в спешке одевали на себя снятые во время перехода кольчуги и шлемы.
Первой добычей монголов стали половцы из сторожевого отряда князя и дружинники, которые, ослушавшись приказа воеводы, устроили охоту на куропаток. Как эти бедолаги ни старались, они все равно не успели добежать к своим побратимам. Те из них, которые подняли оружие, были убиты на месте, но большая часть с волосяными веревками на шеях исчезли в клубах пыли, которая поднималась столбом за юркими всадниками.
Александр Глебович надел свой шлем, поднял щит, украшенный полосами из металла и серебра, но в седло садиться не спешил. Нужно, чтобы противник подошел поближе. Вначале он испытает меткость русских лучников и силу копейщиков. А вот тогда и князь со своей конницей вступит в бой и покажет неприятелю всю силу русского оружия.
Но неприятель близко к киевским дружинникам подходить не спешил. Больше сотни всадников кружило вокруг русичей, осыпая их стрелами. Казалось, разверзлось небо, только вместо дождя на их головы непрерывным потоком падали не капли дождя, а стрелы. Наиболее дерзкие всадники монголов проносились в десятке метров от строя русичей. Они взмахивали своими арканами и выдергивали из рядов зазевавшихся воинов, которые не успели мечом или кинжалом разрубить удавку.
Присмотревшись, князь увидел, что большинство монгольских всадников были одеты в стеганые халаты, штаны и войлочные шапки, отороченные мехом. Поверх халата были надеты доспехи из слоеной кожи, толстого войлока и металлических пластин. Все они были вооружены луками, на одном боку у них висел берестяной колчан с нескольким десятком стрел, на другом – сабля. У некоторых всадников металлические пластины доспехов прикрывали грудь и бока лошади.
Конца и края этому смертельному хороводу было не видать. Наконец, в шуме боя, криках монголов и стонах раненых князь услышал голос воеводы Петели: «На коня, братцы!»
«Ну, наконец-то, а то я уже думал, что этот старый хрыч так и будет смотреть на это братоубийство», – подумал князь, вскакивая в седло своего гнедого. Выхватив меч, Александр Глебович устремился на врага, вовлекая за собой конницу русичей. Казалось, еще мгновение, и они сойдутся в смертельной схватке с неприятелем. Но не тут-то было. Увидев, что конница русичей несется на них в атаку, монголы быстро развернули своих низкорослых лошадок и устремились прочь. Они даже не обнажили свои сабли. Отступая, монголы продолжали осыпать русичей градом стрел. Причем делали это настолько метко, что через несколько минут рядом с князем уже никого не было. Если бы не кольчуга и шлем князя – кто знает, чем закончилась бы эта погоня и для него самого.
Скоро всё было кончено. Конница князя с обнаженными мечами неслась вперёд, но противника перед ними уже не было. Отряд нападавших на них монголов исчез, растворился в степи, как будто его и не было. Поравнявшийся с князем воевода ругал монголов последними словами:
– Сукины дети, кто же так воюет? Если ты воин – выходи на честный бой. Не бегай от противника – вымай свою саблю и бейся! Глаза в глаза, ноздря в ноздрю. Черти верёвочные, вымески[53] недоношенные!
– Ты, Петелич, не шуми. – Александр Глебович вложил меч в ножны и спешился. – Строй дружину в пеший порядок и уходим. Неровен час, вернутся эти, как ты говоришь, вымески.
– А с убиенными что будем делать, княже? Не бросать же их на растерзание диким зверям, – насупился воевода.
– Не бросать. – Князь на секунду задумался. – А ты, Петелич, грузи убиенных на лошадей заместь переметных сумок и рысью вперед. Дотемна нужно добраться к своим. Если заночуем в степи – нам конец.
Дружина князя Дубровицкого вышла к боевым дозорам основных сил русичей уже затемно. Распорядившись обустраиваться на ночлег, князь с воеводой направился в полевой шатер своего тестя – князя Киевского Мстислава Романовича Старого.
Мстислав Романович обрадовался прибытию князя Дубровицкого больше всех. Не скрывая этого, старый князь встал и, сделав несколько шагов навстречу Александру Глебовичу, обнял, словно родного сына, чем ввел его в некоторое замешательство. Тесть и его зять никогда не любили друг друга. Киевскому князю всегда хотелось, чтобы молодой Дубровицкий поубавил свой гонор и прислушивался к советам своего именитого тестя. Но не тут-то было. Турово-пинский князь смолоду отличался крутым норовом и строптивым характером. Взяв себе вторую жену из знатного рода князей киевских, он и не собирался гнуть спину перед ее батюшкой. Да и кто он такой? Не зря его в народе прозвали Старым. Только и того, что из рода Мономаховичей.
Взяв чашу с вином, он расположился рядом со своим братом Андреем, который с момента начала похода находился в дружине киевского князя.
– Как ты вовремя подоспел, брат. Тут такое… – Глаза Андрея возбуждённо блестели. Наклонившись к Александру, он зашептал: – Представляешь? Князь Галицкий Мстислав Удалой хочет твоего тестя под себя подмять. Чтобы, значит, он здесь всем верховодил. Половцы за него горой.
И, как бы в подтверждение его слов, на середину шатра вышел Мстислав Удалой, князь Галицкий. Повернувшись в сторону старого князя, он громко произнес:
– Я вижу, что только ты, князь Киевский, не хочешь воевать с монголами. Тогда объясни нам, неразумным, зачем мы сюда пришли? Неужто тетерок да зайцев по буеракам погонять? Или все-таки быть подмогой половцам и освободить их земли от врага кровожадного?
Услышав такие слова, половецкие ханы зашумели и одобрительно зацокали языками. Князь Киевский Мстислав обвёл всех тяжёлым взглядом. По всему было видно, что он с трудом сдерживает свою ярость. Еще бы! Какой-то без году неделя выскочка с далеких берегов Дуная взялся здесь командовать. Да кто он такой?! Мстислав дождался, пока гомон в шатре поутих и, не вставая со своего места, произнес:
– Князя Галицкого не было на нашем последнем совете, где мною было сказано: «Пока я князь Киевский, в наших землях сабле татарской не махать». Или вы забыли?
Мстислав Романович поочередно посмотрел на каждого князя и продолжил:
– Я от своих слов не отказываюсь. Только сгоряча свою голову в петлю совать не буду и вам, неразумным, не дам. Останемся на этом берегу, укрепим лагерь, а Котян со своими половыми за это время всё разведает – сколько этой татарвы собралось на том берегу, где ихние вежи[54] стоят, в чем слабина этих супостотатов. Вот тогда, с божьей помощью, разом и ударим.
Ну а дальше произошло то, чего не ожидал никто. Мстислав Удалой не стал дожидаться, покуда киевский князь закончит свою речь. Он подошел к тому месту, где сидели Мстислав Старый и князья Дубровицкие.
– Мне надоело слушать эти речи – «нужно погодить», «давайте пообсмотримся». Сколько можно? Как ты, князь Киевский, воевать собрался, я уже понял. И как твои родственнички воюют – тоже наслышан. Что, князь, получил по сопатке от монголов?
Последний вопрос Мстислав Удалой задал Александру Глебовичу, который попервах даже растерялся. От обиды кровь прилила к его лицу. Не помня себя от ярости, он бросился на обидчика с кулаками. Хорошо, что рядом был князь Черниговский, который не дал сцепившимся выхватить из ножен свои мечи. То-то было бы кровушки!
- Разлетелись птички из свово гнезда,
- Думали напьются водицы досыта.
- Только уготована им долюшка одна,
- И попьют водицы у самого дна.
Юродивый, несмотря на всю свою худобу, оказался жилистым и таскал камни наравне с другими дружинниками. При этом рот у него не закрывался ни на минуту и, если где-то раздавался хохот, значит там и ищи Плошку. Всю оставшуюся ночь Александр Глебович вместе со своими дружинниками возводил укрепления временного лагеря. Выбрав место на каменистом возвышении, они поставили в круг все повозки, которые были в обозе. Теперь же, накладывая на них камни и мешки с землей, укрепляли и поднимали эти «стены» как можно выше.
Решив передохнуть, князь подставил спину теплому майскому солнцу и с интересом посмотрел в сторону реки. С этого места оба ее берега были как на ладони. Противоположная сторона была пустынна, но разведка половцев донесла, что монголы рассредоточились по балкам за ближайшими холмами. Многочисленные дымы от костров были тому подтверждением. И только изредка у кромки воды появлялись всадники монгольского дозора. Выпустив несколько стрел в сторону «урусов», они скрывались за ближайшей излучиной реки.
А вот в лагере Мстислава Удалого и его тестя – половецкого хана Котяна – было оживлённо. По всему было видно, что они что-то затевают. Половецкие всадники носились по степи как заведенные, а русичи чинили подпругу и точили мечи. Уже к вечеру, оставив лошадей конюхам, Мстислав Удалой и хан Котян тайно, по дну глубокой балки, вышли к берегу степной реки. Они долго всматривались в противоположный берег, по-видимому, решая, в каком месте нанести удар.
29 мая 1223 года конница русичей и половцев начала стремительную переправу на левый берег Калки – благо речка была неглубокой. Но не успели первые половецкие всадники добраться до противоположного берега, как из-за ближайшего пригорка вылетела монгольская конница. На ходу перестроившись в одну линию, они стали охватывать атакующих с двух сторон.
Мстислав Киевский и князь Дубровицкий со своими воеводами и дружинниками наблюдали за этим с высоты холма, на котором располагался их лагерь. Они видели, как идущие впереди отряды половецких всадников стали осыпать противника стрелами. В считаные минуты ряды атакующих монголов поредели. Но даже большие потери не остановили монгольскую конницу. Казалось, еще минута, и эта лавина сбросит в речку и половцев, и русичей.
Но тут произошло что-то невероятное. Александр Глебович увидел, как на левом крыле монгольской конницы появилась небольшая группа половецких всадников. Спешившись, они сняли с седел своих лошадей какие-то продолговатые корзины. Не обращая внимания на град стрел, которые тут же полетели в их сторону, они стали возиться со своим необычным грузом. И только через несколько мгновений князь понял, что затеяли половцы. Они выпустили из корзин с десяток отловленных накануне лисиц, к рыжим хвостам которых были привязаны веревки с горящей паклей. Обезумевшие от боли и страха животные бросились в степь, со стороны которой наступали монголы. Уже через пару минут лисицы оказались между копыт монгольских лошадей, которые шарахались от них в разные стороны. Четкий строй монголов был нарушен, что позволило коннице волынского князя отбросить их от берега вглубь степи. Освободившееся пространство тут же заняли половцы и дружинники князя Галицкого. Немного выше по течению переправились полки курского князя Олега Святославича. Увидев, что ситуация изменилась к лучшему, повел к переправе свои дружины и князь черниговский.
– Ай да молодцы! – искренне обрадовался действиям своих побратимов князь Дубровицкий. – И наши поганые не промах. Ишь, стервецы, чего удумали – моголов лисами попужать. Так этим скобленым рылам и надо.
В эти минуты он позабыл о вчерашней ссоре с князем Галицким и хотел только одного – не отсиживаться за повозками, а быть там, среди своих земляков, на левом берегу Калки. Опять воинская слава прошла мимо него!
– Поостынь малость, – буркнул стоящий рядом с ним князь Киевский. – Еще не вечер. Эти ироды так просто не отступят.
– Эх, неправильно полки выставили, – с досадой вторил ему воевода Петеля. – Друг дружку подпирают, да и речка дюже близко. Ежели что…
– Опять ты за свое, Петелич! – перебил его Александр Глебович. – «Ежели да кабы». Вот как ты хотел, старый пень, так и вышло, – там воины славу добывают, а мы здесь телеги переставляем с места на место.
Бросив от досады кафтан на землю, он направился к бадейке с водой и с шумом опрокинул ее на себя. Оказавшийся рядом Плошка открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, получив затрещину от князя, покатился по земле так, что только пятки засверкали.
Так прошел день. Потом еще один. Уставшие от долгого стояния в открытой степи, многие дружинники поснимали с себя кольчуги, воткнули копья в землю и стали разводить костры. Половцы, сменяя друг друга, водили коней на водопой. Особо отчаянные от скуки придумали себе забаву – взобраться на ближайший пригорок, приспустить портки и показать неприятелю свою задницу.
Монголы ударили 31 мая 1223 года. Основное направление их атаки пришлось на волынян и половцев. Первыми не выдержали натиска степняки. Развернувшись, половцы побежали к реке, увлекая за собой и русичей, которые старались выдерживать строй и продолжали бой. Началась давка и паника.
Данило Волынский вместе со своими воеводами попытался остановить бегущих с поля боя, но был ранен в грудь. Не помог ему и Мстислав Луцкий, пытавшийся зайти монгольской коннице с фланга. Под градом стрел его дружина вынуждена была отступить. На плечах у половцев монголы ворвались в расположение основных сил русичей, где их встретили воины князя Галицкого Мстислава Удалого.
– Эх, да что же вы, братцы, творите! – в сердцах воскликнул Александр Глебович, который видел всё, что происходит в пойме реки.
Приложив ладони ко рту, он что есть мочи закричал:
– Держите строй! Строй держите!
Но кто же его услышит? Пытающийся навести порядок в своих полках, Мстислав Удалой не слышал даже собственного голоса. Ржание лошадей, стоны раненых, крики наступающих, звон оружия и глухие удары щитов разносились над рекой по всей округе. Присмотревшись, князь Дубровицкий увидел, что вода в реке меняется на глазах – ее прозрачные воды стали кроваво-красными, а трава на берегу черной.
– Что ж мы стоим, братцы! – крикнул он дружинникам, которые находились рядом с ним и видели, как гибнут их товарищи. – В стремена! Поможем русичам!
Вскочив в седло, он увлёк за собой с добрую сотню дружинников, которые за своим князем готовы были и в огонь, и в воду. Они устремились вниз по склону, стараясь как можно быстрее достичь берега реки. Это было сделать непросто – навстречу им бежали десятки, сотни воинов, спешившие укрыться в лагере киевского князя. К тому же с левого фланга их стремительно атаковал отряд монгольской конницы, который отсёк отступающих от укреплений русичей.
Рискуя потерять не только руку, но и голову, воевода Петеля схватил под уздцы лошадь своего князя:
– Охолонь, княже! Нешто совсем голову потерял? Сам погибнешь и дружину положишь запросто так.
И, словно в подтверждение его слов, в кольчугу князя ударила стрела. Она пробила железные кольца и вонзилась ему в плечо. Покачнувшись в седле, Александр Глебович дал команду к отступлению. Сотня всадников турово-пинского князя успела вернуться в лагерь русичей, а вот отступающим дружинникам и половцам, особенно пешим, повезло меньше. Монголы в плен уже никого не брали. Острые клинки их сабель не знали пощады, и скоро все было кончено.
Приблизившись к лагерю, монголы попытались с ходу атаковать эти, на вид невысокие, стены, наспех сооруженные дружинниками из телег своего обоза и кибиток половцев. Но не тут-то было! Ощетинившись копьями, русичи встретили неприятеля таким градом стрел, что ему пришлось отступить. Еще несколько раз монголы пытались штурмовать лагерь Киевского князя, но всё безуспешно. Каменистые склоны холма, на котором был расположен лагерь русичей, вскоре укрылся телами погибших монголов и их лошадей. Поняв, что с ходу им урусов не одолеть, монголы, словно степные волки, почуявшие запах крови, отошли на безопасное расстояние и стали ждать.
На третьи сутки осады Мстислав Романович Старый собрал военный совет. Кроме князей Дубровицких, вокруг небольшого костерка собрались их воеводы и дружинники, за плечами которых был не один поход в степь.
– Ну что, братья, будем делать? – Киевский князь посмотрел на присутствующих тяжелым взглядом уставшего человека. – Запасы воды у нас закончились, половцы пьют кровь лошадей, а у наших молодцев от нее заворот кишок получается. Раненые опять же…
Мстислав Старый замолчал и долго смотрел на огонь, словно в его бликах можно было увидеть ответы на свои вопросы. Князь Дубровицкий поправил повязку на раненом плече и, опираясь на меч, встал:
– Вчерашний день не вернешь, а завтрашний не увидишь. – Князь опустил голову и перед его глазами пронеслись события последних дней. Эх, кабы можно было все вернуть назад! Князь встряхнул головой, словно прогоняя тяжелые думы.
– Ежели останемся здесь – помрем от жажды и голодухи. Ну а остальное эти волки доделают. – Александр Глебович мотнул головой в сторону монгольского стана: – Я предлагаю всем пробиваться к Славутичу-батюшке. Знаю, что будет это непросто. Знаю, что многие сложат свои головушки. Но лучше сложить их в открытом бою, чем помереть голодной смертью под телегой.
Наверное, князь сказал то, о чем думали многие из сидящих вокруг костра. Даже всегда осторожный воевода Петеля на этот раз промолчал и с гордостью посмотрел на своего князя. Дружинники враз загомонили, наперебой предлагая планы скрытного передвижения к Славутичу.
– Скрытно уйти не получится, – сказал один из них. – Нужно отвлечь внимание татарвы – устроить ложный прорыв небольшого отряда, потянуть их конницу за собой. А в это время основные силы двинутся к Славутичу. Пойду кликну доброходцев на это дело.
Но не успел он отойти от костра и пару шагов, как послышались крики дозорных:
– Моголы! Моголы! К оружию!
Тревога оказалась ложной. От реки по склону холма поднимались несколько человек. Шли они не таясь и безо всякого оружия. В руках одного из них был крест. Это был Плоскиня – воевода бродников, людишек без роду и племени, промышляющих рыбной ловлей да переправами с берега на берег караванщиков, а там – и кого придется. Мстислав Романович знал, что бродники были русичам единоверцами и в недавней битве не участвовали, но приняли сторону монголов и всячески им помогали. Рядом с воеводой бродников чинно вышагивали четверо безоружных монголов.
– Никак переговорщики пожаловали? – встрепенулся Мстислав Романович и с надеждой посмотрел на князя Дубровицкого. – Неужто всё обойдется?
Он тут же приказал освободить проход для парламентёров и вышел к ним навстречу. Держа перед собой крест, Плоскиня изложил условия Субэдэя:
– Хан моголов Субэдэй велел передать русичам, что он уважает храбрых воинов и дарует всем жизнь. Великий хан обещает, что если вы сложите оружие, то ни капли княжеской крови больше не прольется. Но ваша жизнь будет стоить дорого и вам за нее придется заплатить выкуп. А пока ваши сородичи будут его собирать, великий Субэдэй приглашает ханов урусов быть его гостями.
– Красиво гутаришь, воевода, – ответил ему Мстислав Романович, с недоверием поглядывая в сторону сопровождающих Плоскини. Узкие глазки монголов так и шныряли по сторонам, будто что-то выискивали. – Только нам не ведомо – правду ты говоришь, аль брешешь, как шелудивый пес.
– Истинную правду говорю, княже. Всё, что велел сказать тебе Субэдэй, передал слово в слово, – при этом Плоскиня перекрестился и поцеловал крест, который так и продолжал держать перед собой.
Среди дружинников прокатился одобрительный шум: «Не брешет, Плоскиня. На святом кресте клятву дал. Ей-богу, не брешет».
Древнерусские князья поверили Субэдэю и Джэбэ. Сняв с перевязей свои мечи и вынув из-за голенищ ножи засапожные, князь Киевский Мстислав Романович Старый, князья Турово-пинские Александр и Андрей Дубровицкие направились в Ставку монгольских полководцев.
Их сбили с ног и скрутили за спиной руки уже перед самим шатром Субэдэя. Монгольский полководец выполнил свое обещание – ни одной капли княжеской кровушки пролито больше не было. По его приказу всех взятых в плен древнерусских князей повалили на землю, сверху постелили деревянный настил, и монгольские ханы уселись на него праздновать свою победу.
Юродивого монголы не тронули. Дали для порядка пару тумаков, пустили юшку из носа и отпустили. Плошка долго бродил по стойбищу монголов, пока, наконец, не вышел к месту пира их ханов. Выхватив из-за пояса свой деревянный меч, он раз за разом бросался на стражников, пытаясь подойти поближе. Те, смеясь, отталкивали его, били по спине ножнами своих сабель или древками копий. Упав в очередной раз на землю, Плошка заплакал от бессилия, размазывая по лицу слёзы и грязь, а потом прислушался. Со стороны деревянного помоста донесся тихий стон. Потом еще один. И еще… Ему показалось, что это стонет и вздыхает сама земля Русская.
Святогорская пустынь
Местность под названием «Святые Горы» на берегах Северского Донца впервые упоминается в 1526 году в «Записках о Московских делах» австрийского посла при московском дворе Сигизмунда Герберштейна, где он упоминает воинов, «которых государь по обычаю держит там на карауле с целью разведок и удержания татарских набегов… возле места Великий Перевоз, у Святых Гор». В качестве «обители» эти места впервые названы в Государевой грамоте, датируемой 1624 годом, благодаря которой за монастырем закреплялись земли и устанавливалось ежегодное содержание «братии».
Монастырь неоднократно разорялся крымскими татарами. Особенно опустошительным был их набег в 1679 году. После восстановления во второй половине XVIII века монастырь утратил свое оборонное значение и стал духовной обителью. Приказом Екатерины II от 1788 года монастырь был закрыт, а все его земли и имущество были подарены фавориту царицы Григорию Потёмкину. Только в 1844 году указом Николая I деятельность Святогорского монастыря была восстановлена.
После провозглашения советской власти он вновь закрывается и реорганизуется в базу отдыха для трудящихся и крестьян. В пещерах бывшего монастыря открывается антирелигиозный музей. В 1992 году Успенский мужской монастырь возобновил свою деятельность, а в 2004 году получил статус Лавры.
…Перед тем как потерять сознание, Фрол услышал неприятный хруст. Это хрустнул его череп под ударом железного кистеня, который в руках выросшего перед его лошадью детины казался сущей дробинкой. Перед глазами мелькнула вставшая на дыбы гнедая кобыла его попутчика и верного товарища Мишки Томилова. Теплая кровушка залила ему глаза, и в следующую минуту над его головой сомкнулись холодные воды Донца.
– Ты у этого мертвяка по карманам пошуруй – вдруг, где полушка завалялась.
– Побойся бога, братец. Не видишь разве, человек смертушку мученическую принял. Да и по всему видать – из наших он, из православных.
Фрол слышал голоса где-то очень далеко. Он вспомнил глубокий колодец, в который они с сестренкой забрались, покуда нанятые отцом работники полдничали на завалинке у хаты. Голос матушки, которая стояла совсем рядом и звала их к столу, доносился как будто с противоположного края села.
– Фролушка-а-а-а-а! Нюрушка-а-а-а-а-а! Домо-о-о-о-ой!
Оцепенев, они с младшей сестренкой смотрели друг на друга, боясь пошевелиться. Фрол хорошо помнил, о чем он тогда подумал: «Мы, наверное, померли, а матушка про то и не ведает».
Чьи-то цепкие руки приподняли его из воды и попытались втащить в лодку. Грудью он почувствовал твердый край долбленки, а ноги так и продолжали оставаться в воде.
– Тяжелый бугай будет. Не иначе, на казенных харчах потчуется. Не то что мы, сиротинушки. Да чего мы с ним вошкаемся? Давай спихнем в воду, пущай плывет дале.
Судя по голосу, говорил совсем молодой мужчина. Фрол попытался открыть глаза, но этого сделать ему не удалось.
– Нет, Евтихей, мы не душегубы какие. Не вишь, что ль? Крест на нём. Наш значится, не басурманин.
Фрол почувствовал, как говоривший распахнул ворот его рубахи и просунул руку к груди. Через мгновение раздался радостный возглас:
– Живой! Ей-богу живой! Надобно его к старцу Макарию свезти. Помогай, Евтихей, мне одному не под силу будет.
После этих слов незнакомцы вцепились в его пояс и перевалили обмякшее тело в лодку. Лицо Фрола уткнулось во что-то скользкое и вонючее, а в нос ударил запах рыбы и прогнившего лыка.
– Ты смотри! – опять раздался голос молодого Евтихея. – Сума на боку у нашего мертвяка. Видать, государственный человек будет.
– Ну, вот видишь, – с укоризной в голосе ответил его старший товарищ. – А ты все «нехай плывет, нехай плывет». По всему видать, доброе дело мы с тобой, Евтихей, сотворили. Зачтется не токмо перед Господом нашим, но и перед царем государем-батюшкой.
Потом тело Фрола закачалось на мягких волнах родного Донца, а следом его подхватили и понесли над зеленой и сочной травой-муравой. Он качался на этом ковре, пока не достиг белых облаков, клубившихся далеко у горизонта. Кто-то невидимый приподнял его тело и бережно уложил на самое большое облако. Открыв на мгновение глаза, Фрол увидел над собой черного ворона. Большая птица подняла крыло, и прохладные струи дождя мягко коснулись его лица. Еще один взмах крыльев и горячее пламя обожгло висок Фрола так, что он вскрикнул и опять провалился в небытие…
Очнулся Фрол от холода. Спина и икры ног задубели так, как будто он всю ночь пролежал на лютом морозе. Приоткрыв глаза, он в полумраке разглядел что-то белое, окружившее его со всех сторон. «Неужто снег? Вчера вроде еще лето было», – в памяти Фрола пронеслись события вчерашнего дня.
С самого спозаранку они с Мишкой Томиловым наладились порыбачить. Накануне Мишка приглядел подходящую затоку, в которой, по его словам, «щуки кочевряжатся, аки басурмане, поднятые на пики». Но не успели они толком и снасти приготовить, как прибежал посыльный от воеводы, который велел им обоим срочно явиться в канцелярию при полной амуниции, да еще и верхи. Зная крутой норов Цареборисовского воеводы, друзья бросились седлать коней.
В городке еще не все петухи проснулись, а в канцелярии уже вовсю кипела работа. Воевода сидел за столом и самолично разбирал бумаги, которые ему услужливо подавал думный дьяк Любим. После того как царь-батюшка Михаил Федорович открыл особые приказы для разбора жалоб своих подданных, работы воеводам и старостам на местах прибавилось.
Переступив порог канцелярии, друзья замерли, вытянувшись, как того велит устав воинской службы, во фрунт. Мишка от усердия даже щеки надул.
– Ну вот что, орёлики. – Воевода встал из-за стола и сделал несколько шагов в их сторону. – Тут из высочайшего приказу царя нашего батюшки Михаила Федоровича бумагу переслали. А писана она была сродниками[55] нашими – богомольцами с Северского Донца.
Воевода глянул в сторону дьяка, и тот, взяв со стола свиток, услужливо прочитал: «Бьют челом твои богомольцы Северского Донца Успения Пречистыя Богородицы Святой черный поп Ионища, да черный диакон Германища, да старец Макарища с братией».
– Просит эта братия известно чего – хлебушка ржаного, квасу хмельного да рубища льняного. – Воевода, обхватив широкой ладонью густую бороду, на минуту задумался, а потом продолжил: – Только вот, окромя ентого, извещают они царя-батюшку про то, что не токмо богомолье их запустело, а и все земли промеж Осколом и Тором обезлюдели. Что нет им жития от татарвы проклятой, что кочевья басурманские скоро из палат царских можно будет узреть.
Воевода подошел к Фролу и Мишке почти вплотную и, глядя им в глаза, спросил:
– Как такое могёт быть? У нас под боком какие-то Германища и Ионища пишут нашему государю челобитные, а мы про то и не ведаем?!
Мишка опять надул щеки, Фрол почувствовал, что его лицо стало пунцовым от стыда. Воевода говорил с такой обидой, что он почувствовал себя виноватым и за наводнение по весне, когда Оскол вышел с берегов и разрушил земляные стены городка. И этих старцев он невзлюбил сразу же – ишь, моду взяли, шастать мимо ихнего городка напрямую в Белокаменную.
Не дождавшись от друзей ответа на свой вопрос, воевода вернулся к столу и взял из рук дьяка письмо.
– Нет, вы токмо послушайте, что они пишут дальше, – не скрывая возмущения, воскликнул он. – «По урочищам гоняют нас татары, в полоне живот свой мучаем. Есть у нас пушчонка малая, ядерок с пяток, да с десяток зарядов к ней. Токмо не обучены мы обращению с силушкой ентою. Чтобы в басурманской вере не пропасть нам, челом бьем тебе, царь батюшка, великий государь Михаил Федорович. Не откажи в милости своей, пришли нам с пяток пищалей медных, да ведерка два дроби и пулек железных к ним. А еще выдели нам человека, к военному делу сподручного, чтобы нам с ним было жить бесстрашно и надежно».
У Фрола от этих слов заныло под ложечкой. Ему уже которую ночь подряд снился местный дурачок и попрошайка татарин Слаимка. Во сне Слаимка предлагал Фролу прокатить его за денежку на своей спине аж до Азова. «Ну вот, кажись, накаркал, басурманская морда», – выругался про себя Фрол и искоса глянул на своего друга. Мишка перестал от усердия дуть щеки и на глазах становился больным и немощным не то что ехать куда-то, но даже и ходить.
Воевода опять сделал несколько шагов в их сторону и, взявшись одной рукой за рукоять сабли, которая висела у него на поясе, а другую положив на плечо Мишки, сурово произнес:
– А приказ мой будет таков. Вырушайте в эти Святые Горы, найдите там богомольцев и учините им расспрос по всей строгости. Прознайте, что это за людишки. И самое главное, выведайте – правду ли пишут они в своей челобитной, что татарва повадилась своих коней поить у самого перелазу на Посольской дороге?[56] На всё про всё вам четыре дня сроку. А там будем поглядеть, что с ентими старцами делать. То ли пороху дать им с пульками, то ли перцу в одно место.
С тем и выступили. Достигнув левого берега Донца, друзья гнали своих лошадей не таясь. И только ближе к вечеру пошли украдом[57], удалившись от реки и прижимаясь к зеленым дубравам и зарослям кустарника. К перелазу через Донец они добрались, когда в небе появились первые звезды. Решив устроить привал на ночлег уже на правом берегу реки, они смело направили своих лошадей в воду. О том, что было дальше, Фрол помнил смутно. Позади них мелькнули какие-то тени. Лошадь друга, ехавшего немного позади, стала на дыбы, и Мишка, вскинув руки, свалился в воду. В это же время рядом с Фролом возник огромного роста мужик, который взмахнул рукой. Дальше была темнота и плеск воды.
Фрол попробовал перевернуть свое замерзшее тело, но ему удалось только судорожно пошевелить рукой, а в голове зашумело так, как будто он стоял под колоколом на звоннице в День Святой Богородицы. Из его груди вырвался слабый стон.
Справа от него послышался какой-то шорох. С трудом повернув в ту сторону голову, Фрол увидел гроб, сделанный из грубых досок, и копошащуюся в нем фигуру, одетую во все черное. «Ворон!» – вспомнил он свои ночные видения. Фигура, кряхтя и покашливая, выбралась из домовины и стала возиться в своем закутке. Через мгновение появился слабый огонек лучины. Фрол с интересом огляделся.
У гроба на коленях стоял старик в изношенном монашеском одеянии. Он смотрел в пол и молился перед крестом, который был вырублен на одной из стен кельи. Вокруг всё было белым. «Так вот оно что, – догадался Фрол. – Пещерка вырублена в меловой скале!» Он лежал на таком же меловом полу. Его тело занимало все свободное пространство крохотной пещеры, служившей монаху кельей. Под его голову, перевязанную серой от времени, но чистой тряпицей, был подложен толстый дубовый сук.
Пока он осматривался, в крохотное оконце проник серый лучик света. Монах закончил свою молитву и только после этого повернулся в сторону Фрола. Какое-то время они смотрели друг на друга. Первым не выдержал Фрол. Приподнявшись, он тихо спросил:
– Я с другом был. Что с ним?
Казалось, что монах его не услышал. Покачиваясь из стороны в сторону, старик безучастно смотрел перед собой, беззвучно шевеля губами и время от времени осеняя себя широкими крестами. Неизвестно, сколько бы еще пришлось Фролу лежать на холодном полу, но в это время за окошком раздались приглушенные голоса, и хлипкая деревянная дверь со скрипом отворилась. Раздался голос, который Фрол уже где-то слышал:
– Слава Всевышнему! Отец Макарий, ну что, наш утопленник – не помер еще?
Старик ничего не ответил. Взяв у пришедших туесок с водой и льняное полотенце, он закрыл перед ними дверь и принялся промывать рану на голове Фрола. Делал это старик без суеты, аккуратно, продолжая бормотать молитвы. Наконец, приложив к ране прохладные листы какого-то растения, он туго перебинтовал голову Фрола куском полотенца, собрал окровавленное тряпье и вышел из кельи. Несмотря на головокружение и тошноту, Фрол с трудом приподнялся и сел, а заглянувший в келью молодой инок помог ему перешагнуть через порог.
Обитель похожего на ворона монаха находилась в скрытом от посторонних глаз урочище – пройдешь рядом и не заметишь. Только еле заметная тропинка, ведущая к реке, говорила о том, что здесь иногда бывают люди.
– Ты, мил-человек, на нашего старца не серчай, – благодушно произнес монах, пришедший вместе с молодым иноком. – Много лет назад отец Макарий принял обет молчания, покинул братию и ушел в этот скит[58]. Если бы не он, помер бы ты, парень, еще этой ночью. Как пить дать – помер.
После слов своего второго спасителя Фролу захотелось не только пить, но и есть. Словно прочитав его мысли, монах поставил перед ним небольшое лукошко с провизией и водой.
– Чем богаты, тем и рады. Подкрепись перед дорогой. Меня Степаном кличут. А ты кто таков, мил человек?
Фрол присел на пригорок и пододвинул к себе лукошко. «Да, небогато живут здешние богомольцы», – подумал он, доставая из лукошка ржаную лепешку и плохо мытую редьку. Запивая нехитрую снедь родниковой водой, он рассказал своим спасителям кто он, откуда и куда направляется.
– Ишь ты, – обрадовался Степан. – Значит, таки дошла наша челобитная! До самого царя нашего батюшки дошла. Услышал нас государь, смилостивился, раз направил сюда государственного человека.
С этими словами Степан бухнулся перед Фролом на колени и запричитал:
– Да раз такое дело, я тебя, господин хороший, до наших старцев на себе понесу. Надо будет – в телегу, как последняя скотина, впрягусь, а доставлю.
– Не нужно в телегу. – Поев, Фрол почувствовал себя гораздо лучше. – Показывай дорогу до вашей пустыни. Далеко ли идти?
Монахи взяли Фрола с обеих сторон под руки, и они двинулись вдоль реки к белеющему над берегом меловому утесу. Оглянувшись на свое ночное пристанище, Фрол не удержался и спросил:
– Ну, отшельником жить в пещере – это мне понятно. Токмо, зачем сразу в гроб ложиться?
– Так оно так сподручней, – хмыкнул в ответ молчавший до этого Евтихей. – Ночью в ящике теплее, чем на камне, хоть он и из мела. А ежели ненароком помрешь – так вот он я, Господи, принимай душу грешную в полной готовности и в соответствии с обрядом.
Его напарник от возмущения даже поперхнулся. Бросив Фрола, он отвесил Евтихею подзатыльник и начал креститься, как будто увидел перед собой черта.
– Гореть тебе в геенне огненной, Евтихей. Язык твой черный приведет тебя в преисподнюю и не будет тебе прощения, и не увидишь ты кущей райских, и не познаешь радостей праведника земного.
Может быть, Фрол узнал бы еще больше о будущем грешной души Евтихея, не окажись они вскоре у подножия скалы. Меловой утес возвышался над рекой так, что казался огромным белым парусом – кажись, еще один сильный порыв ветра и оторвется эта белоснежная глыба от земли, и поплывет сначала над водной гладью Донца, а потом над полями-дубравами бескрайних степных просторов.
Глядя вверх, у Фрола закружилась голова и начала ныть рана под повязкой.
– Саженей[59] тридцать будет? – спросил он у провожатых, прислонившись к дереву, чтобы не упасть.
– Что ты, парень! – с хвастливыми нотками в голосе ответил ему Степан. – Почитай, сажён пятьдесят, а то и поболе. Никто ж шагами не мерял, а летать не приучены.
Слушая их разговор, Евтихей повернулся к Донцу и, приложив ладони ко рту, громко крикнул: «Эге-ге-гей!!!»
Звонкое эхо, как будто оттолкнувшись от меловой скалы, понеслось над спокойными водами Донца, то поднимаясь к голубой синеве неба, то опускаясь к изумрудной глади реки. Потревоженные криком, из прибрежных зарослей камыша поднялись ввысь и закружили над рекой стаи птиц, какая-то мелкая живность зашуршала в соседних зарослях, пытаясь укрыться от беспокойных соседей.
– Ты почто, тля болотная, озоруешь? Хош беду басурманскую накликать?
Голос раздавался откуда-то сверху. Присмотревшись, Фрол разглядел на поверхности меловой скалы черные точки окошек. Они были такими маленькими, что больше напоминали бойницы в крепости, чем окна.
– А кто это тама свое зевало раскрыл? – тут же ответил невидимому обидчику Евтихей. – Ты, чтоль, Пронка?
В ответ из окошка высунулась рука с глиняным горшком и на голову Евтихея потекли вонючие помои.
К удивлению Фрола, парень не обиделся, а весело рассмеялся, стряхнул с головы что-то липкое и погрозил кулаком в сторону утеса.
– Будя озорничать, – незлобиво произнёс Степан. – Поторопимся. Отец Иона, поди, заждался.
Он сделал несколько шагов в сторону и скрылся в неприметной узкой расщелине, которая круто поднималась вверх и терялась в сумраке деревьев, крона которых надежно прятала от посторонних глаз проход к кельям богомольцев.
Пройдя по тайному ходу саженей десять, они вышли на ровную площадку где-то уже сбоку утеса. С интересом оглянувшись, Фрол увидел перед собой что-то вроде хозяйственного двора, где лежали нетесаные бревна, стоял целый ряд кадок, несколько разбитых ульев, а чуть в стороне на колках сушилась рыбацкая сеть. По двору важно выхаживал худой петух, рядом с которым копошилось с пяток курей. «Однако приход не из богатых будет», – подумал Фрол, снимая шапку, чтобы по привычке перекреститься перед церковью, которые хоть и маленькие, но стояли везде, где селился православный люд. Но сколько он ни вертел своей израненной головой, привычной маковки с крестом так и не увидел.
– Неужто, отрок, Господа нашего, отца Всемогущего хочешь узреть? – Из тени появилась фигура монаха с деревянным посохом. – Не там ищешь, парень. В душу свою загляни, может, что и разглядишь.
Из-под низко опущенного капюшона серой от меловой пыли сутаны на Фрола смотрели черные, как уголья, глаза.
– В прошлом годе приходила к Святым Горам татарва, много беды в округе понаделала, а государево богомолье разорило. Вот с тех пор никак и не поднимемся. Ступай за мной.
Повернувшись, старец наклонился и исчез в нише одной из пещер. Его спасители Степан и Евтихей остались во дворе, а Фрол, стараясь не отстать, шагнул следом за монахом. Дневная жара сразу же сменилась прохладой, и Фрола окутала темнота. Фигура старца впереди еле угадывалась. Он старался не отстать от старца, который хорошо ориентировался в подземелье. Путешествие подземными ходами было недолгим, и вскоре они оказались в просторной пещере с округлыми сводами. В одной из стен были вырублены два окошка, из которых в пещеру проникал дневной свет. Монах остановился перед вырубленным прямо на стене изображением четырехконечного креста и перекрестился. Сняв шапку, осенил себя знамением и Фрол.
– Ты кого привел, Иона? – послышался из темного угла тихий, совсем немощный голос.
Присмотревшись, Фрол увидел сидящего на деревянной лавке еще одного старца. По всему было видно, что годами он был старше Ионы и Фрола, вместе взятых. Голова старика склонилась на грудь, уткнувшись подбородком в седую и длинную бороду. Ладони с худыми узловатыми пальцами вцепились в отполированную до блеска палку, которая лежала у него на коленях. Поверх рясы было наброшено рядно, которыми обычно укрывают от холода лошадей, а ноги укутаны мешковиной. На груди старика Фрол разглядел деревянный крест, висящий на промасленной веревке.
– Это, отец Александр, государев человек, которого намедни из Донца наши иноки выловили.
Монах кивнул Фролу на еще одну лавку. Присев, тот рассказал старцам историю о том, как его еще вчера вместе с Мишкой Томиловым вызвал к себе Цареборисовский воевода и какое поручение он им дал. Оба старца слушали его внимательно, не перебивая, но, когда Фрол стал говорить о приключении во время переправы, отец Александр встрепенулся:
– Это что ж такое получается? Слыхивал я, что лихие людишки по ночам шишиморски[60] ходют по гумнам да по пчельникам, лошадей крадут да другую живность разную. Но чтоб людей побивать?! Да еще и на самой Посольской дороге?! Такого отродясь не бывало.
Старик с трудом поднял голову, и Фрол увидел, что вместо глаз у него черные западины.
– Сам теперя видишь, паря, что не зря мы к нашему государю обратились. Тяжелые времена наступили для святого места. Ризы камчатые да пояса шелковые не просим мы. Просим людишек заставных[61] прислать, военному делу обученных, чтобы порядок на Посольской дороге блюсти, да отпор басурманам учинить.
Отец Александр говорил с трудом, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Вместо него продолжил старец Иона:
– В прошлом годе татарва разгулялась. На сакме[62] пыль месяцами стояла – все в Крым полоны из православных гоняли. Добрались и до нас. Эти нехристи считают правый берег Донца своим, и наша обитель для них, как бельмо в глазу.
Монах подошел к окну и позвал Фрола. Солнце уже перевалило за полдень, и в небе не было ни одной тучки. Выглянув в окошко, Фрол ахнул. Вроде и шли они по коридорам недолго, а забрались на такую высотень! Весь левый берег Донца лежал перед ним как на ладони.
– Татары еще далече сакму топчут, а у нас они уже, как на ладони. Только успевай дымовые костры жечь, чтобы православных о беде упредить. Вот за это они нас и невзлюбили. Налетели со стороны соляных озер, всё порушили, многих иноков в полон взяли. Кто успел схорониться, тот и выжил. Старца Александра пытали дюже, глаза ему каленым железом выжгли, чтобы он им про крепость вашу Цареборисовскую сказывал. Что да как там у вас устроено.
– Так что же вы басурман не упредили? – не удержался Фрол и перебил старца: – У вас же здесь настоящая крепость – осаду неприятеля можно долго выдюжать.
Монах с укоризной взглянул на парня и отошел от окна в глубь кельи. Помолчав какое-то время, сказал:
– Так-то оно, может, и так… Токмо без воды в пещерах мы еще какое-то время выдюжим, а вот как без военного снаряжения обойтись? Да мы и пищалей в руках отродясь не держали… Ну разве что рогатинами помахать во славу Отчизны еще сподобимся.
– Какими рогатинами? – опять не удержался Фрол. – Вы же в грамоте писали, что и пушчонка у вас имеется, и заряды к ней?
– Так, а я об чем гутарю? Пушчонка не рогатина, – уже с обидой ответил ему монах.
И тут вновь заговорил старец Александр:
– Будет болтать, Иона. Покажи служивому, что у нас из оружия имеется. Пусть определит – годно ли оно для дела, да кого-то из братии пусть обучит обращению с ним.
Весь оставшийся день Фрол со своими помощниками Степаном и Евтихеем занимались ревизией имевшегося у богомольцев вооружения. Старики не обманули – пушчонка действительно у них имелась. Фрол сразу понял, что эта маленькая вьючная пушка предназначена для короткого боя и легко может переноситься на руках с одного места на другое. В отдельной келье хранился небольшой запас ядер и зарядов. Что особо обрадовало Фрола, так это сухость этой пещерки – значит, и порох должен быть сухим. «Надобно станину к этой пушчонке смастырить, чтобы при отдаче никому ребра не поломала, – строил в уме планы Фрол. – Да и пальнуть пару раз, для пущей надёги не помешало бы».
На следующее утро, объяснив монаху, который умел держать в руках топор, как сделать станину для мортирки, он со своими помощниками решил осмотреть окрестности. Фрол еще вчера, глядя вниз из окошка пещерной церкви, сообразил, что наиболее уязвима обитель со стороны нижнего течения Донца. Именно оттуда, со стороны соляных озер, поднимаясь вверх по течению реки, и приходили всегда татары. С этой стороны склоны меловых круч были не такими крутыми, а изрезавшие их урочища – не такими глубокими. И самое главное, что разглядел Фрол – вдоль реки тянулась ровная полоса берега, не поросшая лесом.
– Да здесь шестёрка лошадей легко в ряд пройдет! – объяснял открывшуюся им диспозицию Фрол. – Вот она, дырка в нашем кармане.
Степан и Евтихей может слова «диспозиция» и не поняли, но про шестёрку лошадей смекнули сразу. Оглядевшись вокруг, Степан предложил «залатать дырку в кармане» с помощью обычной в крестьянском деле зарубы – перекрыть дорогу к обители завалом из деревьев.
– Токмо деревья валить будете не сразу, – учил своих подопечных Фрол. – Нужно их заранее подрубить, а на дорогу валить только по сигналу или знаку какому.
Все свои соображения он вечером доложил старцам Ионе и Александру. Их беседа проходила всё в той же пещерной церкви, которую отец Александр в последнее время из-за своей немощи не покидал вовсе.
– О военных надобностях ты, как человек государственный, расскажешь своему воеводе сам, – обратился к Фролу старец Иона. – Но, окромя этого, мы подготовили прошение на выделение для нужд обители вещей, без которых службу в церкви вести никак нельзя. Для живота своего ничего не просим, дайте Евангелие толковое печатное, апостол служебный, кадило медное, сосуды оловянные, ризы и стихари[63]. Ну а ежели кормовых денег на пропитание братии выделят – будем просить Господа Бога о здравии наших благодетелей и денно, и нощно.
Старец протянул Фролу писаную ими грамоту и спросил:
– Когда выступать думаешь?
– Да хоть завтра утром, – не задумываясь ответил Фрол. – Только вот боязно мне за вас – а ну как татары прискачут? Вы ж тут, как малые дети.
– Не прискачут, – уверенно ответил Иона. – Летом в степи жарко, а вот к осени, когда жара спадет, а окрестный люд выйдет в поля урожай собирать, вот тогда они и нагрянут. Этот народец – не любитель в городах воевать, им степное раздолье больше по душе. Уж мы-то их повадки знаем.
Лошадей в обители отродясь не было, поэтому в обратную дорогу Фрол отправился пешком. Только одного его старцы не отпустили. Дали ему в друзья Степана и Евтихея. Когда проходили мимо скита старца Макария, Фрол заглянул в памятную для него пещерку. Только старца там не оказалось.
– Кто его знает, где этого отшельника искать, – пожал плечами Евтихей. – Может, где в лесу травы да коренья собирает, а может, рыбу ловит себе на пропитание. Главное, что в гробу его нет. Значит, живой, и слава богу. Хороший дед, тихий. Если близко не подходить.
Фрол снял с еще перевязанной головы шапку, отороченную лисьим мехом, и положил ее на порог у входа в пещерку. Зимой в таком жилище, наверное, холодно будет.
…В обитель они собрались, когда листья на деревьях уже начали желтеть, а с неба все чаще начинал моросить мелкий холодный дождь. Степан и Евтихей сидели на телеге, которую загрузили нехитрым скарбом из списка святогорских старцев. Были тут и пищали, и пули с дробью, а также ядра и заряды к пушке. Окромя этого, выделил воевода богомольцам несколько топоров, пилу да пару заступов[64]. Кормовых денег без высочайшего распоряжения он выделить не смог, но зато дал старенький невод. Нашлась для обители и церковная утварь. Как сказал Евтихей, загружая все это добро на телегу: «Вот теперя зажируем!» Рядом с телегой верхи ехал Фрол с тремя сослуживцами. За пазухой у Фрола лежала грамотка от Цареборисовского воеводы, согласно которой назначались они в Святогорскую пустынь заставными людьми, службу нести на самой южной окраине государства Российского.
В обители их заждались. Только вот старец Александр не дождался доброй весточки – помер в аккурат на Яблочный Спас. А через пару недель пожаловали и татары. Около десятка всадников показалось со стороны степи и без утайки направилось к меловому утесу. Степан и Евтихей зарубу сладили умело – два огромных дуба рухнули перед крымчаками в самый подходящий момент. А тут и пушчонка плюнулась ядрышком железным. Фрол было бросился ее перезаряжать, да куда там! Басурмане шуганули в разные стороны, как зайцы от волка. Одни попадали в Донец вместе с лошадьми, других вышибло из седел, и они умылись красной юшкой в серой дорожной пыли. Служивые пальнули вдогонку татарам из пищалей уже больше из азарту, нежели из надобности.
Из-за деревьев выскочил Евтихей и бросился к Фролу:
– Надобно в погоню итить! А то уйдут басурмане за соляные озера и расскажут своим про то, как мы их тута встретили.
– Нехай, – спокойно ответил ему Фрол, а потом добавил: – Пущай все знают про такое место, как Святые Горы, и про то, кто здесь хозяин.
Дорога измен и предательств
Берега реки Бахмут испокон веков служили естественной преградой для кочевых племён, искавших наживу и пленников в землях Руси. Путь ногайцев и крымских татар за добычей пролегал через эти места, вдоль реки на север.
В XVI веке, в 1571 году, Иван Грозный положил конец бесконтрольным странствиям степных разорителей и постановил учредить пограничные заставы со сторожами, шестая из которых была названа Бахмутской.
Быть бы Бахмуту обычной крепостью на пути кочевников, но нашли там казаки соляные источники. С тех пор вокруг Бахмутских залежей соли шли споры, происходили конфликты, проливалась кровь.
Спустя сто тридцать шесть лет, в 1707 году, за право на добычу соли схлестнулись Изюмские казаки с Донскими, но победу в этом противостоянии одержал государь. Пётр I.
