Мария
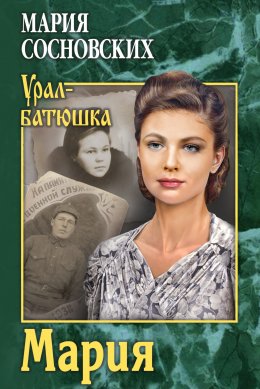
© Сосновских М.П., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Сильнее непреодолимых обстоятельств
Мария Сосновских – уникальное явление в российской литературе. Её трёхтомник – «Переселенцы», «Чертята» («Время полыни»), «Мария» – своеобразная энциклопедия повседневной жизни, традиций, обычаев, истории, религиозных воззрений и трудовых навыков русского народа. На примере крестьянского рода Елпановых писательница нарисовала собственную картину истории России. Действие трилогии начинается в 1724 году, а заканчивается 9 мая 1945 года – в день окончания Великой Отечественной войны.
Судьба не баловала Марию Сосновских, как и большинство русских людей, зарабатывающих на жизнь трудом. Она вместе со своей семьёй с самого детства была «в труде», как рыба в воде. Иногда вода становилась настолько непригодной для жизни, что, казалось, единственный выход – выброситься на берег, но воля к жизни всякий раз оказывалась сильнее непреодолимых обстоятельств, выпавших на долю семьи Марии. Здесь и обустройство семьи с нуля в непроходимой тайге после того, как на прежнем месте «от сибирской язвы вымер почти весь скот и погорели от засухи все посевы». И коллективизация: «…в 1930 году у нас всё отобрали – скот, хлеб и всё остальное». И война: «В это лихое время поступила на эвакуированный в Ирбит мотоциклетный завод; на нём и проработала всю жизнь заточником».
Проза Марии Сосновских лишь на первый взгляд проста и бесхитростна. В основе этой простоты – мудрость и природный здравый смысл народа. «Вынесет всё, что Господь ни пошлёт», – не без горечи писал Николай Некрасов, видя в бесконечном терпении необоримую силу русского народа. Но Мария Сосновских отнюдь не певец народного терпения и покорности (любой) власти. Она сама – частица той силы, которая превыше терпения, как, впрочем, и управляющей народом в разные исторические периоды власти. Трилогия писательницы – художественное подтверждение мыслей современного философа Игоря Смирнова. Этот учёный утверждал: «Внимательное изучение фактов и обстоятельств российской истории за последние 200 лет с неумолимостью заставляет сделать парадоксальный вывод. В подавляющем большинстве развилок истории и её ключевых ситуаций из нескольких возможных вариантов в реальности всегда приключается наиболее неблагоприятный для страны и её народа. Складывается впечатление, что на протяжении двух столетий кто-то постоянно вмешивался в естественный ход событий. В итоге выбор неизменно происходил не между хорошим и плохим, а между плохим и худшим. Причём финальным выбором почти всегда оказывался худший вариант».
Но, продолжим мысль философа, каждый раз страна и народ каким-то образом выживали, а иногда даже становились сильнее.
Мария Сосновских видит корни этого стоицизма в ответственности за землю, за свою семью, наконец, за жизнь и труд, которые во все времена питали необоримую силу русского народа. Эта сила стояла камнем посреди земли, а над ней кружился, завывал ветер власти. Иногда, как в конце девятнадцатого – начале двадцатого века, относительно милосердный, но чаще, как в послереволюционные и тридцатые годы, – злой и беспощадный. Редко у кого из современников тех событий можно встретить столь точное и лаконичное описание технологии, перепахавшей традиционный крестьянский уклад в период сталинского «великого перелома»: «Прежде дружелюбный деревенский народ после 1930 года разделился на два лагеря. По любой пустячной ссоре разгоралась страшная вражда, сосед доносил на соседа. По любому доносу без суда и следствия людей забирали, увозили без права переписки, отправляли на Колыму».
Мария Сосновских начала писать, выйдя на пенсию. Но материалом для объёмного литературного труда послужили рассказы, воспоминания родственников, знакомых и незнакомых людей о «старой жизни», которые она долгие годы старательно записывала в общие тетради. «За десять лет, – вспоминала писательница, – их накопилось сорок».
Она шагнула в литературу не из журналистики, не после обучения в Литературном институте, как большинство современных авторов, а из самой что ни на есть глубины народной жизни. Мария Сосновских услышала сквозь время и донесла до нас голос простого русского человека, представителя того самого «глубинного народа», о котором сейчас так любят рассуждать философы и политологи.
В чём-то она повторила творческий путь Владимира Даля.
Имя родившегося в ноябре 1801 года писателя, этнографа, собирателя фольклора, автора записок о последних часах жизни Александра Пушкина в нашем представлении навеки соединилось с русским языком. Умирая в квартире на Мойке, поэт оставил Далю свой любимый перстень с изумрудом и простреленный пулей сюртук. Два эпохальных труда Владимира Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа» – стали спутником, как писал академик Виноградов, «не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося русским языком». Даль прожил насыщенную жизнь – плавал по морям, участвовал в войне с Турцией, усмирении Польши, походе в Хивинское ханство, сопровождал Пушкина в экспедиции по Уралу, где тот собирал материалы о пугачёвском бунте, был глазным хирургом, гомеопатом, чиновником особых поручений при губернаторе в Оренбурге.
Мария Сосновских – человек другого поколения, другого социального статуса. Её жизнь внешне была не столь богата участием в исторических событиях и судьбах великих современников. Но в сохранении для потомков и учёных-филологов особенностей живого русского языка она продолжила работу Владимира Даля. «Это ещё совершенно новое у нас дело, – благословил Даля на подвижнический труд по собиранию русского фольклора в своё время Пушкин. – Вам можно позавидовать – у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундук перед изумлёнными современниками и потомками». Мария Сосновских в своих прилагаемых к каждому тому глоссариях собрала достойное пополнение для запылённого и изрядно замусоренного в последние десятилетия «сундука» с сокровищами русского языка. Неважно, что многие слова навсегда вышли из употребления и вряд ли когда-нибудь вернутся. Она сохранила память о них, извлекла из толщи времени ещё один инструмент, позволяющий увидеть и понять душу тогдашних русских людей, прикоснуться к внутреннему миру ушедших поколений.
Владимир Даль умер, успев получить признание современников. Из распахнутого им (200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц) «сундука» черпали идеи и образы славянофилы – Киреевский, Аксаковы, Хомяков. Ценили Даля и западники – Тургенев, Герцен, Чаадаев. «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе», – писал о нём в 1845 году Белинский. Кстати, в теоретике и собирателе русского языка не было ни капли русской крови. Отец Даля был датчанином, мать – француженкой. Сам он, в совершенстве владевший несколькими языками, этим вопросом не заморачивался: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском».
Глоссарии Марии Сосновской, не сомневаюсь, тоже будут интересны всем, кому близок и дорог русский язык. В этом нет сомнений.
Несколько лет назад в журнале «Роман-газета» был опубликован сборник коротких рассказов и новелл Владимира Даля «Суд Божий». По своей тематике приближённости к самым потаённым думам «глубинного народа» он мог быть создан только русским человеком. В конце жизни Даль перешёл из родительской (лютеранской) веры в православную. «Россия погибнет только тогда, – утверждал он, – когда иссякнет в ней Православие…»
Или русский язык, хочется добавить сегодня. В двадцатые годы знаменитый учёный Чижевский писал, что «русский язык объят пожаром». Сегодня пожаром объята вся культурная жизнь страны. Рухнувшим в интернет постсоветским поколениям нет дела до сбережённых подвижниками русского языка сокровищ.
Манера письма Марии Сосновских удивительно созвучна манере Даля. Трёхтомник состоит из новелл, ярко высвечивающих то или иное событие, тот или иной эпизод в жизни героев. Это делает повествование живым и лёгким для чтения. По мере продвижения в глубь текста перед глазами читателя постепенно разворачивается и наполняется содержанием историческое полотно жизни народа с его светлыми и тёмными сторонами. Мария Сосновских не идеализирует своих героев, главное для неё – писать правду, пусть даже она (а такое часто случается) характеризует героев повествования не с лучшей стороны.
Писательница владеет «магией» слова, многие эпизоды трилогии напоминают фрагменты исторических фильмов, настолько они образны и психологически достоверны. Взять, например, такие новеллы, как «Страшная находка на берегу» или «Пугачёвское восстание». В описании потрясшей Россию во второй половине восемнадцатого века крестьянской войны Мария Сосновских придерживается пушкинской традиции, высвечивая неоднозначное отношение простых людей к «мужицкому царю» Пугачёву и его идеям о правде, справедливости. Народ, по большому счёту, не решился в то время разрушить до основания государственный порядок, хотя и был изрядно раздражён и измучен издержками крепостного права.
Терпения хватило ещё на полтора века. Но и новая послереволюционная жизнь не принесла крестьянам счастья. «Харлово встретило Новый год разграбленными магазинами – не было соли, керосина, спичек и мыла. С отсутствием необходимых товаров крестьяне кое-как справлялись – сами варили мыло, спички заменили трутом и огнивом. В домах снова зажгли лучины…»
Показательна сцена наказания кнутом Петра Елпанова, угодившего в «правёж» по подозрению в сочувствии бунтовщикам (нескольких из них, насильно мобилизованных Пугачёвым, он пытался выдать за наёмных рабочих на своём хуторе). Но даже это жуткое наказание, после которого он едва не умер, не сломило волю Петра, не отвратило его от повседневного труда ради благосостояния своей семьи, своего рода. Точно так же выживали герои трилогии в годы коллективизации, когда «активисты, пройдя по домам, забрали у крестьян весь скот и птицу». Собственно, и сегодня «оптимизированная», освобождённая от больниц и школ российская глубинка существует всё в том же режиме выживания. В этом смысле труд Марии Сосновских можно считать хрестоматией по взаимоотношениям народа и власти.
Трилогия Марии Сосновских относится к категории литературных «чудес», которых никто не ждал и которые, в принципе, не могли состояться. Примерно так же, как знаменитые рисованные воспоминания Евфросинии Керсновской, где она описала свою жизнь в ГУЛАГе. Альбомы бывшей бессарабской помещицы произвели большое впечатление на читателей в начале девяностых годов.
Прожившая большую и трудную жизнь, Мария Сосновских воплотила свой опыт, талант, страсть исследователя и любовь к предкам в удивительный памятник времени, который, уверен, будет по достоинству оценен современниками и представителями будущих поколений. Если не сегодня, то завтра. В этом можно не сомневаться.
Юрий Козлов, писатель, главный редактор журнала «Роман-газета»
Часть I. Детство на хуторе Калиновка
Вместо пролога
Ильин[1] день. В селе Харлово – разгар праздничных увеселений: конные бега и скачки, борьба, качели-карусели… Молодые парни стараются перещеголять один другого на турниках, на кольцах, прыгают через «козла», перетягивают канат. Мужики играют в городки, шаровки, а то и детство вспоминают – с азартом режутся в бабки. Дряхлые старики с завалинок следят за игрой, переговариваются:
– Эх, не так, ну не так бьёт-то! Вот я, бывало, в бабки – ого, как играл: завсегда, как выйду – мой кон был! Теперь уж ничё не поделаешь, ушли годы, да и удали не стало…
Девки не отстают от гармониста. Тот уж устал таскать целый день гармонь по жаре, но от девок никакого отбою нет. Гармонист садится в холодок, в тени чьего-нибудь сарая на бревно, вытирает пот рукавом косоворотки и начинает играть. Девки водят хороводы, поют проголосные[2] песни или частушки.
Замужние бабы сидят за оградами своими компаниями, бесконечно грызут семечки, пересказывают новости и сплетни. При бабах – детвора: и пелёночные ещё ребятишки, и ползающие, и уже ходячие.
Старухи, подоткнув под гасник[3] подолы праздничных юбок, выходят на улицу.
Ильин день – для всех праздник. Но Панфил Сосновский праздничного безделья долго вытерпеть не может. Вечером после крестин младшей дочери, названной Марией, он, посадив старших в телегу, поехал смотреть хлеба. Вернулись по потёмкам, привезли грибов да ягод, груздей и смородины.
– У Ржавца, на угоре, пшеницу нашу вчерашней грозой – ну как бревном укатало! Завтра немедля надо жать начинать, а то всё зерно утечёт, – сказал Панфил жене, – ты тоже с нами поедешь, или мы одни с робятами жать будем?
– Знамо, поеду – страда ведь. Ильин день прошёл, чё ждать-то ещё? Так и всё лето можно дома просидеть! Ваську оставим с малышней, а Любашка да Костя пусть жать помогают.
Назавтра Парасковья встала раным-рано и напекла хлеба. Подоив корову, поставила в печь горшок молока. Разбудила сына:
– Смотри тут за робятами да маленькую к рукам не приважай, а то изнежится – сам же потом с ней замаешься. В печи молоко варится. Как сверху пенка будет, вытащи из печи горшок, а остынет – накормишь ребят.
Она подала сыну заскорузлый коровий рожок для новорождённой сестрёнки. Ваське уже десять лет, и он слушает мать вполуха: и сам, небось, знает, как с младшими нянчиться. Но одно дело с полуторагодовалым братишкой, а ведь ещё и крошечная Манька…
Да, кроме того, сколько работы мать оставила по дому: дров наносить, накопать и намыть картошки, следить, чтоб в огород не забрались курицы. А вечером, как скотина вернётся, нарвать капустного и свекольного листа, накормить овец. Да если какая овца по дороге заплутает – всё село обежать придётся, чтоб её, заразу, найти.
«То ли дело – поехать с отцом и со старшими в поле. Даже жать, не разгибая спины, целый день – и то намного веселее. А тут столько дела, да ещё эта родилась», – задумался о своей тяжёлой доле Васька. Но грусть была недолгой – в окне показалась смешная веснушчатая рожица Титка Ростивонова – соседского парнишки, ровесника и задушевного Васиного дружка:
– Пойдём играть за лыву![4] У меня новый панок[5] есть! – хвастается Титко. – Хочешь, покажу? Со свинчаткой! Ох, и здорово бьёт! Где твои бабки[6], давай попробуем?
Васька тотчас выскочил во двор и только-только собрался убежать с другом, как Николка, босой, в одной короткой рубашке, вывалился из дверей.
– Наказанье ты моё! – в сердцах воскликнул Васька, схватил брата и потащил в избу.
Манька, слава богу, спит. Васька, стремясь накормить брата, подбежал к печи, взял ухват[7], умело подцепил горшок с молоком. Руки дрожат от напряжения, а под[8] печи, как назло, неровный, выщербленный. Васька из последних сил приподнимает горшок и на вытянутых руках осторожно подтягивает к себе. Неожиданно горшок срывается с ухвата, и… молоко, такое вкусное, с коричневыми пахучими пенками, разливается по всему печному поду, заливая загнётку[9]. Под трескучий аккомпанемент затухающих углей по избе разнеслась невыносимая вонь горелого молока…
Николка, увидев бесславную гибель любимого лакомства, истошно заревел и разбудил мгновенно завопившую Маньку.
Васька, всплеснув по-взрослому руками, кинулся к кринке с сырым молоком, налил в кружку для братишки и в рожок – Маньке.
– Как хорошо, когда Любашка дома. Она успевает всё сделать вовремя, не то что я, – думает Вася, поглядывая на притихших детей…
– Васька! Побежали за лыву! – вдруг раздался за окном голос Титко.
– Некогда мне! – раздражённо ответил Вася.
– Да я ведь тебе потом помогу, вот увидишь!
Но надежда на друга плоха. Вася это уж не раз испытал. Титко может играть до вечера, а потом убежит домой или натворит что-нибудь. Позавчера, например, молоток оставил в пригоне, а попало от отца ему, Васе. Титко в семье младший, и ему немного легче. По крайней мере, ни с кем не надо нянчиться, а остальная работа – чепуха.
…Хлеб на поле от сильного дождя с ветром полёг, жать его неловко. Жнут вчетвером, работа идёт медленно. Парасковья ещё слаба после родов, кружится голова, да ведь страда – каждый день, даже час, до́роги – ну как дожди начнутся! А ведь скоро поспеют ячмень, овёс, горох. Тут хоть на десять частей разорвись, везде не поспеешь.
В семье Панфила от недосмотра и плохого ухода младшие дети заболели поносом. Новорождённая Маша еле пищала, а Николка безучастно лежал на лавке.
Парасковья и тут не осталась ни дня, ни часа с больными детьми. Надо было от темна до темна работать в поле, иначе всей семье голодная смерть. Она хорошо помнила страшный 1921 год, когда от недоедания темнело в глазах, а от лебеды и прочих трав отнимались и опухали ноги.
«На всё воля Божья, – говорила она, – старшие точно так же росли. У Любы до трёх лет понос не прекращался. Однако жива-здорова – вон какая вымахала! А если не к житью, значит, столько веку. Маленька могилка – маленька кручинка».
Когда Коле стало совсем плохо, мать, посмотрев на сына, распорядилась так: «Люба, останешься с ребятишками. Как с домашней работой управишься, сходишь к Калипатре, пусть придёт, полечит ребятишек от поноса. А ты, Василко, поедешь сёдни в поле».
Любе было больно смотреть на страдания малышей, и она, не послушав наставления матери, сразу же побежала за знахаркой.
Бабушка Клеопатра, увидев больных, осуждающе покачала головой и прослезилась:
– Сердешные, никакого-то пригляду за вами нет, будто сиротиночки. Самовар-то ставили? Вода отварная есть? Неси-ко, Люба, попоим их.
Колю напоить так и не смогли – у него не было сил проглотить воду, и она выливалась обратно.
– Отходит братик-то у тебя, Любаша…
Люба с плачем подскочила к Николке, руки у неё затряслись.
– Взгляни, голубушка, последний-то разочек. Да не плачь, не нужно, чтобы слёзы твои на него упали. Не тревожь ангельскую душу…
Мальчик дышал уже совсем редко. Наконец вздохнул в последний раз, по всему тельцу прошла судорога. Он вытянулся и замер.
– Вот и всё, – тихо, со смиреньем, произнесла бабушка Клеопатра и закрыла мальчику глаза и ротик.
Через некоторое время, прочитав молитву, обмыла новопреставленного. Одела чистую белую рубашку. Подготовила место на лавке, положила туда трупик ребёнка и закрыла холстинкой.
Люба держала на руках еле пищавшую малышку. Бабушка, вымыв под рукомойником лицо и руки, сказала: «Ну-ка разверни, посмотрю я… Господи! Да она родилась – больше была. До чего исхудала! А пуп-то наревлен – разошёлся, грыжа у неё, лечить надо, да и долго. Не робёнок, а скелет, кожа да кости… Ты беги-ка, Люба, самовар поставь, травки заварим, будешь подавать по ложке три раза в день. Чаще отварной водой пои, жар у неё в нутре-то, молоко пока кипячёное и разводное давай».
Похлопотав ещё немного, бабушка Клеопатра попрощалась и ушла…
Когда с полей убрали последний урожай, Панфил решил уехать из Харлово на хутор у речки Сайгун.
Прежде чем решиться стать хуторянином, Панфил пошёл за советом к брату Перегрину.
Семья брата ужинала – Перегрин, как и подобает главе семьи, сидел на почётном месте, под божницей, по правую сторону от него расположился шестнадцатилетний сын Яков. Дальше, на поперечной «бабьей лавке», сидела тёща Руфина и одиннадцатилетняя Кланька. Кира сидела напротив, на табуретке, разливала чай.
– Здорово живёшь, куманёк! – поприветствовала она Панфила. – Проходи, раздевайся, садись с нами чай пить.
Перегрин подвинулся на лавке, Панфил сел рядом. Когда обыденные разговоры были исчерпаны, гость объявил:
– Я ведь пришёл звать вас с собой на хутор. Поедем, построимся рядом, в соседях жить будем.
– А из наших едет кто-нибудь? – спросил Перегрин.
– Из родни-то Максим Прокопьевич только. Но харловских много: дедко Емельян Чернов с сыновьями, Тима Лаврухин, Михайло Евграфович, Стихиных семьи три… Остальные – галишевские.
– Вот видишь, всё большесемейные мужики собрались – у которых по три-четыре сына, взрослых работника. А нам-то какая нужда на хутор перебираться? Усадьба у нас добрая, дом – пятистенник, места, слава богу, хватает… Кланька вот взамуж уйдёт, а Яков нас, поди, из дому не выгонит, – шутливо подмигнул Перегрин дочери и сыну. – Вишь, раненая рука у меня и к непогоде, и к погоде болит – куда мне сызнова строиться… Нет уж, сам ты как хочешь, Панфил, я с тебя воли не снимаю. Тебе-то чё, ты ещё здоровый. А у меня за спиной две войны да революция – третья. На обжитом месте оставаться буду, пока на Ванину гору не отвезут…
– У тебя рука, у меня – голова болит… И я, знаешь, от пули и от осколка не уберёгся, тоже хлебнул военного-то лиха. Но придётся ехать, сама наша жизнь-нужда заставляет!
– Я уж всяко прикидывал, – закончил разговор Перегрин, – продать своё пожительство[10]– большого ума не надо… вон сколько теперь вятских к нам едет. Да ведь они, вятские, недаром – «люди хватские», не нам чета: и денежные, и мастеровые – кто пимокат, кто портной… Зыряне[11] вот тоже… Каждый не одно ремесло знает!
Панфил принял окончательное решение – перебираться на хутор. Уборка хлебов из-за зарядившей непогоды шла плохо. Жнецам приходилось работать и в моросящий бусенец[12], и даже в проливной дождь. Полёглый хлеб прорастал на разбухшей от влаги земле, ноги вязли в грязи. Когда с уборкой, наконец, управились, Панфил с ребятами поехали рубить лес и строить на месте будущего хутора новое жильё.
Красный лес новосёлам был отведён неподалёку, в Пахомовском бору. Для начала срубили небольшую конюшню, внутри сколотили нары, поставили железную печку. Стали жить и помаленьку строиться дальше.
В мае 1925 года семья Панфила уехала из Харлово, продав пожительство приезжему – вятскому пимокату Павлу Ивановичу Гоголеву.
Когда читатель станет знакомиться с главами повествования о годах моего детства и юности, пусть помнит: своими воспоминаниями с ним делятся сразу два человека. Один – это пятилетняя сельская и хуторская девчушка-несмышлёныш из далекого, не всегда радостного, но милого прошлого. Другой – чуть ли не через век возникший из этого прошлого, много повидавший и многое переживший на девятом десятке лет жизни человек.
«Картинки» детства и юности, запечатлённые в моей памяти с почти фотографической точностью, конечно, дополнены многолетним их осмыслением и моими раздумьями в течение всего жизненного пути.
Автор
Картинки детства
…Самая первая картинка детства, сохранённая в моей памяти: большой, только что поставленный дом – из пазов ещё торчат мох и пакля. А за стеной, за большими столами идёт пир горой. Уйма весёлого пьяного народа; незнакомые лица, шум, смех. Во дворе с широкими бревенчатыми воротами и высоким заплотом[13] поют и пляшут.
Все люди очень большие, прямо-таки огромные… Какая-то женщина с добрым весёлым лицом берёт со стола конфету в бумажке и протягивает мне. Я кладу конфету в рот вместе с бумажкой, но тут бородатый мужик показывает мне пальцами «козу», я с перепугу реву, и меня уносят чьи-то ласковые руки…
Когда я, немного повзрослев, рассказала домашним об этой памятной картинке детства, мне объяснили, что на «картинке» этой запечатлелся один из июньских дней 1927 года, когда наша семья праздновала влазины[14].
До того наша семья жила в маленькой, на три окна, избушке. Новый дом был поставлен ближе к дороге, оттеснив избушку в глубь двора. К ней были пристроены большие сени, которые соединялись c амбаром берестяной крышей. Чуть позже на подворье появились большой сарай, ворота в огород и пригон для скота, который год от года надстраивался и улучшался.
Второй «оттиск» моей памяти… Большой праздник, должно быть, Троица[15]. Меня одевают в новое, в чёрный мелкий горошек, платье с оборкой, повязывают платком. Родители мои – тоже нарядные: мать в чёрной юбке, бордовой шерстяной кофточке, в высоких ботинках с застёжками. На голове – вязаная ажурная косынка. Отец – в коричневой косоворотке, чёрных суконных брюках и хромовых сапогах. Во дворе стоит запряжённая в коробок[16] лошадь. Отец берёт меня, поднимает – даже дух захватывает – высоко-высоко и садит в повозку на заднее сиденье, рядом с мамой.
Я ликую, что меня взяли с собой да ещё прокатят на лошади. Может, меня и раньше возили в коробке, но я не запомнила. А теперь – совсем другое дело: я начинаю осознавать окружающий мир, как будто я до этого долго-долго спала и, наконец, проснулась. Мне всё кажется большим, огромным и красивым.
Ночью, наверное, прошёл дождик, и мне нравится смотреть в лужи, которые отражают небо, облака и вершины деревьев. Отец садится на переднее сиденье, разбирает вожжи и чмокает губами. Рыжая лошадь трогает с места. Тринадцатилетний подросток, мой брат и крестный, Вася открывает ворота, и мы выезжаем со двора.
Улица хутора Калиновки сверкает свежими срубами домов, новыми берестяными и тесовыми крышами. В палисадниках – недавно посаженные черёмуха, рябина, калина. Хотя уж калины-то и в лесу, что вокруг нашего хутора, уйма.
Едем по плотине через речку Сайгун. Плотина – земляная, укреплённая плетнём из берёзовых, черёмуховых и красноталовых веток. (Впоследствии я узнала, что хуторяне каждый год после паводка собирались и помочью подновляли плотину.)
Подъезжаем к полевым воротам. Отец приматывает вожжи к передку, слезает и идёт открывать ворота.
Вокруг такая красота, что я не успеваю поворачивать голову. И сама, конечно, верчусь на сиденье, пока не получаю от мамы замечание: «Будешь вертеться – вернёмся домой!» Я затихаю, но ненадолго. Вокруг так интересно! И я впервые это всё вижу… Ощущаю… Осознаю… Мои родители, уже пожилые люди (в то время матери было сорок лет, отцу – сорок два) тем давним утром кажутся молодыми и нарядно разодетыми красавцами; праздничная одежда, как я узнала позже, была вся на них, и дома остался почти пустой сундук. А коробок, на котором мы ехали, на самом деле был до того ветхим, что мог развалиться на любом нырке-ухабе дорожной колеи.
И насчёт красоты своих родителей я, конечно, судила по детским впечатлениям (наверное, каждому ребёнку родители кажутся самыми лучшими и красивыми: это ведь не чьи-нибудь, а его родители!). Отец действительно был по-своему красив: среднего роста, широкоплечий, черноволосый с проседью на висках, с густыми широкими бровями и карими глазами. В весёлую минуту не лез в карман за острым словцом, любил беззлобно пошутить над кем-нибудь, заговорщицки подмигнув при этом окружающим. Человек он был доброго, уравновешенного характера.
После сорока лет отец слегка располнел. Бороду всегда брил, а смолоду носил усики (сейчас, по телепередачам, я нахожу в нём некоторое сходство с композитором Яном Френкелем).
Мать моя красавицей не была. Высокая, худощавая, с чёрными, как спелая смородина, глазами с чуть монгольским, как у бабушки Сусанны, разрезом. Свои негустые тёмно-русые волосы она всегда прятала под косынку. И я, чем старше становилась, всё больше походила на мать – и лицом, и характером, – разве что высокий лоб да глаза – отцовы.
До Харлово ехать надо было восемь вёрст, под конец пути я устала и, кажется, задремала на маминых руках. Но когда мы въехали в село, я встрепенулась и снова стала смотреть по сторонам. Особо меня поразил Волостной мост через реку Киргу и каменные двухэтажные дома.
Мы подъехали к чугунной церковной ограде. Обедня ещё не началась, и народ толпился на улице. Держась за мамину руку и запрокинув голову, я разглядывала церковь – огромную, белоснежную, с голубыми куполами и золочёными крестами где-то, казалось, на самых небесах. Когда мы вошли в церковь, я замерла, увидев летящих по расписному потолку ангелов с трубами в руках.
«Пойдём к причастию», – полушёпотом сказала мама и тихонько потянула меня за руку в конец выстроившихся друг за другом вереницей людей, по очереди подходивших к священнику и дьякону (а для меня – просто к двум дяденькам в красивой одежде). Каждый пробовал что-то с ложки, которой зачерпывали из блестящей чашки, а потом целовал крест. Подошла наша очередь. Я тоже попробовала. Мне понравилось, захотелось ещё, но больше мне не дали, а дали стоявшему за моей спиной человеку. Поцеловав крест, мать меня отвела в сторону, снова шепнув: «А сейчас просвирку[17] съесть надо». Но таинственная «просвирка» мне не понравилась – оказалась невкусной, пресной.
После обедни поехали в гости к дяде Перегрину. Там я узнала, что женщина с добрым лицом, которая на помочи угостила меня конфетой в бумажке, – это моя тётя Кира.
Ночевать в Харлово мы не остались: лошадь отдохнула, и вечером мы поехали домой. По приезде мама уложила меня и сказала отцу: «Зря, может, возили Маньшу-то, не захворала бы». Меня поташнивало после долгой и тряской езды в коробке, но, пролежав несколько минут, я была уже во дворе, переодетая в старое ситцевое с заплатками платье.
Мать в домотканой синей юбке и холщовой льняной кофте доила корову, струйки молока глухо ударяли в дно деревянного подойника. Отец, в посконной[18] рубахе, в таких же штанах и в своедельных[19] броднях[20], повёл лошадь в ночное[21].
Длинный, как год, весенний день кончался; охватив полнеба, пылала заря. Я долго стояла неподвижно во дворе и пристально, до рези в глазах, вглядывалась в предвечернее небо. Не пролетит ли ангел с трубой по небу, не покажет ли мне свой прекрасный лик?
Но вот и солнце зашло за вершины дальнего леса. Раскололся огненный диск на отдельные золотые кусочки, а потом и совсем скрылся. Прошёл светлый весёлый праздник Троица…
С этого момента я хорошо помню, пожалуй, каждый день детства. Правда, некоторые детские воспоминания могут быть частично навеяны более поздними рассказами взрослых.
Родители мои, особенно мама, были людьми глубоко верующими и сызмальства стали учить меня молиться и креститься. Но я долго никак не могла запомнить, где правая, а где левая рука, и часто крестилась левой, за что мне не раз попадало. Отругав меня, мама с досадой брала мою правую руку, складывала пальцы щепотью и заставляла креститься как следует. Я однажды надулась:
– Не всё ли равно, мама, какой рукой креститься? Вон нищий Матвей левой крестится, и его боженька не наказывает!
Мама рассердилась не на шутку:
– Ты Матвея оставь! Он в солдатах на войне правую-то руку потерял! И чтоб я такого больше от тебя не слышала!
Через минуту, когда гнев её утих, она сказала:
– Ну-ка, повторяй за мной: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твоё…»
И опять я донельзя рассердила её:
– Мама, иже еси – это исть, чё ли? И как это имя вдруг светится?
– Ох ты, горе моё! Да ты, девка, в своём ли уме?!
Мать оставила прялку и в досаде ушла. Я заревела… Прошло немного времени, и мама как ни в чём не бывало снова села прясть и стала рассказывать мне то ли стихотворение, то ли басню.
Стихов она помнила множество – Пушкина, Лермонтова, Кольцова и в свободное время любила читать и с трепетом относилась к любой, даже неинтересной, попавшей в её руки книжке. У нас в доме книг было очень мало: Новый Завет, подаренный ещё в юности отцу за хорошую учёбу, псалтырь, молитвенник да ещё маленькая, по листку разваливающаяся книжонка «Как солдат спас от разбойников Петра Великого».
…На новом месте, в Калиновке, жить мы стали получше. Несмотря ни на какие трудности, мы начали выбираться из нищеты. Появились две рабочих лошади и вороная кобылка-двухлетка, которую пока не запрягали. Из рогатой скотины имелись чёрно-пестрая дойная корова, прошлогодняя тёлка со звёздочкой на лбу и семимесячный бычок. Было две свиньи, несколько овец, гуси и курицы.
Мои родители своему хозяйству были бесконечно рады. Вдоволь намаявшись в бедности, они работали без устали и жили надеждой на лучшее будущее. Отец, правда, был скуповат – ради того, чтобы поднять хозяйство, он урезал семью во многом. К примеру, одежда на шесть человек помещалась у нас в одном полупустом сундуке.
Любе, моей старшей сестре, исполнилось семнадцать, но надеть ей было почти нечего. Одно праздничное платье у ней, правда, всё же было – перешитое из материного, но обуви, кроме рабочих обуток[22], не было никакой. Мне от души было жаль сестру, плакавшую из-за того, что ей не во что обуться по праздникам: туфли, сшитые из телячьей кожи своей выделки, стали ей малы.
Парни тоже, кроме бродней, никакой обуви и не видали, а на плечах зимой и осенью носили сермяжные куртки да одну на двоих короткую шубейку.
Зато на хуторе в промежутках между весенней и осенней страдой было больше времени для приработка. Начиная с марта отец с сыновьями нанимались рубить дрова в казённой лесной даче[23], жгли берёзовый уголь для кузниц. Работа углежога – она не только тяжёлая и грязная, но и особого чутья требует, пристального внимания и досмотра. Уголь продавали местному кузнецу Юдину; большие короба с углём возили и в Харлово. Подрабатывали и тем, что плели всевозможные корзины, драли лыко, заготовляли ивовое корьё. В крутом речном берегу сделали глинобитную печь, в которой распаривали колёсные ободья. Зимой в болотах долбили мёрзлую трунду[24], которой удобряли поля. Сеяли много конопли, осенью вили из неё веревки. Летом, между сенокосом и страдой, возили лес из Пахомовского бора. Устанавливали высоченные столбы с перекладинами – «козлы» для распиловки маховой пилой брёвен на тёс.
Отец вставал задолго до рассвета и будил на работу сыновей. Сам он мог делать всё – выделывал кожи, мастерил обутки и незаменимую для работы обувь – бродни; шил шапки, шубы, даже носки и варежки вязать умел.
Табака отец не курил и сыновьям не позволял, вино пил лишь по рюмочке в праздник. Я никогда не видела его пьяным.
Дом наш, как мне казалось в детстве, был очень большим. На самом деле это было не так: обычная деревенская избушка из двух комнат – большой на четыре окна и маленькой горенки.
Места всем хватало, даже с избытком: вдоль стен тянулись широкие лавки, даже приступочек у голбца служил для сидения. В переднем углу – божница, под ней стол, одна табуретка да скамейка. В горнице стояли сундук, кровать и столик.
Большую часть избы занимала громадная русская печь, рядом с ней был голбец[25]. На печи вповалку могли спать человек шесть, да двое умещались на голбце. От голбца до стены над печью были приделаны толстые брусья, поддерживавшие большие полати[26], покрытые войлоком. Зимой на полатях было тепло и уютно.
Змей огненный
В двадцатые годы прошлого века в Знаменском районе хутора вырастали, как грибы после хорошего дождя. Так, недалеко от Сайгунского болота вырос и наш хутор Калиновка, в котором в поисках лучшей доли поселилось девятнадцать семей.
Братья Юдины Полувий и Григорий поставили свои усадьбы по соседству в живописном месте, на берегу речки Сайгун. Отец братьев, дедко Осип, повздоривший с младшей снохой, отделился от сыновей и свою избу построил подальше от них – на самом краю болота.
Хуторские поговаривали, что к Юдиным и пчёлы сами прилетают, и рыба в морду[27] косяком идёт, дескать, знающие[28] они, потому и самые удачливые во всём…
– Я своими глазами видел, – божился сосед, – прилетели на болото две утки, Гришка Юдин вышел из кузни, не спеша подошёл к уткам, посмотрел, сходил домой за ружьём, а утки так и сидят, не улетают. Он – бах! И убил обеих. Да это ли не колдовство?
– А бабка Сусанья, говорят, змея огненного выпарила из петушиного яйца да заветила[29] на масло. Вот он масло-то ей и таскает. Вон сколь продают каждый год на базаре при такой-то семьишше. Видно, маслом доят коровы-то.
– А чё она на масло-то заветила? Дура! – дал оценку умственным способностям бабки Сусаньи один из мужиков. – Надо было на деньги…
Сплетни продолжались до тех пор, пока не женился старший правнук бабки Сусаньи.
Сноха стала жаловаться своим, что уж сильно плохо питаются в новой семье:
– Даже робятишкам молока не дают, только обрат. Сколько молока надоят, всё на сметану, а масло потом на базар… Шаньги картовные и то без сметаны.
– А змея огненного видела?
– Не видела я, – махнула рукой сноха, – никакого змея у них, ни огненного, ни простого!
– Видно, пустое люди про неё говорят… Вот в Пахомовой живёт бабка Полуфирья[30], так она не чета Сусанье – настоящая ведьма.
Многие в округе считали, что Полуфирья может на кого угодно напустить «резучку»[31] или «надеть хомут»[32].
«Было ж дело, – шептались меж собой кумушки, – изувечила девку… А за что? Ну повздорили, с кем не бывает, но зачем «резучку-то» насылать?»
И действительно, Полуфирья поссорилась со своей односельчанкой и испортила ей семнадцатилетнюю дочь Анну. Звали лекарок, лечили, наговаривали, подавали разные травы, но захворавшей становилось всё хуже. Отец больной девушки, Евграф Васильевич, в те поры жил исправно, лошади добрые у него были, вот и повёз свою единственную дочь в город в больницу. В санях по зимней дороге не тряско. Быстро доехали. Анне сделали операцию – оказался аппендицит.
В деревне все были поражены таким чудом:
– У Анюшки-то брюхо резано, а она жива осталась. Как это так? К чему брюхо резать, если резучка была напущена? Каку-то слепу кишку вырезали. Говорят, кожура от подсолнуха попала, от него и заболела.
– Да врут они все! Каки-то слепы кишки да здрячи? Где у них глаза-те?! Хто видел? Вот скотину колешь…
– То скотину… Ты, поди-ка, Устинья, человека не резала?! У ево всё по-другому… Только вот Анюшка-то ведь теперь хворая, как всё равно урод, куда она с резаным-то брюхом? Какая она теперя работница? Помается сколько да и умрёт… Вот как можно человека испортить, што и кишки повредились!
Анюшка скоро в больнице поправилась и как ни в чём не бывало приехала домой. Но к ней стали относиться как к тяжелобольной, не давали делать никакую работу. Когда после операции прошло более полумесяца, она побежала к подружкам. Те смотрели на неё с удивлением и боязнью, точно на выходца с того света. Никто не верил, что она здорова. Когда Анна выходила на улицу, женщины с состраданием смотрели ей вслед, перешёптываясь между собой: «Вот беда-то, молодая совсем, а не жилец. Как можно жить, если брюхо разрезано и кишки вынуты?»
Так и покатилось. Парни – те вообще сторонились её и близко не подходили. Дома, в горенке, без настоящей работы и подруг она затосковала. Но всего тяжелей девушке было то, что она любила одного паренька из своей же деревни, а он теперь при встрече смотрел на неё с такой жалостью, словно она вдруг лишилась рук и ног. Ведь до болезни какая это была любовь! А тут слухи пошли, что женится её милый…
Анка часто вспоминала их встречи, заверения любить друг друга всю жизнь, до гроба… «Видно, ничего не стоят его слова, – думала Анна с грустью. – Почему Андрей так легко отступил от своих слов, чуть только сделалось со мной несчастье? Ведь теперь-то я совершенно здорова. Хотя мать и отец всячески оберегают меня от работы, но я не сижу без дела, когда их нет дома, я и корову дою, и квашню мешу, и воду ношу, и не чувствую никакой боли в животе. Как же так? Где справедливость? Если бы я переболела тифом или даже оспой – и то бы ко мне так не относились… А тут… Только и разговору у всех: «Анка – порченая».
Сколько у Ани было бессонных ночей, сколько выплакала она слёз в подушку, прежде чем решилась на смелый и отчаянный шаг – самой поговорить с любимым.
Меж двух огородов вьётся тропка к реке, на берегу кузница, всё видно как на ладони. Летом здесь людно: бабы и девки носят воду, поливают капусту, на плотик идут полоскать бельё… Зато теперь – ни души. В проулке грязь, растоптанная скотом, да ветер срывает последние листы с черёмух, загоняя их в отстоявшиеся лужи. Вот от кузницы отделилась фигура с конём. Анна прихоронилась за высокий тын. Сердце бьётся, как пойманная птичка. Слышно, как лошадь, хлопая ногами, идёт по грязи.
– Здравствуйте, Андрей Елизарович! – вышла из-за тына девушка.
Парень от удивления остолбенел, не ожидая её встретить:
– Здравствуй, Анна Евграфьевна! – сухо поприветствовал девушку Андрей.
– Говорят люди… – вмиг пропали приготовленные слова. Аня вспыхнула пламенем, потупилась, глядя в землю. Слёзы навернулись на глаза. – Я слышала, скоро свадьба у тебя?
– Ну раз говорят, значит, правда.
– И кто же она?
– А не всё ли равно?!
– Да как же, Андрюшенька, милый, я ведь по-прежнему люблю тебя… Я-то как же? За чё ты меня разлюбил? Или я тебе изменила? – Анка залилась слезами. – Ведь я не виновата, что тогда не умерла! Но теперь-то я совсем здорова! – сквозь слёзы выкрикивала вконец расстроенная Анка. – Неужто ты так скоро меня забыл?
Парню стало не по себе от девичьих слёз. По всему было видно, что ему жаль её.
– Пойми меня правильно, Нюра. Я бы рад душой, да как же я тебя хворую возьму, ведь у нас хозяйство большое, работы много, лежать будет некогда. Сразу надорвёшься. Это не шутка – живот резаный! А для женщины это самое главное…
– Бракуешь, значит?
– Не то чтоб… Я уж говорил… Родители ни в какую… Говорят, порченая ты!
– Ладно! Всё! Поговорили, Андрей Елизарович, и на том спасибо! – Анка повернулась и пошла, не попрощавшись. Слёзы и злоба кипели в груди.
Парень встрепенулся, кинулся за ней, дёрнув ременный повод:
– Анютка, милая! Постой! Погоди! Ну чё уж ты так? Не хотел я тебя обидеть, вот те крест, – спесь с парня мигом как ветром сдуло, – постой, ну куда ты бежишь? – Фраза прозвучала как в те далёкие времена, когда он робко провожал Анну с гулянки до дому.
Аня остановилась, подавленная своим девичьим горем. Ничего не видя от слёз, горячий туман стоял в голове. Свет померк в глазах. Парень виновато стоял перед ней, втаптывая каблуком сапога крупные жёлтые листья в дорожную грязь.
– Жаль мне тебя, Нюра, – наконец выдавил он, – да чё я могу поделать, сколь раз говорено-переговорено с отцом и с матерью, против они… Думаешь, мне эта свадьба мила? Я-то чё?.. Знать не знаю и знать не хочу, пусть берут, раз работницу им надо.
– Андрюшенька, милый… Уехать бы нам с тобой куда…
– Да куда ехать-то? Это, значит, всё разом бросить – и дом, и хозяйство, и землю, а жить-то как? Где? Чем? Отец меня всё равно не выделит. Житья не дадут тогда нам с тобой. Нет! Нюра, без благословления нельзя, – парень глубоко вздохнул и со злобой сказал: – Эх, будь моя воля, задушил бы я Полуфирью и её змеиное гнездо сжёг!
– За что? – еле слышно спросила Анка. – Может, Полуфирья не виновата, в больнице врач говорил, что это никакая не порча, а просто так бывает.
– Много они, твои врачи, знают!
Норовистый молодой жеребец притомился стоять и дёргал повод. Анке сразу припомнились все хворые женщины из деревни и их несчастные семьи: «Ну, прощай, Андрюша! Первая и последняя любовь моя… Не судьба, видно, нам с тобой. Будь счастлив».
Анна, не помня как, добрела до дома, вошла в ограду, но в избу не пошла – слишком тяжело было на душе – обида острой болью отдавалась в сердце. Девушка, стараясь, чтобы её никто не увидел, прошла к сараю, осторожно открыла двери и вошла внутрь. «Вот и веревка, – Анна сняла её с крючка, растянула в руках, пробуя на прочность, – раз я урод и никому не нужный человек, зачем мне жить на свете? Быть кому-то обузой…»
На Полуфирью у неё не было зла. Была только обида на людскую темноту и беспросветную глупость. «Какая же это любовь? – размышляла девушка. – Если Андрей так легко отступился, поверил больше старухам и бабьим сплетням, чем мне. Кому я принесу горе, покончив с собой? Только родителям, – она представила горюющих по ней родителей: доброго тихого отца и немощную, вечно недомогающую мать. Слёзы потоком хлынули из глаз, очищая душу. Вдоволь наревевшись, Анна пошла домой. – Буду жить как жила, ведь живут же и уроды. А замуж совсем не обязательно. Если даже кто сватать будет – не пойду».
Любовь зла
Хутор рос и ширился – обрастал новосёлами, – стали появляться первые улицы. Три брата Черновых построили избы недалеко от Юдиных. За ними поселились Яков Захарович Кочурин и дедко Ерений с сыном Михаилом. Дальше улочку пересекал небольшой ложок. Там, почти на задворках, обосновались Фёдор Пономарёв с Данилой Кочуриным.
На высоком правом берегу Сайгуна поселились братья Стихины, дальше за ними – Овчинников Каин, затем усадьба большой семьи Кузнецовых. На краю, у самой Круглой чащи, построился Тимофей Пономарёв с тремя сыновьями.
Мы тоже жили на правом берегу. Из окон нашего дома была видна неказистая усадьба Филиппа Ивановича Стихина, в которой ютилась его многочисленная семья. Соседу с виду можно было дать и пятьдесят, и все восемьдесят лет: длинная, по пояс, окладистая борода, голубые, как выцветшее от зноя небо, глаза с вечно слезящимися красными веками… Борода у Филиппа отливала зеленью, а усы от самосада – желтизной.
Малорослый и худощавый Стихин в любую погоду ходил в шубе и шапке, годившихся разве что на огородное пугало. Обувался он в огромные растоптанные валенки, на которых было больше заплат, чем целого места.
Никто в хуторе не видел, чтобы Стихин делал какую-то, хоть пустячную работу. Избушка у Филиппа была маленькая, с двумя окнами на дорогу, все остальные постройки были под стать ей – такие же мелкие и несуразные – крытая берестой, покосившаяся ещё в самом начале строительства, банёшка да пригонишко с одной конюшней.
Старший сын Пётр, давно уже пришедший из армии, работал, как батрак, в доме отца, ему помогали братья: Иван, Павел, Андрей. Яков и Мария ещё учились в школе. Родной матери у этих ребят не было – умерла от тифа в 1921 году, зато была тридцатилетняя мачеха Домна Петровна. В этот же голодный 1921 год, ещё молоденькой, она пришла в хутор из Полевского завода и вышла за многодетного Филиппа. Потом уже пошли и её дети – Алексей и Нина.
Мать Стихина была ещё живой, но очень старой, совсем дряхлой – помню, она уже редко вставала с постели, а вскоре умерла.
Домна не зря считалась в хуторе расторопной и работящей, но попробуй прокормить и одеть огромную семью, которая к тому же с каждым годом прибывала! А Филипп и ухом не вёл, только всё рубил да рубил в корыте свой самосад. Днём он сидел дома, после обеда спал, а вечером, поужинав, отправлялся в пожарницу и был готов сидеть там хоть до утра, нещадно дымя самокруткой.
К слову, пожарницу калиновцы построили сразу, в первые же годы. Помочью рубили для неё лес, построили простую избушку, без каланчи, и сложили из кирпича печку. Пожарница никогда не пустовала, особенно зимой. Там проводили хуторские собрания, собирались девчата и парни на посиделки.
На все окрестные деревни была всего лишь одна школа, до 4 класса детвора училась в деревне Долматовой – от Калиновки километров шесть. Народу в нашем хуторе было немало; семьи в основном большие – как у Филиппа или, например, у Евареста Кузнецова.
Кузнецовы – крепкая, зажиточная, очень трудолюбивая семья. Еварест Иванович хозяйствовал рачительно, с умом. Жена его, Анна Корниловна, с лёгкостью управлялась с домашней работой. У них было шестеро детей: Фёдор, Алексей, Яков, Михаил, Петр и Нина.
Кузнецовы были родом из Галишевой. Оттуда они перевезли на хутор свой большой дом. Эта постройка стала одной из лучших во всей Калиновке. К 1928 году Кузнецовы имели три рабочих лошади, три дойных коровы, много свиней и овец. По всему видать – семья и до того в деревне жила неплохо, при взрослых-то работящих сыновьях.
Всё бы хорошо, но Федя, старший сын – опора и надежда отца, вдруг задурил – влюбился в Анюту Комарову. Анюта была песенницей, плясать-танцевать мастерицей, бойкой, на язык острой – палец в рот не клади – живо откусит! Но не больно-то работящей девка была, а в деревенской и хуторской жизни это ой как заметно! Дома со скотиной или в огороде ещё так-сяк, но вот в поле её никакими клещами не вытянешь. А если и придёт, то притворится хворой да и пролежит под телегой весь день…
Родители Анютины и сами-то, как говорится, лишка ноги не перегибали, тоже ленивенькие оба были, и пока сын Михаил неженатым ходил, жили совсем неважно. Потом Михаил жену взял работящую; стала та мужа шпынять, да так, что в скором времени у них две коровы стало, и хлеб убирать, и сено косить стали вовремя. И на пригоне, наконец, крыша образовалась (до того-то с крыши солому корове скармливали).
Ну, Анюте трудиться – не в зубы калач. Но какую причину найти, чтоб от работы отлынивать? И вот она, как придёт лето, притворялась больной. До того лукавая девка доходила, что брала в руки бадог[33] и ковыляла, точно восьмидесятилетняя старуха!
Анютины брат с женой и отец работали в поле, а она всё лето дома сидела. Людям говорила, дескать, бок у неё болит – спасу нет… А как только бывало убрано с полей, она сразу преображалась. Ходила на гулянки, пела-плясала – хоть до утра.
Но не зря в народе говорят: «Любовь зла…» Несмотря ни на что, работяга Фёдор Анюту любил.
– Ты, Федьша, Анну Комарову из головы выбрось! Худой она породы, лень несусветная! – в один голос наставляли родители сына. – Пропадёшь с такой-то ни за грош… Ведь всё лето-летенское в поле не бывала – с бадогом проходила! Этакого никто не видывал, чтоб двадцатилетняя девка из-за лени так себя позорила. Одумайся, пока не поздно!
Этот разговор разнёсся по хутору и дошёл, конечно, и до Анны.
Назавтра, когда вечером после ужина Еварест Иванович сидел у открытого окна, Анна прошла возле его дома и задиристо пропела: «Нету моды и не будет голубым кушакам! Не придётся быть подпорой пожилым мужикам!»
Анна Корниловна полола в огороде грядки. Анюта и ей спела через прясло: «А как миленькой мамашеньке не надо меня в дом! Это дело полюбовно – может, сами не пойдём!»
Частушки сыпались из Анюты, как горох из худого мешка, – то про Евареста Ивановича, то про его жену!
А Фёдор, несмотря ни на что, продолжал встречаться со взбалмошной и своевольной девкой.
Чтобы как-то повлиять на сына, Еварест Иванович решил нанять на сенокос и страду трудолюбивую девушку Ульяну, свояченицу соседа. «Может, глядя на Ульянку, обумится Фёдор? – думал Еварест. – Чтоб эту Анку-зубоскалку лихоманка задрала! Беда, а не баба…»
Красивый чернобровый Фёдор сразу же понравился Ульяне, и она работала у Кузнецовых за троих.
– Смотри, пуп не надорви, Ульяна, – полушутя-полусерьёзно говорила Анна Корниловна.
– Ничё, я к тяжёлой работе привыкла, – отвечала та, укладывая сено в копны огромными навильниками[34], – мама у нас померла, когда я ещё маленькая была, а потом и тятенька помер. Уж всякого лиха мы с сестрой натерпелись!
Вечером, после целого дня работы в поле, Ульяна помогала управляться хозяйке дома – доила коров, кормила свиней – везде старалась успеть. И только уж по потёмкам, когда хозяева ложились спать, она уходила ночевать в соседний дом – к сестре.
А утром раньше всех просыпалась. Пока топилась печь и хозяйка стряпала, работница успевала управиться со всей скотиной.
Анна Корниловна уже не раз говорила мужу: «Вот нам бы такую-то сноху. И удала девка, и проворна… Взять да женить бы Федьшу на Ульяне».
Еварест Иванович был не против. Осенью, когда вся работа в поле была переделана, у отца вышел с сыном такой разговор:
– Вот чё, Фёдор. Мы с матерью этой осенью женить тебя решили. Матери тяжело одной, у нас в семье восемь человек; по рубахе выстирать – дак и то восемь рубах! На всех хлеба напечь… А сколько скотины у нас, слава богу! Работы всё больше, а ведь матери-то и до старости недалеко.
– И на ком же меня женить хотите?
– Да вот на Ульяне, чем плоха девка?
– Не люблю я ее, тятя… Анютку люблю! И больше мне никого не надо!
– Ты про Анюху и не поминай!
Долго Кузнецовы-старшие убеждали сына – и ругали, и добром уговаривали. А тут скоро конфузный для Анюты случай вышел. Сама она сочиняла забористые частушки про многих хуторян, но палка о двух концах – сочинили и про неё. В праздник Рождества Богородицы гостей в каждом дому было – тьма. Девки и парни с гармошками пришли из соседних деревень, и свои, калиновские, сбились в одну ватажку. Вечером у ворот Комаровых затеяли веселье. Анюта у раскрытой створки окна грызла семечки. Пахомовские девки с подначкой запели: «Молодёжь наша гуляет всё по бережку кругом. Добра девка с кавалером, а Анюха – с бадогом!»
Анна, бросив в толпу вылущенным подсолнухом, завопила: «Убирайтесь отселя! Я вот сейчас Соболька спущу!» Маленькая захудалая дворняга залилась во дворе визгливым лаем. Парни за бока схватились со смеху. «Пошли отсюда, робя, не то разорвёт нас пёс-от!» – выкрикнул Мишка Ерениев. Парни и девки с хохотом убежали.
Фёдор стоял в стороне, как оплёванный. Ему было до того стыдно от людей, что впору сквозь землю провалиться! Он незаметно ушёл домой, лёг на сеновал. Сон не шёл. Гармошка и балалайка, призывные песни слышались то в одном, то в другом конце хутора.
Фёдор слез с сеновала, попил в сенях воды из кадки. В дому разговаривали гости. Фёдору не хотелось теперь никого видеть. Пошёл снова на сеновал, лёг и задумался. «Может, по-своему и правы отец с матерью? Нравится Ульяна им как работница. И если разобраться, так видом она ничуть не хуже Анки-то… Отчего же не лежит к ней сердце, ну вот – нисколько, как будто это не девка вовсе, а столб или пень ходячий? Надо с тятей поговорить, чтобы не навеливали[35] мне женитьбу в этот год, а там, глядишь – в армию возьмут! Не бракованный же я, в самом деле: руки-ноги на месте, глаза видят, уши слышат… Вот Костю Тимина в том году забраковали, дак он на одно ухо совсем почти глухой».
Думал-думал Фёдор да незаметно и уснул.
Хуторские cвадьбы
Скоро в доме Кузнецовых стали готовиться к свадьбе Фёдора и Ульяны. А какая свадьба без кумышки[36] да пива?
Моя мать во всём хуторе считалась лучшей мастерицей варить домашнее пиво – от крепчайшего изюмного, со стакана которого пьянели самые крепкие мужики, – до сладкого детского с сиропом. Для варки напитка мать запасала множество всяких трав, ягод и кореньев. В праздники соседки любили заглянуть к нам, зная, что их угостят вкуснейшей «бабьей травянухой» – коричневым густым, с кремовой пеной пивом, сваренным с лабазником[37], душицей и перечной мятой.
Мой отец был выбран «тысяцким»[38], а мама помогала подавать на столы. Ну и я вначале пыталась помогать родителям, но мой труд не был оценён, и меня отправили на полати, откуда открывался великолепный вид на застолье.
Гости искренне радовались празднику, звучали поздравительные речи, звенела посуда. Но жених и невеста, в отличие от остальных, сидели с грустными лицами, улыбки их были ненастоящими, веселье им было в тягость…
Помню ещё другую свадьбу, когда женился старший сын деда Максима, Иван. Мои родители тоже принимали участие в предсвадебных хлопотах соседей. Целую неделю мама таскала корчаги[39] с разваром[40], и в доме стоял огромный чан с пивным суслом. В прихожей и в сенях выстроились трёхвёдерные бадьи и кадушки с пивом, которое «доходило» до готовности.
Суматоха была и в нашем доме. Из Харлово приехали помогать сестры деда Максима – Серафима и Анна Прокопьевны – и сноха Настасья Ивановна. Всем женщинам во главе с моей матерью нашлось дело – с самого раннего утра и до поздней ночи: одна ощипывала, потрошила и чистила битых гусей и кур, вторая ставила сдобные квашни, готовила начинку для пирогов, третья украшала торты.
Правда, толстая, неуклюжая Анна Прокопьевна только без сути толклась и всем мешала, а простоватая Серафима больше болтала языком. А вот их сноха Настасья Ивановна, до старости выглядевшая девочкой-подростком, вертелась волчком, успевая посмеиваться и подтрунивать над золовками: «Ой, Серафима, глянь – квашня-то за тобой бежит!» Серафима охала, бросалась смотреть только что поставленную квашню. «А чтоб те пусто было! Ну уж эта Настасья – вечно зря напужат!»
Моя сестра Люба, поскольку была уже взрослой, принимала живейшее участие в стряпне, в приготовлении свадебных кушаний, а меня по малолетству на кухню, увы, не пускали. Иногда приходила хозяйка свадьбы, наша соседка Афанасия Михайловна. Она грузно прихрамывала (сколько я помню, у неё всегда болели ноги), осматривала стряпню, пробовала холодец или жаркое, делала кое-какие замечания, потом прибегали помощницы-подавальщицы и на большом противне стряпню уносили.
Анна Прокопьевна была вечно всем недовольна, сварлива и очень любила рассказывать о своих недугах. Все её разговоры сводились только к болезням да ещё к тому, какая нынче плохая и ленивая молодёжь.
Не знаю уж, кого она имела в виду, но мне было обидно, и я была рада, когда Настасья весомо возразила золовке:
– И полно-те, Анна, бормотать! Тоску зря наводишь… Спокою от тебя ни дома, ни в людях нет…
– Надоела я вам, – недолго думая, пошла в атаку Анна, – завтре домой поеду, пусть Офонасий свезёт. Не буду я на свадьбе пировать.
– Езжай в задницу! И без тебя проведём свадьбу! Подумашь! Не пропадём! – с сердцем ответила сноха.
Анна замолкла. А Настасья как ни в чём не бывало предложила:
– Эй, Серафима, давай споем! Запевай! Как у ключика у дремучего, у колодезя у студёного добрый молодец сам коня поил…
Серафима запевает, Настасья подхватывает, Анна не может утерпеть и тоже подпевает. Обиды как не бывало. Все женщины поют стройно и красиво, чувствуется, что давно спелись…
День свадьбы Ивана Максимовича был погожим. Хотя слегка подувал сиверко[41], солнце ещё основательно пригревало.
Венчались молодые в Харловской церкви. Восемь вёрст от Харлово до Калиновки – езда не ближняя, и свадебный поезд прибыл на хутор уже под вечер. Со свадьбой приехали новые гости: дядя Перегрин и дядя Немнон, Павел Борисович Макаров, Кандид Прокопьевич и Афанасий Прокопьевич – все со своими семьями.
Когда свадебный кортеж переехал мост через Сайгун, все вышли навстречу. Максим и Афанасий открыли ворота, поднесли хлеб-соль. Детвора, а со всеми и я, как воробьи перед дождём, облепили заплоты. Взрослые принялись дружно нахваливать невесту, что-де Евфросинья Михайловна из хорошей семьи, что и смирёна, и работяща, и собой хороша – бела да красива. Но мне почему-то невеста не понравилась: уж чересчур полная, лицо круглое, одутловатое, глаза маленькие, серо-синенькие, бровей совсем нет, волосы белые да жидкие… Жених был намного симпатичнее: среднего роста, коренастый, тёмно-русый, с загорелым лицом.
Гости обступили молодых со всех сторон и стали осыпать их зерном и хмелем. Иван за руку повёл свою избранницу в дом, где уже всё было готово – столы ломились от всяких кушаний. Я прошмыгнула было за взрослыми и только хотела залезть на голбец, как Феклуха, старшая Максимова дочь, встала на моём пути:
– Манька, тебя кто звал? Убирайся сейчас же! Только мешаешь большим!
– Я вовсе не мешаю… Я только погляжу, Феня, не прогоняй меня… Ладно? – просительно протянула я.
– А ну брысь! А то возьму ухват! – бескомпромиссно заявила противная Феклуха.
Поздно ночью, когда мы с братьями и сестрой уже спали на полатях, к нам в дом ввалилась пьяная толпа гостей со свадьбы ночевать: в Максимовом доме на всех места не хватило. Гости улеглись на лавках, на голбце, в прихожей, в маленькой горенке, да ещё мама постелила им на полу. Мои родители были почти трезвые и, наверное, совсем не ложились спать – ведь столько им выпало свадебных хлопот и работы.
Назавтра день был чудесный, очень тёплый и солнечный. Веселье в соседях началось с самого утра. По обычаю, били горшки, а молодая подметала пол, угощала всех чаем. Гости бросали на пол подарки; привезли и постель, и всё приданое невесты, привели корову, лошадь, овец, гусей. Поглядеть на невестино имущество собрался весь хутор.
Я не вытерпела и тоже направилась к соседям, стараясь не встречаться со зловредной Феклухой. Теперь я была умнее: перелезла через прясло[42] своего огорода в межник, потом взобралась на заплот, и мне было хорошо всё видно и слышно.
Гармонист, игравший на свадьбе, вчера перебрал-таки лишка спиртного и, охая, лежал под крышей на сложенном тёсе. Но и без музыки изрядно подвыпившие гости веселились на славу. Во дворе образовался большой круг, все хлопали в ладоши, а полная круглая Евпраксия, жена дяди Кандида, выплясывала и пела в такт хлопающим: «Топор! Рукавицы! Жена мужа не боится!» Дядя Кандид не утерпел и, топая большущими сапожищами, выскочил на круг и, надрывая горло, взревел: «Рукавицы да топор! Мужик бабу – об забор!»
Хохот, шутки-прибаутки! Афанасий, несмотря на возраст, выскочил из толпы, прошёл на кругу гуськом, припевая: «Три копейки, две копейки, пяточек! Эх-ма! Да кабы денег тьма! Купил бы деревеньку да жил бы помаленьку!» Не успел Афанасий уйти с круга, выскочила тётя Кира, и пошла, и пошла плясать под частушки: «Комар муху буткал – не ходи в обутках! Ходи в сапогах, на высоких каблуках! Э-э-эх!»
Наплясавшись до изнеможения, гости угомонились, малость протрезвели на воздухе, расселись на скамейки в специально сделанных во дворе из чурок и тесин беседках, завели проголосные песни. Мой отец, дядя Немнон и дядя Максим выкатили на ограду бочонок и стали угощать гостей: мужикам подавали хмельное пиво, а женщинам «травянуху». Тут и гармонист сразу отутовел[43], вылез из-под крыши. Опохмелившись, взял в руки гармонь.
Все оживились. Сначала-то пели обрядовые, свадебные песни, потом уже стали петь всякие, какие пойдут на ум. Пели и «Двенадцать часиков пробило», и «Во кузнице», и «Окрасился месяц багрянцем», «Златые горы».
Я осмелела, спрыгнула с заплота и спустилась во двор. Заглянув в кухонное окно, я увидела там Феклуху и в дом зайти не решилась. Страшно хотелось есть. Боясь, что меня выгонят со свадьбы, к столам я не пошла. Пришлось возвращаться домой, но дома кроме хлеба ничего не было. Схватив краюху, не теряя зря времени, я выбежала за ворота, чтобы не пропустить веселье.
Возле колодца стояло несколько женщин. Бабка Комариха говорила Домне, Филипповой жене:
– Ну уж, Мочеганята и пируют! Уж веселятся! Вон какие у них бабы-то песельницы да танцорки!
– С добрыми мужьями живут, чё им не петь, не плясать, – тяжело вздохнула Домна, – я вот грешна, свету не видела со своим. Горе одно! Ни ты в люди, ни к тебе люди… Одна срамота да посмешище! В сиротстве росла… Теперь – муж никудышный… Так и до смерти мучиться буду.
Позавидовали бабы, повздыхали и разошлись, а веселье продолжалось своим чередом.
В ту осень у дяди Немнона пришёл из армии младший сын Александр, красавец-парень. Пахомовские девки все были без ума от пригожего солдата. Поздно вечером, на втором дне свадьбы, молодёжи надоело быть среди стариков и пожилых людей. Взяли гармониста и пошли гулять по деревне. Со всеми была и наша Люба с подружками Анной Комаровой и Лизой Кочуриной.
Когда всей ватагой с песнями шли по берегу, на завалинке дома Кузнецовых сидел сам глава семьи, Еварест Иванович. Анка Комарова, поравнявшись с ним, во всё горло запела частушку: «Огород не городили, не забили колышка! Нас с милёнком разлучили – не взошло два солнышка!»
Кузнецов только плюнул, махнул рукой и ушёл в ограду, Анна Корниловна выглянула в окно. Люба потом дома говорила, что им с Лизой было очень неловко из-за нового Анкиного фортеля. Развесёлая компания дошла до полевых ворот, завернула обратно, но у Кузнецовых уж и ворота закрыты, и даже в окнах никто не показывается – Анке, стало быть, и петь больше было некому.
Ночью к нам опять явились постояльцы, ещё шумливее, чем в первую ночь. Опять мама постелила всем на полу. Кто-то из пьяных бормотал, кто-то кричал, кто-то ерепенился, величался над своей женой.
– Серафима, где ты? – раздался крик среди ночи.
– Тут я, чё кричишь? Спи… – начала урезонивать мужа Серафима Прокопьевна.
Через пять минут опять снова: «Серафима-а-а! Где ты?» И так всю ночь…
На третий день свадьбы мои дядья засобирались домой: «Надоело уж, – говорил дядя Немнон, – от шума голова болит». Кира Яковлевна с дядей Перегрином тоже нагулялись, напраздновались. «Отплясала я, видно, своё, – вздыхала Кира, – оттопала на свадьбе ноги-те, как теперь коноплю мять буду? Ох, согрешила я, грешная!»
Поздно вечером многие гости разъехались по домам, и ночёвщиков к нам пришло немного: Иван Немнонович с женой Ульяной, Павел Борисович с Алевтиной да девки – двоюродные сестры, Перегринова Клашунька да Немнонова Валя.
«И слава богу! – сказала мать. – Провели свадьбу. Хоть бы никто больше из своих пока не женился – поднадоело гулеванье, да и в дому вся работа остановилась».
Конная молотилка
Осенний день недолог. Только, кажется, утро занималось, а вот и ранние осенние сумерки. На столе стоит и тускло светит керосиновая лампа-семилинейка. Мама прядёт лён, Люба убежала на вечёрку к подружке, парни сумерничают после управы со скотиной. Отец ремонтирует сбрую, готовит варавину[44].
Мама, не отрываясь от прялки, говорит мне:
– Ну-ка, расскажи «Отче наш».
Я без запинки рассказываю. Потом отбарабаниваю «Верую», дальше – «Богородице, дево, радуйся». Под конец мы с мамой поём молитвы. Мне в них многое непонятно; мама иногда сердится, но объясняет, что это из-за того, что молитвы написаны на старославянском языке.
Мне нравится, когда у нас собираются на вечёрки, прядут куделю и поют песни. Но особенно я бываю рада, когда на посиделках верховодят Анка Комарова с Лизой Кочуриной. Анна может петь хоть всю ночь, и голос у неё отменный.
Мама и сестра Люба тоже поют: «Под ту, под сумрачную ночку, скрывался месяц в облаках». Песня не только печальная, но почему-то страшная. Я боюсь взглянуть в окно, почти физически ощущаю вокруг себя тёмную-тёмную ночь, как будто вижу заросшее травой и вересовником, уставленное белыми крестами кладбище, чуть освещённое мертвенным лунным светом… Я бледнею, вздрагиваю всем телом.
– Маньша, да ты никак боишься? – прерывает песню мама. – Ох и пужало же ты!
Мама посмеивается необидно и мягко, но мне стыдно. Слава богу, Анка запевает другую песню: «Скрывается солнце за степи, вдали золотится ковыль». Я уже знаю от мамы, что такое степь и ковыль, хотя ни того, ни другого на нашем лесном хуторе и не сыщешь. Вслушиваюсь в слова песни и представляю дорогу, идущих по ней каких-то непонятных людей – «каторжан»…
«По Дону гуляет казак молодой». Эта песня понятней, но с её концом я – ну никак! – не могу примириться. «Невеста упала на самое дно…» Я не выдерживаю, реву: жалко невесту. Говорю взрослым, что надо проверить мост на Сайгуне, а то как бы тоже не обрушился. Взрыв весёлого смеха долго не смолкает. Потом мне дают чашку молока и отправляют на полати.
Запомнилось, что тогда у нас в семье было мало одежды, а какая кому перепадала – почти вся была домотканой. Отец сыновьям и даже сестре Любе ничего покупал. Ели мы тоже не очень-то, хотя в хозяйстве были и птица, и всякая скотина.
– Вот застроимся, – говорил отец матери, – бог даст, купим на паях молотилку – тогда и на себя справу заводить будем.
Мать вздыхала, но соглашалась. Всё от хозяйства – мясо, масло, шерсть, даже лук с огорода – шло на рынок.
Отец трудился не покладая рук, всеми силами стараясь вылезти из нужды. Сколько было потрачено сил на строительство завозни[45]– рубили и вывозили красный лес, а потом пилили его на тёс маховой пилой! Всю весну и лето отец проходил в насквозь пропотевшей рубахе.
– Завозню поставили, а теперь и о молотилке можно подумать, – торжественно объявил отец, любуясь новенькой, пахнущей свежеспиленным деревом постройкой, – из кожи вылезу, но молотилку куплю!
Вскоре на нашем хуторе появилась конная молотилка, купленная отцом на паях с Еварестом Ивановичем, дядей Максимом и Михаилом Евграфовичем Стихиным.
Я как сейчас вижу эту, казавшуюся мне в детстве диковинной машину, выкрашенную в красный пожарный цвет. Машинистом молотилки стал Фёдор Кузнецов, а коногонами – его младшие братья, Мишка и Петька. Начали молотить хлеб всем пайщикам; выполняли и заказы со стороны – молотили за плату. Пайщики единодушно решили: по окончании молотьбы поставить молотилку в сарай к Кузнецовым.
Однако не успели закончить всю молотьбу, как вдруг скоропостижно скончался Михаил Евграфович. Сразу к единственной на хуторе молотилке протянулись руки сыновей, зятьев, всех родственников Стихина, а их было полхутора! Начались споры-свары, и доспорили до того, что родня покойного потребовала его долю вернуть. Пришлось троим оставшимся пайщикам срочно собирать деньги. Не знаю, как другим, а нам это тяжело далось: продали двухгодовалого бычка и свинью и потом весь год постились без мяса.
Но отец радовался приобретению молотилки и верил, что она непременно себя окупит. «Ничего, только дал бы бог здоровья, а уж остальное всё постепенно будет», – часто повторял он.
В предзимье, около Богородицына дня, к нам заглянул на огонёк Еварест Иванович. Отец был дома. Гость, помолившись на образа, поздоровался, сел на лавку. Поговорили о погоде, о хуторских новостях, о минувшей молотьбе. Кузнецов сказал:
– Хуторские мужики молотилке рады-радёхоньки. Ведь это прямая выгода, говорят: не цепом всю зиму буткать да овин топить – одних дров сколь припалишь. А тут день-два – и конец молотьбе!
– Конная молотилка, Еварест Иванович, – отец, поглаживая усики, с гордостью произнёс: – Она хороша, если осень ведренная… Сухой-то хлеб, как он в суслонах выстоялся, молотить – любо-дорого. Но ведь не каждая осень такая выдаётся, как нынче. А если ненастье? Тут, брат, и овин, и цеп не забывай.
– Ну, нынешнее жнитво было – лучше некуда! Видел я, сосед, в деревне Долматовой жнейку-самосброску на паях мужики купили – то-то быстро она овёс жнёт! Пара лошадей без натуги жнейку таскает. Хорошо!
– Хорошо-то хорошо, да и жнейка – она ведь не на всякий хлеб. Овёс – чё его, и простой литовкой скосить можно. А как пшеницу убрать – полёглую или густую, которую во все стороны перекрутило? Неплохо, конечно, жнейку завести, хоть на паях, да деньги-то у кого найдутся? Не Каина же Овчинникова в пайщики брать: он намедни последний рубль в долматовской лавке пропил… Как был в деревне самый последний человек, так и на хуторе этаким остался – только бы ему вино пить да бабу свою бить… А вон крыша на избушке его до сих пор не покрыта!
В прошлый раз смеёмся над ним с Петьшей: чё же ты крышу-то на избе никак не покроешь? А он ухмыльнулся да говорит: «Чё беспокоиться, когда дождя нету, то и крыши не надо, а если уж пойдёт он – всё равно её покрыть не успеешь».
Недавно приехал домой из города пьяный, Анну свою принялся охаживать, а та в соседи убежала. Каин-от сам уснул, а лошадь так и ночевала во дворе запряжённая. Вот как хозяйство ведёт! Каков отец был, пьяница да бродяга, таков и сын – не родит свинья бобра, а родит поросёнка!
– Вот ведь зачем я пришёл, вспомнил! – хлопнул себя по лбу Кузнецов. – Если ваши будут наниматься лес рубить в казённых дачах, я уж узнал: по три рубля сажень платят. Можно рубить, ежели лес подходящий. Делянка, сказывают, сплошная, как и в прошлый год.
Я своих всех повезу, кроме Петьки, тот ещё мал для лесу-то, пусть дома бабам помогает. Заодно и уголь жечь будем. Уголь-то завсегда в цене. Здесь не продадим, так в город повезём. Хорошо бы, паря, смолокуру там, в суземье-то[46], оборудовать… Смола – голимые деньги! И ведь это – по пути, между делом. А трунду-то[47] нынче возить будем?
– А как же! Болото близко совсем, рукой подать. Пожалуй, завтра ехать надо да начинать трунду-то долбить, покуда болото не шибко промёрзло. Земля там, в залесках[48], тощая, не удобришь – не видать на будущий год урожая.
Cтарая любовь не ржавеет
Прошло уж полгода, как старшие Кузнецовы женили Фёдора. Всё это время Ульяна, как строшная[49], день-деньской работала в доме свекра: стирала на всю семью, месила пудовые квашни, стряпала, доила коров, убирала за скотом, носила в пригон здоровенные бадьи пойла. Расчётливая свекровь не давала снохе ни отдыха, ни покоя. Сама же охает-жалуется на разные недуги – то у неё «спину пересекло», то «руки не поднимаются», то «в груди вступило» или ещё что. Но не только тяжёлая работа изматывает молодую женщину – уже три месяца, как Ульяна забеременела, а с Фёдором они так и остались чужими.
Как-то под вечер, когда Ульяна в огороде садила лук, к пряслу подошла Евфросинья и поманила рукой:
– Ляна, подь-ка сюда!
Ульяна, замирая от недоброго предчувствия, подбежала.
– Как хоть поживаешь, сестрица? – спросила Евфросинья.
– Да всё работа да работа и вздохнуть-то некогда…
– А с Фёдором вы как, ничё живёте? Я всё увидеть тебя хотела… сказать кое-что… Вот слушай… Неделю назад пошла я овечек искать, подошла к реке, слышу, кто-то разговаривает у переходов. Пригляделась, а это Анюха Комарова с твоим Фёдором сидят под кустом. Он свой пиджак ей на плечи накинул… Чё говорили, не слышно было – далёконько, а ближе я подойти не посмела – испужалась да скорей в кусты, под ногой ветка хрустнула – они оглянулись, встали. Анюха пиджак с плеч сняла, а он обнял её, поцеловал… Старая любовь, выходит, не ржавеет. Встречаются они тайком!
Ульяна прослезилась:
– А ты ещё спрашиваешь, мол, как живём… Худо мы с Фёдором живём, Фрося, – хуже некуда! Да вот ещё горе-то: брюхо у меня присунулось, уж четвёртый месяц…
«Ульяна! Поди-ко домой! Коровы пришли, доить надо! А я уж досажу лук-то как-нибудь!» – крикнула Ульяне вышедшая из дома свекровь.
Во время вечерней управы Ульяна только и думала, что о своей безрадостной жизни и об измене Фёдора: «Раз уж начал он встречаться с Анюхой, добра не жди. Не везёт нам с сестрой: я хорошей жизни не видела, а у неё ещё хуже – беспросветная бедность, муж-пьяница и матерщинник, да ещё что ни год, то ребёнок.
Родились, видно, мы на беду. Мне семи лет не было, как от непосильной работы умерла мать. Трое сирот осталось… Брата Андрея только на похоронах и видела – на один день хозяин из строка[50] отпустил, чтобы с матерью-покойницей попрощался.
Евфросинья тоже горя хлебнула – вплоть до замужества на чужих робила, а я с малолетства в няньках сопли на кулак мотала.
А чем не строшная судьба у меня сейчас? Как начала в детстве и юности горе мыкать, так и в замужестве не слаще. Ни сестра, ни брат в моём горе не помощники – своих забот-горестей полон рот… Да и кому на мужа пожалуешься? И на что? Пьяным не напивается, меня не материт, не бьёт. Но по всему видно, что не любит… Свёкру сказать? Конечно, он в семье – гроза, полный властелин. Взрослые сыновья его как огня боятся. Если уж до свёкра донесётся молва про сыновьи шашни, то получит Фёдор по полной!»
«Нет уж, – всхлипнула Ульяна, – пусть свёкор сам про всё узнает от кого-нибудь, а я на своего мужа не доносчица».
…Ужин был скудный. В большой семье Кузнецовых вечно экономили, часто жили чуть ли не впроголодь. Обычно к ужину уже не оставалось и хлеба – не то что какой-нибудь снеди. Ульяна иной раз сама к еде и не притрагивалась, но семейные этого будто и не замечали: здоровым-то парням что, лишь бы самим брюхо набить…
Фёдор молча хлебал пустые щи, братья старались не отставать. Скоро большое, как таз, блюдо оказалось пустым, Ульяна же попила только чаю без сахара. Когда пришла в горницу ложиться спать, Фёдор отвернулся к стене. Но Ульяна тронула его за плечо:
– Федя, давай поговорим начистоту…
– Это о чём же говорить-то нам с тобой?
– Не могу я больше так жить… Видитесь вы с ней, встречаетесь… Знаю! Всё знаю! – голос Ульяны сорвался, и она не смогла сдержать слёз.
– Чё блажишь-то, как по покойнику! – разозлился Фёдор.
– Да ведь ребёнок у нас будет, а ты с Анюхой Комаровой спутался!
– Кто это тебе сказал?
– Да люди говорят, лю-ю-у-уди! Не отпирайся уж… Видели вас у переходов, на берегу. Сидели вы рядышком, целовал ты её…
– Следишь, значит, за мной, подглядываешь? Или наняла кого? Ну дак знай – не люблю я тебя! Сама навязалась, выслуживалась перед отцом и матерью, чтобы меня силой женили… А теперь и вовсе тебя ненавижу! Дал бы бог до солдатчины дожить – потом и домой не вернусь!
Фёдор схватил подушку, бросил на лавку, сходил в прихожую за пальтушкой, накрылся и лёг. Ульяна всю ночь пролежала с открытыми глазами, и слёзы бессилия текли по щекам: «Вот так поговорили… Лучше бы уж молчала».
В деревне, а тем более – на хуторе, разве от людей что утаишь? Про связь Фёдора Кузнецова и Анны Комаровой запоговаривали. Анюху и пристыдить попытались, но та как ни в чём не бывало отрезала: «Любим мы с Федей друг друга, давно уже любим! Злые люди разлучить нас хотят, да не тут-то было: как любили, так и будем любить! А Ульяна-то знала ведь, что любит меня Фёдор, так зачем шла за него? Хотела быть работницей – работницей и стала! На себя пусть обижается!»
Летом Анюха, как обычно, прикинулась хворой и в поле – ни ногой. Но дотошные бабы стали замечать, что у бойкой частушечницы выросло брюхо. Да она и не старалась скрыть грех. Ей намекали: «Ты ведь не замужем, брюхо-то откуда взялось?» Не моргнув глазом, Анюха отбривала: «Юбки больно коротки носила, вот ветром и надуло!»
Осенью Фёдора забрали в армию, а вскоре после проводин Ульяна родила дочь. Свёкор назвал внучку по святцам Александрой. «Александра Фёдоровна, – говорил он со значением, – первая в нашей семье внучка!» Ульяна осталась солдаткой в доме свёкра – ждать мужа и растить дочку.
Родители Комаровы ругали свою непутёвую Анюху, отец даже побил её под горячую руку, да что толку? Весной Анюха родила сына.
Еварест Иванович ходил как в воду опущенный, глаз на людей не подымал: ему было стыдно за сына и вдвойне совестно от людей, что в семье, где повинуются каждому его слову, – и вдруг такое!
Но нагулянный ребёнок не прожил и двух месяцев… Анюха долго не горевала, быстро духом воспрянула: в Троицу на кругу встретила подходящего парня из Прядеиной, и тот вскоре взял её замуж.
Вот тут-то Еварест Иванович возликовал по-настоящему:
– Наконец-то эта вражина утряслась из хутора, – говорил он в кругу домочадцев, – да надолго ли? Поди выгонят, как узнают, что она за птица.
Прошёл год, Анюха родила дочь и до того освоилась в новой семье, что стала командовать своим смирённым и работящим мужем.
Вскоре ей надоело жить в деревне – здесь ведь завсегда бабьей работы много: и за скотиной ходить, и хлеб стряпать, да хотя бы огород обихаживать. Анюхе-то работать лень, вот она и задумала в город перебраться и мужа с собой уманила.
К бабушке Сусанне
Много знаменательных событий произошло в эту погожую осень 1928 года.
Хорошо помню солнечное утро. Берёзы в проулке, словно в золоте, и от них столько тепла и какого-то радостного сияния… А чуть поодаль, за поскотиной, на фоне жёлтых берёз разноцветные осинки, от тёмно-бордового до пурпурно-фиолетового. И среди всего этого буйства красок – тёмно-зелёные сосенки.
Всей душой, всем сердцем и всю свою жизнь люблю это время года. Зауральская осень, кажется, особенно хороша была в нашем хуторе. Вспоминаются даже самые незначительные мелочи моего хуторского детства.
…Меня теперь никто не будит по утрам – я и сама встаю рано. У меня уже много дел по дому. Утром, когда мама стряпает, я, обжигаясь и дуя на пальцы, снимаю тонкую шкурку с горячей варёной картошки, толку запашистые картофелины пестиком в большой латке[51].
Картошки надо много – и на шаньги, и жарить со сметаной к обеду. Оставшуюся мелочь я разминаю на корм курам и поросятам.
Потом тщательно, со стараньем мою посуду (если вымою плохо, то мама перемывать заставит). Ещё надо подмести пол, накормить гусей и кур…
Как я начала себя помнить, меня стали приучать к работе. В этот день, о котором дальше пойдёт рассказ, я проснулась задолго до восхода солнца и в особенно радостном настроении. И было от чего радоваться: ещё вчера вечером я слышала разговор отца с матерью. Отец сказал: «Утром, если дождя не будет, езжайте с Маньшей на Пионерский хутор. Мы с ребятами дома останемся: надо крышу крыть на завозне, а то, не дай бог, ненастье нагрянет да затянется».
Мама давно уже поговаривала, что надо бы попроведать бабушку Сусанну. И когда услышала, что поедем завтра, я так и подпрыгнула от радости. Не в силах сдержать восторга, я выбежала во двор, забралась в коробок и подобранной вицей[52] стала понукать воображаемую лошадь: «Ну, Воронуха, ну – поехали!»
От распиравшей меня радости я стала напевать – сначала тихонько, а потом всё громче и громче. Частушек «про милёночка» я знала уже великое множество: слышала, как их поют на вечёрках взрослые девки. «Сербиянку танцевала, лет семнадцати была, когда я тебя любила, тогда не было ума! – воспевала я что есть мочи. – Сербиянку танцевала и притопнула ногой, все четыре ухажёра покачали головой!»
Я пела до тех пор, пока не услышала мамин голос:
– Ну-ка, Маньша, «сербиянка» ты мокроносая – хватит тебе трепезить[53], пойдём спать, не то утре дома оставлю, – и вздохнула украдкой, – видать, быть тебе в жизни несчастной – всё поёшь да поёшь…
Утром я встала чуть свет. Мама управилась со скотиной и топила печь. Сестры Любы не было дома, она гостила в Харлово.
– Коли хочешь ехать в гости к бабушке Сусанне – живо вставай, помогай мне, – строго промолвила мама.
Я быстренько умылась и прибежала в кухню. Помогала маме с особенным усердием, вертелась волчком. Время, как назло, шло медленно. За завтраком даже есть не хотелось – уж скорей бы ехать! Но вот печь истоплена, хлеб испечён и обед приготовлен. Мама ставит в печь корчагу с калиной, а в самую загнётку закатывает клюкой[54] большущие картофелины – на печёнки[55].
Наконец, всё готово, и мы готовимся к отъезду. В горенке мама достаёт из сундука свою праздничную одежду, ту же самую бордовую кофту и чёрную юбку, которые я видела на ней ещё в день нашего новоселья в Калиновке, – больше у неё ничего нет.
Чтобы не озябнуть в дороге на осеннем ветерке, я надеваю старый зелёный маринак[56] сестры Любы, который ей был уже мал. Любе он достался от двоюродных сестёр, а теперь подошла и моя очередь. Хотя маринак весь в заплатах и мне он – до пят, а рукава надо подворачивать, зато в нём будет тепло при езде.
Отец запрягает Воронуху. Мама садится на переднее сиденье, а меня подсаживает на заднее. «Смотрите, кобылу мне не нарушьте – жеребая она на девятом месяце, не гоните шибко!» – наказывает он матери.
Мама улыбается. Она, видно, тоже рада, что нам дали лошадь и отпустили в гости. «Не беспокойся, отец, не погоним… Шагом туда и обратно поедем». Вася отворяет ворота. Видно, что и ему хочется к бабушке Сусанне съездить.
– На Осиновке мост худой. Осторожней на нём! – уже вдогонку кричит отец.
Ворота за нами закрываются. Мы едем улицей, я гордо восседаю в задке коробка. Филиппова Нинка глядит в окошко и, конечно, завидует мне. Я довольна донельзя! Еду и думаю: «Вот бы ещё и Максимовы девчонки поглядели, то-то пооблизывались бы, особенно Феклуха. Её-то никто никуда не везёт, так ей и надо!»
Ехали мы шагом – не спеша. У речки Осиновки мама вылезла из коробка, осмотрела мост и провела по нему Воронуху в поводу. До бабушкиного хутора от Калиновки восемь вёрст, как и до Харлово. По дороге мы проехали какой-то маленький и невзрачный хуторишко.
«Наша Калиновка намного больше и красивее», – размышляла я, разглядывая берестяные крыши исчезающих вдали избушек.
Краснознамёнские хутора нас встретили яростным собачьим лаем. Не меньше десятка разъярённых псов бросились к нашему коробку.
«Тьфу! Собак-то, собак! Как в татарской деревне», – кнутом отмахивалась от псов мама. Только когда проехали хутор, собаки отстали, а невдалеке уже показался хутор Пионерский.
Большой дом бабушки Сусанны выглядел старым и почерневшим, хотя был переставлен совсем недавно, семь лет тому назад. Двор и постройки казались неуютными, запущенными. Сразу становилось понятно, что хозяина в доме нет.
Бабушка нам очень обрадовалась, смеялась и плакала попеременно. Одета она была бедно, во всё темное и казалась намного старше своих лет. Мы въехали во двор, и бабушка, протянув руки ко мне, сняла меня с коробка. «Ой, да кто же это ко мне приехал? Да Маньша это приехала, внучка моя предорогая!»
Расцеловав несколько раз, опустила меня на землю: «Пойдём-ка в избу, внученька, чай пить будем!»
– Ну а внуки-то твои где? – спросила мама. – Не видно их чё-то…
– А бог их знает, бегают где-то. Не иначе, по лесу шатаются. Лентяки все – ни дела им, ни работы, совсем уж от рук отбились. Меж собой ругаются, до драки иной раз дело доходит. Меня слушаться – куда там! Матерятся – не приведи господь, курить стали, да и от винца не отказываются… Ох, и замучилась я с ними, Парасковья, – сил моих больше нет. Известна породушка-то – Захара Даниловича выгонки, чё от них доброго ждать? И кто знает-ведает, как я тут с ними маюсь да какие скорби переношу…
Бабушка заплакала навзрыд, мы с мамой, на неё глядя, – тоже. С плачем вошли в большие полутёмные сени, а потом в дом. В избе было чисто, но совершенно пусто. Бабушка поставила самовар и продолжила рассказывать о своей жизни.
– И за чё меня Господь наказывает? И так сколько за жизнь-то всякого горя-несчастья пережить довелось, а уж с внуками – ну совсем невмоготу стало! Сереге вон скоро девятнадцать, а ничё ума нет! Вот Санутко, тот лучше всех был, правда, характерный… В прошлом годе в ремесленное училище поступил, в Екатеринбург, говорят, уехал. С тех пор – ни весточки, ни голосу… Поди, уж и живого-то нет… Всё сердце у меня выболело!
А эти дуроломы-то со мной остались. Работают через пень-колоду, каждого надо уговаривать да заставлять, а больше-то самой всё делать – и пахать, и сено ставить, и дрова рубить… Да уж какие там дрова – больше хлам из лесу на себе таскаю: дом большой, не натопишься.
Опять вот горе: зима идёт, а эти – всю, какая была, одёжу на себе проносили да порвали. Ни носков нет, ни варежек, ни пимов добрых. Ну как так жить?!
Всего хозяйства осталось – лошадёнка да коровёнка. Последнюю овчишку – и ту потеряли, вернее сказать, профукали… Соседи смеются: сами же горе-хозяева её закололи да в городе продали, а деньги пропили. Потом пьяные-то в участок попали…
И правда, их чё-то долго тогда из города домой не было. Пегуху чуть голодом не уморили, едва жива была: одр[57] и одр, сколько я её ни подкармливала. А ведь какой год-то нонче был! Добрые люди вон сколь с полей собрали, а у лентяков этих до нового урожая своего хлеба не хватит… Вот как живём!
А вить мне уж восьмой десяток. Послал бы господь смерть по мою душу – нажилась я на свете досыта…
Закипел самовар, сели пить чай.
«Вон – легки на помине – домой припожаловали», – махнула рукой в сторону окна бабушка.
В ограду зашли три здоровенных парня. Один с чёрными усиками, совсем на взрослого мужика похожий, и двое помоложе. Вошли в избу, поздоровались и сели на лавку.
Я уже напилась чаю и только собралась встать из-за стола, как мама меня поторопила: «Иди-ка, Маньша, в ограду, поиграй там. Только смотри – к колодцу не подходи», – и выпроводила меня.
Я вышла во двор, потом за ограду – вдали виднелась серебристая змейка реки, окаймлённая сочной зеленью, которая сливалась с синевой соснового леса.
Поодаль от бабушкиного стоял другой дом, тоже большой, с тесовой крышей и высоким заплотом. У завалинки резвились ребята – моего возраста и постарше. Увидев меня, бросили играть и заинтересованно стали рассматривать. Сопливый толстый парнишка в холщовых штанишках на одной лямке-помочи через плечо спросил:
– Ты кто? Чья?
– К бабушке Сусанне приехала, – ответила я и показала пальцем на бабушкин дом.
– А ты – попадья, чё ли? – вдруг выпалил парнишка.
– Почему попадья? – удивилась я.
– А пошто лопатина[58] така долга? – сказал он, указывая на мою одёжку.
– Попадья! Попадья! – со смехом задразнилась ребячья ватага.
В меня полетели щепки и комки сухой грязи. Я заревела, побежала к бабушкиному дому, но запуталась в длинных полах и упала. Хорошо, что ребята и не думали за мной гнаться!
В прихожей я вытерла рукавом слёзы. Когда в детстве меня кто-либо обижал, я не имела привычки жаловаться маме или отцу (часто сама и оказывалась виноватой) и заступников не искала. Лучше уж стерпеть и помалкивать про свои обиды и огорчения…
Из прихожей доносился громкий, срывающийся на крик голос матери. Ох как она чихвостила своих племянников! Дома она ни разу никого так не разносила… Да и не нужно было: Люба и старшие ребята, не говоря уж обо мне, слушались её беспрекословно, как и отца.
– Я вот сёдни нароком[59] приехала, чтобы вам, идолам, в глаза бесстыжие поглядеть! Матери я – дочь и в обиду её не дам! Вы достукаетесь: заберу я её от вас, и будет она жить у меня до смерти. А вы уж, как я погляжу, и сами с усами. Вот и живите, как хотите! Пропьёте всё хозяйство-то, с голоду замрёте, да вши вас заедят! Да чё на вас, управы не найти? Уж и до нашего хутора весть докатилась, что вы, бессовестные, тут творите!
Ну-ка, собирайся с нами, мама, – поедем в Калиновку! И никакой тебе работы у нас не будет: что можешь – сделаешь, не можешь – никто не заставит. Сиди себе, отдыхай… Наробилась[60] уж за жизнь-то!
Все трое племянников молчали, понурив головы. Серёга сидел красный, как рак, а Костя и Федька даже заканючили, прослезились. Потом Серёга виниться стал, а за ним и младшие затянули:
– Тётя Парасковья, баушка, простите нас, Христа ради! Уж не увозите её, тётя… Как мы одне-то? Пропадём… Ведь ни варить, ни стряпать, ни корову доить не умеем…
– А чё вы умеете-то?! – бушевала мама. – Табак курить да вино пить? Исть, срать да одёжу рвать?! Нет уж, соколики, так дело не пойдёт. Я баушку от вас увезу. Не возьмётесь за ум – через месяц, через полгода ли – обязательно заберу. Это чё же я – мать родную брошу? Нет, не бывать этому!
Когда мы с ней засобирались домой, все трое парней выскочили за нами во двор. Мигом напоили лошадь, запрягли, отворили ворота – и мы выехали с бабушкиного двора.
Проехали мимо того дома, где меня дразнили здешние ребята. Они всё ещё играли за оградой. «Попадья поехала!» – заорали они вслед.
Мама услышала, страшно рассердилась, привстала на беседке, замахнулась кнутом: «Я вам покажу попадью! – она, видимо, приняла выкрик сорванцов на свой счёт. – Ишь, Осипова шантрапа. Совсем одичали в лесу-то, салыганы!»
Настроение было испорчено. Глядя на голые поля, на пожелтевший лес, мама молчала и грустно вздыхала.
…Вот так и получилось, что долгожданная поездка к бабушке Сусанне меня не обрадовала. Домой мы приехали как раз к управе со скотиной. А мужики наши со своим делом уже справились: на завозне красовалась новенькая, только что покрытая и просмолённая тесовая крыша!
Трудись и жить будешь
Вот и престольный праздник – Богородицын день. Во всех домах Калиновки – гости. И наша семья гостей принимает из Харлово, родственников со стороны отца.
Дядя Немнон приехал со всей семьей – старший сын Иван Немнонович с женой Ульяной Васильевной, второй сын Александр, который в этом году пришёл из армии, и дочери Федора и Валентина – обе сероглазые, красивые.
Иван Немнонович по случаю праздника надел парадную бордового цвета косоворотку. Хотя он был уже не первой молодости, но по-прежнему с густыми светло-русыми волосами и пышными усами цвета пшеничной соломы. Среднего роста, но такой коренастый и широкоплечий, что родственники про него подшучивали: «Если уж Иван за стол сядет – займёт весь простенок, а есть начнет – подавай сразу полбарана, браги или вина – полведра. Выпьет – и ни в одном глазу, покраснеет только – под цвет своей рубахи сделается».
Жена его Ульяна вроде бы ничем не взяла – ни красотой, ни ростом, но не была лишена привлекательности, хорошо пела и плясала. Кроме того, была с характером: не только мужа, но и всю семью в узде держала, даже свёкра, который никогда снохе не перечил.
Дядя Перегрин и тётя Кира пришли с сыном и дочерью. Яков, низкорослый, худощавый, в точности похожий на мать, выглядел подростком, хотя был уж в жениховской поре. Кланька – высокая, большеглазая и смуглая, как цыганка, больше походила на отца.
Ну а для тёти Киры время вроде остановилось… Она нисколько не старела – какая была в тридцать, такой же осталась и в пятьдесят лет. Она всегда была весела – вечно с шуткой-прибауткой! И жила она с дядей Перегрином весь век, как бы шутя, играючи.
Дядя Перегрин с годами тоже вроде не постарел, не согнулся, по-прежнему был стройным, только чёрные густые волосы на висках чуть-чуть посеребрила седина.
Из Крестовки приехали тётка Татьяна с сыном Степаном и снохой Анфисой, Павел Борисович с женой и ещё другие гости, которых я видела в первый раз.
У Александра Немноновича была гармошка-двухрядка, он подождал, когда гости немного захмелеют, взял в руки гармонь и заиграл.
Я ужом проскользнула поближе к гармонисту и стала петь частушки. Меня хвалили, подбадривали и просили петь громче – мы, мол, туги на ухо. Тётя Кира даже платок развязала и ухо подставила.
Я старалась во всю ивановскую, спела несколько частушек; все хлопали в ладоши и много смеялись. Ободрённая, я запела изо всей силы ещё: «Не стой у ворот, не маши фуражкой, я теперя не твоя, не зови милашкой!»
На сей раз хохот грянул просто громовой! Отсмеявшись, все стали просить повторить эту же частушку. Я спела её несколько раз, а гости всё не переставали хохотать. Я бы, наверно, и дальше пела бы, но тут в дверях появилась мама, почему-то очень рассерженная. Схватив за руку, она увела меня на кухню, хорошенько отшлёпала и ушла к гостям. А я слышала, как она попеняла развесёлой компании: «Нашли тоже над чем смеяться! У девки язык худой, а вы…»
Тётя Кира, посмеиваясь, увещевала её: «Да ты, кума, никак обиделась? Мы ведь так, за всяко-просто…»
Мама вернулась на кухню и сказала мне: «Сиди тут! И чтоб я не слышала больше таких частушек!»
Я накуксилась, но реветь не посмела – во-первых, мама могла и добавить шлепков, а во-вторых, я задумалась: за что это мне влетело? Вон большие девки то и дело поют про фуражку да милашку, а я что – хуже, что ли? Потом уже, много позднее, я поняла, что при моей детской шепелявости слово «фуражка» слышалось довольно смешно, более того – неприлично…
Веселье продолжалось своим чередом. Мне на кухне дали поесть, я повеселела и потихоньку незаметно пробралась на полати. Лёжа на животе и подперев голову руками, я через полатный брус смотрела на веселье. Отец с матерью ходили с подносами, подавая гостям кумышку и пиво, Люба угощала орехами и конфетами.
Песни следовали одна за другой, органично вплетаясь в канву деревенского застолья: мужчины и женщины с воодушевлением пели «Как под борком-борочком», потом, практически сразу, без перерыва «По Дону гуляет», затем «Шумел, гремел пожар московский», «Солнце всходит и заходит», «Заброшен судьбой был в чужие края».
Назавтра веселье было уже не таким разгульным. Некоторые гости не пригубили ни вина, ни пива. Молодёжи наскучило сидеть со стариками; Александр прихватил с собой гармонь, и парни с девками отправились ватажкой на улицу. С ними утянулись двоюродные сестры и Люба. В Калиновку по случаю праздника пришли девки и парни с Вольной поляны, Пахомовой, Стихиной и Бедноты.
Вообще молодёжи в нашем хуторе собиралось много. Пожарница не могла вместить столько народа, и пока не построили просторную «народную избу», или, по-теперешнему, клуб, в самые сильные морозы собирались у Тимы Пономарёва: тот жил в большом доме-пятистенке с тремя неженатыми сыновьями.
…В нашем доме гостеванье продолжалось. Иван Немнонович, несмотря на запреты жены, успел уже опохмелиться. Дядя Немнон, хотя почти ничего не пил накануне, занемог и уверял, что должна измениться погода: «Не иначе, дождь али снег пойдёт, – говорил он, – голова разболелась, да и спину пересекло. Домой надо ехать, пожалуй, пока дорога суха».
– А зря я, кум, не поехал тогда с тобой на хутор, – неожиданно обратился Перегрин к моему отцу, – зря! Вижу теперь, не худо тут. Уж на что Филипп лентяк лентяком был, а ишь – и он живёт здесь не хуже кого доброго.
– Да Филипп-то в хуторе ещё ленивей стал! Вконец уж обленился, – расхохотался отец. – Сыновья его уж теперь всем домом правят, а ему только бы в пожарнице сидеть да табачину курить…
Работать, кум, везде надо. Всё одно – на селе, на хуторе ли. А у нас в Калиновке работы невпроворот, только успевай поворачиваться! Четыре года как мы сюда переехали. Землю здесь сроду никто не удобрял, вот и стараемся всю зиму-зимскую – трунду в болоте долбим да на поля её возим. Нашему брату из нужды выбиться не так-то просто. То там прореха, то здесь дыра… Сам уж весь изробился и ребят измучил на работе, а пока на себя ничего не приходится, каждую копейку в хозяйство вкладываю. Завозню вот поставили, молотилку на паях купили. Жить вроде и полегче стало при советской-то власти, да вот, здоровья бы хватило дальше робить…
– Не говори, кум! Ещё, пожалуй, годков десяток пройдёт, сыновей женишь – тогда тебя и рукой не достать! Вся эта распря с белыми-красными вроде прошла, отмаялся народ-от. Мужику немного роздыху дали. И продразвёрстки этой клятой не стало, а то вить приходили да прикладами замки с амбаров сбивали и весь хлеб-то дочиста выгребали – как хочешь, так и живи!
Тут к беседе присоединился дядя Немнон:
– Сказывал ведь я своим – поедем на хутор! Дак вить известно… пока жареный петух не клюнет… Мужикам ничё не надо, как баба скажет, так и хорошо! А у бабы, не зря пословица ходит, ум-то короток! – И дядя с опаской покосился в сторону снохи.
Мне стало скучно со взрослыми – никто уж не пел частушек, не шутил, не чудил… Я решила пойти к соседям, куда перед этим ушла Люба.
Она сидела с подружками и двоюродными сёстрами. Все щелкали семечки, шушукались и приглушённо смеялись. Я взяла с подноса горсточку семечек, уселась и стала слушать.
Бойкая, озорная Валюшка рассказывала про какого-то хуторского парня, своего ухажёра. Она так его обрисовала, так потешно передразнивала, что подружки беспрестанно смеялись.
– Нос-то у него не только курносый, да ещё и с нахлобучкой, как у поросёнка, губы – сковородником, а туда же – лапы тянет! Ты, говорит, мне понравилась шибко, сёдни провожать тебя пойду, – Валюшка скорчила такую рожицу, показывая, какие нос и губы у парня, что все так и покатились со смеху.
– Мы как вышли вчера вечером на улицу, – стала рассказывать Люба, – глядь, у пожарницы – парни Коноваловы, Пашка Петров да Мишка Гришин. Подошли к нам и ну хвастаться, ну галоши заливать… А ты, Манька, чё тут подслушивать подсела? – спохватилась сестра. – Ну не девка, а зелье какое-то – уставит круглые свои глаза да смотрит, как сверлит! Иди-ка себе, играй где-нибудь!
– Да не гони ты её – чё робёнок-то понимает? – заступилась за меня Кланька.
– Всё она понимает, о чём мы говорим… И запоминает, стоит ей только раз услышать!
Я стояла, потупив в пол глаза, набычившись, и уходить ни за что не хотела. Ну неужели Люба понять не может? Старшая сестра, называется…
По случаю праздника на столике стояла стеклянная вазочка, полная карамели. Люба, наконец, догадалась: захватив полной горстью конфеты, подошла ко мне. Я подставила свой фартучек.
– Ну, ступай теперь с богом, – напутствовала меня сестра и, погладив по голове, добавила, – иди, хитрюга!
Конфеты я не ела, а складывала в коробочку, копила на чёрный день. Конфетки старалась собирать разные и только те, которые были в бумажках, по одной, по две, редко по три одинаковых, остальные, конечно же, съедала. Однажды я поймала на месте преступления Ваську – он нашёл мою коллекцию и хотел утащить конфетку. Пришлось перепрятать коробочку в голбец, но тут приключилась другая беда, ещё хуже первой: муравьи съели все мои сладости, оставив только одну грязную труху. Пришлось копить конфеты снова.
Заполучив от Любы целую горсть карамелек, я поспешно покинула горенку, стараясь не попасться на глаза ворюге Васе, незаметно влезла на полати и там, в укромном месте, стала любоваться полученным подарком.
А в это время женщины накрыли завершающее праздничное застолье. После обеда гости засобирались домой, чтобы поспеть к вечерней управе. Дядя Немнон, поблагодарив родителей за гостеприимство, приосанился и сказал:
– Теперь ты, куманёк, и ты, кумушка, и все вы – Люба, Костя, Вася и Маня – к нам в гости через две недели пожалуйте, вот к Александру на свадьбу, – кивнул он на сына, – невеста уж высватана. И Иван с Ульяной, и сам жених тоже всех приглашают!
По такому случаю ещё раз присели перед дорогой. Всем, конечно, не терпелось узнать, кто невеста, чья и откуда, но дядя Немнон, подмигнув, ответил:
– Молва донесёт! А на свадьбе и сами всё узнаете.
После обеда погода стала меняться. «Золотая осень» кончалась: с северной стороны натянуло морок[61], посеял нудный бусенец.
…На свадьбу к Александру Немноновичу отец с матерью поехали вдвоём. Сразу после отъезда родителей к Любе пришла подруга Лиза, а к братьям пришли товарищи. Много в тот день было съедено семечек, выпито квасу, но ещё больше было веселья.
– Петька, сыграй «Махоньку», да побыстрее! – попросил Мишка.
Петро стал играть, и Мишка вышел на круг – развёл руки и в такт, прищёлкивая пальцами, пошёл, пошёл, припевая: «Ох, хонька, махонька моя! Полюбила ты тихонько меня. Потихоньку, тихонечку, помаленьку, маленечку. Пойду выйду в чисто поле далеко, не моя ли махонька идёт? Не моя ли махонька идёт? Не моя ли возлюбленная?»
Лиза не могла усидеть на месте, вихрем закружилась вокруг танцора и запела: «Старичёнко на вечерку приходил, полну пазуху парёнок приносил! Мне парёночек хочется, старика любить не хочется…»
Выходили на круг и остальные. Плясали до пота, до изнеможения, пока гармонист не перестал играть. Но веселилась в тот вечер, наверное, больше всех я – скакала, кривлялась и даже, когда меня прогоняли с круга, я не переставала баловаться и дразниться. «Манька, хватит диковаться[62], иди спать», – уже много раз говорила мне Люба. Но я продолжала своё.
Василий, который стеснялся при других людях подать голос или выйти на круг, тоже дурачился не меньше других. Он подавал мне руку и пел: «Моя милая сестра! Вот тебе моя рука!» И мы с ним скакали в паре, не слушая музыку.
Во всех домах уж давно погасли огни, а в нашем доме всё ещё продолжалось веселье без вина и пива.
Девки в тот вечер так и не садились за прялицу, плясали и пели до полуночи.
Когда все разошлись, Люба подозвала меня и шепнула:
– Манька, ты ничего не говори мамке с тятей, что сёдни у нас парни были.
– Если дашь конфет, не скажу, – не теряясь, выпалила я.
– Господи! Да где же я их возьму, ведь праздник-то давно прошёл? На вот семечек!
– На что мне семечки?! Их и так в амбаре полный мешок, я завсегда там сама возьму. Ты лучше сними верхний сундук, а в нижнем, на дне, вот в том углу есть урюк, мне его надо!
– Да ты чё, сдурела? Ведь мама-то увидит, что мы брали урюк.
– Тогда я всё скажу и тяте, и маме, и что кавалеры тут были, и вообще всё! Кто с кем ходит… всё-всё… А урюк я всё равно достану. Ваську подговорю, – я стала беззастенчиво шантажировать сестру.
Скрепя сердце Люба пообещала мне назавтра достать урюк, и я, безмерно довольная, согласилась идти спать.
Утром ко мне подошёл Васька и, скорчив таинственное лицо, прошептал:
– Маньша, а я ночью чертей видел…
– Врёшь! – воскликнула я, побледнев от страха.
– Когда я тебе врал-то, – с обидой протянул Васька, – они у нас в голбце живут: страшные, чёрные, с красными глазами, и во рту у них огонь.
– Давай голбец на клюку закроем, – быстро сориентировалась я, – они выйти не смогут.
– Нет… Для нечистой силы ни двери, ни клюка не причина, – с озабоченным видом произнёс брат, – если они захотят выйти, то всё равно выйдут. Я вот уйду на улицу и прикажу им выйти. И они тебя к себе в голбец утащат.
Услышав такое, я не выдержала и заревела. Я была готова отдать брату все накопленные конфеты и даже указать место, где мама прячет сахар и урюк.
С этого дня я всегда была настороже: если взрослых не было дома, то я надевала шаль, пимы, свой маринак и была готова в любой миг, как только появятся из голбца черти, выбежать на улицу.
Вечером к Ваське пришёл его задушевный дружок Яшка Еварестов. Пошептавшись с другом в прихожей, Васька сказал мне: «Сиди тут! Мы сейчас придём!»
Я осталась в избе одна. И такой на меня напал страх, что я, не помня себя, быстро оделась и вышла на улицу. Я представила чертей в голбце с красными глазами и с огнём во рту.
Походила, походила по ограде, и мне стало страшно – вдруг черти из дома выскочат. С рёвом я выскочила на дорогу. Василия нигде не было видно – улица была пуста. Темнело.
– Маньша, ты чё тут стоишь? – я подняла голову и увидела тётю Домну, которая вышла из своих ворот.
– Васька ушёл, не знаю куда, а в голбце у нас черти, и я их бою-ю-юсь, – всхлипнула я.
– Какие черти? – с удивлением спросила Домна. – Кто тебе такую глупость сказал? Про чертей-то? Небось, Васька? Ну ладно, пойдём к нам.
Четыре дня, которые пробыли на свадьбе родители, мне показались целой вечностью, никогда ещё я так не страдала. Я до того поддалась страху, что боялась оставаться дома даже днём. Ночью мне снились ужасные сны, и я с криком то и дело просыпалась.
– Маньша-то у нас чё-то напужалась, соскакивать стала и туросить[63] по ночам, – говорила мама, – придётся, однако, нароком[64] ехать к Калипатре.
Однако причина скоро выяснилась. Как-то вечером мы с ней лежали, грелись на голбце.
– Мама, скажи правду, черти у нас в голбце живут? – набравшись смелости, спросила я.
– Какие ещё черти? Чё ты ерунду-то мелешь?
– С красными глазами и с огнём во рту? Вася говорил…
– Ну и дурак же этот Васька, какую он тебе глупость внушил. Никаких чертей нет! Запомни это! – строго ответила мать.
– Нет, мама, есть! Ведь в книжке написано и даже вон как страшно нарисовано. Да и Фёкла-то послушница виденье видела, черти и демоны грешников в ад тащат. Да и сама ты тоже говорила, что если будешь обманывать кого или ругаться, то демоны тут как тут.
Мама помолчала, подумала и сказала:
– Демоны-то действительно есть, но ведь Боженька дом хранит. Вон на божнице икон-то сколь, а где в дому есть иконы, там нечистому духу делать нечего. Да и на нас на всех нательные кресты надеты. Так что враг рода человеческого к нам не подступится! А сейчас мы с тобой воскресную молитву выучим от нечистой силы. Слушай и запоминай: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением…»
…В детстве я думала, что родители живут между собой очень дружно, никогда не ругаются. Но как стала повнимательнее присматриваться, стала замечать, что их отношения бывали натянутыми.
Как-то отец заколол годовалого бычка и повёз на рынок мясо продавать. Домашние ждали, что отец расщедрится на подарки, на какие-никакие обновы… Оказалось, что ждали напрасно.
Когда отец вошёл в дом, я втихомолку сидела в горенке и что-то шила для своих кукол. До меня вдруг донеслось:
– Ну, совсем обжаднел! Уж не с ума, видно, деньги-то копишь? Нет чтобы из ребят кому хоть по шапке купить – ребята наши-то уж хуже Филипповых одеты… Ведь не живать нам богато, дак чё не по силам-то кожилиться?![65]
– Ты, мать, не ругайся, – буркнул в ответ отец. – Знаешь ведь: деньги за мясо не пропил, не прогулял, как другие-некоторые! Иной с рынка-то всё лёжа едет, упасть боится, и шапку дорогой потеряет… А для кого стараюсь – для вас же, для семьи!
Мать была за то, чтобы получше одевать ребят, а отец ратовал за другое: чтобы сначала отстроиться, завести добрых лошадей, скотины прикупить. А главное – чтобы были необходимые в хозяйстве плуги, бороны и прочее.
Помню, как из города отец привёз двухлемешный плуг. Он был покрашен ярко-зелёной краской, но после первой пахоты отвалы его засияли вогнутыми зеркалами, и мы, ребятишки, часто гляделись в них, хохоча над собственными искривлёнными рожицами.
Отец в разговорах с мужиками нахваливал железные бороны-зигзаги: лёгкие и в то же время хорошо разрыхлявшие землю, выдиравшие из пашни коренья зловредных сорняков.
Перед севом у нас не было борноволока[66], пришлось нанимать со стороны. Каин Овчинников предложил в работники своего сына Ваську.
– Мы-то не лишка сеем, – говорил он отцу, – вот и бегает мой оголец[67] всю весну без толку, ветер пинает… Пусть уж боронит, всё же какая-никакая работа! Ну как, возьмёте Ваську?
Отец согласился, и назавтра десятилетний Каинов сынишка пришёл к нам работать на всю весеннюю страду. Его кормили, справили кое-какую одежонку. После сева отец рассчитался со старшим Овчинниковым, однако Васькой-борноволоком остался крепко недоволен:
– Ленивый парнишка-то, – махнув рукой, сказал он матери, – голимый батюшка растёт… А уж для лошадей – прямо палач! Не надо мне больше такого! На будущую весну Маньшу приучать стану…
– Куда ж таку малу – да в борноволоки?! – ахнула мама.
– Любашка тоже сызмала боронить начала, – возразил отец, – хуже нет, чем чужих нанимать. Свой робёнок есть свой. Его и отлупасить на поле не грех, коли чё не так сделал; поучил легонько, да опять на лошадь!
Что ответила мать, могу только догадываться: при детях наши родители старались не спорить и тем более не ругаться.
А препирались они всегда почти об одном и том же. Мама изо всех сил стремилась приодеть старших ребят, чтоб они не хуже других выглядели и не было стыдно за них перед людьми, но отец думал только о хозяйстве.
Как-то мама, ничего не сказав отцу, пешком по худой дороге пошла в деревню Долматову, унеся с собой на продажу яйца. Сдала их в сельпо и на выручку купила два метра сатина: тёмно-синего, отцу и парням на рубашки, и розового – Любе на кофточку. Сатин был широкий – «покройный» – сказала мама, так что из лоскутов набралось на кофточку ещё и мне. Только самой маме сатина не досталось, и холщёвину, в которой она ходила, сменить ей было нечем.
Швейной машины у нас не было. Рубашки-косоворотки мама шила по ночам. На вороте и по низу сделала вышивки красными и чёрными нитками по канве.
Отец немного поворчал на мамино самоуправство: «Нечего было в Долматову ходить, и у нас на рынке можно было яйца-то продать, да подороже».
И сразу начал о своём:
– Красного леса хочу купить. На амбаре крышу тесовую надо делать, пол в завозне настлать, – отец стал загибать на левой руке пальцы… Неожиданно его лицо просветлело, и он мечтательно произнёс: – В этом году новую кошёвку думаю прикупить… А вам всё обновы подавай… Обновы обновами, а хозяйство – главнее!
– Ты бы, наверное, с неба звезду схватил! – сердилась мама. – Из грязи – да в князи! Чё ты так стараешься? В кулаки выбиться, чё ли, хочешь? Вон в Харловой сколь богатых-то хозяев раскулачили, всё отобрали – в чём были из домов повыгоняли и сослали неизвестно куда!
– Кого это где повыгоняли?
– Стихина, Вершинина, Ксенофонта, Белобородова…
– Дак оне люди были торгующие, богатые, и у них каменные дома двухэтажные, магазины. Спокон веков на них сколь людей робило… А мы? Сравнила тоже… Все поди-ка знают, что всё своим трудом… Из батраков, из самой что ни на есть бедности… Чичас уже то время прошло – середняка, брат, не трогают… Трудись и жить будешь!
Каин
В самый разгар лета, в Петровки[68], к нам зашёл Михаил Комаров. Увидав отца на ограде, поздоровался и сказал:
– Дядя Панфил, сёдни я был в Долматовой, велено тебе ехать в город за солью для потребиловки[69], говорят, по списку ваша очередь подошла.
– Ладно! Спасибо, что сказал, а то я сам-то с зимы в лавке не бывал. Всё некогда.
«Вот так незадача, а я завтре хотел на третий ряд пары пахать! – сокрушался Панфил. – И лошадь будет занята, и два дня пропадёт. Такая жарина, а ехать всё одно надо. Хорошо, хоть не в страду. Сенокос прошёл, а жнитво ещё не поспело».
В городе Панфилу повезло – соль он успел получить ещё до обеда. Погрузил мешки в телегу и потихоньку выехал в сторону дома.
Ни ветерка, ни дуновения. Дорога шла среди полей поспевающей ржи. Солнце палило нещадно. Густой патокой растекалась жара. Рыжко сразу взмок от тяжести гружёного воза… Панфил шёл рядом, вытирая с лица пот рукавом рубахи. «Скорее бы кончились эти поля, – думал он, – побыстрей бы подняться на Ерзовскую гору и там отдохнуть до вечера в тени деревьев».
Добравшись до горы, Панфил выпряг лошадь, пустил пастись, а сам лёг под телегу – какая благодать: ветерок поддувает, не то что в низине. «Ни одного комарика, хотя кругом лес и травы для лошади сколь хочешь. Отдохнём тут, а по холодку незаметно и до Берёзовки докатим. Уж больно там у пожарницы в колодце вода хороша, – думал он, доставая хлеб, лук и картофельную лепёшку».
«Но! Но! Милая! Ишо немного!» – вдруг раздался невдалеке мужской голос. Через некоторое время Панфил увидел невзрачного пьяненького мужичка, понукающего неказистую лошадёнку, тянувшую из последних сил гружёную телегу.
– Путём-дорожкой! – крикнул путник.
– Здорово! – ответил Панфил.
– Уф! Жарина! Сил нет! Нельзя ли и мне тут остановиться, добрый человек?
– Останавливайся, чего тут ещё – места всем хватит.
– Соль вот везу для Харловского сельпо, – поделился с Панфилом мужичок.
– И я соль. Как я тебя не видел, когда получал?
– И я тебя не видал, – широко улыбнулся мужик, – вот хорошо-то, что попутчика встретил, ты ведь харловский, а я пьяновский, Абунтием меня звать… Я тебя-то сразу признал. Вижу, знакомый человек, – мужичок быстренько достал из телеги кошель с провизией, из кармана четушку[70] с водкой и, сияющий, предложил отцу: – Вот, Панфил Иванович, у меня и водочки малость есть, да стакашка-то нет. Не обессудь уж, глони прямо из горлышка.
– Нет! Чё ты? Я уж поел. Да и не надо мне, и так жарко! Да и совсем не пью водку, голова у меня больная, ранен я на фронте ещё в германскую.
– Дело твоё, силой не неволю… Кому можно, а кому и нет. Чё же поделаешь? – Абунтий жадно приложился к четушке, закусил хлебом и луковицей и стал ещё словоохотливее. – Ну вот и всё! Из пустой посудинки не пьют, не едят, под гору валят! – удостоверившись, что в бутылке водки больше ни капли, мужичонка отбросил четушку к своей телеге. – Значит, по нездоровью не употребляешь?
– Да, не пью и не курю, потому как осколок застрял в голове.
– А к дохтурам не обращался?
– Да нет… Тогда я раненый в плен попал… А кто же в плену нашего брата лечить-то стал? Так и остался… Зарос… А потом почти пять лет мытарился по разным странам. А домой пришёл, не до того стало. Вот так и хожу…
– А ты с какого года? – спросил Абунтий, затянувшись самосадом.
– С 1886‑го, – ответил Панфил.
– Ну а я на два года помоложе тебя буду. Я в плену не был, но тоже перенёс немало: и ранение, и тиф. Домой пришёл в начале 1919‑го, а тут, будь он не ладен, Колчак, и дёрнул же меня нечистый идти в красный отряд… У красных тогда шибко худо дело было: ни ружей, ни патронов, ни продовольствия. Ох! И натерпелись мы! Под Ирбитским заводом жестокий бой приняли, и осталось нас от всего отряда человек пятнадцать, а пополнение не идёт, и патронов нет. В Крутихе взяли нас белые в плен. Затворили в завозню – трое суток ни еды, ни воды не давали. Чё выжидают, не знаем.
Вот, наконец, на исходе третьего дня выгнали нас из завозни. Построили. Перед строем здоровенный краснорожий детина чапается[71], видно, под турахом[72]. Смотрю, рожа-то знакома. Ваш, харловский – Каин. Я на него гляжу, а он меня прикладом… Я не стерпел да как заору: «Чё ты, белогвардейская сволота, меня бьёшь?! А ишо земляк». Он аж побелел весь от злости. Я те, говорит, покажу земляка! Да как прикладом-то мне двинет! Тут уж у меня свет померк…
В себя пришёл только тогда, когда к скамье привязывать стали… Так шомполами отодрали… Да не только меня – всех, кто со мной мытарился[73].
Очухался ночью – руками, ногами пошевелить не могу. Голову приподнял, присмотрелся, а вокруг меня – трупы. Я попытался их от себя отбросить – не могу – слабость во всём теле. Лежу, мертвяками придавленный.
Вдруг перед глазами старуха появилась – страшная, как смерть, и провалившимся беззубым ртом шамкает: «Живой, касатик? Испей-ка, родненький, водички, – и льёт мне в рот воды. – Погоди ужо, как потемнее будет, позову внука, вызволим тебя».
Ночью и вправду телега остановилась, положили нас двоих живых, закрыли сеном и повезли.
Спасибо бабке Федосье, выходила она меня… Лежал я пластом у них на сеновале. Вот, посмотри, чё сволочи со мной сделали! – мужичонка задрал грязную потную рубаху, показывая багровые поперечные рубцы на спине. – Во как меня Овчинников отделал, ни за што ни про што. Хворой я с тех пор стал… Внутрях чё-то болит, дохтура, говорят, лёгкие. А ему чё, гаду ползучему?! Живёт, хоть бы чё… Правда, видно, стыдно роже-то стало, жить в деревне не стал, куда-то утрёсся[74]. Не в вашем он хуторе случайно?
– В нашем, – ответил Панфил. – А ты, Абунтий, не ошибся? Точно Каин был в карательном отряде у Колчака?
– Нет! Нет! Чё ты, как можно ошибиться?! Я его хорошо знал. У меня память добрая на людей… Таку рожу разве забудешь? Да пока живой – помнить буду. Такое ведь не забывается.
– Ну и ты куда-нибудь жаловался?
– Да куда жаловаться теперь, чё уж, столько лет прошло… Сначала всё стращали, вот-вот белые придут и всех перевешают, хто служил у красных… Потом уж и люди стали говорить: «Не связывайся ты с Каином, у него родные да двоюродные братья, все такие ухобаки[75]. Оне тебя убьют и знать нихто не будет». Овчинниковых вся Харлова боится. Белогвардейская сволочь тут ходит, живёт и здравствует, а я молчу! Вот так! Братец ты мой! Вся жисть под страхом, а чё поделаешь, жить-то всем охота…
Я вот так думаю, Панфил Иванович, жисть-то вроде опять на старый лад поворачивает. Богатые опять богатеть стали. У нас вон в Пьянковой помешался народ на машинах, молотилки-жнейки покупают. Кто сепараторы, кто маслобойки приобрёл. Лошадей хороших заводят, коров племенных выписывают…
– Народ лучше стал жить, – согласился с рассказчиком Панфил, – так уж повелось, что человек всегда стремится жить лучше, чем он живёт. Да и то посуди, парень, двенадцатый год советской власти. Хватит уж бедствовать…
Солнце клонилось к закату, потянул лёгкий ветерок. Стало прохладнее.
– Однако, Абунтий, пора ехать, лошадям пить надо, а тут водопою нет. Шесть вёрст до Берёзовки, рукой подать, а там и лошадей напоим, и сами напьёмся.
Абунтий, кряхтя, подобрал порожнюю четушку, сунул между мешков в телегу и начал запрягать лошадь.
Отец был поражён услышанным: «А вдруг это неправда? А вдруг это был не Каин и Абунтий ошибся? Может, просто похожий на Каина человек?»
Дома отец осторожно, исподволь, завёл разговор с мамой:
– Не помнишь, мать, когда Колчак в наших местах был, кто служил у белых?
– Да тогда всё лето мы с Кирой да с дедком Евдокимом в лесу прожили. Боялись домой ехать, и скотина с нами была, и робятишки мучились в суземье. Молодых-то мужиков поголовно никого дома не было. Попробуй узнай, хто где у кого служил…
Коммуния
Вечером наша семья сидела за ужином. Взглянув в окно, я увидела, как по переметённой снегом дороге в сторону Калиновки движется повозка, полная людей. Запряжённая в неё добрая лошадь была, похоже, не хуторская. «Кто-то едет!» – показала я в окно пальцем.
Минут через пятнадцать, мы ещё не успели отужинать, мимо окон пробежал соседский мальчишка, звонко крича во всё горло: «На собранье! Идите в народну избу – из району приехали!»
– Чё тако? – вслух недоумевал отец. – Поди чё-то важное деется?.. Пойду-ка я!
Он быстро оделся и ушёл.
…О том, как началась коллективизация в маленьком приуральском хуторе, я пишу, по большей части, со слов старших – своих родственников и соседей. Но кое-какие эпизоды тех давних и страшных дней я видела и сама.
Калиновцы гурьбой повалили к «народной избе». Внутри народу было – битком. Опоздавшим мест не хватило, и они столпились у входа, а кто успел пробраться дальше внутрь, стояли вдоль стен. За столом, накрытым красным сукном, важно сидели какие-то мужики начальствующего вида. Один из них, покопавшись в кожаном портфеле, достал бумагу, встал, поднял руку, требуя тишины.
– Товарищи! У нас в стране начинается всеобщая повсеместная коллективизация сельского хозяйства!
Недоумённый гул голосов… Глуховатый дед Ерений испуганно перекрестился:
– Господи Исусе! Опять война?
– Чё мелешь, дедко! Кака война?! – оборвал его сосед.
– Да как же, вить он сказал – мобилизация. Солдат набирать будут, значит…
– Совсем ты оглох, чё ли? Како-то друго слово он сказал!
– Тише, товарищи! – прикрикнул выступающий. – Обобществляется семенной и фуражный фонд, летний и зимний инвентарь, лошади, коровы и мелкий скот, а также птица. Все деревни и хутора вашего сельсовета, а с ними – посёлки Броневик и Ленинские хутора, объединяются в одну коммуну под названием «Гигант».
На зиму придётся вам, товарищи, потесниться. С Броневика и Ленинских хуторов люди до весны будут переселены в ваши дома. По весне перевезём их на постоянное жительство в Калиновку.
– А строиться-то им где? – крикнул кто-то.
– Лес возле хутора вырубим, вот и будет место, сделаем здесь большой посёлок! – ответил товарищ из района и, дождавшись, когда утихнет перешёптывание в зале, продолжил: – Теперь о главном… Кулачество повсеместно ликвидируется как класс! Всё сельское население делится на четыре категории: батраки, бедняки, середняки и кулаки. Ясно, товарищи?
Состав правления коммуны в районе уже назначен: председатель Долматов Михаил Ферманович из посёлка Вольная Поляна…
– Тоже нашли председателя! – выкрикнули от дверей. – Самый первый лентяк!
– Кто кричал?! – раздался грозный голос из президиума. Люди сразу затихли, отводя глаза в сторону.
Дождавшись тишины, приезжий начальник продолжил: – Заместителем Долматова назначен Стихин Филипп Фотиевич…
– Молодой он ишо нами командовать! – выкрик из зала вновь прервал выступающего.
– К порядку, товарищи! Иначе нарушителей выгоним вон! Теперь перейдём конкретно к вашему хутору, – начальник постучал по столу огрызком карандаша, – председателем в Калиновке назначается Овчинников Каин Кирович.
– Каин?! – по избе прокатился возмущённый гул.
– Да, именно! И это обсуждению не подлежит, – оратор окинул присутствующих колючим взглядом и, взглянув на Каина, добавил: – Председателю немедленно приступить к составлению пофамильных списков хуторских кулаков. В течение трёх дней списки должны быть представлены в район! Переходим ко второму вопросу! С хутора Калиновка предписано отправить на лесозаготовки не менее шести мужиков с подводами в Богословский завод[76]. Отправка – через пять дней. Прошу называть фамилии!
– Сосновский Панфил! – начал выкрикивать Овчинников. – Кузнецов Еварест, Сосновских Максим. У них у всех взрослые сыновья, дома есть кого оставить! Стихин Петро, Юдин Григорий!
И разом всё собрание зашумело, поднялся невообразимый гвалт.
– Тихо! Т-и-и-хо! – надрывался представитель района, – предупреждаю: завтра с утра по дворам будет переписан весь скот. И птица тоже – до последней курицы! Если при проверке не окажется в наличии хотя бы поросёнка, хозяина будем судить по всей строгости закона, как саботажника!
Собрание так и ахнуло:
– Как это, за своё же – и под суд?! Где правда-то?
– Не понимаете вы, что ли?! Это – распоряжения из центра! – пытались урезонить собравшихся окриками из президиума. – Всё, собрание закончено! И хватит тут шуметь – расходитесь по домам! Активистам остаться для получения дальнейших инструкций!
Как из разворошённого муравейника, расходились хуторяне по своим подворьям.
– Беда, кума! – с порога заголосила, как по покойнику, вбежавшая к нам в дом соседка. – Погибель наша пришла – в каку-то коммуну всех нас загнать хочут! Всё начисто будут отбирать!
Мама побледнела, трясущимися руками стала креститься. Я, в предчувствии непонятной и страшной беды, в страхе прижалась к ней.
– А наш-от где? – с тревогой спросила мама.
– Да всё ишо мужики с собранья не пришли… Иванко вот вперёд домой прибежал, дак всё обсказал. Мы сейчас скотину колоть будем! А чё поделаешь, всё равно отберут! Завтре, когда уж всё опишут, поздно будет!
Не успела соседка выскочить за ворота, как пришёл из «народной избы» отец.
– Ну, мать, дождались мы хорошей жизни… Каин Овчинников на хуторе теперь – советская власть! Чё захочет, то и будет делать, как при Колчаке. Поди не зря у него в отряде-то карательном зверствовал… Да нет, теперь он похуже Колчака будет! Меня вот в завод на работы угонят, вы тут одни останетесь… Уж всласть тогда наиздевается!
Отец с минуту помолчал, о чём-то напряжённо думая. Потом решительно поднялся с лавки.
– Заправь-ка фонарь, мать… Пойдём, поможешь мне скотину колоть… Всю подряд пластать буду! Только бы этой сволоте, Каину, не досталось!
Я никогда ещё не видела отца таким страшным: в лице ни кровинки, глаза горят… Братья понуро и молча смотрели в пол, мама с Любой, ну и я, конечно, плакали.
В ту ночь никто не ложился спать. Калиновцы резали скотину… Женщины и дети ревели навзрыд, жалея коров-кормилиц.
Народ обезумел. Все что-то хватали, тащили, что надо и не надо. Мешки с зерном растаскивали по ямкам, деньги и одежду – по подпольям.
…Ранним утром к нам заявились с описью домашней живности. Мать встретила пришедших в фартуке, запятнанном кровью: она резала ночью молочных поросят.
– Ты чё это делаешь, тётка Парасковья? Смотри, ответишь за самоуправство по закону, – заикнулся было кто-то из активистов.
– Будьте же вы все прокляты! Подавитесь нашим добром! – вне себя закричала мать.
Из пригона вышел отец:
– Ладно, мать, тут криком не поможешь… Пусть грабят – их сила!
В то утро у нас описали лошадей, коров, свиней, овец, гусей и даже куриц.
Зашли в амбар, в завозню, посмотрели, сколько там зерна, муки, и, опечатав двери, ушли.
Мои родители не спали уже вторую ночь. Мама, бледная и осунувшаяся за эти кошмарные дни, без устали обрабатывала окровавленные тушки поросят. В широком зеве печи кипел ведёрный чугун, в котором варились скотские осердия[77]. Из таза укоризненно смотрела голова нашей семейной любимицы коровы Тагилки. Её отец покупал ещё маленькой тёлочкой…
По хутору уже пошёл слух, что мясо забитого скота будет конфисковано коммуной. «Повальные обыски, слышь-ко, учинить собираются, – шептались хуторские старухи и бабы, – и в каждом дворе, где хозяева скотину держали. Ой, беда!»
Глубокой ночью раздался осторожный стук в окно.
– Отец! Кто это к нам в такую непогодь? – шёпотом, боясь разбудить детей, спросила Парасковья.
Тятя быстро оделся и вышел. Было слышно, как скрипнули большие ворота.
Через минуту, весь засыпанный снегом, в избу зашёл Егор Осипович:
– Здорово живёте!
– Милости просим, проходи, грейся, – поприветствовала ночного гостя Парасковья. – Чё ж ты в такую непогодь?
– Дело одно есть, – сказал Егор и понурился.
Зашёл и отец:
– Воронка-то твоего я выпряг и сена дал, пусть поест, поить ещё рано, шибко ты, брат, его спарил. Разве можно так животину мучить?
– А теперь уж всё одно. Скоро всё прахом пойдёт, – махнул рукой Егор Осипович. – Панфил, выручи меня… Я только на тебя надеюсь. Никого больше, кроме вас, у меня нету! Уж я бы в долгу не остался, только бы сундучок спрятать где понадёжнее. Понимаешь, ведь золото! – он наклонился к уху отца и зашептал.
Мама ушла на кухню ставить для позднего гостя самовар. А я притворилась, что сплю, и мне было отлично слышно разговор отца с дедушкой Егором.
– Понимаешь, ведь ты, Панфил, с золотом нигде, никогда не пропадёшь, ни при какой власти. А эта коммуния[78] ихняя ненадолго! Народ-от вконец обозлят, в скором времени чё-то будет. Не допустят люди над собой такого глумления.
– Нет, Григорий Осипович! Не стану я твоё золото прятать да в тюрьме за него сидеть. Меня теперь самого-то хотят раскулачить – всё описали. Не смей, говорят, теперь это всё не твоё. Самого вот гонят на работы – лес рубить! Вернусь ли? Может, и семью свою больше не увижу. Навечно там закабалят! А ты золото жалеешь… Да чёрт с им, пусть берут! Лишь бы самим остаться живыми.
– Лошадь отдам! Лучшую! Воронка оставлю с кошёвкой, с упряжкой! Ну будь, Панфил, отцом родным, пожалей нас с бабкой, сирых и одиноких…
– А вы, Григорий Осипович, пожалели меня в 1911 году, когда я от вас в никуда уезжал? Дармоедом да нищим называли! – глаза у отца зло сверкнули, голос сорвался. – Были мне отцом родным? А теперь просите, чтоб я ваше золото прятал. И в тюрьме за него подох, как собака.
– Виноват! Каюсь, виноват, Панфил, я перед тобой! Вот она, наша жисть неразумная! Бабка! Всё она, змея подколодная!
– Нечё на бабку валить! А ты где был?
– Виноват… Прости меня, Панфил! Возьми всё так, даром: и золото, и лошадей с упряжкой. Уплетусь домой пешком, аки[79] пёс бездомный.
– Нет! Нет! Ты уедешь домой на своём Воронке и увезёшь золото! Пожалей мою семью – не вводи в беду!
Мама принесла и поставила на стол кипящий самовар, картофельные шаньги, топлёное молоко, чашки и сахар. Но гость сидел, словно каменное изваяние, и за стол так и не сел.
Про золото больше не было помянуто ни слова. Зато дедушка Егор рассказал жуткие истории:
– Самые последние люди теперь у власти – Каиновы братки всем командуют, ну и приезжие какие-то ещё. Отца Алексея с семьей арестовали, увезли куда-то. Церковь разрушили, всё выбросали, иконы жгли на площади целый день. Старики и старухи в голос ревут… Ужас чё творится! Всё описывают, увозят, отбирают…
Перед самым рассветом метель поутихла, и ночной визитёр собрался домой.
– Езжай, Егор Осипович, от греха подальше домой, пока наши хуторские басурмане не увидели. Время сейчас самое тревожное, хуже войны. Любого человека остерегайся. Лучше уж сиди дома. Куда тебе, старику, ишо трястись? Отдай им всё, пусть берут, подавятся когда-нибудь. Ты старый, тебя не тронут. Отберут лошадей – заботы меньше. Дом отберут – в малухе, в бане живи… Чё поделаешь! На веку – как на долгом волоку!
– Простите меня, ради Христа! Не поминайте лихом! – Егор встал с лавки.
– Бог простит, – сказал отец.
Егор поклонился в пояс и пошёл к дверям. Было слышно, как он, нащупывая ступеньки, спустился с крыльца.
Через два дня у него в доме был обыск, искали золото. Но золота нигде не нашли.
Егор Осипович во время обыска безучастно сидел на лавке, прислонившись к стене.
– Собирайся, Егор, в сельсовет, допрос проведём. Расскажешь, где золотишко припрятал, – ехидно улыбаясь, подошел к Егору Каин и толкнул его в плечо. Егор беззвучно повалился и, как сломанная кукла, раскинув руки, упал на дощатый пол.
Приглашённый фельдшер объявил, что Пономарёв Григорий Осипович умер от разрыва сердца. А через неделю умерла и его жена, Мария Максимовна.
Слово «коммуния» не сходило теперь с языка. Время настало тревожное, люди стали бояться ближайших соседей. Даже днём закрывали ворота на запор и спускали собак. Калиновцы чувствовали себя так, словно чума или другая какая смертельная опасность зашла в хутор.
Утром отец ещё не успел позавтракать, как к нашей ограде подъехал на кошёвке Кузнецов-старший. И прямо с порога:
– Одевайся, Панфил, поедем в сельсовет – может, хоть там правду найдём. Семья-то у меня ревмя ревёт! Как я их оставлю одних, если в Богословский завод придётся ехать? Поедем, поспрошаем, что и как, небось в лоб-то не ударят… Председатель сельсовета Баталов – человек вроде добрый, с понятием!
– Зря только время потеряем… Вон чё творится – всё с ног на голову! Лентяи и безхозяйственники сейчас у власти, чё ждать хорошего? Поди, не миновать нам с тобой Богословского завода, – усмехнулся отец. – Ну, была не была – поедем!
У сельсовета уже собралась целая толпа. Шум, гам, каждый орёт, как может… Еле протиснулись внутрь.
– Ну, а вам чё надо? – поморщился при виде калиновцев председатель.
Кузнецов начал:
– Да вот, вишь ли, посылают на работы в Богословский завод. А у нас ведь семьи!
– Ну и чё – у всех семьи. А у вас сыновья взрослые. Можете их послать, коли сами не хотите!
– Дак ведь сын-то у меня в Красной Армии… Дома сноха с малым робёнком…
– Товарищ Кузнецов! У вас и помимо Фёдора взрослые сыновья есть! Так что, товарищи, ничем я вам помочь не могу. Назначал вас не я, а общее собрание в Калиновке. Ну а на будущий год другие по разнарядке поедут. Надо, товарищи, индустрию поднимать!
– Вот и выхлопотали! – невесело хохотнул отец, усаживаясь в кошеву. – А я чё тебе говорил? Стало быть, скоро поедем мы с тобой «стрию»[80] эту самую подымать… Словом, подорожники[81] нам готовить надо!
В день отъезда отец старался быть весёлым. На прощанье сказал: «Ты уж, мать, не горюй шибко-то, не переживай, если даже всё отберут, и сильно не противься! Видно, коммуну эту не обойдёшь, не объедешь… Не одне мы бедствуем!
А вам, ребята, вот мой сказ: мать берегите да слушайтесь её беспрекословно… Ну, с богом!»
Отец расцеловался со всеми, помолился на образа и вышел.
Рыжко уже стоял во дворе, запряжённый в дровни с коробом, в котором лежала котомка с подорожниками.
…Каин Овчинников с приспешниками продолжал бесчинствовать в Калиновке. Век мне не забыть этих горьких для нашей семьи дней!
Сначала из амбара выгребли весь хлеб – зерно и муку. Потом пришли за скотиной.
Мама, не помня себя, с железными вилами встала перед ватагой мужиков:
– Душегубы! Ироды окаянные, куда стельну-то корову в такой мороз гнать?! Ей же вот-вот телиться!
– Брось-ка вилы, тётка Парасковья! Не машись напрасно! – глумливо переглядываясь, заржали грабители. – Вон амбар-то, затворим тебя, чтоб опамятовалась!
Мужики втроём отобрали у мамы вилы и толкнули её на кучу навоза.
– Здесь тебе самое место, – сквозь зубы процедил один из них.
После грабежа у нас осталась одна чудом сохранившаяся курица, пёс Мальчик да кошка Муся…
Лесозаготовки
Богословский завод от Ирбита далеко. Калиновцы долго топтались на станции, ждали своей очереди погрузиться в вагоны. Для себя были продукты у каждого, взятые из дома, а вот с лошадьми – дело хуже.
Вся привокзальная площадь была забита зимогорами[82]. Мужики бегали, кричали, требовали для лошадей корма.
– Фуража не присылают, где я его возьму?! – кричал обозлённый начальник отправки.
Наконец, дали вагоны, погрузились. Ехали в теплушках. В дороге ухаживали за лошадьми, получали на станциях смёрзшиеся тюки прессованного сена. «Если таким сеном и дальше снабжать нас будут, много не наробим, заморим лошадей», – переживали мужики.
Но вот и Богословский завод, на станции такое же столпотворение, как и в Ирбите. Прибыли эшелоны с юга – привезли раскулаченных.
Исхудалые женщины с грудными детьми протягивают руки:
– Подайте, Христа ради, с голоду пухнем.
«Что же это такое? – с состраданием смотрел на голодающих Панфил. – Что за бедствие народное? Это ещё похуже, чем голодный 1921 год. Тогда хоть засуха да неурожай по всей стране. Да и то, если бы умно да по-хозяйски поступить, можно было прокормить народ. В этом году и урожай не так уж плох, а русский народ всё мрёт и мрёт с голоду».
Лесосека, куда отправили наших лесорубов, находилась на берегу реки Вагран[83], недалеко от железнодорожной станции.
– Вот вам жильё, подремонтируйте, приберитесь и живите, другого не имеем, – сказал десятник, показывая рукой в сторону трёх длинных приземистых строений, похожих на конюшни.
Окна в бараках были маленькие, как в бане. Стёкла местами были выбиты, а пробоины заткнуты грязными тряпками. На всю длину мрачного полутёмного помещения тянулись грязные нары, часть из которых были уже заняты – на нестроганых досках сидели, лежали уставшие мужики.
Для лошадей условия были ещё хуже. Завалившийся набок навес никак не мог защитить их от ветра и мороза.
Полную противоположность баракам представляли видневшиеся на расстоянии с полверсты добротные дома, в которых жило начальство, руководившее работами по заготовке древесины.
В первую очередь калиновцы решили утеплить стойла. Дотемна рубили ельник, возили и стоймя ставили в несколько рядов, получилось что-то вроде стен, которые не пропускали пронизывающий холодный ветер. Потом, когда лошади были накормлены, принялись за своё жильё. Вымели мусор. Даже вымыли нары и пол, а утром на костре нагрели воду, разогрели смёрзшуюся, как камень, глину и переложили заново полуразвалившуюся печь.
Вскоре наши новосёлы приступили к своим прямым обязанностям. Десятники давали распоряжения: куда, какой лес отвозить. Деловую древесину отправляли сразу, а отходы складывали в большие штабеля. Тяжёлые лиственничные стволы грузили отдельно.
Для сельского мужика-труженика всякая работа по плечу. Но вот кормёжка – что для лошадей, что для лесорубов – была уж крайне плоха. Хлеба давали мало, только ржаной, чёрный, влажный, скрипящий на зубах. Изредка привозили просо, овсяную, ячневую крупу и перемороженную картошку…
Народу становилось всё больше – вновь прибывшие пристраивали для лошадей еловые стойла, а вот в бараках была ужасающая теснота; смрад от прогорклого самосада смешивался со зловонием грязных пропотевших портянок и нестираного белья.
В дни, когда выдавали зарплату, любители выпить теряли последний разум – гнали на своих заморённых клячах, порой хватали чужих лошадей, искали, где бы купить что-нибудь спиртное. Пропившись вконец, голодали, воруя у остальных продукты и корм для лошадей. Хорошо то, что хоть получка была раз в месяц, но без драк и увечья не обходилась ни одна пьянка.
Калиновцы держались все вместе. Бок о бок варили кашу, поровну делили хлеб, рядом спали на нарах.
Из дому письма приходили самые неутешительные, особенно Максиму. Афанасия без конца жаловалась на свою несчастную долю. Жаловалась на сноху, на детей, на соседей, на Каина и на коммуну, на всех и вся, как будто муж мог чем-то изменить её жизнь. Максим, получая такие письма, совсем раскисал, ныл, плакал, сидя на нарах. Вспыльчивый Еварест сердился, ругал и даже материл Максима: «И чё ты ноешь, как старая баба? Не вой, не томи душу! И без тебя тошно! Как будто у одного тебя семья дома бедствует. Сейчас все одинаково живут – так чё теперя сядем все да завоем в голос, как волки?»
Панфил, проводя на нарах бессонные ночи, тяжело вздыхая, думал о своём. Этот закопчённый грязный барак, невыносимая вонь табака и грязных мужичьих тел живо воскрешали в его памяти австрийский плен, холодные сырые каменные блоки лагерей, колючую проволоку, злой окрик охраны и лай собак. Но тогда было легче тем, что он был один, без лошади. А теперь на холоде мёрзнет голодный Рыжко, на котором чуть свет надо ехать в лес и выполнить норму. И Панфил вставал, ощупью брал свою пайку хлеба и нёс лошади.
А самое главное, ни днём, ни ночью не покидала его одна дума. Эта мысль не давала ему покоя ни в бараке, ни на работе в лесу. «Как же быть? Что предпринять? Каин пришёл к власти, бывший колчаковец-белобандит, а об этом никто не знает. Ещё год-два, и он пролезет в партию, тогда уж никакая сила его не сковырнет… Нужно всё тщательно разузнать до мельчайших подробностей, чтобы комар носу не подточил, а то у Каина ни стыда, ни совести, вдруг отопрётся. Брать его нужно внезапно, сразу и наверняка».
Панфил вспомнил, как в прошлом неожиданность и напористость выручили его. Тогда он продавал на рынке гусей и поросят. Покупатели, бегло осмотрев товар, сказали: «Нам, дядя, некогда, мы торопимся ехать». Не торгуясь, сунули ему сотенную бумажку, он дал сдачи семнадцать рублей, надо было доплатить ещё пятьдесят копеек. Но мелочи у него не оказалось, он долго рылся в карманах, подходил к одному, к другому продавцу. Но ему так никто рубль не разменял. Покупатели махнули рукой: «Не надо».
Так как Панфил продал весь товар, он сел на подводу и тронулся следом за покупателями. Поехали они сразу очень быстро, и скоро между санями покупателей и подводой моего отца затесался какой-то возница в большой кошеве, одетый в собачью ягу.
Скоро бы Панфил потерял из виду эту подводу, ведь он и не следил за своими покупателями. Они с ним рассчитались, он получил деньги, чего же еще? Но он как-то механически запомнил, что они остановились у ворот дома совсем недалеко от рынка. Один из них вылез из саней, зашёл в калитку, Панфил же проехал дальше. Уже на выезде из города вспомнил, что позабыл купить чугунную вьюшку к печи, завернул в скобяную лавку. Вьюшка со ставеньком стоила намного дороже рубля. Подосадовав, что нет мелких денег и придётся менять сотенную (а так хотелось её целиком привезти домой, похвастаться)… Ну что ж, придётся менять, и он достал бумажку и подал продавцу.
Продавец – пожилой мужчина в очках – долго и внимательно разглядывал бумажку на свет:
– Нет! Не приму – фальшивая! Откуда ты взял её?
– На базаре, – у отца упало сердце и потемнело в глазах. Дыхание перехватило, в горле пересохло. – Целый воз гусей и поросят продал да ещё сдачи дал семнадцать рублей.
– Подумать только, прохвосты, до сих пор фальшивые деньги делают где-то! И кого сволочи надувают, крестьянина! Беги, парень, немедля, ищи их, это дело подсудно. А я ничем помочь не могу.
– А ты не ошибся?
– Как можно ошибиться, я всю жизнь в торговле, сколько уж сотенок перевидал на веку-то.
В лавку зашли двое: хорошо одетый мужчина в драповом пальто и шляпе и молодой парень в сермяге и фартуке. Сотенная всё ещё лежала на прилавке, а Панфил замер в потрясении, не зная, что предпринять. Лицо его покраснело, покрылось обильным потом. Он пытался что-то сказать, но не мог – от волнения пересохло горло.
В это время продавец обратился к новому покупателю:
– Вот взгляните, пожалуйста, человек не верит, что фальшивая! Обратите внимание на водный знак.
Мужчина посмотрел купюру на просвет и сказал:
– Сомнения нет, действительно деньги фальшивые. А где ты их взял?
Панфил рассказал подробно.
– Ну, братец ты мой, базар есть базар. Считай, пропал твой товар да ещё и деньги – семнадцать рублей. Впредь никогда не бери сотенных, пусть меняют.
Словно блеск молнии, Панфила осенила мысль:
– Да я ведь знаю, где они остановились! Постой! Постой! Может, они ещё не уехали! – схватил фальшивые деньги, сел на подводу и погнал к дому у рынка.
Ёкнуло сердце, когда постучал в калитку. Открыли нескоро.
– Кто ты? Чё надо? – спросила старуха, высунувшаяся из притвора.
– Где у вас постояльцы?
– Которы?
– Из заводов!
– Из Тагила, чё ли?
– Ну, двое. Одному лет под сорок, а другому, черноватому, меньше. Гусей и поросят у меня купили.
– А, эти?! Из Алапаихи! Сёдни уехали, уж даже чай пить не стали.
– А как их зовут, баушка?
– Фамилии ихни я не знаю. Только тот, который помоложе, Петро, а постарше – Никита Афанасьевич. Да нашто оне тебе?
– Да так… Спасибо, баушка!
Панфил решил догонять: «Но вот беда, – думал он, – на Алапаевск две дороги, которой же они поехали? Лошадь у них добрая, не чета моему Рыжку. Я бы на их месте поехал вот этой дорогой. Рискну! Беда только в том, что прошло уж много времени. Могу не догнать. Будь что будет! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Война, плен, неоднократные побеги из лагерей для военнопленных, странствия по всей Европе кое-чему его научили. В нём теперь боролись два чувства, как два человека с противоположными характерами. Один – решительный, бесшабашный и смелый приказывал: «Догони и любой ценой отними. За правду надо бороться крепко, не жалея ни сил, ни жизни. Только смелый побеждает». Второй же, более благоразумный, говорил: «Брось! Езжай домой, слишком большой риск и скользкий путь, можно и головой поплатиться. Люди не это теряют! Переживёшь и ты эту потерю как-нибудь, не обеднеешь, и они богаче не станут. У них боком вылезет». А ещё он вспомнил своего товарища по плену Тимофеева, который не раз говорил ему: «Не связывайся с заводскими. Они люди отчаянные, есть среди них такие головорезы – за грош убьют, рука не дрогнет».
Но какая-то сила всё равно толкала Панфила вперёд и вперёд, и он полностью покорился первому чувству. «Нечего поддаваться страху. Моё дело справедливое!»
Не долог зимний день. Дорога знакомая. Сколько раз он ходил по ней – гонял в молодости у богатых мужиков гурты скота. Но то всё было не своё, чужое, там был старший при обозе. И никакой тебе заботушки: шагаешь за возом день-деньской, ночью на постоялом спишь как убитый, если не твоя очередь ухаживать за лошадьми и караулить возы. Теперь дело другое. Надо самому думать, соображать, выкрутиться, не растеряться при опасности.
На закате солнца подъехал к Шатровой горе. Дорога тут всегда опасная и скользкая. Хорошо, что Рыжко подкован недавно. Благополучно миновав подъём в целую версту, стали спускаться. В долине, как на ладони, открылся вид на деревню Шатровая, или попросту Шатры, названной так, должно быть, по названию горы.
Запыхавшийся конь заторопился, увидав жильё. Всё та же, старая, но опрятная пожарница у дороги. Колодец с жаравцом[84], на длинном шесте болтается, раскачиваемая ветром, деревянная бадья.
Панфил подворачивает к пожарнице, проезжающих – ни души. Надевает Рыжку на голову торбу с овсом, поить ещё рано, пусть отдохнёт и поест.
В пожарнице сидит старый дед – караульщик.
– Здорово, дядя, пустишь ли погреться?
– А проходи, погрейся, добро жаловать, пожарница для того и есть, чтоб в ей грелись и отдыхали проезжающие. Откуда бог несёт?
– Из Ирбита, догоняю вот своих товарищей, поотстал малость, дела задержали. Не заезжали тут двое алапаевских?
Дед подумал, поскреб за ухом:
– Днём народу здеся множина была, может, и были, только никто никого тут не ждал.
– А ты подумай, вспомни.
– Погодь, погодь, парень, вспомнил двоих. Энти уж под вечер подъезжали. Заходили, грелись, лошадь кормили. С возом оне. Один мне ишо табаку на цигарку дал. А ты, парень, вот што, если пошибче поедешь, может, даже их догонишь у Крутого перевала. Оне беспременно там на кордоне заночуют, лошадь-то им кормить, поить надо, да и самим отдохнуть.
– Как ты думаешь, дядя, в Шатрах они не могли ни у кого остановиться?
– Нет, не думаю, рано ишо было на ночлег. Да и, сам подумай, к чему бы им тоды в пожарнице останавливаться, сами тут ели и лошадь кормили, но недолго, видно, что спешат.
– А на кордоне у Крутого перевала кто теперь живёт? – делая беспечный вид, спросил Панфил.
– А хто может жить на кордоне, известное дело, лесник да баба его, старый-то умер, а теперь, говорят, новый какой-то.
Панфил, напоив лошадь, попрощался со словоохотливым сторожем и тронулся в путь, но на выезде из деревни остановился у предпоследнего дома и попросился переночевать. Догонять фальшивомонетчиков ночью, да ещё в лесу было более чем опасно и безрассудно.
Утром, отдав за ночлег последние деньги, Панфил выехал со двора. По его расчётам, преследуемые находились от него теперь верстах в двадцати. Но догнать их надо только в селе Ялунинском. Места теперь пойдут лесные, глухие, топи, болота, озёра и реки на пути. Так что с преступниками раньше времени встречи искать опасно, да и не нужно.
Подул южак, погода сразу изменилась, стало теплее. Когда проезжал мимо кордона, совсем уже стало светло, и Панфил подвернул к дому, чтобы напоить лошадь и погреться. Хозяина в избе не было.
– Ночевал ли у вас кто-нибудь этой ночью? – спросил Панфил у хозяйки.
– У нас часто останавливаются проезжие. И в эту ночь на двух подводах были. Один ялунинский, а двое других из Алапаихи. Будь они неладны, пили всю ночь да болтали без умолку. В погреб за огурцами ночью пришлось из-за них идти, да два раза самовар ставить, и мой-то с ними связался, – жена лесничего, увидев благодарного слушателя, была рада поболтать.
– А не скажешь ли, хозяюшка, как зовут того ялунинского мужика и где он там живёт? Мне позарез надо его видеть.
– Да, батюшка, я вить не тутошняя, не знаю. Вот мужик мой он местный, он всех там знает, дак он теперя до вечера не приедет домой. Кажется, что те двое его Яковом Лукичем величали. Фамиль не знаю, а где живёт, спросишь, – и лесничиха затараторила: – Всю-то ноченьку проболтали, только под утро угомонились. Я чуть не проспала корову доить. А оне поздно уехали и всё утро дрыхли.
– Спасибо, хозяюшка, за тепло и за воду, нагрелся и лошадку напоил.
– Не за что! Езжай с богом! Доброй тебе дороги!
В сумерках показалось Ялунинское – большое богатое село, раскинувшееся вдоль дороги.
Пока обстоятельства складывались в пользу Панфила, но основное было впереди. «Если его покупателей нет в пожарнице, то они непременно должны быть у этого мужика, с ним они, скорее всего, давно знакомы. Раз они вместе распивали у лесника, то этот Яков Лукич должен их пригласить к себе ночевать», – размышлял он.
– Девушка, есть у вас тут дом приезжих? – спросил Панфил у повстречавшейся ему по пути женщины.
– Нету-ка никакого, – ответила она, уставившись свиными глазками.
– А скажи, пожалуйста, любезная, где тут Яков Лукич живёт?
Баба подумала-подумала, собралась с мыслями:
– А какого тебе Якова Лукича? Потанина али Ялунина? Один молодой, а другой шибко старой.
– Ну, конечно, молодого.
– А! Тогда Потанин. Вон туда езжай. Той улицей! – показала направление баба. – Там будет проулок, от него первый дом.
Панфил быстро нашёл проулок, а затем и дом. Осторожно толкнул калитку – заперто. В доме горит свет, но окна закрыты на ставни. Припал глазами к щели ставня, прислушался: говорили несколько мужчин, но о чём, не разобрать. На столе блестит никелем самовар, на противоположной стене качаются тени, вот потянулась со стаканом рука. Ставень открыть нельзя – закрыт изнутри на пробой. Стоять так и глядеть – нет смысла, да и увидит кто-нибудь. Осторожно, бесшумно перемахнул через заплот во двор. Нигде никого. Слышно, как под крышей лошадь похрустывает сеном. Ага! Вот их сани, и все покупки тут, и лошадь стоит под навесом. Обследовав до малейшей подробности двор, нашёл калитку, открыл её настежь и подвёл к ней Рыжка.
Собрался с духом, бесшумно зашёл в сени, нашарил в потёмках скобу и резко рванул дверь в избу, появившись внезапно, как привидение. Должно быть, вид его был страшен.
За столом сидели несколько мужиков, пили чай. Бледные, с выпученными глазами, они смотрели на отца, как на призрак, но он ни на секунду не дал им опомниться: «Я не один! На улице мои товарищи! Отдайте мне мой товар и семнадцать рублей, и я вас не знаю! Вот ваша сотня! Иначе вас сейчас арестуют, как фальшивомонетчиков».
Всё произошло в мгновение ока. Покупатели были застигнуты врасплох. Старший дрожащими руками подал отцу деньги, получив обратно фальшивую сотенную, и только мог выговорить: «Петро, отдай ему всё».
Преступники были ужасно поражены происходящим, им и в голову не пришло, что перед ними всего один человек, и тот совершенно безоружен.
Панфил быстро через калитку перетаскал в свои сани гусей и поросят…
– Где это ты столько дней ездил? Уехал в город и как пропал. Мы уж тут все иззаботились, – поинтересовалась дома жена.
– Ой, мать, и не говори, сколь за эти дни я пережил приключений – чуть до самой Алапаихи не доехал! – и он рассказал ей всё.
– Да как ты решился так рисково да необдуманно? – удивилась Парасковья. – Не знаешь ведь, чё оне за люди, убили бы, и концы в воду, и сроду отродясь тебя бы никто не нашёл. Да искать-то где? Недаром мне тут всё худые сны снились: горы, обрывы, пропасти – к опасности это.
– Да получилось как-то само собой. Бог помог!
Сейчас, находясь в бараке, Панфил вновь и вновь прокручивал в памяти события тех лет. «Там-то было намного проще: ехал в погоню, сразу по горячим следам, – думал он, лёжа на нарах, – здесь же совсем другое дело десятилетней давности, а главное, никто толком ничего не знает. Свидетель-то всего один – пьянковский мужик Абунтий… Где бы ещё найти людей, которые знают про зверства Каина? – И вновь, и вновь проявлялись в памяти страшные бело-розовые и багровые шрамы на спине мужика. – Как только освобожусь от этих проклятых лесозаготовок, так и, домой не заезжая, в Пьянкову и в Крутиху. Надо узнавать, выспрашивать народ, собирать свидетелей».
Крестьянское сердце
После того как у калиновцев забрали все запасы, руководство коммуны озаботилось пропитанием населения и в хуторе организовали четыре столовые.
– А меня Анисья Калпасиха накормила мясными щами и овсяной кашей с маслом! – придя домой из столовой, хвастался Васька.
– А ты заробил на еду-то? – сурово спросила мать.
Парасковья ни в какую не хотела ходить в столовую – она считала это унизительным.
– Сходи, кума, в столову-то, чё поделаешь, раз до такой жисти дожили. Мы вот все ходим. А не хочешь, дак пусть Люба тебе носит. Как же жить на одной картове?[85] Раз у нас всё отобрали, пусть кормят, не замирать же нам с голоду? – убеждала Парасковью соседка.
Некоторые калиновцы так приспособились к столовым, что из одной сразу шли в другую и везде ели да ещё домой выпрашивали.
Правление решило в этом деле навести порядок – всё население прикрепили к определённым столовым, а кухаркам дали списки столующихся.
Обыск у нас был ещё не один раз, а что искали, не знаю. Перерывали всё вверх дном и уходили. Всего-то в доме было: тулуп, мамина старая перина, тощие подушки да в сундучишке несколько старых рубах – вот и всё наше богатство. Зачем нужно было всё это перетрясать? Денег у нас отродясь не было, хлеб, мясо и скотина отобраны, чего же ещё?
Мама уже ко всему была равнодушна. Если бы вытащили из-под неё перину и подушку, она бы теперь уж не сопротивлялась и не кинулась, наверное, драться, как прежде.
На нас она тоже перестала обращать внимание, словно мы ей стали чужие. Иногда только тяжело вздыхала и тихо говорила, глядя на меня:
– К чему на беду да на горе родилась? Нет чтобы умереть маленькой, ведь как хворала… Те уж большие, как знают, а вот эта? Недаром в Писании сказано: «Но ужаснее всего в те дни будет беременным женщинам и кормящим матерям…»
Наверное, мама так бы и угасла от всех свалившихся на неё бед, но вскоре в наш пригон поместили дойных коров.
Двор огласился, как в былые времена, ревом скота. Коровы были незнакомые, с чужих деревень и согнали вместе их так много, что они еле-еле помещались в конюшнях.
Мама с Любой при виде коров воспрянули духом. Люба стала дояркой, а за ней и мама: «Пойду и я тоже, скотина не виновата, хоть и чужая. Без дела-то ещё хуже, лежать да смерти дожидаться. На работе-то хоть немного забудусь». И уже назавтра с особым усердием ухаживала за коровами, чистила их и кормила.
Не выдержало крестьянское сердце. Сама пошла в правление, в сердцах накричала: «Дураки вы безмозглые, а не руководители! К чему было наше сено куда-то увозить? А теперь столько коров нагнали, кормить нечем! Везите сена и соломы, муки овсяной на болтушку, скот истощён! Ветеринара необходимо, есть больные, и вымена поморожены. За коров я вам спокою не дам никакого! Заставлю вас шевелиться!»
Дома её сейчас было не узнать. Она стала командовать: «Василко, нечё бездельничать! Иди на конный двор, езжай за соломой, а то не дождёшься, когда бригадир пришлёт».
Заведующим фермы назначили Старикова Андрея – вотяка с хутора Беднота. Принимая вечерний удой у мамы, Стариков ехидно на ломаном русском языке сказал:
– На три пальцика ведёроцко не полное! Цвоя рука владыка.
– Чё ты мелешь, вотяцкая харя?! – взбеленилась Парасковья. – Ворую, чё ли, я молоко-то? «Ведёроцко не полное!» – передразнила заведующего мама. – Да видал ли ты в своей жизни коров-то? Начальник, тоже мне! Коров-то кормить как следует нужно, вот тогда и молоко спрашивать! Небось, сам-то ни одной коровы в коммунию-то не сдал? Голь перекатная! А я – семь скотин! Поди-ка лучше твоего знаю, как кормить, доить и ухаживать!
Коммуна, как война, как лютый враг, ворвалась в нашу жизнь. Сорвала все планы – уничтожила устой жизни, заведённый крестьянством сотнями, тысячами лет. Люди стали друг другу злыми и непримиримыми врагами. Раньше между соседями была взаимовыручка – собирались на помочи при строительстве, выручали один другого в бедах и несчастьях, а теперь же шпионили и доносили друг на друга.
На первый взгляд казалось, что в коммуне все люди заняты работой, но, приглядевшись, становилось понятно, что труд этот был какой-то суетливый, от которого один вред и нет никакой пользы. Взять хотя бы нашу усадьбу: сначала вывозили сено из нашего пригона, а потом, когда сделали в нашем дворе коровник, стали завозить сено снова к нам. Коров и лошадей столько впихнули во двор, что животные просто-напросто давили друг друга. Приплод в таких условиях сохранить было невозможно. Доярки не могли углядеть за всей скотиной, да и больно им нужно? «Не моя ведь корова-то и не мой телёнок», – думали они.
Почти каждый вечер правление собирало собрание, которое часами обсуждало последние постановления партии и правительства. Каин, пытаясь навести порядок, как сумасшедший гонял по хутору на реквизированной у Панфила кошёвке и лошади. Одет он был в добрую собачью доху, бобровую шапку – вылитый кулак. Проезжая мимо нашей усадьбы, он, торжествуя, смотря в наши окна, изо всех сил нахлёстывал Воронушку и проносился в отцовой кошёвке мимо.
– Нарушит этот палач кобылёнку, забьёт, загонит насмерть, – вздыхала мама, – её ведь никто кнутом не ударял никогда, а этот Иуда вон как лупит.
Постояльцы
Правление решило объединить Броневик, Хлебороб, Бедноту и Ленинские хутора в одно большое селение, и теперь в каждой избушке Калиновки ютились по две-три семьи.
К нам тоже подселили квартирантов – семью Катаевых с Ленинских хуторов.
Катаев Фёдор Михайлович был уроженцем из деревни Галишева, а жена его, Парасковья Игнатьевна, – харловская из Чертят.
Фёдор был мужичонка смирённый и крайне невидный, какой-то пришибленный. Жена, полная противоположность мужу, была расторопной, разговорчивой, весёлой и неунывающей.
Парасковья Игнатьевна пришла к нам сначала одна, без семьи.
– Вы уж, Парасковья Ивановна, пустите нас до весны на квартиру, – обратилась она к моей матери. – Семья у нас не так-то большая, пять человек, маленьких нету, Санко один, дак он у нас по отцу тихий да покладистый. На пасынка тоже не пообижусь, а Палашка, сестрёнка моя, того гляди замуж выскочит, парень у неё есть, – гостья так и сыпала словами, точно полной горстью горох сеяла, – вы уж пустите на зиму, а там по весне, если ничё не изменится, свою избушку в Калиновку перевезём. А уж как неохота! Ведь где мы живём, место больно хорошее, весёлое, да и привыкли уж мы тамо-ка[86]– всё своё. И отколь только морок этот натянуло? Ведь как хорошо жили, припеваючи. Да не знаешь, с которой стороны лихо-то придёт, каку-то кумыну затеяли, народ-от ревмя ревёт, а куда деваться? Выгоняют нас из своих домишек. Поневоле завоешь да поедешь.
– Куда деваться-то? Живите уж, – ответила мама, внимательно выслушав гостью.
Парасковья Игнатьевна стала работать дояркой. Бойкая и расторопная, она с раннего утра балагурила, смеялась, поднимая всем настроение. Молоко она запросто, без зазрения совести, приносила домой и наливала нам с Санком по большой кружке.
– Молоко-то без спросу берёшь, а если поймают? – как-то сказала ей мама.
– Хоть на калёну доску ставь, всё равно буду брать молоко, – отшутилась бойкая на язык квартирантка, – я вить для робят. Несправедливо последнюю корову отбирать, им чё тамо-ка, у правленцев, не болит голова, если наши робяты без молока?
Она никогда нас не делила: что давала Сашке, то и мне. Сашка был парнишка тихий, добрый и послушный. Даже ни разу меня не ругал, хотя, может, я и заслуживала.
Он в первый же день выложил передо мной все свои игрушки: бабки, панки и прочее добро. У него была целая коллекция пустых папиросных пачек, которую он хранил и очень береёг.
Ко мне приходила иногда моя подружка Нинка Филиппова, и мы все втроём забирались на печь или полати и строили там конюшни и «вели хозяйство», панки и бабки у нас были лошадьми, овцами и свиньями. Кирпичи были коровами, и мы их доили, терев камнем.
Сашка так мог вести игру, что никто из всех нас троих не был обижен.
Помню, как зимним вечером мы собрались у лампы-семилинейки. Все старались сесть поближе к свету. Фёдор Михайлович молча подшивает валенки, а Парасковья Игнатьевна прядёт шерсть. Федя возится со своим больным пальцем. Тряпка на пальце присохла, он отрывает её, морщится от боли, но не говорит ни слова. Палец у него безобразно распух, покраснел и нагноился. Подув на больной палец, Фёдор оторвал листок от герани и приложил к больному месту. Светло-русый чуб ему мешает, волосы лезут в глаза. Он встряхивает головой. На лбу бисеринки пота, над верхней губой пушок. Федя устремляет серые глаза на Липу: «Палаша, дай тряпичку, палец завязать». Липа встает, откладывает вязанье, достаёт из сундука тряпочку, разрывает на узкие полоски. «Дай завяжу как следует. Столетник надо вязать али подбережные листки, а не герань. Не иначе костоед у тебя, Федя, сходил бы ты к бабке Кирихе».
– Самовар вскипел, – кричит с кухни Люба.
И мы все дружно идём пить «чай» – горячую воду без заварки и сахара.
Мама в прихожей заправляет деревянный фонарь, ставит в него керосиновую лампу. Весь вечер и всю ночь она с Парасковьей Игнатьевной караулят стельных коров.
И к утру у нас в избе два новорождённых телёнка. Мама добросовестно исполняет свои обязанности. За общественными коровами ухаживает так же, как раньше ходила за своими. «Скотина не виновата – виноваты люди, – говорит мама. – Коровы всё понимают и ничем не отличаются от людей, а, может, даже и лучше нас».
Мама любила всякую скотину и птицу и вообще всех животных. Однажды в поленнице воробьи свили гнездо, и там лежали яички. Они привлекли моё внимание, пёстренькие такие. Я принесла их домой, а мама увидела. Она меня не била, не ругала. Нет! Это было хуже битья и ругани.
Сделав страдальческое выражение лица, она запричитала: «Ты разорила птичье гнёздышко… А если бы пришёл вдруг из леса великан и разрушил наш дом, что бы мы стали делать?»
Я отнесла немедленно яички, но воробьи уже покинули гнездо. «Вот видишь, что ты наделала!» – сказала мама. Мне было ужасно стыдно.
Другой случай произошёл на покосе. В балагане[87] я убила детёныша ящерицы (ящериц я боюсь и не люблю до сих пор, но никогда больше не трогаю). Ящерёнка я убила палкой и выбросила далеко от нашего становья только потому, что он неприятный на вид. Но когда в полдень мы с мамой укрылись в шалаше от палящего солнца, откуда ни возьмись прибежала большущая чёрная ящерица.
– Смотри, ящерка! – воскликнула мама.
– Я недавно здесь ящерёнка убила, может, она его ищет? – тут же призналась я.
– Не надо было убивать! – строго сказала мама. – Вот видишь, это его мать пришла и ищет своё дитя. Сейчас других ящерок позовёт, они прибегут искать и выживут нас из балагана. Они же всё понимают, как люди. Никогда не убивай ничего живого!
Ура! Коммунии конец!
Жители Калиновки с ужасом обсуждали, как в деревнях активисты кого-нибудь да раскулачили.
«Ой, кума, чё деется в Пахомовой и Коновалятах, сёдни сватья ко мне наведалась, дак порассказывала, – с порога, не заходя в избу, запричитала Афанасия, – неуж до нас доберутся тоже? Вот беда-то! Афония-то Тимофеевича из дому выгнали. Робятишек-то вить у их семеро, мал мала меньше. Какое издевательство над народом! Господи! Старшей-то дочери у их семнадцать лет. Надела на себя одёжи побольше, чтоб ехать-то потеплее, дак Мишка Ферманов сдёрнул с её юбки-то! Стыдобища – с девки-невесты юбки парню сдёргивать! Вот до какого страму мы дожили!
Афоний с Маремьяной разве кому зло в жизни сделали? Да никто в деревне на их сроду не пообиделся. С такой-то семьишшой они и жить-то побогаче стали только в последние годы. Дом выстроили большой да хороший. Вот за дом-то их и раскулачили, а больше ничё и нет! Одни робята. Ой, кума, чё кругом творится! Во всей округе Ферман с сыновьями руководит, самый последний человек, и ишо такие же с им. Дак вить до чё ж злодеи. Народу-то подходить даже не разрешают, проститься или передать чё, прогоняют всех».
Мама с Парасковьей Игнатьевной плакали, утираясь запонами. Я поддалась общему настроению и заревела. Мужики, не проронив ни слова, сидели угрюмые.
В ту страшную зиму раскулачили многих… Везде и всюду были слёзы, плач и причитания.
В Вольной Поляне активисты пришли с обыском к семье Долматова Алексея Сергеевича.
– Выходи, кулацкая тварь! – открыв двери ногой, закричал на всю избу красномордый мужик. – И бабьё своё забирай! Обыск будет!
– Куда? На улице мороз, лучше уж убейте сразу! – твёрдым, спокойным голосом произнёс Долматов, пряча дрожащие руки за спиной.
– В баню иди, а завтра направитесь по месту ссылки в Сургут, – выдавил из себя красномордый.
Активисты старательно, со свечами, обшарили самые тёмные углы чердаков и подвалов, но ничего не нашли.
Ночью дом загорелся, хотя семья Долматова была заперта в бане на засов. Естественно, никто из активистов не захотел брать на себя ответственность за пожар, и шестидесятилетнего Алексея Сергеевича обвинили в поджоге своего дома и в тот же день расстреляли без суда и следствия.
Народ стоял вдоль дороги, когда его вели за деревню расстреливать. За одну ночь этот крепкий мужик поседел и превратился в дряхлого старика, но старался держаться бодро, с достоинством. Он шёл на казнь в одной нательной бязевой рубахе, разорванной на груди, с заплывшим от удара левым глазом. Медный крестик на шее болтался на суровом шнурке. Совершенно белые, седые волосы трепал ветер. «Люди! Прощайте! – крикнул он толпе. – Как перед Богом говорю, я не виноват!» И он размашисто перекрестился.
Мороз крепчал. Конвойные в шубах дрожали от холода, один толкнул Долматова прикладом в спину. Вот процессия миновала последний дом деревни. Звук ружейного выстрела эхом прокатился над ближним лесом, вспугнув стаю ворон.
На кладбище двое мужиков уже долбили ломами мёрзлую землю. Могила была готова, и труп бросили в яму без гроба и наскоро забросали, оставив ровное место. Но весной чьи-то заботливые руки устроили могилку и поставили деревянный крест.
Жена Алексея Сергеевича помешалась умом и умерла в психиатрической больнице. Малолетние дети замёрзли по дороге в Сургут…
Филипповы парни – все трое – записались в комсомол и сразу же привезли целый воз кулацкого добра. Все разоделись. Филипп сразу же пошел хвастаться обновами в пожарницу – надел новую крытую тёмно-синим сукном шубу и дополнил свой наряд такой же новой бобровой шапкой. Шуба была явно с чужого плеча, но Филипп, гордо ступая казанскими валенками, старался не наступать на её полы.
– Хоть бы обрезал шубу-то! – подсмеивалась над ним Парасковья Игнатьевна. – И на это догады нет али просто лень! С какого-то, видно, большого мужика шуба! Как раз два Филиппа таких в неё войдет! А Домна-то, поглядите, пошла свиней управлять в пуховой шали!
– Не своё ведь, кулацкое, не трудом нажито, не жалко! – говорила мама. – Всё ведь это у них скоро слезет, как на огне сгорит. Как не было ничё, так и не будет. Век награбленным не проживёшь!
Вскоре Филипповы перевезли из Долматовой большущий кулацкий дом. Его четыре боковые окна смотрели прямо на нашу избу. Фасадом же дом был поставлен к солнцу, с видом на лес.
– Какой у них стол большой в горнице, а на столе скатерть красивая. Кругом полотенца вышитые, половики, подушки, постель, – поделилась я с мамой, когда побывала у Филипповых в гостях. – У Нинки сколько новых платьев! И новые лопатины у них с Алёшкой. Вот бы мне тоже новую одёжу, – заканючила я.
– Не завидуй, Маня, ихнему барахлу. Да и ничему не завидуй, – сказала мать, тяжело вздохнув. – Хто-то робил, ночей не спал, наживал всё это, скатерти и полотенца в годовой праздник вынимал из сундуков, в шали пуховой хозяйка на Пасху в церкву раз в год к обедне ездила, а теперь всё добренькое где посело? Нелюдям досталось, истаскают всё живо, вот погляди, ничего скоро не будет.
Пришла как-то бабка Камариха и жаловалась на сноху: «Наша-то тоже туда же, лапу за кулацким тянет, шубу себе выписала, вырядилась, а я и говорю, хто-то об этой шубейке плачет, слёзы льет, а ты носить будешь? Отнеси обратно, а то ишо неизвестно чё будет! Говорят, скоро белы придут, вот тоды начнётся, всех перевешают, хто богатых-то зорил. Ходи лучше в своей сермяге – это завсегда надёжнее. Не живали мы богато, и это нам не помощь».
Долматова, в прошлом богатая деревня, вмиг осиротела – раскулачили каждый третий дом. Хозяев сослали на север в леса, непроходимые дебри и болота.
Состоятельных в нашем хуторе было немного: Григорий Юдин, но у него защитой был брат Полувий, работающий в правлении, да братья Стихины, которые после смерти отца пристрастились к выпивке и сами себя «раскулачили». Но несмотря ни на что, Каин успевал везде.
Помню, как в зимний полдень мой брат Вася приехал с харловской мельницы. Сдав муку кладовщику, Вася направился в столовую. Вдруг откуда ни возьмись из ворот конного двора выскочил Каин.
– Василий, снимай тулуп! Он обобществляется!
– Как это – снимай?! Что значит обобществляется? А я в чём ходить буду? Я же на работу в лес езжу! Дрова рублю, на мельницу вот, – Вася недоуменно развел руками.
– Скидывай, говорят! Некогда мне с тобой тут! – и Каин с силой рванул за полу тулупа. Пуговицы гроздью рассыпались на снегу. – Я теперь советска власть! Не сметь мне прекословить! – бешено заорал Каин.
Василий остался среди дороги в старой сермяге. Глаза его остолбенели, лицо из багрового стало мертвенно-белым. Он упал на дорогу и забился в сильнейших судорогах. Подбежали люди. «С Васькой Панфиловым неладно чё-то! Трясёт его! Бегите кто-нибудь живо, мать зовите!»
Брата притащили домой, положили среди пола. Он продолжал биться, стуча головой, тело корёжило сильнейшими судорогами. Мама с Любой не могли его удержать. Мужики, которые помогли затащить его в избу, наперебой рассказывали: «Овчинников тулуп у его отобрал. Онисью Полушиху везти в больницу надо было, а тулупа-то нет. Туда, сюда побегал Каин, не нашёл. Тут Вася ему навстречу в тулупе попался. О чём оне говорили, не знаем».
Мы с Сашкой испугались и забрались на полати и оттуда выглядывали через брус, как зайцы. Нам было страшно.
Припадок кончился, брат вроде уснул, но целые сутки был не в себе, говорил бессвязно, всё порывался куда-то бежать. Мама с Любой всю ночь не сомкнули глаз. Утром Василий вроде затих. Все задремали, только одна мама горячо и долго молилась на коленях в кухне, и временами доносились её всхлипывания. Потрясение это не прошло для неё бесследно, и она заболела.
Василий через сутки после припадка был здоров, но теперь слегла мама. Люба побежала узнавать насчёт тулупа. Анисью Полушиху положили в Знаменскую больницу, и тулуп был возвращен. Каин, видимо, уж забыл про него. Маму из-за болезни освободили от должности доярки. Её заменила Люба.
Ровно через месяц у Васи повторился точно такой же припадок.
– Вот горе-то! – сокрушалась мама. – Хворый парень стал, лечить как-то надо… Отцу писать? Только расстраивать. Чем он поможет? И от чего же эта напасть?
Квартирантка Палаша панически боялась Васиных припадков. Да и оба Фёдора оказались трусливого десятка. Старались уйти куда угодно и отсидеться, лишь бы не видеть припадочного больного, а Палаша в это время ночевала у подруг.
А нам куда бежать было? И мы мучились. Припадки были очень жёстокие и длительные. В остальное время между припадками Вася стал нервным, раздражительным, неуживчивым и вздорным. Из-за падучей[88] болезни характер его изменился, и с ним стало неуютно находиться рядом.
Мама выпросила в правлении лошадь и сама повезла Васю в город к врачу. Назавтра вечером они вернулись, привезли лекарства: прозрачную жидкость с противным вкусом да коричневые таблетки, точь-в-точь, как овечий помёт. Мама была недовольна: «Даже в больницу не положили, это чё за леченье?! Врач-то молодой и сам, наверно, ничё не знает. Выписал рецепты, принимай, говорит, это лекарство и всё пройдёт, ничего особенного. Такая болесь, а он… Ни лешака не знает! Только место здря занимает. Сколь вон в одной Харловой трясучих-то, припадошных, весь век живут, маются. Никто вылечить не может. Спирька Кандитов так и не женился. Кто за больного-то пойдёт?»
Лекарство Вася принимал, как говорил врач, но толку не было, на следующий месяц в то же число припадок повторился снова. «Вот тебе и доктор! – ворчала мама. – Где-то, видно, у знахарей надо лечить».
– Хоть бы уж скорей отец домой ехал, – вздыхая, говорила мама.
Она сильно постарела за эту страшную зиму и стала совсем старухой. Она временами впадала в такое безысходное горе и отчаяние – то плакала и молилась по всей ночи, то начинала ругать Каина, а иногда и срывала зло на мне.
К весне в нашем хуторе закрылись все столовые. Да и сама коммуна «Гигант» таяла вместе со снегом и в самую распутицу распалась совсем. «Гигант-от отдиганился, подавился нашим добром и издох! – разговаривая с мамой, отрапортовала Афанасия. – Беги, кума, с девками за курицами, а то ни одной не достанется, всех расхватают».
Вместо трёх десятков молодых несушек нам едва удалось получить с десяток захудалых, опрелых, заморённых кур. Хозяйка пригона, где помещались птицы, причитала:
– Где, бабы, взять-то? Часть закололи и приели в столовых, а больше всего издохли и на тарахтин вывезены. Дедко Ерений не даст соврать, всю зиму коробами вывозил мёртвых гусей и кур.
– От чего же они примерли? От голода, чё ли? – зло спросила мама.
– Да нет, от голода не должно, корму было вдоволь, особенно с осени. Да вить теснота страшимая. Задохли оне!
– В одну конюшню затурили сотнями, как же не задохнут! Курице раздолье надо, простор.
Пёстрая хохлатка, которая осталась случайно у нас дома, жила всю зиму в кухне под печкой. Мы звали её Единоличница, она к нам за зиму до того привыкла, что везде расхаживала по комнатам, наговаривая на своём курином языке. Корм клевала прямо из рук. Взлетала на лавки и окна. Мама устроила ей даже за печкой насест. Сколько раз парни просили маму, чтоб она заколола курицу. Но все мы, мама, Люба и я, были категорически против.
С кошкой Муськой у них поначалу произошёл бой. Но Единоличница и не думала давать себя в обиду. Растопырив крылья, она смело шла в атаку, целясь клювом кошке прямо в глаз, и Муська ретировалась. С тех пор курица и кошка жили дружно. Муська даже позволяла Единоличнице клевать еду из своей миски.
Весной Единоличница стала устраивать под печкой гнездо. Мама положила туда соломы, и вскоре в гнезде появилось яичко. Как мы были рады получить такой подарок к Пасхе!
Куриц, которых мы принесли из общественного пригона, назвали «коммунарками», и когда подсадили к ним Единоличницу, новоприбывшие чуть до смерти не заклевали нашу любимицу. Пришлось ей снова вернуться домой…
Народ торжествовал! Даже ребятишки, бегая по лужам на улице, орали: «Коммуния развалилась! Ура! Коммунии конец!» Все копошились, как муравьи, искали своё добро: сани, кошёвки, дровни, коробья, лошадей, коров и мелкий скот. Спорили, ругались, но всё равно были довольны.
Наши квартиранты засобирались домой. Липа последний раз меня подняла высоко на руках и на прощанье крепко поцеловала. Я плакала. Сашка оставил мне даже некоторые игрушки. Парасковья Игнатьевна суетилась, собирая пожитки, и выговаривала мужу: «С самой осени не бывали, поди уж тамо-ка всё растащили. Слава богу, домой едем! Развалилась вся ихна коммуния! Ну а боле, хоть на калёну доску ставьте, из своей избушки никуда не поеду. Хватит с семьей мытариться по фатерам. Рази это справедливо – людей из своих домов выгонять?»
Лошадь с санями была готова. Мы помогли им вытащить и уложить вещи. Корову привязали к задку саней. Вся семья Катаевых с нами попрощалась, и воз тронулся.
– С богом! Не обессудьте нас, если чё не так, – крикнула вдогонку мама.
За короткий срок ненасытная коммуна сожрала и уничтожила все крестьянские припасы. Орали и матерились мужики, требовали семенной фонд: «Скоро сеять, а у нас и семян нет! И скот кормить нечем! Давайте делить фураж: сено и солому. Где хотите берите!»
Юдин Полувий притворился больным и слёг. Чернов Александр укатил якобы в район для получения новых инструкций, остальные ходили как в воду опущенные, даже Каин присмирел и незаметно сбежал на время в Харлову к своим брательникам.
В каждом дворе недосчитывались своей, сданной в коммуну, скотины. «Как Мамай прошёл! – говорили люди. – И кому это было нужно? И зачем сделано?»
Но многие и нажились за счёт коммуны. Как, например, наш сосед Филипп. Приобрёл большой дом, целый воз одежды, а при разделе получил больше всех хлеба, хотя столько он и не сдавал.
Ну что же, всякому своё. Кто-то теряет, кто-то находит…
Тятя вернулся!
«Не беспокойтесь, всё у меня идёт путём, а вы, главное, – мать берегите», – писал с лесозаготовок отец. Но мы знали, что он никогда не будет жаловаться. Мы могли только догадываться о бытовой неустроенности и непосильном труде отправленных на негостеприимные берега Вагранки калиновских лесорубов.
Особенно невмоготу стало весной, когда упали[89] дороги. Фураж для лошадей подвозили редко, с продовольствием было худо. В бараках началось воровство. Дело дошло до драк, поножовщины, случались даже убийства.
Такой инцидент произошёл у всех на глазах. Один из лесозаготовителей застал другого на месте кражи: тот выгребал корм из кормушки его лошади. Хозяин в бешенстве схватил жердь и наотмашь ударил вора по голове… Разбирательство было недолгим – убийцу арестовали и увезли.
– Надо нам, мужики, убираться из барака куда-нибудь, да поскорее! – предложил Еварест, когда односельчане собрались обсудить происшедшее на их глазах преступление. – К татарам, чё ли, на житье попроситься? Тут до ихнего посёлка-то – рукой подать.
Жильё в татарском посёлке нашлось быстро. Наш отец, Максим и Еварест поселились у зажиточного старика-татарина Шарифуллы Низамутдиновича, немного знающего русский.
– Твоя жить у меня будет, работать станет, дом рубить станет! Моя – мяса даст, сена для лошадей даст, – коверкая слова, обратился к лесорубам Шарифулла.
Он как раз строил дом для сына, поэтому с охотой пустил русских мужиков. Ночевали калиновцы в малухе[90], где всегда было чисто, жарко натоплено и в казане стоял сваренный махан[91].
– Ты чё это нам конину даёшь? Мы же такого не едим, – сказал было отец Шарифулле.
– Весна, разве не понимаешь? Говядина – ёк, баранина – ёк!
Скрепя сердце стали есть конину, голод-то – не тётка! Да скоро и попривыкли к татарскому махану.
У Шарифуллы – три жены. Одна уже старуха, она – хозяйка, правит всем домом. Вторая лет сорока, а третьей, Фатыме, ещё, наверно, нет и тридцати. Семья у Шарифуллы до того большая, что мужики и сосчитать всех не смогли: взрослые женатые сыновья, снохи, дочери, подростки и множество детей. И ко всему этому – огромное хозяйство. Лошади, коровы, овцы, много всякой птицы. «Живут же вот люди ещё по-старому, и ни в какую коммуну их не загоняют», – говорили между собой мужики.
Скоро на участке лесозаготовок Богословского завода сделалась полная неразбериха. Многие лошади уже не вставали от голода – лежали пластом, с трудом поднимая морды при виде хозяев. Мужики были вынуждены выходить на лесозаготовки пешими.
Только у калиновцев, благодаря сытным кормам Шарифуллы, лошади остались на ходу. И теперь наши мужики были освобождены от работы в лесу и направлены на перевозку брёвен до железнодорожной станции. Вечером, вернувшись со станции, работали у татарина, пока совсем не стемнеет.
За месяц сруб дома для сына хозяина был готов. Оказывается, по татарским обычаям рубить дом для хозяина можно кому угодно, даже иноверцам, но складывать на мох готовые брёвна должны только правоверные мусульмане.
Шарифулла иногда приходил вечером в малуху – посидеть и поболтать с русскими.
– Вы на русских не больно-то похожи. Табака не курите, вина не пьёте, – делился своими наблюдениями Шарифулла, – моя был в Ирбит-город, где ярмарка. Шайтан-город… Пьяниц много, шлюх много! Погано живут русские… У нас не так, мы живём, как Коран велит!
…В апреле, когда растаял снег, отец вернулся домой. Поздоровавшись с домашними, он тяжело опустился на лавку и задумался. Посидев молча, выглянул в окно и спросил у матери:
– Тёс-то весь коммуна увезла?
– Всё выгребли, ничего не осталось, – ответила мать и в подробностях описала, как по приказу Каина разобрали завозню, а брёвна увезли в Вольную Поляну.
– Не разбери-поймёшь, чё в хуторе творилось. Все чё-то куда-то возили – сами не знали, куда. Дескать, велено – и всё тут! Народ-то как глупой стал. Все боятся, напуганы… Вон оне, как народу хвоста накручивают. Отбирают всё, из домов выгоняют, ссылают. На кого осердятся, тот и кулак, ишо каким-то саботажником обзывают, врагом народа.
– С чего теперь начинать? Ума не приложу, – обхватив голову руками, грустно промолвил отец.
Скотину и лошадей, хоть и половину, отец нашёл, но остальное – тёс, кошёвка, новые сани, добрые хомуты – пропало бесследно. Хлеба на еду наша семья получила мало, семян для посева – ещё меньше, не говоря уже о корме для скота – его почти не было. Отец стал раскрывать на подворье соломенные крыши, рубил в корыте слежавшуюся, почерневшую солому, мать кипятила в печи ведёрные чугуны, заваривая солому подсолённой водой, – вот и весь корм лошадям, коровам да ещё и овцам.
«Хуже, чем в 1921 году, живём, – думал Панфил, ухаживая за скотиной. – А ведь добрый урожай был в прошлом году. Жили, не горевали, если бы не коммуна, сколь одного сена бы было, а хлеба…»
Хорошо, что погода установилась тёплая, стала прощипываться свежая травка. Мы с мамой ходили по лесам, копали разные съедобные коренья. Потом сушили их, толкли в ступке и стряпали хлеб.
Скот на воле понемногу стал отъедаться, корова прибавила молока. Полуголодные, отощавшие мужики пахали и сеяли…
А борноволоком в эту весну пришлось работать мне.
– Маньша, хватит спать! Вставай – боронить поедем!
Я вскакивала, наскоро умывалась, выпивала чашку молока с травяной лепёшкой, надевала свою сермяжку и натягивала обутки. Лошади уже были готовы. Мы с отцом ехали на телеге, в задке везли бороны.
Лошади были слабосильные от бескормицы. Один раз Воронушка упала прямо в борозде, запутавшись в постромках. Меня как ветром сдуло – так и полетела, прямо через голову лошади. В другом каком случае, сильно ушибившись, я закуксилась бы… Но Воронушка билась в постромках и не могла подняться. Отец стал её распрягать. «Нарушили кобылёнку, ироды! Задыхаться стала, запалили её, сволочи проклятые», – ругался он сквозь зубы.
– Мало нынче посеем супротив прошлых-то годов, – сказал он дома матери, – а чё поделаешь, семян-то боле нет.
– Зато я целых три гряды огурцов насадила! – шутила мама. – Благо, семя огуречное у нас коммуна отобрать не сподобилась… Всё же, хоть и огурцы, летом какая-никакая еда будет!
Семенной картошки тоже было мало, кое-как выручили соседи. Хлеб стряпали с лебедой, крапивой, молочаем. Выкапывали корни одуванчика и других трав. Всё шло в пищу. Некоторые травы ели сырыми… А перед тяжёлыми работами, пахотой паров и сенокосом – очень кстати – в лесу пошли грибы. Словом, вся наша, изрядно отощавшая, семья держалась.
– Мать собери-ка чё-нибудь. Поеду-ка я с Василком в Ерзовку, – сказал отец после очередного припадка сына, – там, сказывают, знахарь хороший объявился, Колмаков Тихон Егорович.
– Да чё везти-то? У меня вон одна кринка масла да яичишек десятка три, больше ничё нету, – развела руками Парасковия.
Уехал отец с Васей очень рано. Вот уже и показалась Ерзовка. По дороге из деревни неспешным шагом идёт мужик.
– Не подскажешь, где найти Тихона Егоровича? – спросил Панфил путника.
– Это я и есть. Что вам нужно? – усмехнулся прохожий.
– Да вот, сына везу – падучая у него.
– Ну что ж, выходит, обратно мне домой возвращаться, – ответил знахарь и зашагал в сторону Ерзовки рядом с телегой.
– Вон, правь к тем воротам, – Тихон Егорович махнул рукой в направлении добротного заплота, скрывающего аккуратную избушку.
Подъехали к ограде – хозяин отворил ворота:
– Лошадку-то распрягите да под навес поставьте, а то за оградой-то, на самом солнцепёке, жарко… Ну и колодец тут под рукой – попоить можно. А теперя заходите в избу да объясняйте всё по порядку.
Панфил подробно рассказал, как да что, с какого времени и от чего начались припадки у сына.
– А ты хочешь быть здоровым? – знахарь задал странный, нелогичный вопрос Василию.
– Ещё бы! – ответил тот, переводя удивлённый взгляд на отца.
– А ты мне веришь, что я тебя вылечу? Очень веришь? Я ведь не пилюлями, не травами лечу, а словами, внушением. Веришь?! – Тихон Егорович, не отрываясь, посмотрел в глаза Василию. – Вижу, что веришь! Иди за мной, – знахарь поднялся и увёл больного в горницу.
Панфил вышел на крыльцо.
Через час Тихон Егорович вывел Василия из дома.
– Сейчас у него припадок будет, – предупредил Панфила лекарь.
– Не может быть! – удивился Панфил. – У него раз в месяц приступ бывает, а последний – неделю назад был.
– А этот будет сейчас, и последний, – сурово, не допуская возражений, сказал знахарь, укладывая Василия в телегу.
Больной послушно улёгся, и, действительно, вскоре его стало стягивать судорогами и начался припадок.
– Падёт ишо с телеги-то! – подскочил к сыну Панфил.
– Погодь! – остановил его знахарь. Взял обе руки больного, и Василко сразу затих. – Пойдём, отужинаем, – обратился к Панфилу Тихон Егорович, – твой-то теперь до утра не проснётся.
На следующий день Панфил с сыном отправились домой, рассчитавшись со знахарем кринкой масла и десятком яиц.
Смертный cряд
Хлеба намолотилось немного – семян не хватало, и посеяно было меньше, чем сеяли до коммуны.
Не успели хуторяне измолотить весь хлеб, как приехало начальство из района и каждому хозяину вручили обязательство: свезти в город и сдать государству столько-то хлеба, мяса, яиц и шерсти.
Налог был непосильный. Придя с собранья домой, отец долго сидел задумавшись, подперев голову рукой: «Донимают нас не мытьем, так катаньем. Чё делать? Придётся везти хлеб, а самим даже охвостья[92] не хватит на зиму. А сеять потом што?»
Поохал, повздыхал отец, а хлеб пришлось выгребать из амбара и везти в город сдавать даром, также шерсть, мясо, яйца. Самим ничего не осталось. Опять с самой осени голодовка.
Мужики уж собрались снова зимогорить. Но в этот год в заводы никто не поехал. Поступил приказ из района организовать на месте промысловую артель.
Приехало начальство – дали указания и инструкции. Перевезли чьи-то кулацкие постройки, соорудили мастерские, и дело нашлось всем. Мужики рубили лес, сушили, а затем резали из дерева болванки для хомутов, лыж и ружейных лож. Вскоре привезли токарные станки – калиновцы стали вытачивать подрозетники и валики к сёдлам. Заработки были ничтожны, но зато дома.
Женщинам тоже нашлась работа – вязали сети, ткали рогожи, шили кули.
…После Покрова, уже по зимнему пути, к нам пришла бабушка Сусанна. Она вошла в избу и, присев на лавку, заговорила:
– Дорога об эту пору шибко убродна[93], а пимёшки-то худые… Полны снегу нагребла. Ох, грехи наши тяжкие, и смерти всё нет да нет…
Бабушка разулась и собралась залезать на печь.
– Говорят, ты внука женила? – будто в шутку спросил кто-то из наших.
– Да вот, привёл Серёга девку… Нонешная-то женитьба – это чё – привёл домой, как кобылу с ярманки, и всё! Я, говорит, баушка, женился! Ну, раз женился, говорю ему, – дак живите, идите-ка, спать ложитесь…
Федька с Костей-то у меня нанялись рубить дрова в казённой даче, дак вить ни обувки, ни одёжки нету – всё на себе прирвали. А этому Серёге-опентюху я сказала: шли бы и вы с женой тоже дрова рубить! А Серёга на меня – матерком…
Кроме коровёшки у нас ничё уж и не осталось…Чичас не доит корова-то, вот я и ушла – может, родня тут совсем не заморит, а? Ночую у вас ночи две-три?
– Какие там «две-три ночи»? – всплеснула руками мама. – Всю зиму у нас живи, а весной – видно будет. Раз женился Сергей, так пусть живут, теперь хоть есть кому у тебя по дому робить.
– Дак вить у меня сундучишко-то с одежонкой там остался, – пробовала возразить бабушка, – я даже и перемывки[94] с собой не взяла…
– Ничё, найдется у нас и перемывка: все мы, бабы, одинакову одёжу носим, – сказала мама, – а как посвободнее чуть станет, так съездим за твоим сундуком.
Бабушка Сусанна стала жить у нас. Какое это было для меня счастье! Она плохо слышала, но я садилась с ней рядом и не отставала с просьбой: «Бабушка, расскажи-и-и!»
– Дак о чём тебе рассказать-то, Манечка?
– А обо всём… Мне всё интересно! Расскажи, как люди в старое время жили!
Несмотря на годы, память у бабушки Сусанны была крепкой, и она каждый день рассказывала про неведомую мне жизнь. Слушая её, я из своего детства как будто переносилась в далёкое-далёкое бабушкино прошлое – в деревню Прядеину, где избы топились по-чёрному, а женщины, как и у нас теперь, долгими осенними и зимними вечерами пряли при лучине.
– Родитель-то у нас шибко богатой был, – вспоминала бабушка, – а я вот, грешница, и не живала в большом-то достатке, а теперя уж совсем стала нищая. Чё поделашь? Вить на долгом веку, что на долгом волоку, всякое бывает – и солнышко, и дождь грозовой…
Отец подшил бабушке валенки. А когда собрался в сельпо за керосином – попутно заехал на Пионерские хутора и привёз оттуда бабушкин сундук.
– Спасёт тебя Бог, Панфил Иванович! Добрый ты человек, – обрадовалась бабушка и стала перебирать свои пожитки.
Я, конечно, – тут как тут: интересно же, что там у бабушки в сундуке? Но, кроме старых юбок и поношенной клетчатой шали, ничего в нём и не было. Только в углу отдельно лежал перевязанный холстиной кошелёк. Мы с бабушкой развернули его. Там были пожелтевшая от времени льняная рубашка, холщовая юбка, такая же кофта и самодельные, тоже холщовые, с пеньковой подошвой, башмаки.
– Это, Манечка, – смертный мой сряд. Вить в гроб надо ложиться во всём своём, домотканом. Ленок-от надо самой вырастить, самой его обработать, напрясть да наткать – штоб всё своими руками. А то вить Боженька-то спросит: чё вы, православные, на земле-то делали? Есть, пить и носить готовое, но не твоими руками сделанное, – тяжкий грех. На Страшном суде мы за все грехи ответим…
– Баушка, да ведь ты такая добрая! У тебя, наверно, и грехов-то никаких нет?
Бабушка рассмеялась:
– Ох, Манечка, у кого их нет? У всех грехи есть! Да Господь-то – не без милости, много он прощает людям, согрешившим по неразумению. Иной раз вить мы и сами не знаем, што делаем…
Бабушка Сусанна прожила у нас всю зиму. Но постоянно вспоминала о доме на хуторе Пионерском: там корова должна была телиться, и бабушка беспокоилась, как бы молодая хозяйка Марина не оплошала, не проглядела бы чего. Пришлось бабушку везти домой.
Но весной, когда уже посадили огороды, она снова пришла к нам, расплакавшись прямо на пороге. Что она рассказывала маме – не знаю: в это время меня отправили на улицу. Я слышала потом, что зимой Марина родила девочку, которую назвали Шурой.
Саму Марину я так ни разу и не видела, но про неё говорили, что она хороша собой – и лицом, и ростом вышла. «Только вот ум-то у неё худой, – сокрушалась бабушка, – а чё она, красота-то стоит, коли ума и на грош нет?»
Бабушка прожила у нас всё лето. Иногда среди какого-нибудь дела она вдруг опускала руки, вздыхала, и слёзы катились из её глаз. Бывало, подбегу к ней, спрашиваю:
– Баушка, тебя обидел кто-то?
– Нет, Манечка, нихто меня не обижал. Это я так… Родная сторона на ум пала… Хорошо у вас-то, а всё равно – не дома! Живу тут, а душа – тама. О своей корове всё сердце выболело, да и об тех басурманах тоже…
Под осень ей пришлось уехать домой. Вот как это случилось. Мы с ней за огородом рвали лён. Она работала быстро, да и всякая работа двигалась у бабушки ловко и споро.
Лён – не то что конопля, он мягкий такой, и корешок в земле сидит неглубоко, рвать его – одно удовольствие. Лён дергать я любила больше всякой другой работы. И вот когда мы льняные снопики рассаживали рядком на вешала, к нам откуда ни возьмись подбежал рослый парень.
Бабушка даже снопик из рук выронила:
– Федя! Откуда ты взялся?!
Я с трудом узнала своего двоюродного брата с Пионерского хутора.
– По тебя приехал, баушка! Вон лошадь стоит, – торопливо заговорил Федя, – поедем скорей домой! Беда нам одним-то!
– Да как – «одним»? А Марина-то где?
– Марина к отцу ушла! Шурку забрала и ушла, а после отец и сундучишко её увез. Вчерась и сёдни утром корову сноха соседская доила… Но боле, говорит, не буду – баушку свою домой зовите!
Как бабушка обрадовалась, как сразу заулыбалась, даже глаза заблестели!
– Ты, поди, Федя, ись хочешь? Иди пообедай, а я мигом соберусь!
Пока он за столом хлебал щи, бабушка скоренько собралась, вынесла свои пожитки и положила в коробок. Я заревела во всю мочь…
– Не горюй, Манечка. Я после в гости приду к вам. Да и вы к нам приезжайте!
Я поехала с бабушкой – проводить её до моста. Там бабушка высадила меня из коробка и поцеловала на прощанье:
– Беги-ко скорей домой, девонька, не то заблудишься!
В детстве я очень любила высоту и часто залезала на крышу или на высокое дерево. Вот и сейчас, только придя домой, я взобралась на крышу пригона и села на самом «князьке»[95]: может, увижу сверху бабушкин коробок – хоть разочек!
Его я уже не увидела, но дальние и ближние окрестности были как на ладони. Вон на плоту баба полощет бельё. Вон в Максимовой ограде – зловредина Феклуха с тазом, полным выстиранных пелёнок. Увидав меня на крыше, заорала во всё горло: «Манька-гада, коза безрогая, кикимора долговязая! Штоб тебе упасть оттуда да шею свернуть!»
Я обозлилась, огляделась, чем бы сверху швырнуть в Феклуху, но ничего под рукой не было…
На Феклуху-то у меня – старые детские обиды. Ну невзлюбила она меня почему-то. Как я поняла много позже, такое часто бывает между разновозрастными девчонками. Но ведь даже и мать её, Афанасия Михайловна, как-то мне прямо в глаза сказала: «И куда ты всё растёшь да растёшь, Маньша? Ты ведь скоро выше вон тех берёз станешь. А девке-то некрасиво быть такой долгой!»
А ещё запомнился один случай: тётка Афанасия искала своих куриц, забежавших в нашу ограду. Я ей стала помогать, старательно звала «цып-цып-цып» (у меня выговаривалось – «шып-шып-шып»), и тётка меня так «отблагодарила»:
– И до каких пор у тебя язык-то такой худой будет? – вот в школу пойдёшь, так ведь там робята тебя засмеют, таку косноязычну. Уж говорила бы ты, как следоват![96]
«Как следоват, – передразнила я про себя тётку, – ну нарочно я, что ли, говорю неправильно?» Я обиделась и ушла в дом, и досыта там наревелась.
Вскоре к нам приехал старший внук бабушки Сусанны, Сергей. Он сказал, что его призывают в армию, отправка через неделю, и пригласил на проводы отца с матерью.
– Ну слава богу, хоть один балбес послужит в армии… Уж там-то никому разбаловаться не дадут, – сказал отец, когда они вернулись с проводов, – а со службы, глядишь, другим человеком выйдет, может, и поумнеет! Жаль только – Санко куда-то запропастился, больше года, говорят, писем от него нет. Даже проводить брата на службу и то не приехал …
Мама всплакнула. В ту осень пришёл из армии старший сын Евареста Фёдор.
– Поди, сейчас уж колобродить-то не станет, – судачили о нём соседи, – куда ему теперь от Ульяны деться? Отец вон какой строгий… Да и зазноба Федькина уже замужем…
И ещё одна новость была в ту осень: районному начальству взбрело на ум построить в Калиновке смолокуренный завод. На хутор привезли большие котлы, кирпич. Мужики принялись смолокурню ладить, а бабы и ребятишки стали собирать берёзовое корьё. Скоро завод заработал: стали гнать смолу и дёготь.
Для смолокуренных печей много дров нужно, и наши ребята всю зиму лесорубничали и попутно корчевали пни. Отец наш хорошо знал смолокурение: ещё в молодости ему приходилось наниматься подручным смолокура. A после лесозаготовок-то в Богословском заводе он любой работе был рад …
– Вот ведь дошло же, слава богу, до ума начальства, – говорил он за ужином, – здесь, прямо здесь, рядом с домом, со своей землёй – производство открыть! Всё равно мы каждую зиму нанимались дрова рубить в казённой даче. А то отрываться от земли, ехать чёрт-те куда на север, за сотни вёрст…
Когда завод задымил, работающим на нём стали давать кое-какие продукты. Даже, как сейчас говорят, спецодежду выдали: для лесорубов – валенки и ватники, для смолокуров – штаны и куртки из молескина или, как в народе называли этот простой, но крепчайший материал, из «чёртовой кожи». Мужики были рады; смеясь друг над другом, примеряли широченные, редко кому подходившие по размеру ватники и штаны.
