Кабул – Нью-Йорк
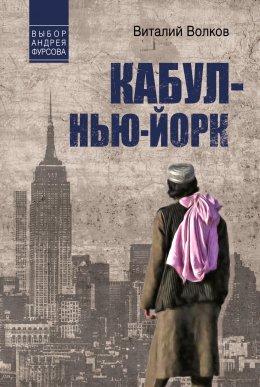
© Волков В. Л., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Автор выражает глубокую признательность Е. Айзенберг, И. Балашову, В. Ковалеву, К. Коневу, М. Янюк за поддержку при написании книги, сердечно благодарит В. Лукова и Я. Семенова за разностороннюю помощь при работе над историческим материалом, а также отмечает особую роль в создании книги Л. Королькова.
Автор считает необходимым заметить, что при создании книги использован значительный документальный материал, полученный во многом из закрытых источников, однако ее содержание – это не всегда строгое следование фактам, а художественная их обработка. Поэтому как бы ни напоминали некоторые персонажи своих прототипов, читатель не должен поспешно отождествлять книжную реальность с исторической и принимать определенную близость за полное тождество. Задача автора – не калька прошлого, а видение будущего.
Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека.
Лев Толстой «Война и мир»
Предисловие ко второму изданию
Сейчас в моей жизни ноябрь. Кельнский ноябрь 2006 года. Футбольный чемпионат позади, в Германии будни, да и по всей Евразии тоже. Можно задуматься об истории. История XXI века с наблюдательной вышки сегодняшнего дня представляется такой цепью сущностных событий: она открывается ударом сети бенладенов по государствам бушей 11 сентября 2001-го, проходит через Афганистан и Ирак (Кандагар-Кербела) – и, пожалуй, заканчивается, в здешнем Берлине ударом головой, который нанес французский футбольный гений Зидан в грудь итальянскому оскорбителю Матерацци. И что важнее? Для жизни, для книги?
Передо мной учебник, написанный маститым кинорежиссером. Она о том, как писать книги и сценарии, сообразуясь с законами восприятия. Чтобы задевать внимание того, на кого рассчитан труд творца. Нет, мастер не имеет в виду Бога. Он об искусстве драмы, удобной потребителю, он о знании теории необходимого стресса, возбуждающей в потребителе аппетит переживаний закуской и удовлетворяющей его супчиком, вторым блюдом и финальным десертом. Добрый кулинар ведает путь к гурманству через токи желудочного сока. Она о том, как нас эмоционально вовлечь в конфликт. Он о том, как создавать перед героем барьеры, а в нас вызывать саспенс. Мастер даёт советы. Я снова и снова открываю его книгу.
Правило первое: в конфликте борются ясные, четко выраженные силы.
Ещё одно правило: в конфликте полезно искать столкновения крайностей, таких как ангел и дьявол.
Мастер приводит в пример футбол. Начинается игра, пишет он, и с первой секунды ясно, кто с кем воюет. В белых трусиках ангелы. Это моя команда хороших парней. А эти в черных – враги моей команды. Автор призывает определить «центры добра и зла», а уж потом рассказывать историю. У болельщиков Белых «центр добра» воспален враждебностью к «центру зла».
Нет, маэстро не призывает к упрощению характеров и выводов. Он говорит не о сути, а о профессиональной технике рассказа истории. Зидан в белом, зло – в синем. Или наоборот. Футбольное поле. Ирак. Афганистан. В белом, в черном. 11 сентября тоже? Или тут табу?
И я согласен с мастером. На свой манер… Только свободный, то есть добрый человек способен к принятию не разделенного, а целого. Но только где он, этот человек? Я уважаю опыт мэтра. Он долго жил, много повидал, он талантлив и наблюдателен. И конечно, у него есть основания не признавать за потребителем (искусства) готовности принимать права творца самому меняться по ходу труда, по ходу познания истины. А соответственно, мешать меж собой «центры добра и зла», а то и вообще отказываться от такой огранки.
Я уважаю опыт неверия в Человека. Но у меня такового пока нет. Мне пока еще представляется, что искусство может быть способом увидеть добро целиком, отвоевывая его постепенно, бой за боем, у лжи, у слепоты, все делящей и делящей распаханные поля земли на добро и зло. Что связь со значительным тоже может увлечь «потребителя искусства».
Я внимательно отнесся к советам мастера и, пройдя путь книги, тем более осознаю, с радостью отмечаю, что ни разу не воспользовался ими. У моего героя нет антигероя, и сюжет не развивается в противостоянии белых и черных. Сюжет составляет сам читатель, его противостояние сюжету… Вот такой парадокс.
Я не ожидаю от читателя подвига, но хотел бы апеллировать к зрячему в нем, а не к слепцу, что идет за саспенсом, как наркоман за дозой. Не читателям, а редкому читателю обращаю я свой труд. Редкому гребцу, который на двух веслах переплывет эту реку от одного берега времени до другого. Порой против течения сюжета, но до конца. Такой читатель стоит мессы.
И вот я в кельнском ноябре 2006 года. Моя книга почти закончена. Так мне кажется. Я не стал зрячим, нет. Но может быть, мой герой… Хотя кто он?
Глава первая
Герои идут на запад
- Осень, сползающая лавой вулкана
- От жерла жизни к ее равнине,
- Успеет застыть ли в пористой славе,
- Не превратив голубые поля в пустыни?
Интервью Масуда[1]
9 сентября 2001 года. Северный Афганистан
Интервью? Зачем сейчас интервью? О чем?
Это, может быть, ему надо бы задать им вопрос – это ведь он знает о них, об их жизни, меньше, чем они о нем.
Ахмадшах с возрастом все более привязывался к осени. Ее чересчур раннее в этом году дыхание волновало, но побуждало не к подвигам, а к меланхолии. Хотелось впитывать часы осени так, как впитывает редкие первые капли дождя иссохшийся от зноя песок. Хотелось ценить эти дни высшей мерой, так ценить, как должен ценить миг встречи с небом истинный сын земли. Хотелось жить и хотелось Смерти. И не хотелось, совсем не хотелось тратить святую воду осени на журналистов. Так он и сказал секретарю, рыжебородому Умару: пусть зимой приедут, зимой слов много, как снега… Нет, если и встречаться с журналистами, да и вообще с людьми сейчас, то не для того, чтобы говорить – для того, чтобы слушать. Пусть расскажут, как устроен большой мир.
В апреле, после ещё одной пережитой зимы, Масуд побывал в Европе, вдохнул французского воздуха, глянул в низкое, близкое к людям, почти прирученное небо северной Франции. Даже не глянул, а заглянул за него, словно подглядел за театральный занавес – и уехал обратно, в свой свернутый улиткой гор Панджшер. Он уехал, пребывая в задумчивости от вопроса – то ли он на сцене, а они – там, в зале, за занавесом, ждут от него новых номеров и готовятся к рукоплесканиям или к свисту, то ли, напротив, он один остался в темном зале, а они все за кулисами меняют реквизит. Да, он выстоял ещё одно лето и ещё одну зиму против талибов и выстоит против них ещё и ещё. Ему сейчас обещают помочь те, кто за занавесом, те, кто под серым дном небес. Но они не могут ему помочь в сражении против себя. И не закрыть воронки усталого одиночества, которое ширится, ширится в сердце Льва Панджшера и может засосать, проглотить изнутри всю его Вселенную. Очень одиноко. Одиноко было давно, кажется, что всегда, – но не так, как сейчас. Раньше были часы, но не было времени. Да, были часы, капли осени, брызги весны, были песчинки-люди, то приходившие в жизнь, то уходившие из неё. Но не было времени, от которого он бы чувствовал свою зависимость, о котором бы думал, что оно – уже чужое, уже не его. Не было времени, которого бы боялся пуще смерти, потому что оно погружает его не в череду звёзд и вечных рифм, а в исторический ряд скелетов, совершивших своё, но не спасших мир… Вот и он… Он столько лет держал огромный шар на своих плечах, а теперь усталость. Мир не становится чище. А как он может стать чище, когда столько предательств и вовне его, и, сказать по совести, внутри себя? Нет, по-хорошему, ему бы не с журналистами сейчас говорить, а с великими праведниками. Но они не станут с ним говорить. Тогда – с поэтами. Чтобы хоть на миг сло́ва заглушить стук колёс стального зверя, несущегося на его мир, на его войну сквозь чудную раннюю осень.
Логинов и Кеглер в ожидании интервью
Первые числа сентября 2001-го. Северный Афганистан
Володя Логинов[2] торчал в Ходжа-Бахуитдине уже неделю. За дни ожидания интервью с Ахмадшахом и вспомнить свое «афганское прошлое» с двадцатилетней бородой успел, и проклясть Панджшерского Льва вкупе с разведенной им бюрократией, и попить кишмишевки, которую легко добыть у толмачей и проводников.
Логинову перед поездкой казалось, что после долгих месяцев, проведенных в Германии, командировка в прошлое взбодрит его и вытрясет из головы острые, как булавки, прожекты супружеской измены, записи во французский легион и даже возвращения в Россию, на родину. После Москвы в Кельне оказалось скучно, как в Липецке или Твери, так что Ута – молодая его супруга, даже сильно не спорила, хоть и позавидовала, когда не ей, а ему телевизионщики предложили съездить в Ходжа-Бахуитдин, снять эпизод с Масудом.
– Это верно, – она утешила себя, наставляя Логинова, – тебе надо начать здесь с большого, чтобы не ходить в практикантах. Ты все телевизионщикам не отдавай, ты же не на контракте. А на радио вернешься триумфатором, как Цезарь в Рим.
При чем тут Цезарь? Какого триумфа ждала?
Логинов сидел в Ходже, в отвратительной гостинице, в одной тесной комнатушке с оператором Пашей Кеглером, тоже русским (а как же, зачем немцам переплачивать за «своих» да рисковать страховками)? Плевал в потолок шелуху от семечек и громко читал стихи. По большей части Маяковского:
- Я русский бы выучил только за то,
- Что им разговаривал Ленин…
В общем, мстил немцам. Но немцев поблизости не было, а был Паша да арабы в соседней каморке.
Паша Маяковского не переносил и в ответ читал триумфатору Бродского:
- Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
- Но с куриными мозгами хватишь горя.
- Если выпало в империи родиться,
- Лучше жить в глухой провинции, у моря…
Оператор не производил внешне впечатление человека, одухотворенного скептицизмом Бродского, и эта подмена ролей забавляла Логинова.
Арабы за стеной, как ни странно, к громогласному логиновскому Маяковскому относились терпимо, а вот на вкрадчивый Пашин голос – и от Цезаря далеко, и от вьюги… – разражались раздраженными криками.
– Ну ты погляди, какие антисемиты, – качал головой Паша. – Что они вообще тут делают?
– То же, что и мы, дружище. Ты им предложи водки. Может, смягчатся, как Россия к разному Бродскому? Водка – великий уравнитель Востока, как кольт – Запада.
– Ну да, молятся весь день. Молятся, алла-алла, да на нас ругаются.
– Не на нас, а на вас с Иосифом. Народ пассионариев, им на флейтах водосточных труб ноктюрны больше по душе. А то курица, птица…
– Все равно. Рожи у них не журналистские. Не наши рожи. Вроде братков, только из алжирского слама в Марселе.
– Бывал?
– Ага. Девок они в узде держат крепко, наши против них – шпана, – соврал Паша.
– Не наши, а ваши, – поправил Логинов москвича.
– Вот тогда и читай им Гете. На языке оригинала.
Семь дней ожидания – и запасы Маяковского в закромах логиновской памяти исчерпались. Паша с Бродским торжествовали на беду арабам.
Логинов перешел на Баркова. На душе скребли российские царапучие кошки.
Вот так уехать ни с чем – худшего начала большой журналистской судьбы в Германии и представить себе было нельзя. Но ожидать в Ходже Масуда можно было еще неделю, и еще неделю, и еще, и еще – до полного исчерпания строф и, главное, денег.
Конечно, Паша Кеглер успел снять виды гор, лица афганцев, выпеченные июльским солнцем из древней глины – так и казалось, глядя на массу этих голов, будто двигаются глиняные кувшины. Кто наполнен оливковым маслом, кто – водой, а кто – вообще пуст. Но цель поездки – расспросить Масуда о поставках медикаментов и задать прямой вопрос о наркотрафике – достигнута не была и уже не будет. Так решил Логинов, объявивший в воскресный день Паше: все, уезжаем. Снимаем на память соседей, скажем пару добрых слов секретарю Ахмадшаха, и по домам. В провинцию. К морю.
Паша был настроен еще обождать, но Логинов уперся. К ужасу оператора, он отправился к арабам.
– Мы уезжаем. Его год можно ждать. Вы остаетесь? – обратился он к ним по-английски. Один лишь поглядел на Логинова отстраненным взглядом и отвел глаза. «Под кайфом, вот тебе и Маяковский». Второй, постарше, похожий на боксера, ответил на хорошем английском:
– Жизнь вся – песчинка в вечности. Нам надо увидеть его. Что нам год.
– Успеха желаю тогда. Мы снимаемся, – покачал головой Логинов.
– Аллах акбар.
В крохотных глазах боксера мелькнуло подобие усмешки.
Арабские журналисты у Масуда
9 сентября 2001-го. Северный Афганистан
Через час после того, как Логинов, так и не добравшись до секретаря Масуда, не прощаясь, выехал из Ходжи в направлении узбекской границы, Ахмадшах объявил о своем решении принять четырех журналистов. Из списка тринадцати ожидающих он выбрал только четырех – двух русских, приехавших от немецкого телевидения, и двух марокканцев, прибывших от какого-то нового арабского агентства новостей, но с рекомендацией Ясера аль-Сари, главы уважаемой исламской организации IOC.
Немцев с русскими фамилиями Масуд выбрал в тайной надежде, что кто-нибудь из них выдаст ему секрет низкого европейского неба. Русские – они такие. Не чуждые обобщениям.
Арабов он пригласил исключительно из-за их фамилий: Тузани и Касем Баккали. «Забавная парочка», – отметил про себя Масуд. Тузани в Марокко – это люди искусства и ученые мужи. А Баккали – не потомок ли это великого поэта Касема эль Шебби из религиозной школы «Сиди Амор Баккали»? Тебе хотелось поэзии, осенний Лев Панджшера? Вот она, твоя поэзия.
– Немцы не дождались, уехали, – сообщил военачальнику Северного альянса секретарь Умар.
– Я ждал их дольше. Хорошо. Значит, не судьба мне понять их небо.
– Что?
– Нет, ничего. Не надо журналистов. Займемся делами.
– Что же, и марокканцам уезжать? Зачем обижать аль-Сари? Журналисты всегда были вашим верным оружием. Нашим оружием.
– Как ты думаешь, Шах Нияз, можно принять арабов? – в очередной раз обратился Масуд к начальнику своей личной охраны.
– Незнакомые люди. Темные. Но контрразведка проверила их паспорта и верительные грамоты. И мы можем их обыскать.
Шах Нияз знал, что Масуд не любил, когда охрана обыскивала приходивших к нему, будь то дехкане, воины или журналисты. Он предпочитал ограничивать круг входящих только известными контрразведке и охране людьми.
– Нет. Пусть идут так. Ты же сказал, это опытные журналисты? – обратился он к Умару.
– Так рекомендует их почтенный аль-Сари. Я сам читал его письмо.
– Ты разве читаешь бегло по-арабски?
– Нет, письмо написано по-английски.
– Им нужен переводчик?
– Переводчик? Нет. Они говорят по-французски.
– Ну что ж. Молодость начиналась с Франции. Зови их, Умар. Отдадим им десять минут от Вечности.
- Осень, сползающая лавой вулкана
- От жерла жизни к ее равнине,
- Успеет застыть ли в пористой славе,
- Не превратив голубые поля в пустыни?
Когда марокканцев привели в комнату, Масуд как раз закончил разговор с Халили, послом Северного альянса в Индии. Халили попросил разрешения присутствовать во время беседы. Он смотрел, как молодой оператор устанавливает юпитер и камеру, а крепыш-репортер готовит микрофон. Шах Нияз стоял у них за спиной и следил за их движениями чутким глазом. Секретарь тем временем вышел из тесной комнаты.
– Ну что, готовы? – спросил Масуд по-французски. – Что тревожит вас? Каков главный вопрос?
Оператор еще не справился с аппаратурой, но «боксер», не дожидаясь, спросил, глядя в пол:
– Когда вы вернетесь в Кабул, как поступите с Зией Ханом Назари?
Масуд задумался и пристально посмотрел на журналиста. Еще до того, как оператор привел в действие заложенное в камере взрывное устройство, а затем взорвал заряд, укрепленный у собственного подбрюшья, Шах Масуд понял, от кого пришли эти посланцы смерти. Не зря, не зря сердце его ощущало потребность в минутах спокойной осени, равновеликой достойной старости – его последней осени. Не зря душа ждала беды после успехов лета. Его враг-спутник все-таки останется один. Зачем тебе это, Назари? Разве ты готов справиться с одиночеством? Разве ты настолько возвысился в величии мудрости?
До того, как сработало взрывное устройство, он успел сказать:
– Тот, кто нарушит равенство весов, должен знать, как вернуть его вновь!
Убить Масуда
Лето 2001-го. Исламабад
Шеф пакистанской межведомственной разведки МВР генерал Махмуд Ахмад не был в восторге от идеи, предложенной куратором отдела северных операций МВР генералом Мохаммадом Азиз Ханом. Покушений на Таджика Счастливчика кто только не устраивал – и Советы, и Хакматьяр, и талибы, и его же соратники по Северному альянсу. Казалось, он всегда знал их планы за день до того, как таковые возникали в их головах. И засады устраивали, и бомбы подкладывали – сколько агентов потеряли, сколько денег на подкуп ушло! Генерал Ахмад, в прошлом командовавший 111-й бригадой ОСНАЗа, той самой, что сместила Наваза Шарифа и привела в президентский дворец нового президента Первеза Мушаррафа, считал, что на такие деньги, ежели их собрать вместе, вполне можно было бы вооружить полк отменных наемников, запереть Масуда в его Панджшере и оставить северным их север – они и сами там перегрызутся меж собой.
Однако начальник отдела северных операций с жаром убеждал Махмуда Ахмада, что на сей раз план свеж и интересен, он пройдет по новым каналам, где, скорее всего, нет разведчиков Счастливчика и, главное, если этого не сделать сейчас, то Таджик накопит с помощью русских да французов силу, дотянет до следующей осени и тогда все надо будет начинать заново.
Азиз Хан, маленький, быстро потеющий человек с лицом старичка, раздражал Махмуда Ахмада. Изъяснялся он часто загадками и не носил военный френч, словно подчеркивая свою независимость от генерала Первеза Мушаррафа, показывающего пример подчиненным безупречной военной выправкой. Кроме того, куратор отдела северных операций не состоял под началом Махмуда Ахмада, поскольку занимал формально должность заместителя начальника штаба армии[3] и как бы опирался второй ногой на военную разведку, где авторитет этого старого лиса был выше, чем у шефа МВР. Хитро, хитро устроена система. Важны в ней функция и цель, не человек. Вот поменяй их с Азиз Ханом постами, что изменится? Ничего. Потому и тасуют их часто – пойди пойми потом, кто принял решение? Нет, зря говорят – ЦРУ, КГБ, МОССАД. Нет там такой системы, что даже главный начальник не сможет узнать, что за мышь родила гору…
Азиз Хану не составляло труда угадать мысли генерала Ахмада. Да, все верно. Его, Хана, мечта – убрать этого героя внутренних переворотов и верного пса неверного президента. Убрать и самому объединить под своим началом и военную, и межведомственную разведки для большого дела. Но на это никто не пойдет, потому как система превыше всего. Так что приходилось убеждать высокого коллегу стать на время союзником.
– В этот раз за Счастливчика готов взяться сам Назари. Его люди не засвечены, они проведут операцию. Я бы назвал ее «Северное сияние». Вы когда-нибудь видели северное сияние?
– Нет. Бог миловал, генерал. Мне не доводилось воевать в Сибири.
– А я видел. Небо сворачивается в пестрый платок и колышется над вами. Я бывал в Мурманске. Давно. А в Сибири, генерал, нет ни белых медведей, ни полярных сияний.
Азиз Хану казалось важным обозначить название, поскольку если Ахмад и не согласится сразу, то будет об этом думать. И тогда помимо доводов «за» и «против», помимо воли в его мозгу будет всплывать образ – «Северное сияние».
Генерал Ахмад, несмотря на неприязнь к Азиз Хану, не смог не оценить простоты и тонкости плана – проникнуть к Масуду под видом журналистов, учитывая слабость Счастливчика к людям этой древней профессии. Для осуществления требовалось два элемента: журналисты должны обладать надежным прикрытием, чтобы пройти к Масуду, и… они должны быть шахидами! У Зии Хана Назари есть такие, утверждает Хан.
Излагая схему, Азиз Хан сделал в этом месте многозначительную паузу, будто ожидая, что собеседник всплеснет руками и примется убеждать в невыполнимости идеи. Но генерал Ахмад, насупив брови, молчал… Азиз Хан, не дождавшись от Махмуда Ахмада удивления и возражений, принялся рассказывать дальше. Он был раздосадован на коллегу. Тот хотя бы из гостеприимства мог сыграть ему на руку в устройстве театрального эффекта. Сухарь. Азиз Хан с детства завидовал циркачам и артистам.
– Наш стратег, Зия Хан Назари, сочинил новую песню о новой войне. Новая война рождена в уме новым человеком. Воином-одиночкой. Этот воин умеет умереть в нужном месте, в нужное время, нужным образом. А до того – он всем похож на людей… Этот новый человек изменит старый мир.
Махмуд Ахмад молчал. Стоит ли менять старый мир, если в нем они оба – генералы? Где сверхзадача?
– Зия Хан Назари создал нового человека. И этот новый человек изживет Счастливчика. Назари построил фабрику шахидов, он снимет с конвейера нужные детали, а мы лишь поможем ему с документами. Мы только поможем его посланцам стать журналистами. Они пойдут по именам иных. И даже в наших с вами, генерал, хозяйствах ни одна мышь не узнает, зачем делаем мы документы нескольким арабам, приехавшим издалека. Если и есть в этих стенах уши у Масуда, то и им не узнать о его судьбе. Если, конечно, это не наши уши, – хихикнул Азиз Хан.
– Кто пропустит чужих, неизвестных журналистов к Масуду? Почему ослепнут его цепные псы?
– Деньги, генерал, опять деньги. Не на убийство, нет. Деньги за интервью, за доступ к телу Счастливчика. Обычное дело. И секретарь их возьмет. За интервью – возьмет. Потому как это не предательство, а лишь вознаграждение за помощь. «Журналисты – наше оружие», – скажет он Счастливчику.
– Кто заплатит эти деньги?
– Их заплатят те, у кого их много и кого не проверят по ведомостям визири их президентов и королей. Они создадут новое агентство, они создадут имена, они получат рекомендации, а потом под этими именами, по нашим бумагам пойдут масудовые воины, созданные Назари. Новые белые пешки, выкрашенные в черный цвет.
– Пешки не ходят назад…
– Именно. Именно. Мы чисты, но и Назари чист – его пешки так и останутся безымянными. Им не надо шагать назад.
Азиз Хан опять замолчал. Задумался и генерал Ахмад. План был веселым, выпуклым, ясным, как свежевыпеченная хлебная лепешка. Каждая из деталей могла стать когда-нибудь главой в учебнике по истории классических активных операций разведки. Но так быстро соглашаться с коллегой-соперником он не торопился. Помимо множества мелких вопросов его беспокоило, отчего Назари с этой ловкой комбинацией вышел на людей Азиз Хана, а не на него. Шеф военной разведки хочет сделать дело чужими руками? Или… И почему именно сейчас?
Генерал Ахмад уже несколько раз получал сообщения от агентов, работающих в «Исламской армии» – сети, состоящей из нескольких узлов, один из которых курировал Зия Хан Назари, – агенты уверяли, что по паутине пульсирует сигнал о готовящейся крупной операции – о начале нового, Большого Джихада. Но что это за новый Большой Джихад, никто из агентов объяснить не мог. Может быть, Азиз Хан от своих близких арабских друзей, от доброго приятеля принца Турки, патрона Саудовской спецслужбы, получил более точную информацию? Может быть, «Северное сияние» – это лишь фрагмент более широкого плана, а он, Махмуд Ахмад, сам выступает лишь той самой слепой пешкой в этой партии? Ему было известно, что собеседник недавно ездил на конференцию по борьбе с терроризмом в Джидду и там встречался с Турки.
– Почему сейчас? Вы знаете ответ, господин мой? – наконец, решился он.
– А почему нет? Для доброго дела всякое время хорошо, – рассмеялся Азиз Хан.
– Нет, генерал. Я не могу играть втемную. Я не знаю, ни кто создал проект, ни кто передал его… нам. И, главное, что последует затем, – пусть даже «Северное сияние» осветит наши края.
Азиз Хан покачал головой. Конечно, он ждал этого вопроса от опытного, умного собеседника. Он и сам охотно задал бы генералу Ахмаду тот же вопрос – ведь когда один из ближайших сподвижников Назари сообщил ему в целом идею с журналистами и Масудом, у него тоже возникла мысль: почему Назари, столько лет не желавший «трогать» врага своих друзей, талибов и потому своего главного афганского оппонента Масуда, вдруг решился на это? Отчасти ответ на это ему дал принц Турки в Джидде. Но только отчасти. «Масуда не станет, и доблестные талибы сразу начнут наступление. Впереди настоящий Большой Джихад. Воины Малого Джихада должны уйти. Так считают и наши американские стратеги». Увидев, что Азиз Хан не сдержал удивления при таких словах, саудовский принц со снисходительной улыбкой человека, знающего нечто, что не дано знать другим, добавил: «Американцы задумали перекроить мир и выгнать русских из Бактрии и из Крыма, пока те не подняли голову. Мы не против, верно? Пришло время для очищения. Мир уже долго прожил в мире. Еще немного такой жизни, и асассин Востока поддастся искусителю и забудет о своем предназначении. Мы же не можем потом отдать весь мир нашим друзьям-американцам. Мы сейчас слабы воевать на их полях. Пусть теперь они придут в афганские горы, пусть. Тигр силен и уверен в себе как никогда. Пусть он рассердит медведя. Вот тогда поглядим, так ли он силен». Большего Турки говорить не захотел. Азиз Хан согласно кивнул. Он давно желал убрать таджика Масуда, застрявшего на перемычке между талибским Афганистаном и нейтральной Азией как кость в горле – преграда, помимо прочего, мешающая току газа и нефти через Афганистан и Пакистан в обход России. Но и он, как затем генерал Ахмад, тоже поежился от мысли, что, может быть, выступает лишь пешкой в замысленной кем-то новой партии. Что значит «потом»? «Потом не можем отдать?» А как мы будем не отдавать? Пешкой и ему быть не хотелось.
Он постарался выяснить детали у всеведущего помощника принца Турки, но тот выразил немалое удивление по поводу любопытства пакистанского разведчика. Тогда Азиз Хан подошел в Джидде к своему недавнему знакомому, американцу Смоленсу, занявшему место давнего приятеля Грега Юзовицки в карточном домике ЦРУ. Смоленс по-американски не особенно таился. Он взял маленького пакистанца за локоть и принялся объяснять, что террорист Зия Хан Назари лишился прямой поддержки официальных Хартума и Эль-Рияда. «Да, мы в этом сыграли свою роль. Нечего им поддерживать террористов». И теперь Кандагар становился для Назари основным прибежищем. Но за это главный талиб, мулла Омар, попросит его помощи, причем помощи военной. Говорят, что Назари создал новых людей войны… Вот Назари, человек разумный, умеющий правильно считать деньги, решил, что ему дешевле будет убрать главного врага Омара, Льва Панджшера, чем воевать с ним в открытую. Нам всем надо готовиться к большим переменам. «Но вам не о чем тревожиться, вы же на нашей правильной стороне истории, генерал…»
…Конечно, господин американец, конечно… На правильной. Но принц Турки намекнул на очень Большой Джихад. И включение в войну талибов с масудовцами за власть в Афганистане при всем желании Большим Джихадом не назовешь. Но тогда что же готовится? Таким вопросом задался Азиз Хан еще в Джидде. Вернувшись оттуда, он обратился с просьбой к своему племяннику, который работал в пакистанском посольстве в Ашхабаде и только что пристроил туда соратника Назари, афганца Джудду по прозвищу Одноглазый. «Узнай-ка мне, сынок, что там Джудда думает о планах Назари. Ты же с ним не зря играешь в шахматы», – дал он поручение племяннику, когда тот явился к нему в Исламабад. Племянник с этим поручением вернулся в Ашхабад, но ответа Азиз Хан еще не успел получить. К тому же он знал, что ни Назари, ни другие руководители отдельных групп, крыльев, ячеек огромной сети Большого Джихада не могут знать всего замысла. В этом суть сети – замысел рождается сам по себе, он не складывается армифметически из планов его участников. Замысла не может знать ни сиятельный принц Турки, ни Смоленс – в этом сила системы, совместным усилием производящей на свет действие, во сто крат превышающее каждый отдельный фрагмент плана, но, по сути, по молекулярной формуле, подобное ему. Подобие дает возможность, создав в лаборатории каплю, множить ее тысячи раз.
А еще Азиз Хан помнил сообщение от другого своего племянника, который работал в его ведомстве на направлении «Кавказ». Тот рассказал дяде о том, как его подопечные чеченцы обеспечили продвижение некоей группы афганцев по территории российского Кавказа, а потом другие его подопечные, тоже чеченцы, самих проводников ликвидировали. Племянник уточнил, что афганцы были людьми Назари, и все то дело с проводниками было согласовано с самим генералом Махмудом Ахмадом…
Всего этого генерал Хан не рассказывал начальнику межведомственной разведки МВР. Но он ощущал, что его руками осуществляется дело, которое может изменить очертания того материка, что называется Современностью. Отказаться от такой славы он не мог и не хотел, но хотел разделить ее тяжесть со сдержанным аккуратным генералом Ахмадом. Тем более тот наверняка знает больше, чем пытается изобразить…
А потому по прошествии двух месяцев два алжирца с фальшивыми марокканскими паспортами, выписанными на имена журналистов только созданного информационного агентства AIA и выданными в Пакистане, при посредничестве Умара, секретаря Масуда, оказались в приемной у Льва Панджшера. Их рекомендательные бумаги были убедительны, журналистские биографии – безупречны, а в камере и на теле оператора таились мощные взрывные заряды. Как только весть о взрыве в ставке Масуда разнеслась по мировым агентствам, в разных концах мира завертелись крохотные маховички новой мировой войны, которую уже ждали армии будущих скелетов.
Логинов расстается с Кеглером
10 сентября 2001-го. Ташкент
Паша Кеглер расстался с Логиновым в Ташкенте. В дороге от Ходжи до Термеза оба хорошо, душевно пили, так что свинцовая злость по поводу неудачи со Львом Панджшера при посредстве чудесного алхимического афганского зелья быстро испарилась через открывшиеся в духоте поры.
– Денег в следующий раз не дадут. А и черт с ними. Мы здесь джумбашами[4] на последние разживемся, будем детям в старости показывать.
– Деньги найдем. Найдем деньги. Не тебя одного Афган еще прокормит, – успокаивал себя Кеглер. И Логинов верил, с сочувствием кивал головой, даже отказавшись от своей склонности смотреть на будущее реалистично, то бишь по большей части в черном цвете…
Весть о том, что Ахмад Шах ранен или даже убит, до журналистов дошла в Термезе. Кеглер хотел вернуться в Ходжа-Бахуитдин, но Логинов отговорил его – сейчас там паника, снимать точно не дадут, а то и грохнут под горячую руку.
– Хрен мы, а не репортеры! – бил себя в налитую грудь маленький крепыш, и тельняшка его колыхалась волнами. – Грош нам цена! Правильно, что не дадут. Денег.
Логинов после получения известия стал мрачнее тучи. Уход Масуда – так он понимал – это крушение хрупкого равновесия, которое держалось в азиатском мире благодаря узенькой жилке Панджшера. Высокий, быстро седеющий мужчина харкнул пыльную слюну прямо под ноги и растер ботинком.
– Кеглер, дурень, хочешь под талибов попасть – езжай. Они теперь как тараканы попрут, свет-то погасили! Ты – репортер, я – профессионал. По жизни, – вспылил Логинов.
– По жизни, по жизни! Ты же сам пел, что скоро со скуки сдохнешь! – обиделся Кеглер. У него даже появилась мысль, не подраться ли с этим «профессионалом», обосновавшимся в журналистике без году неделя.
– Что, профи, кишка слаба? Маяко-овский… А как до дела – так стух? Слабо на место событий, а?
– Я уже был на месте, Кеглер. И на своем, и на чужом. Мне этих мест хватило, свое по край, лишнего да чужого не надо! – Логинов показал на шрам, идущий от носа к уху. Шрам, уже было побледневший в кельнском туманном молоке, теперь то ли от жары, то ли от спирта зловеще побагровел.
Но Кеглер не мог успокоиться. Не он виноват в перестройке и гласности, обольстивших его свободой и сделавших из начинающего кинооператора спутника журналистов. Годы ушли, но у него все-таки еще все впереди. Он еще скажет свое собственное слово. И сейчас – это его шанс. И будет слава. Но на пути к славе – пижон с бутафорским наложенным рубцом.
– Да я в Чечне снимал! – приврал Паша, наддав хрипотцы. Сам-то он и впрямь с французами отправился в Чечню, правда, не в Аргун, а в Грозный, но дальше Моздока не добрался.
Логинов поглядел на оператора устало. Ну как ему объяснить, чего стоит жизнь? Чего она стоит на самом деле? Не в афгани, не в джумбашах, не в фунтах, не в женщинах, не в детях. Жизнь стоит того, чего стоит то, что ты чувствуешь в момент медленной смерти. Так что, Паша Кеглер, поезжай, если есть за что.
Один, без Логинова, оператор возвращаться не стал, на поездку нужны были деньги, а последними делиться старший наотрез отказался. «Продай камеру, все равно отнимут. Теперь у них беспредел пойдет лихо, как огонь по сушняку», – мрачно напутствовал он Кеглера. Тот махнул рукой и смирился. В Ташкенте, куда они добрались к утру 10-го, Логинов как раз поспел на самолет в Германию, а Паше еще пришлось подождать почти сутки в убогой гостинице до отправки в Москву. Расстались сухо, пленки Кеглер Логинову не отдал, сказал, что сам скинет их в московском бюро ZDF.
– Ладно, упрямец. Если не возьмут, позвони по телефону. Там мой товарищ, большой спец сейчас по Афгану да по террору. Считается спецом. Он с телевидением в контакте. Заодно привет ему, расскажи, как Володю Логинова без него чуть на тот свет не отправили. А то его совесть вот за это мучает, – Логинов провел пальцем по отдохнувшему, в Ташкенте снова побледневшему шраму.
Кеглер согласился и еще подумал, что верно не стал драться со своим спутником. Логинов передал ему номер Балашова.
– Ну, бывай. Авось свидимся скоро.
– Бывай. It depends. Или, по-русски, это зависит…
Кеглеру все же удалось стребовать с Логинова денег не только на гостиничку, но и на ужин. На нормальный ужин. С девочкой. С девочкой-азиаточкой. Нет, улыбался он, все же Логинов не жлоб. Сухарь порядочный, но не жлоб. Фриц! Настроение Пашино выровнялось, как и состояние, принявшее форму устойчивого растянутого похмелья.
А Логинов в дороге обнаружил, что заразился от Кеглера созвучиями Бродского. Такого рода инфекция его не расстроила – как будто он, жертвуя собой, своим, поместил того Бродского в сердце, более полагающееся ему, чем Пашино. И в снобизме себя за это Логинов не стал упрекать. «Ах свобода, ах свобода, ты – пятое время года».
Камикадзе Вашингтона
11 сентября 2001-го. США
Примерно в тот же час, когда Паша Кеглер пролетал уже над подмосковными лесами, дотягивая из фляжки последние глотки продукта, названного в Ташкенте джином, в салоне «боинга», осуществлявшего рейс под номером 11 из Бостона в Лос-Анджелес, стюардесса второго салона обратила внимание на молодого человека, то и дело просившего воду. За полчаса пути он успел попросить воду трижды, помимо того что дважды она разносила напитки сама. Что ж, можно было прямо сказать, что парень ей приглянулся. Она знала за собой слабинку к арабам и мулатам, ей нравилось рассматривать свою белую руку на бархате темной, но не пугающе черной кожи. У каждого свои фигуры пилотажа – так говорил Петерсон, командир экипажа, и посмеиваясь над молоденькой любвеобильной стюардессой, и защищая ее от упреков чернокожей ревнивицы Дженни, опытной стюардессы первого салона. Дженни – девушка в годах и, на вкус Петерсона, слишком уж религиозная, да к тому же быстрая на злое словцо. «Регулярная близость с Богом не идет тебе на пользу», – осаживал ее командир и про себя порой сожалел, что на воздушных линиях не вводят закон о защите белого меньшинства. Петерсон не был склонен к расизму, зато, как он считал, имел тягу к беспристрастному анализу действительности – занятию, к которому весьма располагают полеты над облаками. «Попробовала бы белоснежка Сью сказать Дженни то, что та выговаривает ей»…
Как бы то ни было, молодой человек с тревожными влажными глазами просил и просил пить, и у Сью были все основания подходить к клиенту, наклоняться к нему, почти касаясь грудью его плеча, разглядывать его своими голубыми глазками, интересоваться, не желает ли мистер еще чего-нибудь, а про себя спрашивать и с насмешкой, и с надеждой: «Что, влюбился уже, орленок?» В этом авантюра, в этом, можно сказать, профессиональный риск!
– Хочу. Хочу заглянуть к пилоту в кабину. Только взглянуть.
Сью подумала: какое романтическое начало!
Дверь в кабину была открыта, но для порядка Сью решила поважничать:
– Пассажирам не разрешается отвлекать экипаж. Впрочем, если только через дверь… Как вас зовут?
– Зачем мое имя?
– Да просто. Не называть же мне вас «местом В».
Сью улыбнулась, зная, как мило у нее это выходит.
– Покажи мне вид из кабины. И я скажу тебе не только, кто я такой. Я выдам тебе тайну, которую не знает никто в целом мире.
– Правда?
– Клянусь тебе. Я клянусь тебе.
– По-хорошему надо было бы мне сначала выведать твою тайну, а потом наградить. А то мужчины склонны обманывать бедных доверчивых девиц. Так говорила мне мама.
– Тогда принесите еще воды. Я остаюсь сидеть.
– Ладно. Я сговорчивая. Пошли за мной. Быстро-быстро. Но только глянуть – и назад.
– Сестра, дай попить, а?
– Я вам не сестра. Я бортпроводник. А братьев мне сто лет не надо.
– Ты не поняла, сестра. Я в смысле, медсестра. Воды, а то помру. Не дотяну до родины моей.
– Вы бы к фляжке реже приникали.
– А у меня там живая вода.
– Вот тогда ее и пейте. У нас самолет, между прочим, пассажирский. Рогатый скот не перевозим…
Паша Кеглер позавидовал Логинову. Небось сестрички рейса на Германию так не опускают его. Хотя и справедливо – вот она, Родина. С большой буквы. Хоть не садись.
Валиду Аломари не было жаль беленькую глупенькую стюардессу Сью. Он вообще о ней не думал. Для Валида и она, и другие обитатели брюха металлического дракона, да и он сам уже были не живыми людьми, а промежуточными субстанциями между смертью и рождением. Так учил его инструктор в лагере. Инструктор по подготовке смертников. Он смотрел подолгу сухими зрачками в глубь души и объяснял, что представлять такое надо обязательно зрительно, и сделать это совсем не сложно, если научиться миновать взглядом внешний покров, кожуру человечью, и собрать все внимание только на скелете, на черепно-мозговой коробке, на тонких костях рук, на шейных позвонках – если довести это умение до неумолимой силы привычки, то осуществить дело, помочь этим субстанциям, ящеркам на раскаленном камне, прекратить влачить убогое их существование, освободить от этого худого стерженька тела нанизанный на него дух будет совсем просто. Так надо видеть врагов, друзей, родных. Так надо видеть самого себя.
Позвоночник, на взгляд Валида, у Сью был аккуратненький, еще ровный. Но костяшки пальцев рук коротковаты, а череп – лишен подбородка, да и грудной отдел не развит. «Нет, и тут нечего жалеть», – успокоил Валид шевельнувшееся в нем сомнение. Инструктор и это знал. Он говорил, что хитер шайтан, боящийся выхода душ человеческих из их тел. Он таится, он ждет до конца, до самого решительного момента, чтобы вот так смутить, провести влажным языком жалости, соблазнить любовью. Распознать же его легко, если иметь опыт: сомнение – лик шайтана.
Странно было Валиду только одно: если скелетик Сью – искус шайтана, то почему именно он ведет его к осанне? Буквально ведет. Хотелось спросить об этом у опытного Аль Шехри, поднявшегося вслед за ним и за его спиной идущего той же дорогой к Аллаху.
– Ну, загляни в рай, красавчик, – словно уловила эти мысли Сью. Она обернулась, желая пропустить Валида вперед к двери, а заодно и тиснуть бочком в узком проходе. Но когда за Валидом она увидала еще одного пассажира, то испугалась:
– А вы куда, вам что? Вам нельзя.
Валид достал из широкого кармана свободного пиджака нож и размашистым неспешным движением перерезал ей сонную артерию. Затем оттолкнул от себя скелет по имени Сью под ноги Аль Шехри. Тот переступил через тело. В салоне взялись за работу еще трое, но Аль Шехри, старший в группе, не оглядывался. В этот миг каждый должен был отвечать за себя, а не за все дело. Потому что смысл – не в итоге всего, а только твоего пути. «Отвечаешь за мир, отвечая за себя», – так сказал знаменитый воин Одноглазый Джудда во время короткого приезда в военный лагерь на пакистано-афганской границе. Там подготовку проходил тогда, пять лет назад, Аль Шехри. Он запомнил эти слова. На последней стадии надо делать только свое дело, что бы ни происходило вокруг, в этом преимущество смертника – его трудно отвлечь. Аль Шехри тоже извлек нож и вошел вслед за Валидом в кабину. Им предстояло быстро разобраться с экипажем, а затем он сядет за штурвал, совершит маневр и понесется к земле, устремляясь тем самым к небу.
Когда «боинг» с мертвыми пилотами, командиром корабля и стюардессой Сью, с пассажирами, усаженными в хвосте (их кисти перехватили проволокой), рвал облака, минуты и мили, отделяющие его от бессмертия, Валид все же спросил у Аль Шехри то единственное, что волновало в пронзительный момент желания ясности: почему шайтан сам проводил его к вратам рая? Нет ли и здесь искуса и ловушки? Но Аль Шехри успокоил его:
– Добро и зло – ядрышко и скорлупа одного ореха. Одно ведет к другому. Выбор твой – колоть или не колоть скорлупу. Выбор – вот главное!
Валид с благодарностью в последний раз посмотрел на скелет товарища.
Быстрая птица снижала высоту, и вскоре тень от нее и ранний солнечный луч, отраженный от ее крыла, оба упали на город, именуемый Новым Йорком.
Паша в Москве в ожидании славы
11 сентября 2001-го. Москва
Паша Кеглер, оказавшись в столице, долго не мог понять, куда же это его занесла нелегкая. После Ходжа-Бахуитдина Москва казалась гигантским будильником, заведенным пружиной немыслимой силы. «Может, это с похмелья», – думал он, стараясь определить, откуда берется страх того, что сейчас, вот-вот тяжелая часовая стрелка ударит его по темени и он оглохнет от петушиного крика осеннего московского дня. Так было утром. День прорывался в его одинокое одноклеточное жилище позвякиванием трамвая, криками футболящих бездельников, уже с утра оседлавших спортивную площадку под окном. Потом зазвонил телефон:
– Пашка, ну наконец! Ну и что ты обо всём этом!
Кеглер сперва даже не узнал знакомого. Звонил школьный ещё его приятель. Ей-богу, год, наверное, не говорили. И на тебе, вспомнил.
– Ужасно, конечно. Хотя. Сами виноваты. Думали, всех мощней!
Кеглер не мог понять, о чём говорит приятель. Уж никак тот не мог знать, что он только вчера вернулся из Афгана и подавно о том, что сейчас в этом Афгане происходит. Надо было бы дать им здесь пресс-конференцию.
– Старик, прости, я только вечером из Афгана. Спал. Знаешь, там при мне Ахмадшаха грохнули.
– Какой шах! Старик, какой Афган? Чего ты в эту тьмутаракань? Ты бы еще на Луну слетал… Ты мне про Америку скажи, как думаешь? Кто их так приложил? Ты же журналист, в самом деле!
Кеглеру пришлось признаться, что он, хоть и журналист, но понятия не имеет о том, что произошло в Америке. Приятель, к несчастью, от этого известия пришёл в подлинный восторг:
– Как думаешь, это японцы? Красная армия камикадзе есть, они за Хиросиму мстят. Опытные пилоты. Красота. Сорок тысяч трупов!
Приятель, опустошив запас своих фантазий, исчез ещё на год, два, а может быть, и навсегда из кеглеровской тугой, как мышца атлета, жизни. Зато прозвонился Логинов:
– Ну что, добрался?
– По мне, лучше в Ходже было, чем тут. Город бодрых утренних идиотов. Там хоть спать не мешали.
– А-а, ну ладно. Спи дальше, русский богатырь Кеглер. Это я так. Можно сказать, волновался. Думал, ты уже вовсю интервью раздаёшь.
– Да, интервью. Мне до тебя как раз лекцию прочли, что наш Масуд на хрен никому не сдался.
– После вчерашнего? У тебя и впрямь, Кеглер, не все чашки на полке? Так немцы про таких говорят.
– А при чём тут чашки? – Вместе с подступающим очередным приступом злобы на Логинова Паша ощутил признаки жизни в членах.
– Да при том. Покушение на Шаха и Нью-Йорк – это одних рук дело. Это большой план, я тебе говорю. Я уже пять интервью дал. Мои немцы шалеют, они вообще про такое не думали. Потому как тут – обобщение, исходящее из индукции, а не дедукции. Им это трудно. Но учатся. У Володи Логинова! – он явно пребывал в возбуждении.
Кеглера вдруг озарило. Что ж, выходило, что одноклассник и впрямь рассказал правду? Неужели он проспал миллениум? Чертов Масуд!
– Так это что, японцы? – жалобно спросил он, выигрывая время и нащупывая ладонью на тумбочке пульт от телевизора.
– Это не японцы, Кеглер, – серьёзно ответил голос в трубке, – этолибо Усама бен Ладен, либо Зия Хан Назари. И, поверь мне, это либо тот, либо другой нас чуть не взорвал с Масудом. В любом случае ты теперь знаменитость, Кеглер. Вот что я хотел тебе сказать.
– А я ещё плёнки в бюро не оттащил.
Паша нащупал пульт и принялся выуживать уплывшие под кровать тапки. На ожившем экране птичка самолёта отважно клевала пылающий отражённым солнцем огромный столб. Бежали люди.
– А зачем? – вдруг вырвалось у похмельного взъерошенного человека беспомощное слово. На вопрос «зачем» Логинов отвечал в течение всего предыдущего дня, проведённого в редакции «Голоса Европы», куда его направила Ута. Отвечал так часто, что, как говорится, сам понял. Но именно Кеглеру он объяснять не захотел. Чтобы не разменять на сонное, мелкое, сугубо журналистское зерно то своё понимание, которое обещает вырасти, наконец, в цельную картину будущего мира.
– А сам думай, зачем. Эта задачка теперь всем задачкам задачка. Мой друг писатель тоже спрашивает: зачем? Хоть и эксперт.
Кеглеру показалось, что голос Логинова блеснул жёстким седым волосом. Эксперт, эксперт, эксперт.
После короткого разговора с Логиновым Паша собрался «в Кеглера». В не самого далёкого, но энергичного, целеустремлённого мужчину сорока лет. Соединить его разобранные на части тело, душу и ум помогла одна подсказанная Логиновым мысль – а вдруг и впрямь он теперь тоже эксперт? Может быть, это его шанс пересесть из галёрки операторов в партер журналистов? А там и до обозревателей недалеко… Срочно в бюро ZDF, где его ждёт слава. Хорошо, не слава, не всё сразу – ждёт интерес коллег и новые предложения. Перспективы.
Когда в бюро ZDF Кеглера встретили так, как будто он не из Кабула плёнки привёз, а из Тамбова или Урюпинска, и заявили, что сейчас не до Масуда, он не стал отчаиваться, выпил пивка с уютным названием «Бочкарёв» и, глядя на этикетку, вспомнил о Балашове. Эксперт Балашов представился ему сытым господином с пивным животиком. То единственное, чего недоставало этому господину в жизни, и был Паша Кеглер. Но перед тем, как звонить упитанному эксперту Бочкарёву, Кеглер решил прибавить в эрудиции, для чего предстояло потратиться на газеты – размашистой московской прессы для первого разговора должно было ему вполне хватить. Сердце бодро качало и качало кровь. Сорок тысяч далеких игрушечных американцев обещали яркий миллениум.
Юзовицки и Смоленс
Июнь 2001-го. Вашингтон
Начальник афгано-пакистанского отдела ЦРУ Грег Юзовицки еще в начале июня получил доклад об усилении активности бригад «Аль-Каиды», «Техрикуль-Моджахеддин» и других исламистских вооруженных групп. Об этом можно было судить по участившимся телефонным переговорам между их активистами, по уплотнению интернет-связи. В докладе даже конкретно говорилось о готовящейся в США, в Европе, на Ближнем Востоке и в Индии операции «Большой джихад». Конкретных указаний о времени проведения операции пока получено не было, и Юзовицки запросил начальство о выделении денег для более жесткого зондирования, или, проще говоря, на щедрый подкуп информаторов. Однако, к своему удивлению, получил отказ – новый начальник отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Смоленс («товарищ Смоленс», как успели окрестить шефа сотрудники за его штатское происхождение и пристрастие к красным галстукам, почему-то родившим ассоциации с вождями русской революции), – так вот товарищ Смоленс отпивал скупыми глотками кофе, сетовал на худобу нынешнего бюджета по сравнению с тем куском, что перепадает от новой вашингтонской администрации военным, вспоминал о чем угодно, лишь бы не говорить о Большом Джихаде. Грегу было непонятно, почему этот человек, до прихода в фирму многие годы работавший на благо одной из крупных нефтяных компаний, теперь оказался здесь, в этом кабинете. И почему он несет какую-то чушь про тактику анаконды, ждущей нападения противника и лишь затем охватывающей его своим смертоносным кольцом. Но больше всего его возмутило высказывание Смоленса, что они отменно информируют Белый дом и без всяких дополнительных вложений, поскольку всю необходимую информацию ему, Смоленсу, поставляют «спутники» – ребята из системы космического слежения. А что не увидят с высот занебесных они, то дополнят англичане, крепко стоящие на земле. У них агентурная сеть поставлена здраво и здорово. Пусть они тратятся. А это и есть глобализация в действии.
– Значит, им известно, как будет проходить Большой Джихад? – Юзовицки поднял палец, указав наверх. Он твердо решил не позволить новому начальнику «замылить» вопрос.
– Юзовицки, у «них» есть все, чтобы узнать об этом. Я достаточно ясно сформулировал ответ?
– Может быть, тогда и меня посвятят в детали? Наши агенты в Герате, Пешаваре, в Исламабаде рискуют, а стоят они совсем недешево. Если они стали лишними, если мы теперь – филиал MI, можно вывести их из активной зоны.
– Грег, вы сделали карьеру при Рональде и сейчас Ваше время. Но только не лезьте в бутылку с кокой. В большой машине не надо быть слишком умной деталью. Иначе система перетрет вас. Впрочем…
Смоленс подумал, что руководителю «исламского» отдела вообще-то давно пора на пенсию, что из старой «афганской» гвардии этот большеухий господин остался последним на среднем этаже «фирмы». Таких, как он, «афганцев» вымыли «иракцы». Пора… Но говорить этого Смоленс не стал, а сказал напутственным тоном собеседнику, старшему его на добрых 10 лет:
– Вы должны помнить, Грег: Вы ведь затянули Советы в афганское болото… И где они теперь? Спасибо вам. Но надо довести работу до конца, даже если по нам нанесут первый удар.
Юзовицки долго потом раздумывал над словами «товарища Смоленса». Выходит, там, наверху, все знают о Большом Джихаде? Нет, этого быть не может. Хотя… Откуда? Откуда этим новым людям, пришедшим за «поросенком» Бушем, завидующим славе «быка» Рейгана, знать больше Юзовицки? Нет, просто они не хотят знать даже того, что знает он. Или кто-то из них решил, что он – Господь Бог? Вот тогда беда… Лучше сейчас не думать о том, что он решил. Но миллениум тебе, Америка, обещает сюрпризы…
Грег Юзовицки жил одиноко. Жена умерла от рака пять лет назад, дочь преподавала в университете на берегу другого океана, к подруге он утратил интерес по состоянию здоровья, да и с виски отношения его расстроились. С этим господином, пахнущим выжженной солнцем травой, он, по настоянию врачей, встречался куда реже, чем желала душа. Но после разговора со Смоленсом Грег извлек из бара своего приятеля двенадцатилетней выдержки. Что ему еще оставалось и чего не могли у него отнять ни врачи, ни начальство – это встречи с памятью. Ему предстоял знаменательный вечер – вечер встречи со старым, заклятым, ненавистным врагом. «Еврейский хитроплет, Чак Оксман[5], я приглашаю тебя к столу, я готов сказать тебе то, что боялся произнести все последние годы».
Если бы кому-то привелось наблюдать за руководителем «исламского» отдела ЦРУ в этот вечер, у наблюдателя были бы основания изумиться поведению старого разведчика. Юзовицки поставил перед собой два стакана, наполнил их темным напитком, выложил на стол два прибора, две тарелки, собрал нехитрую трапезу – хлеб, ветчина, сыр да орешки также были рассчитаны на двоих. Наконец, мимика хозяина навела бы наблюдателя на мысль, что тот общается с незримым собеседником, говорит охотно, но больше слушает, отпивая часто из стакана и кривясь то ли от горечи, то ли по иной причине.
Юзовицки и Оксман
1979–2001 годы. Вашингтон
(Глава, которую спешащий путник может пропустить, не боясь утерять из вида цель пути)
– История – это да-авно уже не изменение человеков во времени. Это, любезный мистер Юзовицки, перемещение идей в пространстве. С той поры, как человеки перестали меняться, идеи перестали умирать насовсем… Это значит, что мы живем в мире идей как на болоте, где идея – кочка. Спасительная, но… Наступи ей на макушку, упрись сапогом в хохолок-холмик, вот она и уйдет вглубь. А потом всплывет наружу, только над вашей головой, мой друг.
– А над вашей?
– Вы все время торопились, прямо как наш Госдепартамент. Обождите. Неужели вас моя голова беспокоит больше вашей? Раньше идеи властвовали и гибли, теперь они лишь насмехаются и живут вечно, кочуя от поколения в поколение из сознания в подсознание «масс» – простите уж старика за «левое словечко». Тайная власть идей над вами – это сила, она водит вас по кругу. История повторяется вами и дважды и трижды, и фарсом и водевилем – пока не прогорит торф болота до самого дна. До самой глубинной и единой человечьей сути.
Профессор Оксман отдышался и потянулся за водой, но Грег Юзовицки упредил его и пододвинул стакан. В вежливой ненависти была особая сладость – обычно он об этом думал во время ссор с женой, и старик Оксман вызвал за время их недолгого личного знакомства схожее чувство. Нет, тем, кто не знает радости вежливой ненависти, не работать в разведке…
– И все-таки, профессор, почему «вы», а не «мы»? И сколько лет вы даете «нам»?
Юзовицки смотрел на слабые пальцы Оксмана, охватившие стакан. Разглядывал его руку. На ней проступили сотни розовых и синих прожилок-рек, на тыльной стороне ладони рыжели крупные веснушки-материки. Не рука, а карта планеты. После атомной войны, почему-то пришла в голову мрачная шутка.
– «Вы» – потому что вы одержимы энергией. Назовите ее энергией созидания, борьбы за существование, за создание цивилизации, за мир во всем мире, за демократические идеалы, за нефть и газ, за… – пальцы профессора заметно дрожали, – эта энергия, как ее ни надпиши, объединит вас и массы таких, как вы, в систему и заставит вращаться по циферблату идей. Да я это уже говорил. А я – лишен энергии созидания…
– То есть, профессор, все дерьмо выносить нам? – Юзовицки с удовольствием отметил, что крупные реки на руке собеседника взбухли, словно в паводок.
– Я даю вам лет двадцать-тридцать на то, чтобы убедиться самим: то, что принимаете за дерьмо сегодня, тогда вы назовете черноземом плодоносящим. Таков закон неумелого обращения энергий…
Такой или приблизительно такой разговор с Чаком Оксманом вспомнился Грегу Юзовицки. Этот разговор проходил еще в 1979 году, в Белом доме, в кабинете Паркера, советника Картера. Грег помнил, что вовсе не собирался спорить с закорючистым еврейским профессором, что тайной целью встречи Паркера с учеными-востоковедами была дезинформация для русских, будто Штаты готовят большую бучу в Иране. Но случайное столкновение его с Оксманом задело тогда разведчика за самое его живое. Так перед боем шепни солдату, что война все равно проиграна – и сердце изгложет страх.
Да, с тех пор Юзовицки ненавидит Оксмана. О, как он ненавидел этого умника тогда, когда весь его отдел праздновал поражения русских в Афганистане. Он видел перед собой руки, сжимающие стакан, и в них мерещилось ему отчего-то собственное будущее. Точнее, не в них, а в нем, в стакане, объятом костлявым рыжим материком!
- И пораженья от победы
- Они не в силах отличать… —
издевался над ним искуситель, пользуясь чьими-то ловкими словами-колючками, застрявшими в коре памяти разведчика. И даже когда империя Зла начала разваливаться на куски и слабеть, чахнуть, а перед Грегом и его коллегами открылись новые, ранее недоступные горизонты, он все равно никак не мог избавиться от этой колючки в коре… Сколько они уже вбухали в исламских фанатиков, чтобы опрокинуть стратегического противника! Не в таких как Масуд, а в таких, как Усама, таких, как Назари. И поражение от победы они уже не в силах отличить…
Балашов ищет себя
9 сентября 2001-го. Москва
Балашов[6] искал себя.
– Ты бы искал с веником, по углам, хоть с пользой для хозяйства, – язвила его Маша[7], указывая на комки серой пыли, осевшей под столом, спрятавшейся под кроватью возле плинтусов. Она их прозвала «хы». Она указывала на «хы» Балашову узеньким пальчиком, но сама не убирала. Принципиально. «Хы» полёживали и полнели, изредка лениво переворачиваясь с боку на бок на сквозняке.
Подруга писателя была им недовольна. С весны с ним это началось. Вскоре после отъезда Логинова. И протянулось сквозь всё лето. Застарелый творческий кризис – Игорь сам себе поставил такой диагноз.
– Не то пишу. Не то писал. Не то, не то… – невнятно бурчал он исключительно под нос и этим особенно раздражал Машу.
Игорь, вопреки обещанию, данному Маше, так и не отдал Вите Коровину роман, ссылаясь на необходимость доработать текст. А сам отложил рукопись в стол и предпринял попытку вернуться к «интеллигентским» рассказам. Машиного глаза это бегство не миновало. От прямого выяснения Балашов ускользнул, но она услышала, как Фиме по телефону ее друг объяснил, что утратил связь со значительным.
Но Маше стало досадно. Она, тоже небесталанная, выгребает каштаны из золы, а он считает, будто так и должно быть. Пусть, конечно, ищет, но хоть с веником. По дому. Творец же уборкой пренебрегал.
Вновь из-под его пера стали было выпрыгивать на белый лист растрепанные сорокалетки, желающие прожить две жизни от неумения уместить себя в одну, никак не решающиеся сделать выбор, куда же бежать, в Штаты или все-таки в Бологое. В Штаты навсегда. С женой. В Бологое – на лето, с любовницей. Герои метались в поисках себя по столице, от пьянки к пьянке, и едва успевали спасаться от коммунальной жизни на собственных кухоньках, доставшихся в наследство от диссидентствующих отцов и дедов. В их «успевании возвращения» был свой риск, свой героизм и даже свой изыск… но Балашов поймал себя на злобном чувстве по отношению к ним. Всех их хотелось послать в Афган, в Чечню или хотя бы на хрен. В текстах Игоря появился мат. Он отдавал себе отчет в том, что писать с таким на душе нельзя, и в том, что «поиск себя» в этих обстоятельствах столь же вынужден, как таблетка аспирина при острой головной боли. Ему было жаль, что даже Маша никак не желает смириться с этим аспирином. Хотя, если бы не она, про него вообще бы позабыли – Москва забывает быстро. Маша время от времени применяла насилие и буквально выталкивала его из дома на тусовки, встречи, куда его еще приглашали как эксперта.
– Выпадешь из обоймы, Балашочек – это навсегда. Сам знаешь Москву. Не можешь сейчас работать на душу – работай на имя. Жизнь мудра, она всем паузу дает. Это мы слепы, не видим, зачем, – убеждала Маша. Балашов слушался, но страдал.
Так он встретил осень. Осень для прозаика – время плодотворное. Спасибо Пушкину. Жары нет, но пиво еще можно потреблять на улице. Можно не писать: лень будет списана на творческий поиск. Музы шуршат под ногами. Разрешается их презрительно пинать с Парнаса. Пусть поэты трудятся. Свобода. Все у прозаиков перепутано: лето – это прозаическая зима. А зима – лето. Сидишь дома, за столом, у пышущей яростным жаром батареи и кропаешь, кропаешь, глядя в мерзлое далеко. Весна – это осень творчества. Чувства много, так и прет из природы в нутро ядреным изумрудным соком. Жить хочется. Немедленно жить. Ну, как тут умирать в творческом бессмертии? Ведь письмо – это растворение себя в вечности. Как сахар, что ли. Кубик сахара в море соленой гущи. Но хоть чуть подсластить, отважно жертвуя, или жертвуя бездумно, не важно, но лишь бы жертвуя самим собой. Настоящий творец по сути не понятен живущим – тем, кто живет в «сегодня». Здоровому трудно понять мертвеца. И самое страшное, самое мужественное – это смелость выбора между «смертью в жизни» и «жизнью в смерти» – той стеной, которая отделяет бытие «творца» от существования «не творца» (порой в одном человеке). Оставить весну весной или ждать весны до осени… Вот такими небогатыми мыслями маялся Балашов до того самого дня, в который из его осени, как из седла, выбил «афганец» Миронов[8].
– Куда пропал? Что случилось, слышал? Или остаешься в отрешении? Напрасно. Самые большие мыслители гибли от этой жизненной ошибки. Теряли связь.
– Андрей Андреич, связь – понятие общее. Употреблять его как сахар. В чай хорошо, в водку – плохо.
Миронов по-своему подхватил слова Балашова:
– Если с женщиной – то да. Хотя и тут один ожог – не причина для огульного отказа. А с жизнью связь необходима. На войне многие без такой связи скоро в «груз номер 200» превращались. Афганистан тебя нагоняет.
Балашов в очередной раз отметил, что Андрей Андреич, обычно скрадывающий без зазрения совести предлоги и окончания, никогда не ленится договаривать слово «Афганистан».
– Таких, кто приезжал афганцев жизни учить, ученики быстро делили на бесконечность. За отсутствие «связи». Я в подшефном батальоне национальной гвардии сразу определился: нужен я, как советчик, могу чем помочь – спрашивайте. А в их дела не лезь. Народ хитрый, смекалистый. Торговый. Мои ребята-афганцы минами, патронами с моджахедами Масуда в самые бурные времена менялись. А я не мешал. Ты им мины раздобудь, а распорядиться они и сами сумеют по обстановке. У них своя жизнь, у нас своя. Вот это связь с действительностью. Сейчас, во времени, лишь кажущемся мирным, дело другое, но макроскопические законы природы и здесь выполняются. Просто в боевой обстановке их постигаешь быстрее. И гораздо глубже. Понял?
– В общих чертах.
– То и плохо, что в общих. О Масуде знаешь?
– Что?
– То, что никак не удавалось нам, с успехом сделали иные умельцы. Взорвали Ахмадшаха в самой его ставке.
– Как? – у Балашова перехватило дыхание. Его «афганская» книга оставалась в «столе», но это вовсе не отменяло того факта, что Масуд стал его родным, приватизированным литературным героем.
– Сколько ни посылали к нему агентов, он как в газете наши планы вычитывал. Афганцы говорили, он через небо видит…
Видимо, событие изрядно поразило и Миронова. Он погрузился в воспоминания, что для телефонных бесед, в отсутствии водки и пива, было полковнику не свойственно.
– Армейские наметили операцию. Ликвидация бандформирования. Как сейчас формулируют, зачистка. Десантники сверху, отсекать. Пехота снизу, к ущелью поджимать. Нас не привлекали. На все участки не хватало дыры затыкать. В штабе обсуждали, план разработали. Крупномасштабный, а как же! 86-й год, успех нужен, как воздух. Победа любой ценой. Тогда товарищи из Главпура такие слова еще произносили без иронии. А когда уже дело на ходу было, к комполка – Суриков был такой, Антон Алексеевич, грамотный военный – от Масуда парламентарий. С белым флагом. Письмо передает. По сути, не письмо, а записка дружественного содержания: «Уважаемый Антон Алексеевич! Не ходите в ущелье. Побьем вас там крепко. Потому что ждем. Сохраните своих людей. С приветом и уважением, ваш бывший соученик по Академии Фрунзе Мухаммад Фахим». Фахим был командир у Ахмадшаха, из способных и смелых. Теперь маршал!
– И что, пошли? – вяло спросил Балашов.
– Нет. 86-й – не 83-й. Нас спросили совета. Слава богу, столько жизней… А сколько раз не спрашивали? Мы-то скоро поняли, что с духами договариваться веселее. Мы их почти всех с Наджибом примирили. Доктор Наджибулла отнюдь не дурак был. Один Ахмадшах и остался, так называемый непримиримый. Непримиримый, но разумный, а, значит, всегда готовый к переговорам. Не то что неистовый Хакматьяр. С тем не договориться, тот против любой власти, кроме своей. А Масуд был враг принципиальный, но договориться с ним было проще, чем воевать. Только пока «там» это поняли, поздно уже было. В силу иных причин, нам пока окончательно не известных, тех, кто поняли, как раз и смело помело истории.
Миронов замолчал. Балашову показалось, что Андрей Андреич сделал глоток из стоящего поблизости, наготове, фужера. Выпить отчаянно захотелось и самому. Гибель Масуда нечто нарушила и в его жизни. «Хы» подрагивали на полу, безучастные к помелу истории.
– Может, я к вам приеду? Помянем…
– Поминать рано, выжил. Хотя вероятность минимальная. Последствия будут удручающими. Масуд – личность, способная принимать стратегические решения, достойные особых точек истории. Он ведь против Наджиба воевал жестко, а когда талибы на Кабул шли, предлагал Наджибу же вывезти его из столицы. Предотвратить трагическую развязку. А с выводом войск? Наши тогда с ним договаривались: мы выходим тихо, без огневой обработки по пути следования колонн, а они с гор не бьют, дают нам линию. Вот тогда полковник Карим мне помог – кабы не перстень его, по пути точно не ушел бы от басмачей. Не отпустили бы с почестями!
– Ну так что, Андрей Андреич, подъеду я?
Но «афганец» будто не слышал вопроса.
– А потом приказ Главпура.
Курков у Грозового и Ютова[9]
1989 год. Афганистан
Подполковник Курков без большой охоты отправился в Центр из расположения батальона национальной гвардии, что прикрывал Пагман. Не то что он успел столь уж привязаться к «своим» подопечным афганцам. Такой роскоши опытный «дед» себе позволить не мог, но здесь он знал, как выживать, причем выживать наиболее уютным способом. Девять лет этой войны он бы отделил от других своих «спецопераций» таким наблюдением: здесь даже «деду» каждый раз, в каждой новой ситуации, местности, окружении – каждый божий день заново приходилось обучаться выживать.
И Центр вовсе не составлял из этого правила исключения. Тем не менее пришлось отправляться. Алексей Алексеич дал последние указания Васе Кошкину. Крепко пожал руку на прощание. Подумал про себя, что вот так прощаться с Василием взял в привычку в самое последнее время, то есть с начала переговоров в Женеве.
Устроился в джипе и покатил. В джипе пулемет, а к спинке сиденья водителя приварен мощный лист стали, заменяющей бронещит. Вот на таком самопальном броневике Алексеич и кружил по окрестностям, консультируя наджибовцев по части грамотного проведения «спецопераций», куда больше напоминающих выезды на мафиозные сделки или объезды местных хуторов областным начальством, чем кровавые ликвидации бандформирований путем их физического устранения.
– Квазистабильность, достигнутая путем уравновешивания интересов и выгод, – дал он этому состоянию научное название, но, как сам уже давно привык, штабное начальство не поняло его, заподозрив в этих словах шибко умного офицера очередную каверзу. Вот он и раскатывал по своему Пагману, подальше от штаба и от лишних ушей.
– Алексей Алексеич, не боитесь на своем тарантасе в одиночку? Снайпер шмальнет, и никакой пулемет не спасет отважного профессионала. Без крыши-то? – удивлялись коллеги. Но Курков был убежден, что куда опаснее таскать за собой сопровождение, только раздражая моджахедов.
– А их если разведка выяснит, что вы – офицер? Они о нас все знают, паразиты…
– А мне их разведки бояться нечего, – поражал таким ответом Курков. – Их разведка на чем стоит? На поддержке местного населения. Там агенты, наблюдатели, там передаточные звенья. А я с местными дружу. Меня уберут – лучше им не будет. Потому как установлена взаимовыгодная квазистабильность. Мы воюем не на ненависти.
– Да вы философ, – уважительно говорил Вася Кошкин, сам для себя избравший иную методу выживания, заключавшуюся в формуле «ин вина веритас», что в современном переводе с латыни означало «пуля хмельного боится».
– Это гибнут вместе. А выживают в одиночку, – подводил итог опытам Курков. Что-что, а отвагу афганцы уважали. Сами знали в ней толк.
В Центре с Курковым обошлись по-деловому. Там, особенно после Пагмана, он ощутил напряжение в отношениях между всеми частями, всеми клетками военного мозга. В Центре уже знали, когда «это» случится.
– Курков, отправляйтесь сразу к генералу Грозовому. Там вам объяснят дальнейшие задачи, – устало отмахнулся от свеженького, словно с курорта прибывшего в Кабул подполковника генерал Скворцов и направил взгляд мимо офицера, за него. Но Алексеичу хотелось все же разобраться в предстоящем деле, чтобы в общении с армейским генералом Грозовым лучше знать, что тот может, а чего не может требовать от «смежника».
– Откуда вы такой… – Скворцов запнулся, подбирая нужное слово, – удалой такой? Рады, что уходим?
– А разве мы уходим? – позволил себе спросить у начальника Курков. Он выпятил слово «мы», умело отделив «их» от «армейских». – Мы ведь никогда не уходим.
– Вот я тебя и спрашиваю, откуда вы такой удалой прибыли? – повысил голос Скворцов, но Куркову показалось, что генерал от его слов как раз приободрился. – Конечно, мы останемся. Пока останется Наджиб. А вы можете мне наверное сказать, сколько… Сколько он еще простоит? А последствия для страны предсказать можете? Для нашей страны?
На такой прямой вопрос Курков не готов был ответить сразу. Он понял, отчего показался генералу таким «удалым». Да, в Пагмане было опаснее, чем в Кабуле, но там он позволил себе непозволительную роскошь не думать о большом, заменить мыслями о выживании мысли о жизни. А жизнь – для Куркова – представлялась прорывом в «общее», соединением себя с огромной энергетической массой, переносимой магмой человечества из истории в современность. В повседневность. Такой уж в нем был заложен первичный модуль. Когда, кем? А вот Скворцов. У того главный модуль – это служитель делу. Он думает о деле. Каждый день, каждый, наверное, час. Бедняга. И сказать ему нечего, потому как дело всегда меньше истории.
Курков ощутил превосходство над начальником. Дело было и впрямь швах, слабоватое дело, горбачевское. Советы выводили из Афганистана войска, и теперь Наджиб оставался один против афганских, иранских, пакистанских и всяческих иных врагов. А вместе с ним, вместе с недавними друзьями под удар, с точки зрения и Куркова, и Скворцова, неминуемо попадут южные рубежи Родины. А это уже – трусость или предательство.
– Я думаю, что в мире наиболее силен принцип бумеранга, – все-таки ответил Курков, и генерал Скворцов посмотрел на него сверху вниз внимательно.
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, что союзники с неумолимостью становятся врагами, если в их альянсе при ста общих интересах имеется хотя бы одно противоречие. Моджахеды и исламский мир за их спинами – это потенциальные противники Запада. Это бомба замедленного действия, которую наши идеологические контрагенты сами подкладывают под себя.
– Курков, вам бы не в Пагмане сидеть. Вам бы в МИДе сейчас заправлять, – то ли похвалил, то ли, наоборот, осадил своего подполковника Скворцов. Курков согласно кивнул. Он был уверен, что по широте взгляда на международные проблемы мог дать десять очков вперед и мидовским, особенно нынешним «дипломатам», и самому Скворцову, все-таки в большей степени военному практику, чем аналитику разведки.
– И запал затлеет сразу, стоит нам уйти отсюда. Когда не останется объединяющего стимула, – все же договорил он свою мысль. Эта мысль во всей ясности целиком родилась в его голове два года назад. Вместе с осознанием факта, что придется уходить. Родилась и больше не покидала его, согревая мстительной неизбежностью бумеранга. Скворцов уловил настроение служилого зенитовского подполковника, и это настроение вдруг передалось ему самому. Почему-то вспомнилась давно услышанная фраза «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Наверное, это было сказано про их ворогов. А что, если в МИДе и совсем наверху все-таки думают с учетом перспективы, хитро, и заманивают ворогов в политическую ловушку?
Но Скворцов считал себя человеком трезвомыслящим, владеющим умением расставаться с иллюзиями решительно – этим умением он отчасти объяснял как свое высокое генеральское положение, так и то, что Центр назначил его начальствовать над людьми, которые – он без стеснения признавал это – превосходили его в иных профессиональных качествах. А потому он положил конец разговору с подчиненным резко:
– Но вы, Курков, не в МИДе. И, я полагаю, в МИДе работать не будете. Отправляйтесь к Грозовому. И не рассказывайте ему про бумеранг. У него большие заботы. Солдат надо выводить. Не в виде «груза 200».
Курков на этот раз не обиделся. Военные на войне в определенном смысле напоминали ему женщин. Самых чувствительных, обидчивых, вспыльчивых и непредсказуемых из женщин.
Он отправился в штаб Грозового, но прежде все-таки сказал Скворцову, пользуясь «свободой слова» на офицерской войне:
– Товарищ генерал, я понимаю так, что нам надо договариваться с Масудом?
– Не берите на себя слишком много. Армия хочет обеспечить себе спокойный уход. Ей требуются наши разработки и связи на той стороне. Допускаю, что это последнее Ваше задание. Здесь…
– Я могу при выполнении задачи располагать нашими? Офицерами «Зенита»?
– Отправляйтесь, подполковник. В вас сильна память о штурме Тадж-Бека. Вопросы решаете фронтальным ударом. Хотя… Вы, по-моему, в операции «Шторм» непосредственно не участвовали… У вас ведь иные заслуги…
Скворцов обождал и добавил напоследок загадочно:
– Доложите, кого вы хотите в группу… Допускаю, тут тоже бумеранг… Девять лет бумерангом…
Генерал Грозовой был массивен и немногословен. Черные мешки под глазами подходили к его фамилии как нельзя лучше, но только пахло от него не озоном, а чистым спиртом, прущим изо всех пор.
– Чай будете? – тускло спросил он у специалиста КГБ, присланного Скворцовым. Конечно, полковника вполне мог принять и ввести в курс дела один из старших штабных офицеров, но после вывода войск война заканчивалась и наступали непростые для генералов времена политики в зыбкий переходный период – так что проявить внимательность к комитетчику казалось Грозовому вовсе не лишним. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», – ответил он адъютанту на немой вопрос, когда тот доложил о появлении Куркова. Адъютант не понял, к чему здесь поэзия, но немедленно пригласил крепыша-подполковника.
Алексей Алексеич много перебывал у армейских генералов. Обладатели морских звезд на погонах предлагали ему и виски, и водку, и подать рапорт об отставке, но просто чай – такого еще не приключалось. То ли обпился уже Грозовой более достойных напитков, то ли разговор предполагается «чайный». Небыстрый, взвешенный. Трезвый.
Генерал удивил Куркова своим вторым вопросом:
– А как у вас считают, пора нам отсюда?
Курков едва не поперхнулся горячим чаем.
– Мы исполняем. На уровне решений – мы лишь орудие труда, – состорожничал он.
– Знаю. Орудие… А вы сами? Мне докладывали, вы профессионально анализируете. Поднимаетесь над котлом, так сказать.
Курков подумал и, решившись, ответил:
– Товарищ генерал, решение уже принято. К чему теперь мое мнение? Я имею в виду рациональную основу вопроса…
Грозовой с удивлением оглядел подполковника. Круглая голова, лысина, усы. Белокож. Можно было и покрепче зачернеть под афганским солнцем. Опасные складные ножики стального взгляда из-под выгоревших бровей. Нахал и не дурак. Душегуб, наверное, тот еще, но не дурак.
– Рациональная основа… Рациональная основа, во-первых, в том, что нет решений, которые нельзя изменить. Согласны?
– Нет. Камень, падающий с горы, не уговорить вернуться на место.
– Камень с горы. Вы в Пагмане стихи по ночам не сочиняли? У нас теперь много таких, которые про «Черные тюльпаны» песни слагают.
– «Черные тюльпаны» – это романтика десантников. У наших на это иммунитет. Опыт плюс возраст, – в голосе Куркова Грозовой уловил обиду за «своих». Это доставило генералу маленькую радость.
– Иммунитет… Хорошо. Тогда во-вторых. Я намерен поручить вам задание. Задание… Жизни людей. Многих. И мне важно знать, что у исполнителя на душе. У орудия труда есть душа?
«Мать твою! – выругался про себя Курков. – Что ж ты глушишь здесь такое, генерал армии ты наш растакой, что через каждое слово у тебя из нутра лезет эта самая душа!»
Алексея Алексеевича изрядно раздражала манера Грозового повторять по несколько раз слова. Хочешь в душу – получай. Получай в душу.
– У «наших», товарищ генерал, за десять лет немного набралось «не важных» заданий. И процент «груза 200» у нас, – он запнулся, и генерал тоже замер, ожидая болезненного, как удар хлыстом, сравнения, – процент «груза 200» у нас близок к нулю, и мыслю я так: одно и то же действие, вызванное разными побуждениями, приводит к разным последствиям.
– Вы только от чая столь загадочны в оборотах речи, подполковник Курков? Или это общее свойство вашей аналитики? Аналитики… Или хотите коньяка?
Курков отпраздновал маленькую победу своего оружия.
– Не откажусь, товарищ генерал. Как говорит восточный монарх: «От хорошего отказываются дураки и святые. Но разница между ними проявляется не на этом свете».
– Ладно, ладно. Вы мне сейчас, под коньяк, ещё, пожалуй, Хафиза начнёте цитировать!
Грозовой вдруг повеселел. То ли от глотка коньяка, который он накануне обещал вообще больше в рот не брать, ни одной капли, то ли от появившейся надежды, что подполковник Курков не только сможет решить свою непростую задачу, но и объяснит ему, что же за последствия вызовет желаемое им действие.
– Мы ведь уходим? – Курков обозначил голосом едва заметный знак вопроса. Грозовой кивнул. Адъютант понял это по-своему и принёс ещё две рюмки коньяка.
– Ты неси всю бутылку. У нас с подполковником разговор обозначился.
Адъютант про себя назвал гостя сволочью. Ему было жаль на него коньяк – армейской выправки в подполковнике вовсе не было, и офицер позавидовал его «вольнице», допустимой, по мнению адъютанта, лишь в отношениях Грозового с ним самим. «Спаивают тут всякие приблуды», – за дверью сказал он в сердцах офицеру связи, пасущемуся в предбаннике в ожидании какого-нибудь дела. Тот согласился, но в пресловутой глубине души порадовался, что не всё «коту масленица», имея в виду адъютанта.
– Важно понять, зачем. Зачем мы уходим.
– А зачем мы пришли, подполковник?
Курков почему-то захотел, чтобы Грозовой назвал его полковником. Так было бы проще разговаривать.
– Вы воюете с 83-го, товарищ генерал. А я в 79-м видел, как в Пули-Чархи аминовцы бульдозерами зарывали трупы. Горы трупов. Мы – мы не зря сюда пришли.
– Миллионы беженцев. Сотни тысяч убитых. Ненависть всего народа.
– Всего народа? Об этом мы сможем судить лишь после того, как уйдём. Ненависть имеет свойство оборачиваться любовью. А потом, товарищ генерал, мои подопечные из батальонов национальной гвардии МГБ Афганистана вовсе не ненавидят меня, а ведь на пятьдесят процентов это бывшие моджахеды. Нет, я не зря сюда был прислан. Я знаю, что сейчас «там» принято считать иначе, но многие, кто сюда пришёл, не зря делали свою работу, товарищ генерал.
– Может быть. Может быть. И всё-таки уходим. С каким настроением нам надо уйти, Курков, чтобы… Чтобы оставался смысл? Эта война губит в нас смысл. В нас, а не в них. Ещё год, ещё полгода – и я верну родине целую армию убийц, наркоманов, психопатов и калек. Калек… Грозовой говорил и сам себе становился опять противен. С какой стати он полез откровенничать с этим подполковником? Это не входило в его планы, но коньяк, ложащийся на старые дрожжи, делал своё дело.
– Товарищ генерал. Важно, зачем вы… это делаете. Я знаю, зачем это сделал бы я. Всё остальное – дело истории. Она не уравнивает все желания на весах, масса нулей здесь не играет решающей роли.
– Роли. Опять эта мистика, полковник… Что вы такое знаете, чего не знают они? Ну, говорите!
– Мир – это не состояние отсутствия войны. Мир – это состояние разрешённых проблем. И до этого состояния друзья наших врагов ещё успеют стать их заклятыми врагами. И тогда нас вспомнят и призовут.
– Нас? Нас всех? Или только вас?
– Я не знаю. Я не знаю ваших истинных желаний.
– Моё желание, товарищ Курков, равносильно моему приказу, – взял себя в руки Грозовой, – я хочу вывести армию, её боевую часть, без звёзд Героев, без потерь, без ударов в спину. Договоритесь об этом с Панджшерским Львом – и мы скажем, что вы пришли сюда действительно не зря. Вы понимаете меня?
– Какой срок выполнения задачи?
– У вас есть три недели, Курков. Три недели. Три недели – и ещё рюмка коньяка напоследок.
Грозовой направил Куркова в расположение генерала Ютова. Ютов – это знали не только в штабе армии, но и выше, наладил с моджахедами на севере устойчивые связи. Даже с людьми непримиримого Ахмадшаха у него были свои «шуры-муры», и в его дивизии потери были сравнительно невелики. Духи, скорее всего, знали карты его минных полей, что сберегало им ишаков и родственников из окрестных сёл, а за информацию платили по-своему щедрой манерой – они редко стреляли в спины ютовским шурави, они снабжали их льготными товарами, травкой, барахлишком, ну а тех, кто поближе к Ютову, и золотишком. Так, по крайней мере, поговаривали злые языки. Ютов старался не заползать с войском в глубь ущелий, берёг людей, и, понимая это, младшие офицеры отвечали ему любовью за это, Масуд и его полевые командиры, со своей стороны, предупреждали Ютова, куда тому не надо ходить, дабы не попасть в ловушку во время редких общевойсковых масштабных операций, придуманных Генштабом, – от этих операций и Ютов, и даже Грозовой никак не могли отвертеться. О «дипломатии» боевого генерала Ютова знали, но армейские низы она более чем устраивала, а верхи предпочитали не вмешиваться, чтобы дерзкий генерал не поставил не дай бог ребром твёрдой своей мохнатой ладони вопрос о бессмысленных жертвах этой войны. Шёл третий год, как журналисты распоясались, власть утратила стальную хватку – бог с ним, с Ютовым, – не до него. Но вывод войск в корне менял положение дел. Война завершалась, оставляя поле боя политикам. Дивизии Ютова надлежало уходить в арьергарде, и в штабе полагали, что Ютов, и без помощи людей Скворцова, своими силами, сможет обеспечить себе спокойный выход. Но вопрос мог возникнуть потом, полагали армейские начальники – с какой это стати советские генералы столь доверчивы были к непримиримому Масуду? Уж так ли усердно они воевали в Панджшере последние несколько лет? Так что Курков, сам того не ведая, отправился к Ютову, дабы прикрыть армейское начальство от возможных политических неурядиц. Что, впрочем, вовсе не отрицало того факта, что генерал Грозовой искренне желал вывести людей с наименьшими потерями «Смысл, такой у меня смысл», – повторил про себя он после ухода странного подполковника.
Грозовому не удалось вдохновить Куркова важностью задачи. Алексеич сразу дал себе отчет в том, сколько подобных курковых Центр сейчас направляет на связь с моджахедами.
«Им не к Масуду, не к Исмаил Хану ходоков впору отправлять, а к наджибовцам, – ворчал он, собираясь в путь, – вот те в спину охотно свинцового змея пустят. За предательство». Курков вспомнил, кто из старых куосовцев сидит при штабе Ютова – и успокоился – там за «контрпартизанские действия» отвечал Раф Шарифулин. Лучшего помощника, чем Шариф, трудно было себе представить. Впрочем, подумал Курков, это в памяти существовал бесстрашный Шариф, ищущий в войне свой философский камень. А настоящего Шарифа Курков не видел уже как добрых шесть лет. То ли начальство, то ли Стрелочник войны словно сознательно разводили их по разным путям вокзала смерти. Шесть лет… А Курков знал не понаслышке, что успевает сделать эта война с человеческими лицами и за более краткий срок. Смывает черты лица, обтачивает, как река камень.
Так что, направляясь к Ютову, подполковник Курков, пожалуй, больше, чем контрразведки Масуда, страшился лица Рафа. А в нем и отражения самого себя. Не зря жена, уходя от него, произнесла: «Еще два года таких командировок, и тебя ни одна женщина не возьмет. Всю жизнь один промыкаешься, Курков!» Это была последняя соломинка, но Алексеич отшвырнул ее с презрением. Ведь надо же, как свет устроен: когда хотят близкие мира, из души самые обидные слова лезут… Обидела его такая бабья прогностика. Задела за живое. «Дура ты, Ирина. Уходи тогда. Один не останусь. А то я при тебе как с оголенным тылом воюю. Уходи. Еще обратно попросишься». Да, за живое. Видно, осталось еще живое, и очень оно, на самом деле, не желало одиночества. Но пришлось гнать от себя сомнения, чтобы не загнуться в очередной командировке. Последней, как он полагал. А там – домой надолго, там он уже разберется с женским вопросом по-своему. Было это около года назад. Возвращение уже пряталось коварно за ближайшим горным хребтом. Предстоящая встреча с Рафом наводила на размышления о своем лице, которое придется показать опасному существу – мирной Родине.
К Ютову в Мазари-Шариф Курков отправился крюком, через свой Пагман. Крюк был невелик, и Алексей Алексеевич желал взять с собой проверенного афганца, таджика Сейрулло, а также вещицы – вдруг приведется с войсками и уходить.
Вася Кошкин встретил подполковника невеселым известием. Командир батальона национальной гвардии Сейрулло за день до приезда Куркова был убит.
– Две пули сбоку вошли. Свои стреляли, – развел руками озадаченный советник.
– А с чего вы на чужую «делянку» полезли? – уточнил Курков, хмурясь и удерживаясь от мата. Хотя его, по сути, это уже не касалось. Но Сейрулло мог ему пригодиться, поскольку сам три года назад попал к ним из моджахедов дерзкого полевого командира Мухаммада Атты, близкого к Масуду.
– Их дела. Не я их посылал, не мне они отчет давали. Может, опять минами торговать. А может, тушенкой. Я по вашей методе в их коммерцию не влезаю.
– Верно. А то бы прошили не предусмотренные природой отверстия не только Сейрулло-бедняге, но и товарищу Кошкину.
– Странно только, Алексей Алексеич, что столько ходил целехонек Сейрулло, а стоило вам отбыть – и, как говорится, стремительный эндшпиль.
– Отец из хаты – дети рады. То ли еще будет, как мы уйдем. Их счастье, если Наджиб усидит. А если нет, если басмачи в силу войдут, вот тогда карусель пойдет. Геополитическая.
Курков беседовал с Кошкиным, занимаясь сборами. Василий сидел посреди комнаты на стуле, похожем на плетеное кресло с очень высокой спинкой. Он с любопытством следил за перемещениями человека-мячика, пружинисто отскакивающего от стен и неожиданно изменяющего направление качения. Курков был «теряльщик» известный и вечно что-то искал, в решительный момент ему недоставало самого важного…
– Что на сей раз?
– Перстень… Засунул куда-то. Тот самый перстень, с 80-го еще.
– Ваш афганский талисман? Что ж вы с пальца его сняли?
Курков не ответил. С таким перстнем он не рискнул ехать к Скворцову.
– Оставили бы его в Москве, если носить перестали. Я там нажитое добро складирую. Зачем за собой обозы таскать. Теперь даже партийцы не таскают.
– Забыл, что тогда афганец Курой сказал?
– Сказал не снимать. «Глюксбрингер»[10]. (Вася обзавелся русско-немецким словарем и в тихие часы поучивал немецкие словечки, тренируя память. «С Азией заканчиваем, пора в Европу», – шутил он. На что Курков с мрачным постоянством отвечал, что Азия не закончится никогда.)
– Он вам еще сказал, что цены нет перстню… Интересно, что с продавцом стало… Рожа у него была самая героически-басмаческая… Вы в коробке с медалями поглядите. Может, там?
Перстень, при странных обстоятельствах подаренный девять лет назад в одной из кабульских оружейных лавок богатырем-афганцем, действительно покоился в коробке со значками и с орденами. Обручального кольца Курков не носил ни на правой – пока жена с ним была – ни теперь на левой. Не носил по причине прозаической: попадешь к духам, так сразу палец оттяпают, хоть с трупа, хоть с живца. Но перстень Андреич решительно надел на средний палец левой руки. «Вот так». Он не часто вспоминал о загадочном продавце и его подарке, но связь с ним через всю войну ощущалась как величина постоянная и…
– Мистическая связь, – передразнивал Алексеича Василий, но Курков не уставал объяснять более молодому товарищу по оружию всю серьезность опутавших мир и удерживающих его от окончательного раскола мистических связей. Впрочем, Василий Кошкин не разделял взгляд Куркова на жизнь как на мистический процесс. Он стремился к ясности, а ясность достигалась, как в бинокле, качественной оптикой и верным выбором увеличения – не слишком крупно и не слишком мелко.
– Единственный способ жить – это принимать жизнь в упрощении. В индивидуальной оптике упрощения. А ваши связи – это усложнение, – включался поневоле в умствования Кошкин. Благо, ток времени в Пагмане к тому располагал. И Курков с сожалением убеждался, что васиной оптике природой положен технический предел. То ли генами, то ли воспитанием, то ли самоограничением… Не вместить ему в себя ясную ведь мысль, что мистика – это и есть самое главное упрощение, которое может себе позволить человек. Раф Шарифулин – тот способен будет понять. «Был способен», – про себя оговорился Курков, глядя на узор печатки на темном серебре перстня. Нет, не случайна эта дорога к Ютову…
Путь Куркова в штаб Ютова местами пролегал по так называемой нейтральной зоне, находившейся вне прямого контроля как наджибовцев, так и моджахедов. В Пагмане эту нейтральную зону он испытал уже вдоль и поперек, а вот ближе к Мазари-Шарифу поездка представляла собой чистой воды авантюру. Однако от группы сопровождения Алексей Алексеич категорически отказался, а от перспективы побултыхаться в воздушных ямах на вертушке – тем более. Жуть охватила его во время полетов по ущельям. Жуть и беспомощность. То ли дело на джипе, в одиночку, с бронежилетом, подпирающим хребет. «Ортопедический надпочечник» – так прозвал этот лист металла Вася Кошкин. Курков замечал в нем и вообще в русских людях, происходящих из центральных, южных и восточных областей России, особую тягу по-своему называть, метить предметы. Что-то в этом было от древнего, молодого, играющего, будто еще не создано этим народом настоящего языка, точно определяющего, закрепляющего за предметами смыслы и места. Будто еще только варилась в праязыке истинная масса Слова. С северянами, к коим себя относил и Курков, было иначе…
Курков ехал и думал о русском языке, русском ушлом народе, глядя на уходящий из-под колес безлюдный Пагман. Конечно, русский человек – это не березки, не кровушка, а язык, та же мистическая связь между недословами, недопредметами и недолюдьми. Или, если смотреть на «недочеловеков» иначе, в перспективе движения к космосу, в равной степени, и по той же причине их можно назвать «перелюдьми».
Дорога наворачивалась на холм, потом падала вниз, а затем исчезала бурой лентой меж еще невысокими горами, голубыми, как бывает сочная листва в свете солнца. Там, вдалеке, промелькнуло и исчезло вертолетное звено.
- Это тебе не Крым, не Кавказ,
- Черный Тюльпан скучает по нас… —
вспоминались слова песенки, которую насвистывал санитар, встреченный им во время поездки к Грозовому. Санитар сам страдал простудой, а потому песня у него выходила с особой надрывной хрипотцой.
Курков гнал от себя подобный фольклор, но тут не проявил бдительности, подхватил, как приставучий вирус гриппа.
Взрыв фугаса под колесами джипа подполковник распознал по изменению положения своего тела. Если только что он сидел за рулем головой вверх, то теперь двигался поплавком вниз и стремительно приближался к земле. Джип, плавный, как облако, надвигался на него сверху.
«Странно, я должен падать быстрее», – так же плавно и отстраненно подумал Курков и сам удивился, что представляет свое «я» как отделенное от себя самого тело. Тело опустилось на землю, и с этого мига все вокруг завертелось так стремительно, как только могут быть стремительны рефлексы тренированного выживать человека. Руки смягчили падение, вытолкнули живое с того места, куда через долю секунды грохнулась масса металла.
Сразу вскочить Куркову не удалось – колени подогнулись, как у жеребенка, и он завалился на бок, преобразовав падение в кувырок. Контузия оказалась чувствительной, во рту вкус крови смешался с запахом прогоревшего воздуха. Курков постарался докатиться до большого придорожного камня. Одновременно он прощупывал глазами пространство вокруг и вспоминал, где у него пистолет. Но как оказались прямо над его головой духи, он так и не осознал. «Сгустки воздуха», – с такой философской мыслью, до странности спокойно вошел в новый поворот судьбы подполковник Курков.
Балашов и Маша. Что такое любовь?
Сентябрь 2001-го. Москва
– Балашов, а, Балашов? А что такое любовь? – Маша положила голову Игорю на колени и заглянула ему в глаза снизу вверх. Писатель задумался. От подруги следовало ожидать подвоха. О любви она не заговаривала уже давно, зато в последнее время предъявляла ему нелепые, с его точки зрения, претензии. Он ожидал, что раньше или позже это разрешится грозой.
– Любовь – чувство. Чувство долга, – ответил он все-таки.
– И все? И это все? – Маша вспорхнула с его коленей и уселась на стул напротив.
Ну вот, началось!
– Знаешь, я думал о том, что нет никаких оснований относиться к любви иначе, чем к другим человечьим проявлениям. К иным инспирациям. Человек убивает из любви к деньгам – и его безжалостно судят. А если из ревности, то бишь из-за любви, то о нем могут написать роман. Хотя разница не в чувстве, а в его предмете.
– Ну и что? Пусть в предмете. Ты говорил, что любишь меня. Да не кивай, не в том дело. Допустим, я твой предмет. Так что такое твоя любовь? Если сузить? Нечто сродни аппетиту или другой природы чувство?
Игорю было понятно: одно неосторожное слово может в таком разговоре привести к ссоре. Да что к ссоре! Соберет сумочку и уйдет. На день, на неделю. Навсегда. Игорь уже приметил в подруге склонность к трагическому ощущению собственной жизни, которое она скрывает за иголками сарказма. Частый случай у московских женщин, считал он. Но в Маше он открыл и куда менее частую неуступчивость, яростную неуступчивость некоей «своей доле». Сжатое в пружину, опасное неприятие этой обусловленности и нравилось Балашову, и пугало его. Сейчас его следовало опасаться.
Балашов поднялся с дивана и отправился за любимым толковым словарем Павленко.
– Ученые, к слову, пока не могут открыть секрета обоняния. Вполне возможно, это не одно чувство, а несколько различных механизмов. Раньше были уверены, что в носу есть молекулы, которые действуют как замочки. Тысячи и тысячи замочков, а те молекулы, что попадают в нос, – это ключи. Гигантская связка. Тычутся, пробуют, пока не попадут, каждый в свою подходящую скважину… А попадут – идет сигнал в мозг. Это и есть дефиниция запаха. Правда, сейчас опровержение появилось. Есть такие молекулы, которые по форме абсолютно одинаковы – разница только в симметрии. А запахи дают совершенно разные…
– Ты к чему мне это все рассказываешь? Это ты еще о любви? Ты такой осторожный стал со мной… Что же ты меня остерегаешься?
– О запахах потому, что есть гипотеза: любовь тоже по запаху возникает. Влюбляются те, у кого запахи подходят друг к другу. Только запах тут особый, гормональный. На нюх мы его носом не чувствуем. На то имеется специальный орган.
– Ну и как, тут опровержения не появилось?
– Тут больше о сексе речь. Я так думаю. А то плоской выходит формула любви. Подошли по запаху – и вся любовь.
– Вот я и спрашиваю, что, по-твоему, есть любовь. Не гормональная, а морально-психологическая.
– А в Павленко толкования любви нет.
– Детей ты тоже с помощью Павленко производить будешь?
– А ты желаешь ребенка? – оживился Игорь, но сразу пожалел о вырвавшихся словах. Маша вскинулась на него:
– Разбежался… Ты, Балашов, даже не знаешь, любишь ли меня, а уже в отцы! Я думаю, многие мужские особи так: хотят ребенка завести, только чтобы не разбираться, что такое любовь. А бабы млеют, думают, если хочет, значит, точно любит.
– А женщины? Что, не так?
Маша покачала крохотной головой.
– Глуп ты, Балашов. В том смысле, что не умен. Как только книжки умные умудряешься писать? Я думаю, каждого писателя, прежде чем разрешить книги его издавать, надо экзаменовать, что он о любви знает. А то напишут черт-те чего, а ты живи…
– Чего ты от меня хочешь? – обозлился, наконец, и Балашов. – Писатель создает свой мир. В моем мире я знаю, что такое любовь! Неужели ты думаешь, что тот же Толстой знал о настоящей жизни людской больше, чем его недалекая жена? О любви? Да если бы мы знали, что это, не писали бы книг, не марали бы бумагу. Жили бы, как люди.
Балашову вдруг стало стыдно своей никчемности. А ведь Маша права. Слесари чинят водопроводы, космонавты изучают космос, водители водят машины. Все зачем-то нужны. А зачем понадобился писатель, если он своей любимой ничего не может толком объяснить о любви? Себе не может объяснить, что же его удерживает рядом с ней. То ли страх одиночества особого рода, то ли тот самый «гормональный запах», то ли эстетика ее фигурки, то ли томление от осознания уникальности, когда соприкасаешься с уязвимым женским, доступным пока лишь его рукам. А то и собственничество обладания… А самое постыдное в том, что во всем этом можно при изрядной кропотливости и честности разобраться, как можно найти булавку в стоге сена – но для этого надо отнестись к любви именно так, как он предлагал на словах. То есть разъять ее на «простые» импульсы… чтобы в сухом остатке получить либо ясный ноль, либо строгую единицу. Ту, ради которой стоило… Стоило всего… Но на словах. А на деле он не готов даже к первому шагу. Почему? Да потому, что подозревает в себе тот самый ноль, найдя который трудно уже будет жить так, как он привык жить. Ведь если в нулях и единицах, то есть так, как требует от него эта женщина и будет требовать любая, то не дотянешь до единицы. И никакой Мандельброт[11] не упасет. Хотя, по сути, в недостижимости единицы, в бессмысленности ее достижения при наличии хотя бы одного «фрактала любви» и есть спасение. Но не для Маши. И ни для какой иной женщины. Разве что для Гали! Но там-то как раз ноль! Вот парадокс лирики. И правда, глуп ты, Балашов, оттого что не умен!
– Ты отчего пунцовый стал? – испугалась Маша, взглянув в непривычно тяжелое, вдруг ставшее кирпичным, лицо Балашова. Она угадала, что сейчас Игорь бухнет на нее некое откровение, от которого ее жизнь с ним примет новый разбег – либо центробежный, либо центростремительный, но в любом случае пока, оказывается, нежелательный. Осень еще не надломилась в своем черенке, еще не забеременела холодно зимой, она еще помнила цвет сока и солнца. Значит, и ей, быстрой зеленоглазой ящерке, еще не пришел час сползать в свою пещерку с нагретого солнцем камня балашовской души…
– Обними меня, и я все пойму про любовь. На время пойму, по крайней мере, – пошла на попятную она.
– Ты знаешь, что Масуда убили? – все-таки вывалил на подругу свой груз разом, как с самосвала, Балашов. Маша опустила голову. Масуд ей нравился, и фильм, над которым она все еще трудилась на немецкие деньги, предполагал наличие живого Льва Панджшера.
– Маша, тебе не кажется, что с кем мы ни соприкасаемся по жизни, те увядают? Картье. Теперь Шах Масуд.
– С Масудом нас судьба не сводила. Это не мы, а Миронов виноват, если о вине говорить.
– Еще печальнее. Значит, и мы завянем?
– Почему?
– Из-за Миронова. И тебя я втянул…
– Балашов, ты сегодня первый на кладбище кораблей. Тебе и Миронова не надо, сам вымираешь. Понимаю, Масуда жаль, но он ведь свою судьбу сам определял. Ему воевать, тебе жизнь возрождать в слове. Ее тонкие неустойчивые формы. Я думаю, это и есть любовь?
Девушка произнесла эти слова с непривычной робостью в голосе и с надеждой заглянула в глаза Балашова.
– Знаешь, о чем я думаю?
– Что лучше бы в жизни, чем на бумаге?
– Нет, ты не поняла. Это все равно. Все, что в слове рождено, на бумаге выведено, рождается потом в жизни.
– Так ведь и я о том. Странно, ты писатель, а меня не понял.
– А я о другом. О том, что мне Миронов сегодня рассказал.
Маша только рукой махнула.
Вывод дивизии Ютова
1989 год. Афганистан
Дивизия Руслана Ютова покидала провинцию Балх последней. Разведчики Руслана Руслановича поработали если не на славу, то добротно. И гэбэшный подполковник по делу помог. Так что с командирами Масуда было оговорено и скреплено «товарной» печатью соглашение о «последнем дне». Масуду можно было верить, и теперь генерала Ютова куда больше волновало его собственное воинство, упившееся до полоумия. Относительно мирное соседство с душманами, достигнутое умным Ютовым, имело оборотную сторону: торговцы немедленно пополняли дивизионные закрома, какие запреты ни вводи, как ни грози младшим офицерам, прапорам да сержантам. Все одно. Здесь уже поняли то, чего никак не возьмут в толк на Большой земле, – мир держится на торговле. Простые солдатики эту истину ухватили в общении с басмачами куда быстрее, чем инструктора ЦК КПСС. «Ну, ничего, – думал Ютов, – ничего, вернутся его „афганцы“ на родину, поснимают фуражки да береты и поучат жизни тех инструкторов. Если выберутся отсюда на своих двух или хоть на четырех ногах». Об уходе войско, конечно, прознало заранее, несмотря на все игры в военную тайну, и тут же взялось готовиться, вспоминать родные нравы.
– Как будто завтра жизнь закончится, а не начнется, – на днях уже сказал он адъютанту Соколяку. Тот усмехнулся:
– Смерть начинается там, где заканчивается жизнь.
Год назад Соколяк едва успел выбить из рук обкуренного десантника автомат, когда тот, не моргнув белесым выпуклым глазом, запустил очередь в штабных генералов и полковников. В тех глазах не было жизни.
Однако войско, как море, раскачивалось от утра к вечеру, от прилива к отливу, но не выходило из берегов. Ютов уже надеялся, что еще день – и оно вытечет рекой сквозь темные ущелья, и афганцы будут смотреть этой мутной февральской воде вслед с утесистых берегов. Может случиться, что разведчики напорются на минное поле, может быть, пара «стариков» поднимут бузу, но в целом вывод его дивизии пройдет под знаком мирной звезды. Так же считали и штабные, те, кто еще оставался в «сознанке». Так бы и было…
Но днем пришел черный приказ от Главпура. Лучше бы его вообще не было, этого Главпура. Лучше бы Горбачев с него начал свою «Женеву». Главное политуправление Советской армии приказывало авиации нанести ракетно-бомбовые удары по позициям моджахедов на пути следования уходящих колонн. Во избежание нападения с флангов.
Ютов обхватил голову руками. Эти сволочи даже закончить войну не могут по-человечески. Руслан Русланович сочно стукнул кулаком по столу, и тяжелая, из кости, индийская пепельница подскочила в испуге.
– Соколяк! – крикнул он, и адъютант черным вопросительным знаком вырос на пороге.
– Политруки решили отутюжить ковром на прощание. Суки. – Ютов не стеснялся в выражениях перед офицером, ставшим его тенью.
– Кто-то «там» орден захотел. Верно. Потом будет труднее колодку удлинять.
Ютов еще раз приложил стол, но на сей раз ладонью, бережнее.
– Масуд не простит обмана. Иди к Масуду. Пусть узнает.
У Ютова была отлаженная схема обмена информацией с командирами Масуда через посредников, но сейчас идти этим путем не было времени. Очень не хотелось рисковать Соколяком, но никому другому не мог он доверить поручение, за которое его самого с легкостью отдали бы под трибунал «те». Если бы прознали.
Соколяк прищурил глаза. В заостренном русском лице проявилось монгольское. Поручение его явно не привлекало.
– Лев не простит бомбежки. Но будет поздно. Отольется Наджибу. Но для нас война закончится, – медленно, хирургически расчленяя слова на слоги, выговорил он.
Ютов поднялся из-за стола, подошел вплотную к Соколяку. Со стороны могло показаться, что одна тень накрыла другую – генерал был выше ростом и пошире в плечах сухого, жилистого, подсушенного солнцем адъютанта. Многие удивлялись, зачем Ютову такой, тем более не свой, не кавказец.
– Война не закончится для нас с тобой ни-ког-да! Масуд не простит обмана. Ты, Соколяк, – так же дробя слова молотом языка, произнес Руслан Ютов, – поторопись и донеси до него одно: самолеты поутру – это кара свыше. И ему, и нам. Иммануил Кант говорил: из кривого дерева, из которого стругается человек, нечто прямое вряд ли выстругать. Он должен понять. Он не должен ударить нам в спину.
Соколяк ничего не ответил. Ясно было, что Ютов принял твердое решение. Только желваки, заигравшие на скулах адъютанта, сообщили генералу о его мнении – Панджшерский Лев забьет им штырь в самую спину по позвоночник. Но, прежде чем это общее случится, его, Юрия Соколяка, с большой вероятностью посадят голым затылком под тяжелый бомбовый град асов грозного авиатора Руцких. Чтобы мог углубить свои мысли о каре небесной… Однако Соколяк умел подчинять сомнения и страхи – не подчиняться, как собака (хотя кто знает, что собака именно подчиняется, а не делает осознанный выбор ради одной лишь ей ведомой цели?) – присоединять свои личные страхи и сомнения к более общим страхам и сомнениям. Благодаря этой методе бесцельная жизнь обретала смысл и даже объем и, как ни странно, упрощалась. И это присоединение Соколяк осуществлял в форме персональной, через Ютова, которому, так считал адъютант, кто-то при рождении наверху выдал пропуск в мир того самого общего.
Когда Соколяк отправлялся в кишлак, где жил афганец, служивший связным между Ютовым и душманами Масуда, он еще раз воскресил в памяти весь разговор с Русланом Руслановичем и удивился тому, что, пожалуй, последние слова генерала примирили его с действительностью, перевесив все лежащие на правой чаше весов гирьки сомнений. «Для нас война не закончится ни-ког-да»…
Дивизия Ютова уползла, выдавилась сомкнувшими каменные брови горными массами. Солдаты уходили, с тревогой смотря на горы, на дымящиеся после последнего бомбового удара кишлаки. За каменными грядами, отделяющими от этих дымов колонны, вырастали силуэты людей. На груди у этих людей видны были автоматы, но руки их были заняты иным – они вытаскивали на обозрение ютовских солдат трупы. В бинокль особенно хорошо различимы были фигуры стариков, женщин, детей, загубленных по приказу Главпура. Воины Масуда вставали над трупами и молча провожали взглядами своих врагов. Ютов оказался прав: Соколяк успел донести послание и в спину его войску не звучали выстрелы. Но в зрачки глаз тех офицеров, кто знал о приказе «оттуда» и еще не успел упиться или увоеваться до бессознания совести, острой щепкой вошла под мозолистую кожу души боль от пронзительного солнца, сияющего в спины черных силуэтов на синих горах.
Что такое любовь. Маша и Балашов. Продолжение
9–11 сентября 2001-го. Москва
Как это у них часто бывало, после разговоров тяжелых, прыгающих от кочки к кочке в поисках надежной тверди слов, у которых они, заложниками, как малые дети у родителей, сидели на закорках – после таких разговоров, если они все-таки не обращались в ссору, ночь случалась радостная и бурная, разрешающая напряжение, как гроза. С утром, все-таки завершающимся ужином. Несмотря на скорбь по Масуду, именно такая ночь ожидала их после долгого разговора о любви и хребтах Гиндукуша. Впрочем, говорят же опытные люди, что во времена больших бед, катастроф, побоищ плотская любовь с невиданной силой торжествует на руинах и на могилах ушедших.
Нельзя сказать, что Балашову вовсе не было неловко перед самим собой за угождение слабости личной, несмотря на понимание беды общественной. С другой стороны, имелось и утешение. Глядя на свернувшуюся на его груди ящерку, он думал, что слабость еще не означает слабость перед наслаждением. За теплым, порой горячим наслаждением, кажущимся высшей формой соединения духа и плоти в одной точке, в дробинке времени, наступает опустошающая дурнота. Разочарование в любви. В такой любви. Даже в такой любви. Некий прибор внутри все же не отключается, продолжает сравнивать с идеальным…
Логинов своим звонком попал точно в эту дробинку времени.
– Что им надо, – пробормотала Маша и, не открывая глаз, постаралась скинуть с тумбочки телефонную трубку, но вместо этого уронила бутылку воды и оставшийся недоеденным бутерброд. Балашов одной ладонью прикрыл ей рот, а другой – защитил телефон.
– Ты спишь, Москва? – прозвучал в трубке скрипучий голос Логинова.
– Поздно лег, – ответил Игорь, пытаясь угадать, который же теперь час.
Он понимал, что допустил оплошность и теперь Володя примется подшучивать над «молодоженом» на радость тех служб, которые, вне всякого сомнения, интересуются содержанием сигналов, переносимых международной линией связи между Москвой и Кельном. Тем паче, что звонил Логинов наверняка из офиса радиостанции. Но вместо этого товарищ бросил непривычно грубо:
– Протри глаза и включи телевизор. Будь любезен. Я тебе перезвоню через полчаса. И Маше скажи, чтобы трубку не отключала. Сегодня ты моему работодателю нужен как эксперт. По мегатерроризму.
На экране проснувшегося телевизора самолетик рушил американскую мечту.
Странно, но и сразу после увиденного и после повторного, уже долгого разговора с Логиновым Балашова посетило и никак не покидало ощущение радостной торжественности, влившееся в емкость плоти, опустошенную разочарованной любовью.
– Двадцать первый век начался, – попытался объяснить странное, лихорадочное состояние Маше Балашов, – и я угадал его черты. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки…»
– Столько народу погибло. Крушение Вавилонской башни…
«И своею кровью склеит двух столетий позвонки».
– Надо у знатоков выяснить, может быть, в Торе именно про этот Вавилон сказано?
– Все только начинается. Тайное станет явным. Гной выплывает наружу.
– Но люди! Кто это сделал? Кто мог придумать такое?
– Кто-то. Сложное окажется простым, если его разложить на слагаемые. Кто-то, у кого много времени. Кто-то, кто думает о вечном. Кто-то, кто отстранен от политики.
– Ты думаешь, это Назари? И убийство Масуда?
– Не важно, кто. Это больше, чем Кто. КТО – не мог разрушить Вавилонскую башню. Двадцатый век закончен.
– И что будет? – Маша притихла. Дерзкая, московская женщина в ней затаилась, как птичка в предчувствии грозы, и осталась только та Маша, которая ждала важного от себя, от Игоря, от неба, ждала осуществления судьбы. В ее высоком значении. Пожалуй, вот такое существо, гнездившееся на веточке раскидистого, хоть и низкорослого деревца под названием Маша, он больше всего любил. Любил, как будто существование этой птички утверждало наличие лучшего и в нем самом. Перед такой Машей не надо хитрить и как-то «выглядеть», поскольку по сути общение с ней – это общение с настоящим «собой». Таким «собой», который хотя бы допущен видеть масштаб мироздания и единственную связь большого и малого в нем. А потому Игорь ответил честно:
– Не знаю. Я не готов. И мне уже не так жаль Масуда. И мне страшно, торжественно и хорошо, как на свадьбе. Я взрослею?
– Тебе и при смерти, наверное, будет так же хорошо. Не верю тебе. Когда страшно, не может быть хорошо! Почему так устроено, что жить должно быть страшно? – эти слова вернули писателя на землю.
Кеглер позвонил Балашову не поздно, часов в семь-восемь вечера. Был настойчив. Ссылался на Логинова. Упоминал Масуда, на недавнюю поездку. Старался сказать комплимент, только вышло неловко. Но Кеглер был Кеглером, так что еще не стемнело, как Паша уже сидел у Игоря на кухне. После недолгих колебаний он купил эксперту «Перцовой». Одну вручил сразу, а вторую держал в резерве – на случай, если тюфяк все же окажется заводным. И хорошо сделал, кто ж знал, что у эксперта еще и девица пьющая… Симпотная девица…
Кеглер, направляясь к Балашову, точно не представлял себе, чего же он хочет от названного Логиновым эксперта. Он был движим досадой на немцев из ZDF, которые отнеслись к его пленкам даже не безразлично, а высокомерно и пренебрежительно, и бодрой догадкой, что именно Балашов придаст его судьбе нужный толчок вперед. Или вверх. К удаче.
Но чем меньше в бутылке оставалось жидкости, похожей на некрепкий чай, тем яснее становился Паше Кеглеру истинный великий смысл его прихода. Тут удача, тут метод! Эксперт вкладывает ему в руки рычаг, которым он взломает замок, висящий на воротах, ведущих к известности. Ну Логинов, ну спасибо тебе!
– Ты, Балашов, не сиди, не молчи, ты же на радио, на телевидении был, скажи, что знаешь. Кто? Потому что Масуда. Наступление по всему фронту. Возьми меня с собой, я про арабов в Ходже расскажу. Плёнки покажем – полный эксклюзив, – частил гость, по-хозяйски устроившийся у Балашова.
Балашову не нравилось, что пришелец скоро перешёл на ты, и ещё больше не нравилось, что наглец то и дело подмигивает Маше. С ним примиряло лишь то, что напиток он подобрал грамотно, да и в Афгане отметился. Беглостью речи крепыш напомнил Игорю Миронова. Видимо, тонкие сферы жизни организуют пространство вокруг человека так, что ему на его пути то и дело попадается подобное. Будто случайно.
– Эксперт Балашов очень скромен, – объясняла тем временем Маша, которую от рваного ритма сна да от перцовки повело, – но не от скромности скромен, а от гордости. И ещё от страха. Боится словом повредить мир. Как глаз ногтем.
– Почему? – не осознал дефиниции Кеглер.
– Это вы его спросите, почему. Писатель великий потому что. Угадал излом века. Теперь испугался.
Балашов раскраснелся.
– Я книгу писал. Всё на фактах. И все про Нью-Йорк. Только в Европе. В Германии. Из Афганистана. Но бросил пока. Всё сложно с этим. В чём права она, – Игорь кивнул на Машу, – нельзя большим пальцем в часовой механизм.
Игорь хотел развить эту мысль, а заодно и самому разобраться в том, отчего ощутил после получения грозных известий неведомую доселе значительность. Но не рассчитал, что собеседник его – истинный журналюга, недалёкий да цепкий. Террористы Назари в Германии – вот, оказывается, чего не хватало в супе. Услышав о террористах, Кеглер утратил интерес даже к Маше. Игорь уловил это и спохватился – добрыми бы словами обласкал его Миронов, кабы прознал, что Игорь болтает о Ютове и его бойцах с первым встречным.
Но поздно. Изменение настроения хозяина только подтвердило догадку гостя – террористы есть и эксперт знает о них гораздо больше, чем говорит. Он ощущал себя в отличной форме и решил зайти иначе. Цель была близка.
– А я не верю. Логинов говорил что-то про Чечню, про Афган, а я не верю. Я там, в Афгане, людей видел. Им до Чечни дела – как до мяса свиньи. И Чечня, и Москва, и какой-нибудь Франкфурт-на-Майне им без надобности. Выдумки наших ястребов. И Логинов, твой европеец, хм, слухами «Голоса Европы» полнит. Ну, ещё по одной? А я в Чечне-то был. Я эту тему буду поднимать. Ага.
– А я точно знаю. Через Кавказ идут. Там легализацию проходят. На не туфтовых паспортах. А здесь уже отмываются окончательно. Точно знаю, – обиделся Балашов.
– ОБС. Одна бабушка сказала, – Кеглер уже знал, как взять интеллигента «тепленьким».
– Говорю тебе – точно. Точно, как слово Масуда. Оттуда получено, а здесь проверено. Кровью проверено.
– Кро-о-вью?
– Кровью. И дальше не лезь. Дальше не наши дела.
– Раз не хочешь – молчи. А у меня плёнки на руках. Они молчать не могут. Логинов уже даёт интервью. А ведь мы вместе были. Я не рыжий. У меня тоже чего рассказать-то есть. На тебя ссылаться не буду. Надо только успеть, пока лавина с горы не покатила.
Кеглер вышел от эксперта хмельной и счастливый. Жизнь собралась в тёплое сладкое целое, как чай, вылитый в блюдечко. Наклонись и пей, пока не остыл.
Он ещё долго не мог заснуть, вспоминал, как разволновался Балашов, как просил язык держать за зубами о пресловутых террористах Назари в Германии. Врёт, наверное, хитрец, цену набивает… Откуда, ну откуда ему, червю, знать…
Но для Паши Кеглера было не столь важно, врал ли Балашов, не врал ли… Он пообещал тому молчать, хотя точно знал, что расскажет.
– Дурной он, зачем Логинов его послал, что ему с ним? Порастерял Володя аристократизм на чужбине, – посетовала после ухода Кеглера Маша.
– Дурной.
– А ты что разболтался? То сидишь, как крот в норе, а тут на разговор потянуло.
– Предупредить хотел. А то с дурной головой полез бы. В тельняшке. Кеглер. Фамилия какая-то…
– Кеглер этот фартовый, ты мне поверь, скоро главным экспертом будет. А ты так и просидишь.
Балашов оглядел Машу, ненадолго задержал взгляд на её заострённом упрямом затылочке и устремил его дальше. Как будто тут Маши-птички уже не было, но его глаз еще способен был ее разглядеть.
– Я ещё о любви понял. Ее надо классифицировать в таблицу Менделеева. Любовь – это и психофизическая близость. Не так, как все думают, а как электрон с ядром в атоме.
– Ты это к чему, Балашов?
– Только близость к ядру у электронов разная бывает. Орбиты. Каждая орбита – свой квадрат в химической таблице элементов. Особое вещество любви. А мы их все в одну кучу, любовь и любовь.
– А я кто – электрон или ядро? Интересная у тебя теория.
– Не знаю. Может быть, для меня ты электрон, для тебя – я. Дуальность внутренней реальности. А может быть, мы – оба электроны, вокруг одного ядра вращаемся, а оно и есть «то самое».
– Что «то самое»?
– Не знаю пока что. То, что в материи отражает факт наличия нас с тобой как одного идеального целого.
– А с твоей бывшей, с Галей, у тебя другое – это самое идеальное целое?
– В том-то и дело. Может быть, две, три, сто любовей у меня. Весь вопрос в орбитах.
В Машиных глазах сверкнуло недоброе.
– Ладно. Про Галю ясно. А с Логиновым или с твоим Мироновым тоже? Как там у мужиков с мужиками?
Балашов задумался. Потом кивнул утвердительно:
– У каждого с каждым. С каждым. Только тут заряды могут быть разные. Химия иная. Оттого и называется «дружба».
– Нет, Игорёк, что-то в твоей теории не то, – скверно ухмыльнулась Маша, – а как, Балашов, в твоей виртуальной таблице может быть элемент твоей идеальной близости ну, к примеру, со Сталиным?
– Он умер. Тебе не сообщили?
– Хорошо. С Арафатом. С Каддафи. Или, чтобы тебе ближе стало, с террористами Назари?
Игорь отвлёкся от разглядывания обоев и странно посмотрел на подругу.
– Ты гений, хоть и злишься! А почему бы не с самим Назари? Этого мне не хватало! Вот это уже книга. Об одной очень сложной близости. О смысле новой войны. Ты гений, Маша. Не двадцатый век завершился, а двадцать первый век начался!
Кеглер на ТВ
13–14 сентября 2001-го. Москва
Попасть на экран оказалось куда проще, чем это себе представлял Паша Кеглер. Приятель с РТР, только услышав про террористов, не стал даже вдаваться в подробности, что за плёнку привёз Паша и откуда.
– Так, понял, дальше не надо. Тема сейчас покатит, как смазанная. Через минут двадцать перезвони, я стрелки переведу. Только давай сразу замажем: НТВ если купит, я в полудоле. На весь прокат.
Сердце тикало часто-часто, но Паша подсобрался. Нельзя было продешевить.
– Годится. Только плёнки после интервью получишь. В прайм-тайм. Иначе – двадцать пять процентов.
– Ну ты волчара, – хмыкнул приятель. Прозвучало это уважительно. Кеглер аж приподнялся на цыпочках.
– А то как. У меня крутая клюза на руках. А на календаре что у нас? Второй день нью-йоркской трагедии…
НТВ дало Паше не только прайм-тайм, но и отличного ведущего. Когда у новоиспечённого эксперта Кеглера скверно выходило с тем или иным ответом, он закашливался, тянулся за стаканом с водой, а ведущий уже заполнял паузу мягкой подкладкой, вполне заменяющей собой Пашину речь.
– И всё-таки, Павел, и всё-таки, кто смог осуществить такое?
– Э-э… Я полагаю…
– Вы ведь видите связь таких разных событий, как воздушная атака на небоскрёбы в Нью-Йорке и покушение на лидера афганских моджахедов по другую сторону океана. Не так ли?
– Кхе. Возможна прямая связь. Звенья одной цепи.
– Да. Мне, сидя в Москве, трудно перекинуть мост между близкими по времени, но столь далёкими по расстоянию и, главное, по последствиям событиями. А вот наш сегодняшний гость Павел Кеглер, только что вернувшийся из Афганистана, эту связь установил. Так вопрос к эксперту: кто и зачем? И главное: что будет дальше? Вы объясните нам это? Вы развеете наши страхи?
– Кхе, хороший вопрос. Вопросы. Вопросищи. Если бы вы спросили, мог ли это сделать Зия Хан Назари, я бы ответил, что мог. У него есть масштаб, у этого мегатеррориста, как его точно охарактеризовал один мой приятель, тоже специалист.
– А если я спрошу, мог ли это сделать Саддам? Хомейни? Усама? Или Каддафи? Или другое государство? Куба?
– Тут я ответил бы «нет», – Кеглер вошёл в роль. Артистических способностей он был не лишён и ощущал себя перед камерой то Логиновым, то Балашовым, – государство, спецслужбы – это бюрократия, решения проходят множество инстанций. Везде подписи. Ответственность, страхи. Государство на такое нестандартное действие не способно. Нет, это умная и независимая структура. Такая есть у Назари. Он фигура такая. С размахом. Ещё в Афганистане при моджахедах проявился.
– С размахом. Да, уважаемые телезрители, кому-то это может показаться циничным. Но слово «размах», употреблённое господином Кеглером, как говорится, из трагической песни происходящих на наших глазах событий не выкинешь. Но, Павел, если вы считаете, что Пентагон и Лев Панджшера – звенья одной цепи, – то тогда ещё к вам вопрос: объясните зрителям, зачем исламскому мегатеррористу понадобилось убирать своего влиятельного единоверца в Афганистане. Ответите?
– Тот, кто сегодня ответит на этот вопрос, может не прожить долго, – вспомнил Паша кругленькую фразу, произнесённую Логиновым. Он подмигнул ведущему, – тут большая игра. Назари – союзник талибов, Масуд – их главный противник. Но не в этом… Кхе… – Кеглер на секунду заколебался, и всё-таки решился. В ушах легонько зазвенело, как на высоте.
– У меня точные, точные данные. Назари давно засылает террористов на Запад. Вся Европа в сети. Недавно ушла группа. Из Афганистана. Единственный, кто мешает терротранзиту – Масуд. Его разведка. Он – буфер. Они многое знают.
– Вы хотите сказать, что Нью-Йорк – не последнее? – ведущий подыгрывал Кеглеру. Он был очень доволен разговорившимся гостем.
– Не последнее. По плану. Такое готовится долго. А в Европу террористы были заброшены совсем недавно. Полгода не прошло. Это детонатор будущего.
– Куда в Европу?
– В Германию, – брякнул Паша Кеглер скорее наобум, вспомнив про то, как его приняли в бюро ZDF…
Несколько дней после интервью на НТВ Паши Кеглера не было. Не было такого человека, потому что человеку, кроме скелета, сердца, ливера, мозга, в конце концов, ещё нужно время, в котором он может собрать свою массу в одном месте. В отличие от физических тел, способных восполнять массу скоростью, отказываться от постоянства места во времени, душа, определяющая имя человека, не может жертвовать своей массой – её масса или ноль или бесконечность – она либо везде, либо нигде. Но момент жизни для неё – это момент отождествления с ней тела. И для такого отождествления телу необходим хотя бы частичный покой. Вот чего Кеглер не мог предоставить своей душе в подхвативших и охвативших его обстоятельствах – так это времени на отождествление. Его мечта сбывалась. Он становился популярен, но популярность, как ветер, надувала парус его суденышка и гнала, гнала вперёд. Встречи, интервью… Настроение было приподнятым. Но Паша ловил себя на том, что с каждой следующей удачей в нём сильнее проявлялся страх: вдруг все закончится, ветер удачи сменит направление, и он останется один, лицом к лицу с неведомой ему на самом деле опасностью. Он даже полагал, что в страхе виновата мама. Мама всё же дозвонилась до него и помимо обычных упрёков в эгоизме и забвении единственного близкого человека (оставшегося ещё, с сарказмом добавляла она) вдруг сказала тихо, так тихо, что сын прислушался: не лез бы ты в это дело, Павлик, мать хоть раз послушай.
– В какое дело? – переспросил Кеглер.
– С террористами этими. Арабы, Кавказ – не лезь туда. Не наше это дело. По телевизору видела тебя, так сердце заболело. Мягкий ты.
– Ладно, мама, далеко не полезу. Журналистская работа такая: сейчас это, завтра то…
Но царапина на стекле, отделяющем его от солнечного будущего, осталась.
Несколько раз он намеревался позвонить Логинову, поблагодарить, да заодно новенького понабраться. «Детонатор будущего», порождённый, конечно же, Володей, был в исполнении Кеглера принят публикой на ура, равно как и «мегатеррорист» Назари и его «сетевой джихад». Пресса разнесла по стране эти слова столь охотно, что не прошло и двух дней, как журналисты принялись жонглировать ими, обходясь без упоминания короткой и запоминающейся фамилии Кеглер.
– Такова се ля ви, – констатировал приятель с Останкино, – тут закон один – не отставай от поезда – раз, и напоминай, что ты машинист, – два. Короче, не будь лохом.
Вот Кеглер и напоминал о себе, носился по интервью да по круглым столам и каждый раз, вспоминая о Логинове, обещал себе отзвонить тому немедленно, лишь только вернётся домой. Но снова и снова откладывал это до утра. И ещё он вспомнил о Балашове, которого не встречал ни на одном из круглых столов в эти дни. «Нарушил слово-то?» – шепнул ему гаденький голосок.
– Ничего подобного. Наоборот, я его своей тельняшкой прикрыл, своим телом. Я на себя взял, – даже с некоей гордостью самоотверженности ответствовал этому подголоску Паша.
Одноглазый Джудда в Туркмении
13–14 сентября 2001-го. Ашхабад
Одноглазый Джудда[12] никогда не думал, что столько времени будет проводить у телеэкрана. Руководитель подготовки бесстрашных воинов Джихада в афганских лагерях Назари уже неделю находился в Ашхабаде, в пакистанском посольстве, имея на руках дипломатический паспорт этой страны. После того как громыхнуло в Нью-Йорке, он только и занимался тем, что смотрел то CNN, то «Аль-Джазиру», то «Россию». Были моменты, когда он чувствовал себя ребенком, получившим в качестве игрушки телевизионный мир, управляемый нажатием кнопок на пульте.
Несмотря на близость к Назари, Одноглазый Джудда ничего не знал о подготовке операции в Нью-Йорке и Вашингтоне. И, сравнивая разные воспоминания и свежие сведения, он склонялся к тому, что это не Назари, а кто-то из других операторов больших джихаддистских сетей провернул это дело. Скорее всего, это Усама… И каждый раз при мысли об этом, при виде уже, казалось бы, въевшихся в глаза кадров, его охватывала зависть. Как-то сработает его брат Саат, пока только обживающийся в Германии…
Перед отъездом в Туркмению у Одноглазого Джудды состоялся с Назари загадочный разговор, смысл которого прояснялся лишь теперь.
– Многие, многие уйдут позже, но вернутся раньше. Они останутся слепы. Ты уйдешь раньше, чтобы вернуться позже. Увидишь многое. Ты мой глаз, Джудда. У тебя один глаз, но потому у тебя нет выбора. Твой глаз точен, Джудда.
– Значит ли это, что Аллах по ошибке создал людей двуглазыми? – спросил тогда Джудда.
Во взгляде Назари Джудда различил усталость. Видно, даже Великому Воину Джихада Зие Хану Назари трудно было себе представить, сотворил ли Творец и впрямь ошибку, работая над человеческим тестом. И Джудда, уже не в первый раз, ощутил превосходство над Назари. Тот был моложе, хоть борода выглядела куда окладистее. Но седина в ней была еще свежая, и не научился Назари каждое слово свое – не только великое, а каждое, каждое – пропитывать сладковатым, с горчинкой, как гашиш, запахом вечного. Он, Джудда, знал, зачем Аллах создал двуглазых тварей земных – тварь земная должна иметь выбор, как смотреть на мир.
– Может быть, Аллах вообще по ошибке создал людей? – следуя какой-то своей мысли, отвечал Назари. – Но с нашей помощью он исправляет эту ошибку.
Джудда так тогда и не выяснил, с какой целью его вдруг отправили в Ашхабад. Да и не старался выяснить – раз не говорит Назари, так, значит, тому и быть. В последнее время много странного случилось вокруг, что-то вызревало важное и горячее, копилось, как лава в жерле вулкана в преддверии извержения. Несколько приближенных к Назари арабов бесследно исчезли из его Дома мучеников, будто растворились в знойном воздухе. Бойцы, что готовились в лагере у Мазари-Шарифа под строгим оком Джудды, были около месяца назад разделены на группы. Одни продолжили спецподготовку – это были лучшие, таких было мало. Другие были разбиты на несколько больших отрядов и в течение нескольких дней ушли из лагеря. Новый порядок в этих отрядах отличался от того дробного, что был заведен ранее и приспособлен для партизанской войны в горах. На Кавказе, в Кашмире, где угодно. Теперь формирования напоминали армейские единицы. Отбором руководил сам Сабата, черный как смоль человек, состоявший представителем Назари при талибском правительстве. «Куда»? – только и спросил Джудда, наблюдая за тем, что делал со своим людским хозяйством Сабата. «На юг. На восток. На запад. На север», – ответил тот, высокомерно поглядев на Одноглазого снизу вверх. Джудда раздражал марокканца отстраненностью от всего, что не касалось непосредственно его дела.
– Он может служить и тебе, и Масуду, и бешеному Хакматьяру, – как-то сказал про Джудду Сабата, обращаясь к Назари. Но Великий Воин Джихада, огладив бороду сухощавой ладонью, произнес такие слова:
– Ты служишь людям, Сабата. Джудда не служит людям. Люди служат ему, хотя и думают, что он служит им.
Сабата тогда возразил:
– Я не служу людям. Я служу Ему.
– Он сам решает, кто Ему служит, Сабата.
Джудда не знал об этом разговоре и потому лишь склонил голову, услышав ответ «на юг». Океан жизни велик, встретимся еще, Сабата.
С Сабатой ушли три четверти бойцов, около трех тысяч. Конечно, конечно, Джудда выяснил, что его людей перебрасывают в район Пешавара и к таджикской границе. Этих Джудде было не жаль – народ туда попал по большей части малоопытный, к серьезной, кропотливой работе не готовый. Ему не интересный народ.
Одноглазый сделал вывод, что Назари решил помочь афганскому союзнику мулле Омару в крупном наступлении на Масуда. Сам Назари подтвердил это предположение: «Генерал Махмуд Ахмад пообещал, что ЦРУ поможет талибам, если те согласятся не мешать строить трубопровод из Туркмении в Пакистан на американских условиях. Надо только разобраться с северянами, с Масудом».
Джудде не нравились эти планы. Он считал, что нечего арабам включаться во внутримусульманские распри, врагов им хватает и без того. И от драки с Ахмадшахом Масудом ни славы, ни войска не прибавится. Не зря того прозвали Львом. Львом Панджшера. Зачем арабам их афганские страсти?
Одноглазый намеревался поговорить с Назари, и если не удастся отговорить его делиться силой с Омаром, то хотя бы убедить не трогать подготовленные в лагерях отряды умелых моджахедов-партизан, его питомцев – в основном арабов, чеченцев, уйгуров. Этим-то совсем нечего делать в афганской смуте. Нечего, кроме как искать бесславной смерти, рассуждал афганец Джудда, про себя уже решивший как-то, что гражданская война – это вечная стихия родной земли.
Да и вообще, не дело это, если в Панджшере начнут обнаруживать трупы арабов да чеченцев… Но поговорить об этом с Назари не случилось. Тот долго гостил в Кандагаре, а потом, появившись в Мазари-Шарифе, сообщил Джудде об отправке в туркменскую столицу.
«Многие, многие уйдут позже, но вернутся раньше. Они останутся слепы. Ты уйдёшь раньше, чтобы вернуться позже. Ты увидишь многое. Ты мой глаз, Джудда»…
В Джудде годы и солнце не выжгли ещё любопытство. Но любопытство превратилось в спокойную силу. Не задавая больше вопросов, он отправился в Ашхабад, рассчитывая там узнать, как же Аллах его руками намерен исправить свою ошибку.
Через неделю после прибытия в беломраморную туркменскую столицу угол зрения Одноглазого изрядно расширился. Покушение на Масуда, немедленно начавшееся наступление талибов муллы Омара на севере, их рывок к границам Таджикистана и Узбекистана и, наконец, рухнувшая с небес на землю американская мечта. Его любопытство уже сполна было удовлетворено. Но теперь любое слово, которое произносилось в этой связи, непосредственно касалось и его дела. Де́ла брата его Черного Саата. Теперь шерстить будут всех и вся. Хорошо, что при подготовке операции «Футбол» он настоял на необычном прикрытии для своих взрывников. Кроме того, Джудда ловил себя на том, что его охватывает азарт игрока и он не может уже оторваться от телеэкрана, в сотый раз восхищаясь увиденным. Его глаз из чёрного стал бурым, и без того аскетичное лицо осунулось, обнажив истинный возраст. И вот упорство Джудды вознаграждено, будто Аллах самолично протянул ему руку помощи. Одноглазый не пропустил передачу российского канала, где столь ярко выступил Паша Кеглер.
Паша Кеглер произвёл на Одноглазого Джудду впечатление. «Что это? – думал Джудда. – Русские уже так хорошо знают замысел Чёрного Саата, что и журналисты говорят об этом? Будто до акта в Нью-Йорке эти сведения не имели никакого интереса? Тогда надо немедля положить группу Черного Саата на глубокое дно, предварительно сообщив Назари о провале». Впрочем, русский журналист только вернулся из ставки Масуда. Джудда знал, что разведка Масуда получила через своих вездесущих шпионов сведения о группе. Но они носили столь общий характер, что особого беспокойства пока не вызывали. А тут на тебе – Германия, Кавказ. Утечка могла произойти и у компаньона, у Ютова. И это было очень, очень скверно, поскольку лишь у Большого Ингуша в руках находились «московские концы», единственно выводящие на группу взрывников в Германии. У Ингуша – данные их документов. Но Руслан Ютов не стал бы продавать сведения журналистам. Или Ютов, хитрая лиса, мог сделать это специально? Тогда осталось разгадать зачем. Наконец, нельзя было исключить и иную возможность: российский журналист Паша Кеглер был приманкой, чьи-то тайные службы блефовали, ничего, кроме старого слуха, не имея на руках, и теперь, после небоскрёбов Нью-Йорка, вслепую щупали воздух перед собой с помощью вот таких кеглеров. Такой «паша кеглер» мог быть проплачен и американцами, и немцами, и французами. Такой мог быть проплачен индусами и китайцами, такой мог быть проплачен кем угодно. Хоть русским КГБ, хоть русской мафией, делающей на большой политике деньги. Больше того, Одноглазого Джудду не очень удивило бы известие, что Паша Кеглер выполнил заказ, родившийся в голове Великого Воина Джихада, Зии Хана Назари. Зия Хан Назари, как понимал его Джудда, мыслил себя великим человеком. Даже не великим, а тем, кто может и должен принимать участие в игре великих сил, кто должен масштабом замыслов соответствовать коварству могущественных врагов. Джудда не желал такого величия. Тщеславие – поступь страха. Страха забвения. Одноглазый Джудда в отличие от Назари готов был ограничить свою роль в этом мире, свести ее к функции фигуры. Но он знал, что дело здесь не в скромности. Не зря сам Мулла Омар называл Джудду высокомерным и остерегался его. Возможно, было и высокомерие, но не того сорта, что ставит человека над людьми. Если уж это и высокомерие, то такой меры, которая ставит его не над, а вне. Вне людей. Но Аллах решил, чтобы он жил и участвовал в играх этих людей. Хорошо! Тогда смыслом его жизни с людьми может служить лишь угаданная им функция. И ныне Одноглазому Джудде для выполнения этой функции надо все-таки сыграть в игру под названием «Павел Кеглер». Сыграть и выиграть.
Паша Кеглер едет в Ташкент
18 сентября 2001-го. Москва
Паша Кеглер вновь собирался в Ташкент. Поездка образовалась неожиданно. Она нарушала его московские победные планы, и можно было бы отказаться, но тут Пашу, как говорится, заело. Чуть ли не дело чести. Его разыскал известный московский журналист Гриша Колдобин. Колдобин обратился с подходцем, мол, вы, Павел, теперь террорист-эксперт. Предложил вернуться на места боевой славы, в Ходжи, отснять, как всё было. За нормальные бабки. Поскольку статус теперь иной…
Если бы не эти два «теперь» – теперь эксперт, теперь иной – наверное, остался бы Паша дома. Но зацепило. Надо было съездить без Логинова. Наконец, первым номером. Так, чтобы больше ни одна московская акула пера не посмела прилепить к его фамилии крохотную секундную стрелочку «теперь».
– Впрочем, дело-то для нехилых. Талибы наступают, нет-нет, да и докатятся до Ходжи. Тогда и снимать нечего будет. Если ехать, то без тормозов, – ещё добавил известный журналист Гриша Колдобин, дополнительно подогрев Пашу, поскольку Кеглер знал за собой массу слабостей, но что касается робости – увольте.
– Когда ехать? – спросил он, надвинувшись грудью на собеседника. Вместо тельняшки грудь эту покрывал пиджак.
– Полки ждут, Ваше Высочество. Гвардия, обоз, маркитанки.
«Завидует. Хорошо, когда тебе Гриша Колдобин завидует», – отметил Паша. За Гришей помимо славы известного журналиста, служившего в известной газете, ходила и иная слава. «Бабки к бабкам, бабы к бабам», – приписывала московская молва крылатую фразу сему изрядно небритому, не юному уже господину.
Сборы были недолгими. У Колдобина, оказывается, всё было на ходу, всё получалось с лёгкостью, везде и все у него были своими парнями. Или душечками-голубушками. Или стариканами.
– Для кого работать едем?
– Да для одного моего старикана. Вы, Павел, для нас, как жупел. Простите за грубость. Как вымпел, можно сказать. А работаем мы сами. Безымянные труженики пера.
Колдобин упорно называл Кеглера на вы, хоть был постарше Паши лет на десять. Впрочем, борода да бабы старят, – породил и Кеглер свой афоризм.
Перед отлётом Паша позвонил Балашову. Писателя он дома не застал, зато пообщался с Машей. Девица проявила любопытство, и Паша выговорился сполна. И про Колдобина, и про Логинова, и даже про маму, с которой трудно объясняться. Как ни удивительно, у малышки тоже оказалась мама, она тоже одиноко жила вдалеке, она тоже никак не хотела признать за дочерью право на свою жизнь. Впрочем, Маша сказала Кеглеру: «Я тоже такой буду. Поэтому у меня не будет детей». Помолчали. Попрощались. Вроде ничего особенного, но жизнь после этого показалась Кеглеру и легче, и сложнее одновременно. Зато он понял, отчего захотел позвонить именно писателю. Как здорово, что писателей иногда не бывает дома, что они тоже рождены на свет мамами, но в отличие от журналиста Кеглера стараются навещать их хоть раз в неделю. «Если у меня с этой Машей будет зачат ребёнок, он никогда не будет писателем», – с этой-то озорной мыслишкой Паша сел в самолёт на Ташкент.
Когда Маша сказала Балашову о звонке нахального парняги в тельняшке, Игоря словно иголка легонько кольнула в сердце. «Хоть бы он укатил куда-нибудь из Москвы. Навсегда», – вдруг подумал он и сам на себя обозлился.
– Его тоже мама жизни учит, – продолжила Маша, – не зря я сразу в нем душу родную учуяла…
Балашова укололо повторно, однако он сдержал резкое слово.
– Да, так он в Афганистан. Снова. Видишь, его теперь понесло ветром. Ты как купец на своем сундуке, а он по-пиратски, лихо, с нахрапом.
– Ты что, хотела бы меня в Афганистан загнать? Мало нам Логинова?
– Тоже мне. Вон подруга моя дорогая отпустила его как миленького. И ничего. Только теперь ревнует – ее Прибалтика кому интересна теперь, а он при заработке. Интервью дает. Теперь не Владимир, а герр Логинофф.
– Это потому, что немка.
– Что немка?
– То, что отпустила.
– А если бы не отпустила, то кем бы была?
– Не знаю. Русская, наверное.
– Почему русская? Почему не еврейка?
– Еврейка сама бы поехала. Вместо.
– Вот я вместо тебя и поеду. Хочешь, Балашов? Смотри, укачу в кои-то веки по-русски с морячком Кеглером.
– На корабле пустыни?
– Ага.
Балашов усмехнулся:
– Не укатишь.
– Это почему?
– А потому, что ты дураков не любишь. Угадал?
– Угадал, угадал, – раздумчиво ответила Маша. В голосе ее просквозило ноябрьское, холодное.
– Знаешь, зачем создана осень? – склонившись над Машей, прошептал ей на ухо Игорь.
– Дурак и ты, Балашов. Дурее морячка. Женщине нельзя говорить о времени. Женщина – это и есть душа осени.
Осень женщины
2001 год. Москва
Ночью Игорю не спалось. Он ощущал нарастающую тревогу. Наконец, он поднялся из постели и сел за стол. Писатель письмом борется с расходящейся от живота по всему телу утренней дрожью. Художник взламывает колодку рассветной слепоты долотом кисти. Любовник и дитя прижимаются к груди женщины – и успокаивают бьющийся от ужаса одиночества пульс. Пьяница «заливает шары» похмельной полтушкой, и послушное сердце благодарно умеряет бег. Женщина…
- Я научилась просто, мудро жить,
- Смотреть на небо и молиться Богу,
- И долго перед вечером бродить,
- Чтоб утомить ненужную тревогу[13].
Женщина. Предвечерье. Рассвет. Все равно. Все равно, когда женщина молится своему Богу… Женщина ближе всего к тому Богу, который просится из нутра по утрам. Просится у писателей, художников, пьяниц, любовников. У детей. Женщина – это теплое тело одиночества.
Балашов тем утром написал странный рассказ. Торопясь, чтобы не прервалось чувство связи с «собой». Таким собой, который хотя бы допущен видеть масштаб мироздания и единственную связь большого и малого в нем.
Маша еще спала, когда Балашов закончил творить. Он несколько раз прошелся по комнате, настойчиво шаркая тапками по паркету. Уронил книгу.
– Ну, читай уж, читай, – не открывая глаз, сказала Маша.
Он присел к ней на уголке кровати и прочитал вслух. Когда он закончил чтение, Маша перевернулась на живот и какое-то время молчала. Потом произнесла такие слова:
– Ты прости меня, Балашов.
– За что? – не понял тот. Но она уткнулась лицом в подушку и сказала еще:
– Ты каждый рассвет пиши. Мне твои рассказы вместо детей… Ты меня не бросай на ветер.
Паша попадает в Туркмению
Сентябрь 2001-го. Ташкент – Мары
О том, что маршрут поездки будет изменен, Паша Кеглер узнал от Колдобина уже на высоте нескольких тысяч метров, удаляясь от столицы России со скоростью несколько сотен километров в час.
– А ты что, в машине мне сказать не мог? – спросил Паша, рассматривая застывшую коралловую пену облаков. Он упорно называл Колдобина на ты, хотя тот с прежней, едва уловимой усмешкой обращался к Паше на вы.
– Лишний штрих в вашей романтической биографии, Павел Иосифович. Вы у Туркменбаши бывали? «Рухнаму»[14] читали?
– Читал, но давно, – Паша не знал, что это за зверь такой, «Рухнамэ».
– Это облегчает. А золотые статуи Баши видели?
– Прямо из золота? 583-й пробы?
– Насчет пробы не знаю, на зуб не проверял. Хотя почему бы и не из 583-й? На их газ и белую смерть можно хоть из цельного изумруда.
– Так почему туда?
– Через Кушку двинемся. Через нейтральный Туркменистан. Мне сообщили, через Термез опасно. Талибы альянсу на пятки наступают. Те, того гляди, к узбекам рванут, через границу…
– Кто сообщил? – у Кеглера защекотало в горле. Его волновала и радовала предстоящая опасная кутерьма. Она что-то обещала и, главное, что-то оправдывала.
Колдобин не спеша извлек из широкого кармана свободного пиджака серебристую фляжку и наполнил стаканчик тягучим, густым напитком.
– Я в Ашхабаде, считайте, свой. А с вами – дело простое, немудреное. Проверенное. Сядете в багажник – и все дела. Через границу перемахнем, а там как король поедете. До самой Кушки.
– А зачем в багажник? Я ж с российским паспортом!
– Вы странный какой! Вы же журналист! Известный. Да еще на трафике засветились. Золотые бюсты – они ведь просто из песка не вырастают, понимаете?
Кеглер косился то на стаканчик, то на фляжку. Вопрос о том, что это за тягучая жидкость, увлекал его, пожалуй, не меньше, чем то, о чем он спросил коллегу:
– А если возьмут?
– Как возьмут? А я на что? Я по мобильному самому генералу Назарову позвоню! Прямо при них.
– Так какого горбатого мне тогда в багажник лезть с такими протекциями?
– Я же объясняю, Павел Иосифович. Ради романтики токмо. Потом расскажем народам мира, как геройски мы шли по следам убийц Масуда. Вот так, цинично, в лицо. По следам убийц. Террористов.
– А нельзя так же цинично рассказать без багажников, без наворотов, без коньячков во фляжечках?
Колдобин, мерзавец, не торопился с ответом. Отпил, долил, снова отпил.
– Я постарше буду. Вроде опекуна Савельича. Нельзя никак. Шоферы, провожатые, ассистенты. Жизнь на сцене, так сказать… Вот он, фактор риска. Профессионального, так сказать. Тут никак без наворотов. Без наворотов западникам можно, у них деньги есть. Взял да и купил всю таможню вместе с комитетом. А у нас только на фляжку и хватает. Хотите, кстати, вкусить, так сказать? Не коньяк.
Кеглер кивнул. Отпробовал. Причмокнул.
– Не коньяк? А хорошо-о. Ох, хорошо, господин Колдобин. Но я все равно сомневаюсь. Не солидно.
Колдобин широко улыбнулся:
– Если хотите, Павел Иосифович, так вместе в багажнике поедем. Там и добьем фляжку.
– Вдвоем тесно будет.
– Вот что меня в вас особенно удивляет – так это привязанность к удобству. При Вашем-то образе… – он замешкался… – мысли. Вы, можно сказать, только из логова Льва вернулись, а тут тесно вам…
– Кто ходит по лезвию ножа, ценит сапоги, – вспомнил фразочку Логинова Кеглер. Колдобин удовлетворенно кивнул и поощрил собеседника содержимым волшебной фляжки.
В Ташкенте Колдобина встретил молчаливый господин, совсем не похожий на узбека. Он хорошо, старательно говорил по-русски.
– Это наш менеджер, провожатый, добрая фея, сердитый дядька, заступник, кормилец и так далее, – представил человека Колдобин, – зовут его Ашура, он памирец, а потому готов стерпеть все жизненные невзгоды, кроме пустой болтовни.
Памирец усадил московских гостей в черный джип, наглухо задраил затемненные люки, дотронулся двумя пальцами до деревянной фигурки, укрепленной на лобовом стекле, и машина двинулась в неблизкий путь. Кеглер с Колдобиным сидели сзади. Паша силился разглядеть фигурку. Чем больше он вглядывался в нее, тем большее сходство обнаруживал в силуэте с их водителем.
– А ему не жарко? – шепотом спросил Колдобина Паша. Ашура встретил их в толстом свитере, да и в авто, хоть работал кондиционер, холодно вовсе не было.
– Ашура – арий. Арии холоднокровны. Им не бывает жарко.
Кеглер задумался. Он со школы помнил, что арии – это немцы. Племя, пришедшее из Индии. Памир, Памир… Что ж, может быть, и там осели немецко-фашистские оккупанты? Загадочно все. Багажник, теперь арий в свитере.
Чтобы поддержать разговор, Кеглер сообщил Колдобину:
– А я живого ассирийца видел. Я думал, они все вывелись, ан нет! Выдюжили.
– А что такого? Евреи ведь вытянули, Павел Иосифович. Отчего жителям Ассирии раствориться? Или вы сторонник теории исключительности?
Кеглер не ответил прямо:
– А как думаешь, русские выживут через две тысячи лет?
Колдобин глубоко откинулся на спинке сиденья. Он раздумывал над вопросом, заданным новым его знакомым, но одновременно и о том, что сейчас хотел бы сидеть, к примеру, в кафе «Пушкин», что на Тверской, или в «Альдебаране», пить чай, заедать его черничным пирожком, прикармливать с маленькой ложечки какую-нибудь куколку… Почему он здесь? В духоте, с этими «вынужденными» людьми. Потому что для куколок, «Альдебарана» и тем более «Пушкина» нужно иметь то, за чем он притащился сюда, несмотря на обострение падагры. Сюда и в этой компании. В страну золотых бюстов. Да, ради «этого» стоило ехать. Но стоило ли ради этого «вытягивать» еще 2000 лет?
Паша Кеглер и сам озаботился собственным вопросом. Он не знал, как подобраться к ответу, но остро-остро чувствовал, как ему, оказывается, важно, чтобы «они» пережили. Для чего? Что они несут миру? Что за философский напиток подсунул ему Колдобин?
– А вы бы хотели, чтобы через века? – прочитал его мысли Колдобин.
– Да. Очень.
– А зачем? Зачем вам, Павел вы Иосифович? Вы же, я полагаю, иудей? – Колдобин вновь придвинулся к собеседнику.
«С чего это ты полагаешь, ищейка», – обозлился Кеглер, давно про себя решивший, что его еврейская кровь давно поглощена соком сорокалетней российской жизни. «Русский еврей – это либо очень русский, либо очень еврей», – говаривал его покойный отец, и в брежневские времена носивший кипу. Правда, дома. Паша считал себя «очень русским».
Не дождавшись ответа, Колдобин продолжил. Ему тоже хотелось знать.
– Говорите, ассириец. А зачем он? Напоминание? О боге Солнца? Я понимаю еще, зачем евреи. Американцы зачем – понимаю. Китайцы – готов понять. Я был там. И все хотят туда. В вечность. Закон природы народов. Но через 2000 лет государств не будет. Если вообще что-то будет, Павел Иосифович, то будет одна огромная Америка. А в ней говорить будут на двух языках – на китайском и на хинди. Хотите, я вам расскажу, как будет? – в глазах загорелся зеленый огонек.
– Россия слаба. И главное, другие догадались, что она слаба. Это спасение. Ее просто проглотят без крови. Сойдутся Америка, Индия и Китай. Но не в прямую. Китайцы умны. Они в последний момент будут уступать силе и брать свое там, где силы не требуется. Они выжрут Америку изнутри, завлекая ее глубже в Азию и используя естественный биологический порядок вещей. И в конце концов, когда Америка проглотит Индию и приготовится праздновать победу, окажется, что ей самой готовы править китайцы и индусы. Изнанка демократии. Змея заглотнет себя с хвоста. Чтобы избежать большой войны между ними, когда не станет «мелких» – всех этих Киргизий, Туркмений, Тайваней или Латвий, они объединятся, как Франция и Германия объединились в Европу. И все это будет названо ВСШ – Всемирные соединенные штаты. Америки. Потому что кувшину страшно отказаться не от наполнения – не вином, так квасом – ему страшно отказаться от названия: кувшин. Америка – Рим. Третий Рим. А через 2000 лет – Великая Германская Римская империя. Рим, населенный германцами. Потому они спохватились, наверху, бунт против демократии. Бунт и заговор имени 11 сентября. А как же?
– А как же тогда латинос? Как Европа, в конце концов? – Паша подумал, что, наконец, «отшелушил» Колдобина, освободил его от иронической оболочки. И еще отметил, как охотно русский человек вовлекается в мысли о мироздании. Слов о заговоре он не понял.
– Смешно. Может быть, евроид и выживет, спрятавшись в Латинской Америке, в Австралии, в Африке. Может быть, выживет, как выжили копты или те же памирцы. Сохранится, допускаю, как забытая в старых брюках копейка, и русский. Это будет слепой сектант, грезящий московским Третьим Римом, мужикоморейской Византией. И жить он будет только памятью о себе, как о песчинке песчаной горы под названием Россия. Но ваши потомки, те, кто понесет в вечность ваши гены, Павел Иосифович, не из этого рода. Они заговорят либо по-китайски, либо по-испански и не прольют слезы при слове «Волга». Вы ведь, как истинный русский еврей, мокнете глазами при этом слове? Ведь так?
Паша вдруг уловил в близости Колдобина опасность для себя. Откуда она исходила, он разобрать не мог, но зато понял, отчего коллега упорно называет его на вы. Чужой. Паша вспомнил прощальные слова мамы.
– Что, Павел Иосифович? От чрезмерного заглядывания в будущее развивается умственная дальнозоркость. Мы, русаки, грешим этим. Пора в багажник, к реалиям. Наш Шумахер памирский быстрее ветра донес.
– Колдобин, я не полезу в багажник, – отчетливо выговорил Паша.
– Да вы что, Павел! Нам надо переходить границу. Ашура нас просто убьет!
– Я еврей, я мечтаю о Волге, но у меня пока нет потомков, носящих в себе мои гены. И я не полезу. Ни с вами, ни без вас.
Колдобин резко наклонился к водителю и выкрикнул: «Останови!»
От вальяжного ироничного господина не осталось и следа. Памирец даже не повернул головы. Машина двигалась с прежней скоростью по желтой заплешине земли.
– Я вычту с вас деньги. За всю дорогу, за весь проект. Вы, Кеглер, понимаете, что мы сейчас вернемся ни с чем? Да останови ты, Ашура, мы в границу вкатим с этим подарком судьбы!
Но водитель и на сей раз не услышал пронзительного голоса из-за спины. Колдобин сник.
– Возьмут тебя на границе без спецпропуска – замотают по кабинетам. Как шпиона. Год не отмоетесь. Я за вас копья ломать не буду, Кеглер.
– А связи? Понты?
– Не буду. Вы не журналист, вы барышня петербуржская. Трудно вам в багажнике полчаса проехать… Сто человек так ездят, а ему западло. Умоляй его!
И Паша уступил. «Что я, в самом деле… Полчаса не сутки». А нытик этот и так уже порядком получил щелчок по носу.
– Ладно, не надо слез, – театрально развел он руками, – пересяду я. Если эта вагонетка способна остановиться.
Паше показалось, что Ашура усмехнулся затылком. Джип замер как вкопанный. «Добрый скакун, добрый», – неожиданно произнес памирец и звучно похлопал по обтянутому белой кожей рулю.
Обитатели заднего сиденья выбрались наружу. Колдобин открыл просторный багажник. Однако свободного места там оказалось немного, его занимали коробки да баулы.
– За ними спрячьтесь. Полчаса здесь и еще полчаса у Кушки. И все дела, Павел Иосифович. Лицо Колдобина обрело обычное свое выражение. И Кеглера снова чертик потянул за язык:
– Я поеду в этом расчудесном багажнике. Но при одном условии, господин Колдобин. Вы сейчас покажете мне, как здесь уместиться. Чтобы на равных, без понтов.
Колдобин взглянул на Кеглера коротко и зло. Так зло, как может только глядеть униженный на своего обидчика. Подобрал штанины на бедрах и полез в багажник. Выходило неловко, медленно, но все же тело человека наконец скрылось за баулами. Кеглер закрыл крышку багажника. Паше показалась, что на губах памирца на миг родилась одобрительная улыбка.
В висок стукнуло – Логинов в багажник не полез бы. Но правнуки Логинова будут говорить по-немецки. А его, Паши Кеглера, по-русски. Что бы ни болтал этот умник, сопящий под черной железной крышкой.
Он пощупал железо ладонью. Теплое, почти горячее. Почему-то вспомнилась Маша.
Из багажника донесся голос известного журналиста Колдобина. Паша заглянул в небо. Оно было желто-розовым. И плотным, как тело. Погрезилось, что это огромная женская грудь прикоснулась к земле за горизонтом. Не хотелось отрываться от этой груди взглядом. И уж тем паче уступать женское небо Колдобину…
Полчаса ожидания давно миновали, а из багажника Кеглера выпускать не торопились. Сперва его подбрасывало на ухабах, потом машина долго стояла – тогда становилось особенно душно и тревожно, и Паша то и дело, изловчаясь в изгибах тела, вглядывался в циферблат часов, включал подсветку. На стекло крупной каплей несколько раз скатывался с кончика носа пот. Затем снова поехали, самое малое час без остановок. Паша стучал что есть силы в перегородку, отделяющую багажник от салона. Ему казалось, что от ненавистного Колдобина его отделяла лишь спинка сиденья. Но, судя по всему, в проем был вмонтирован чуть ли не бронещит – и ладони, и кулак Паша отбил довольно скоро, а ногой в согбенном его положении сочно приложиться не выходило. «Сука, Колдобин, мстишь! Антисемит проклятый!» – кипел Паша в бессильной ярости.
Потом его охватила апатия. Ноги устали, икру то и дело сводило, воздуха в легких стало недоставать. Он дышал тяжело, как выброшенная на берег рыба. «Ничего, ничего, ничего. Считай, ты на тренировке подводников. В подлодке каждый день такое, – какое-то время старался утешить себя он, но этой игры хватило не надолго, и остаток пути до следующей остановки Кеглера сквозь кумар дурноты связывала с реальностью лишь одна поэтическая ниточка:
- Вот сейчас откроют крышку гроба,
- Встанешь ты, покойный во плоти.
- И Григорию Колдобину, уроду,
- Дашь в утробу так, что боже упаси!»
Машина замерла и долго не трогалась. Потом Паша услышал голоса.
«Сейчас, сейчас, – сказал он себе, – спокойно. Сразу не бей. Сразу слабо выйдет, руки-то как затекли. Выжди, чтобы уж вполную…»
Багажник открыли, в глаза брызнул острыми осколками свет. Коробки, баулы, подпирающие тело, исчезли, и оно распласталось бессильно по багажнику, голова и руки вывалились наружу.
«Только не бей сразу. Подкопи…»
Чьи-то руки подхватили его, вытащили наружу, посадили на землю. Подул ветер. Паша облизал губы. На них солеными кристалликами налип песок. Вокруг стояли люди, но ни Колдобина, ни памирца среди них не было. Лица людей были черны. Паша постарался подняться. Со второго разу получилось.
– Обкурился, а! – ткнул в него пальчиком тот, что стоял ближе, и захохотал. Другие тоже принялись смеяться. Паша ударил весельчака ногой. Нога ощущалась свалянной из ваты, но расслабленная ступня смачно чмокнула прямо в пах, и насмешник с клекотом, подавившись слюной, рухнул Паше под ноги. Душе наступило облегчение. Еще бы до Колдобина так дотянуться – и жизнь, оказывается, удалась. Вот те и Волга.
Люди вокруг повели себя странно. Они принялись указывать на корчащегося в муках сотоварища и хохотать от души, подзадоривая друг друга. Казалось, до Кеглера им не было дела. Наконец, пострадавший перестал стонать и присел на корточки. Пашу, ожидавшего драки, поразило, что он снова улыбался. «Может, здесь принято так здороваться? Так подходите, я каждому раздам», – подбадривал он себя.
– Ай, молодец! Ай, богатырь! Здоровый жеребец и в узде копытом бьет, – одобрили люди.
– Где Колдобин? Сука!
– Зачем ругаешься? Хороший человек, а сквернословишь, – люди снова засмеялись. Пашу вдруг схватили с боков за руки, развернули споро и со всего маху швырнули головой о джип. Кеглер сразу потерял сознание, но для порядка его вновь развернули, прислонили к двери и с размаху ударили в пах.
– Хватит. Понесли. Ему еще протокол подписывать, – приказал уже без всяких смешков человек, вышедший из-за машины, и Кеглера потащили в дом, на котором висела табличка «Марыйский районный отдел Комитета национальной безопасности».
Допрос Кеглера в Мары
Сентябрь 2001-го. Мары
Кеглер очнулся в тёмной комнате. Он не мог разобрать, где там потолок, где пол. Потом понял, что сидит на стуле в несколько странном положении – ноги перекинуты через спинку сверху, а голова болтается внизу. Он попробовал изменить положение, но руки оказались прикованными наручниками к спинке. Тело затекло, голова ощутимо болела, в ней что-то неприятно подрагивало, как желвачок под кожей. Паше стало страшно. Он пару раз бывал по пьянке в околотке, однажды, когда его дружку молоденький мент дал пинка под зад, Паша выбил тому зуб – после этого его сильно били, сломали нос, но то дела обычные, московские, с кем не бывало. «Там» всё ясно, «там» своя двоичная логика. Здесь – нет ничего, кроме солёного песка на зубах. Здесь нет даже Колдобина. Тем временем Григорий Колдобин как раз принимал душ в ашхабадской гостинице «Анкара». На границе Узбекистана с Туркменией они с памирцем пересели в другой чёрный джип. Первый увёз в багажнике дурня из Москвы в направлении Мары, а этот повёз известного журналиста в сторону столицы нейтральной республики. В гостинице к его приезду были готовы, милая голубоглазая девочка-красавочка назвала его по имени-отчеству и отдала ключи.
– Тот же, что в прошлый раз, Григорий Валерьевич?
– Наденька, – Колдобин придержал в своей руке прохладную ладонь, передающую ключ, – Наденька, где тут таких светлооких выращивают, а?
Девушка потупила глазки:
– Вы приезжайте поскорее ещё, я вам расскажу.
– Так я только приехал. А ты, Наденька, мне ещё в тот раз обещала…
– Уже Ораз Сарыевич звонил, о вас справлялся…
– Хорошо, наверное, хорошо. Эх, где ж тут у вас голубоглазых выращивают… Теперь не отвертишься от ответа, Наденька…
Если бы Кеглер видел Григория Валерьевича в холле гостиницы «Анкара», он, наверное, не узнал бы в этом женском угоднике тонкогубого сноба, знакомого ему под именем Колдобин. Но у Кеглера не было никакой возможности наблюдать ни за тем, как его коллега кокетничает с девицей, ни тем более за тем, как он устраивается в номере, приводит себя в порядок перед важной встречей. За Кеглером пришли два одинаковых человека, молча подняли его стул и унесли вместе с телом. Оба были коренасты, у обоих топорщились короткие чёрные усики, обоих отличали продолговатые, похожие на финики, головы. При взгляде снизу вверх, то есть именно так, как мог наблюдать их Кеглер, они казались персонажами из детского спектакля. Паша даже несколько успокоился. Знакомый бизнесмен, из тех ранних, кто повидал разных рэкетиров да бандюков, как-то объяснил Паше правду познанной им жизни: если сразу не убивают, то уже не убьют. Значит, нужен. Дальше торгуйся. Тут уж от тебя всё зависит. Если себя проторгуешь – уже сам виноват.
Близнецы тащили Пашу по лестнице вверх, и на каждой ступеньке его голова «встряхивалась», как бутон пиона на ослабевшем стебле – будто цветок этот кто-то нёс бутоном вниз, в задумчивости размахивая букетом. Наконец, стул с Кеглером опустили на пол.
– Зачем в наши края, добрый человек, пожаловал? – обратился к Паше голос сверху. Пашу порадовало, что этот голос легко выговаривал русские слова, сминая в них лишь окончания, как гильзы папирос. Поди, золотыми зубами. Обладателя голоса Кеглер увидеть не мог, как ни старался наклонить шею к груди.
– Артык, поверни этого заблудшего ишака лицом ко мне.
Кеглера немедленно развернули. Он ощутил себя шашлыком, который вращают на шампуре.
– Ну вот, добрый человек, теперь мне виден ты, кто ты есть. Бурдюк, наполненный никчемным вином, никчемными мыслями.
Паша хотел ответить, но ничего подходящего ему в голову не пришло. Видимо, долгое висение вниз головой, сопряжённое с закрепощением мышц шеи и, соответственно, с пережатием артерий, по которым кровь поступает в мозг, не сказалось положительно на способности мыслить. Паша Кеглер отчётливо осознал в этом положении, что на самом деле слово опережает мысль, и он бы наверняка, хоть и головой вниз, но выплюнул бы обладателю голоса хоть одно слово. Да только слово это накрепко прилипло к дёснам.
– Ты, добрый человек, не молчи, говори. Пока мои близнецы язык тебе впрямь не отрезали. Раз он тебе без пользы.
– Головой вверх поверните, – всё-таки выдавил из себя Кеглер.
– Вот ты на пути к исправлению. Сразу видно, что по сути ты добрый человек. Только живёшь кое-как, наоборот. Но мы поможем. Поставим твою жизнь на ноги. Только от тебя уже самого зависит, на две или на четыре. Понимаешь? Поставьте его лицом к богу.
Пашу подхватили под мышки и, не отвязывая от стула, просто перевернули и поставили на колени. Тело всем весом налегло на и без того затёкшие ноги, зато голова наклонилась, наконец, вперёд.
– Зачем тебе героин, несчастный? Зачем тебе это зелье? Зачем тебе столько? Ты жадный, а?
Кеглер не понимал, о чём идёт речь. Тот, кто обращался к нему и грозил по-учительски пальцем, оказался мал ростом и лопоух.
– Где Колдо?.. Где Колдобин? – прохрипел он. Сзади по затылку несильно, но неприятно, пронзительно ударили.
– Ты расскажи, добрый человек, кто такой твой Колдобин. Напарник твой? Сколько вы провозили? От кого? Кому? Как часто? Почему сюда… Странный ты человек.
– Я не хотел сюда. Мы в Афганистан. На съёмки. Колдобин меня убедил. Сволота.
Снова обожгло затылок.
– А не сквернословь.
Пока до Паши дошло, что взяли его на наркотиках, что пенять на Колдобина бессмысленно, поскольку тот сам влип по самые шаровары, голову ещё несколько раз пробивало током. Это возымело на Кеглера странное действие. Он вдруг понял, что в жизни нет необходимости и даже возможности сосредотачиваться на мелочах, а имеет смысл воспринимать её в общих формах, в масштабе. Ведь что с ним произошло? Что-то неразличимое, что-то размером с тёмную занавеску, заслонившую окно в жизнь. Нет, что-то похожее на чужой большой палец, заткнувший замочную скважину с какой-то «той» стороны. Зачем он вообще смотрел в эту скважину? Вот вопрос!
– Ты у нас по расстрельной статье пойдёшь, упрямый человек! Ты не человек, ты ишак, что ли, – шумел ушастый из глубокой сырой тени.
«А у животных, у них как? Тоже есть такая беда – справедливость, обида, месть? Возмездие? Нет, какое у твари возмездие… Это человечки, это их губительный мозг… Мелочное…» Кеглеру представилась разгадка всей жизненной тайны так ясно, как может ясно ощущаться поутру вкус свежего лимона, прозрачно-жёлтого лимона, взятого с блюдечка с тем, чтобы разорвать паутину дремоты. Жизнь человека – это не отрезок времени и биографии от рождении до смерти. Этот отрезок имеет координаты, но не имеет веса, массы. Чистая геометрия. Чистую геометрию нужно было отвергнуть столь же быстро и решительно, без ложного эгоизма, и возвести на её месте физику. Физику твёрдого тела. Твёрдое тело, обременённое массой жизни, это не есть то дерьмо, что по Евклиду. Это точка, одна бесконечно мягкая точка в сильно искривлённом пространстве. Бесконечная, но зато монолитная, нераздельная, и, главное, по весу хранящая в себе весь гранит горы. Тяжестью своей притягивающая к себе и гасящая в себе кванты света. В кривизне. В Лобачевском. Жизнь складывается в точку в координатах. И в новом пространстве точки-судьбы покоятся горы. И они недвижимы от рождения к смерти потугами к справедливости, к возмездию, к страсти. Мама, мама…
– В очко его. Евклида. Параллелей нет. Душа из песчинки в гору, – устало произнёс Кеглер, и лицо его осветила слабая улыбка.
К ушастому человеку подошёл один из крепышей, взялся за Пашин подбородок, приподнял его, заглянул в глаза.
– Всё. Эйфория мученика. Известное дело. Кислорода мало было, теперь мозги глючит, – примерно так выразил он своё не медицинское заключение.
– И сколько ждать?
– Это как повезёт. Если крыша не съехала – через два часа в прохладе может отмокнуть. А то, может, сутки. Чистый наркоша по глазам. Кислороду наглотался, а тут ещё мы его возбуждаем, по мозгам стучим – вот он и кайфует…
Паше вкололи успокаивающее и, предварительно сняв всё же со стула, оттащили спать.
К тому времени, как Кеглер очнулся от тяжелого сна, никак не оправдывавшего своё название, поскольку ему ничего не снилось, а просто придавило свинцом нёбо души к нёбу плоти – к тому времени Колдобин успел встретиться с симпатичным, обходительным и, главное, не безнадежно жадным Оразом Сарыевичем Сарыевым, полковником КНБ, успел получить от него деньги с почестями, как выразился полковник, вернуться в гостиницу, едва не зазвать, наконец-то, в свои покои прелестницу Наденьку, забыться здоровым сном, а поутру, без завтрака загрузиться с невеликим своим багажом в новый собственный «Брабус», за рулём которого был изваян всё тот же вечный Ашура. На этом можно было прощаться с гостеприимным Ашхабадом.
Денег, вручённых Оразом Сарыевичем, было немного. Пачка долларов пахла апельсиновой коркой, как и руки самого полковника.
«В платяном шкафу он, что ли, их держит? Вместе с кителем?» – подумал Колдобин, пересчитывая купюры. Бумажки были все разные: то десятидолларовые, то вдруг вклинивалась сотня, а то внимательный глаз с удивлением натыкался на единичку.
– Верно, доллар счёт любит, – приговаривал туркмен, с удовольствием наблюдая за тем, как мучается, ведя калькуляцию, его московский гость, – это не манаты считать. Правильные люди считают правильные деньги.
«На правильных деньгах – правильные люди», – про себя подумал Колдобин. Ещё он подумал, что не только он за такую фразочку по адресу великого Сердара, чей чеканный профиль украшал золотые кружочки местных манатов, легко мог здесь загреметь под панфары, но и господин Сарыев со своей шуточкой вполне подошёл бы ему в компаньоны по каталажке. Если к профилю Великого Сердара добавить усики, – ну вылитый Великий кормчий. Он вспомнил Кеглера. «А вы хотели бы… через века? Зачем вам?»
И Колдобину стало не по себе. Он не мог сказать, что в нём шевельнулась совесть, пыхнула коротким сочувствием к заманенному им в ловушку Кеглеру. Нет. Колдобин прошёл, как он считал, суровую школу жизни. Он отслужил в Советской армии два года, он знал, что такое судьба: одного она определяет в неудачники, и тогда не жить ему от «дедов». Другого милует. И для того, кто ощущает на себе милость судьбы, действует один принцип безопасности – его вывел для себя Колдобин – не жалеть, не присоединяться. Иначе везение оставит тебя, судьба накажет за неблагодарность.
Нет, то не была жалость.
Колдобину не то что стало жаль Кеглера, но в щёлочку приоткрывшейся форточки просочился холодок. От досадной догадки, что бестолковый еврей немыслимым путём и впрямь распихает настырным грудастым геном историю, а он, умница, так и замрёт в ледниковой толще мушкой с зажатыми в лапках долларами.
- Муха-Муха-Цокотуха,
- Позолоченное брюхо!
- Муха по полю пошла,
- Муха денежку нашла…
Колдобин подвёл итог счёту, аккуратно сложил пачку и засунул её в карман. Как уже было сказано, живых денег было немного, всего пара тысяч, но в Москву сухим остатком должны были подогнать ему новый автомобиль. А там поступай как знаешь. Хочешь – шикуй, катай милок, а хочешь – продавай.
– Мы в расчете, коллега? – задумчиво спросил полковник КНБ. Волосы на его затылке смешно топорщились упрямым ёжиком, сопротивляющимся ширящейся лысине. На смуглой коже высокого лба проступила римской цифрой вена. Размышлял полковник о том, что хоть и заработал на Колдобине, но мог бы заработать ещё больше, кабы не переплатил журналисту эти доллары. Одного лимузина хватило бы…
Идея с «мерседесом» должна была принести ему дополнительные двадцать штук, поскольку машину Колдобину, естественно, никто не покупал, а просто свои каэнбэшники в Лебапе конфисковали его у политически неблагонадежного типа. Полковник за эту работу скинул им по две штуки, зато теперь вместо 25 тысяч Колдобин обошелся ему всего в три с половиной. С учетом затрат на оформление конфискованной машины как проданной бывшим хозяином. Двадцать с лишним тысяч уже покоились у него в сейфе, и, как бы дальше ни пошло дело, этот аванс он ни за что не вернет заказчику из пакистанского посольства, решившего проплатить спецоперацию с Кеглером. Операция «Кегля» – так ее назвал Сарыев.
– Ну а что там с вашим клиентом? Стоил он таких забот? – спросил как бы невзначай Колдобин. Он хотел добавить «и затрат», но воздержался.
Его заказ состоял в том, чтобы доставить глупого неудачника Пашу Кеглера в нужное место и прибыть в Ашхабад за деньгами. Всё. Но словечко «коллега» в устах полковника побудило Колдобина вернуть, расставить всё на свои места. Да, он продажный. Да, беспринципный. Но не он «укатал» Пашу Кеглера. Этого не должен забывать гэбэшник Сарыев, у которого есть свой хозяин.
Глаза туркмена превратились в чёрные бусинки, как у сваренной креветки. Он был неплохой людовед, этот полковник, по долгу службы он должен был читать чужие страхи. Он понимал, отчего бунтует московский мэтр, он мог справиться с этим бунтом мягко, просто дав денег и девочек. Но он презирал Колдобина, всю эту пишущую братию презирал, особенно ту, что из Москвы. Он тоже мог бы быть журналистом. Стать журналистом. Но ему больше повезло. Он тоже зарабатывал на хлеб, выполняя задание, но вот тут равнять не надо… Упорством, умом, трудом, готовностью к риску он заслужил право смотреть свысока на спесивую тварь, сделавшую себе имя на собственной наглости и на глупости других. Нет, Колдобин, ты будешь просить свои тридцать сребреников, ты ещё скажешь спасибо за слово «коллега», ты ещё будешь выпрашивать каждый цент, когда будешь соглашаться на следующий заказ. Если выдастся следующий!
Ораз Сарыев был зол. Его люди из Мары сообщали какую-то ерунду, которую нельзя было передавать его тайному заказчику, страшному и щедрому. Надо было отправлять верных бойцов на Москву, обрабатывать некое новое лицо, и полковнику не хотелось этого делать без санкции самого шефа службы Назарова. Но заказчик, Одноглазый Джудда, очень торопил. И деньги, которые он платил, обеспечили бы детей полковника навсегда. Однако между ним и деньгами мельтешил безумец со смешной фамилией Кеглер. Кегля.
– Стоят не заботы, мой дорогой. Стоит покой. Что может быть дороже покоя? – Полковник вытер затылок и шею платком. – Да, как там наша Наденька?
Колдобину надо было бы удовлетворить этим любопытство, да и отправляться домой со своими честно заработанными деньгами, но история с Пашей Кеглером выбила его из колеи. Да ещё Наденька. Полковник, гадина, говорил с ним так, будто она ему уже отдалась. Будто так было по плану предусмотрено. А ведь нет! Издевается!
– Живёте вы правильно, Ораз Сарыевич. Живёте-е-е. А вот переживёте вы, туркмены, тысячу лет?
– Знаете, чем люди моей профессии отличаются от вас? Нет? Я скажу вам. Много сходства, много: хотим всё знать, внимательны к мелочам, цепкость… Наши вашей цепкости порой завидуют даже… Нет, разница в установочках. В установочках. Неконкретных. Ну что вам, москвичам, до нас, до туркмен? Тысячу лет вам здоровья и бодрого самочувствия.
Колдобин улетал в Россию с нехорошим чувством. Неясность. Что им дурень Кеглер? Что с ним? Впрочем, на случай всяких вопросиков в Москве он получил чёткие инструкции. «Чёткие, как в еврейском Талмуде», – хихикнул ещё туркмен, передавая его из рук в руки Ашуре, молчаливому, как дерево, и необходимому, как глоток воды.
Прощаясь с полковником, он спросил, когда тот пожелал ему счастливого пути на родину:
– А где она, Ораз Сарыевич?
Досадно, что Сарыев не понял вопроса, подумал, что речь идет о колдобинской родине и, подленько хихикнув, указал на дипломат с документами. Лучше бы он указал на фляжку.
Хуже того, по мере приближения самолета к Москве Колдобина охватывало чувство непоправимого. Не опасности, но неудачи, беды, трагедии. Было бы спокойнее, если бы полковник сообщил, что Кеглера в списке живущих больше не значится. Да, тогда была бы ясность. Один из двух должен быть неудачником. Но пока он жил…
В Москву Колдобин приехал трезвый, но мутный, будто неделю пил. И на следующий день предстал в редакции в самом геройском виде. «Слитая» ему полковником Сарыевым история о талибах, торгующих с генералом Дустумом, конечно, должна была стать гвоздем номера.
Но Колдобин ошибся, когда решил, что полковник неверно понял его слова о родине. Как ни странно, именно они больно хлестанули Сарыева по щекам сердца. Московской сволочи хорошо рассуждать… А его в Москве узбеком вечно звали. Сволочь! Сарыев платит деньги, Москва живет за счет их газа, и все равно узбек. Но ничего. Еще придет время, когда русские к ним на коленях приползут. Еще попляшут под их дудку!
Полковник Сарыев был человеком профессионально злопамятным. И в недобрую клетку памяти попал у него за неверный вопрос коллега Колдобин. Когда через день поутру Оразу Сарыеву доложили, что спецгруппа из трех надежных марыйских комитетчиков готова отбыть в Москву и он дал, наконец, отмашку на выполнение секретного задания государственной важности, то не забыл в своих мыслях и Гришу Колдобина. «Погоди, и твой черед придет. Дай только с крупной дичью разобраться. Ты еще позавидуешь безумцу Кеглеру».
Жизнь Логинова в Кельне
Сентябрь 2001-го. Кельн
После возвращения из ставки Масуда Логинов отметил, что в нем зреет глубокая перемена. Сперва он не нашел этому объяснения, а только обратил внимание на то, что его стали раздражать мотоциклы, самолеты в небе и даже автомобили. «Одичал», – поставил он себе простой диагноз, но позже понял, что ошибся и причина глубже. Оказалось, что Логинова еще больше достижений технического прогресса стали отталкивать памятники культуры, сокровища цивилизации. Дошло до тяжелого. У подножия Кельнского собора его чуть не вырвало.
– Володя, ты отравился. Это кислая капуста виновата, – предположила Ута[15].
Логинов и рад был бы согласиться с этим объяснением, но история едва не повторилась в музее Людвига, куда Ута вывела Логинова в один из ближайших выходных – видеться они теперь стали реже, зато уж по воскресеньям немка старалась наполнять жизнь новоэмигранта познавательным и культурным смыслом, дабы он поскорее ощутил связь с новой средой. Но дикие пятна цветов Нольде, вытянутые силуэты Кирхнера, кубоватые уродцы Пикассо привели Володю в столь плачевное состояние, что его, как город перед стихийным бедствием, пришлось эвакуировать – в безлюдном лесу, лишенном памяток рук человеческих, он долго медитировал и разобрался, наконец, в причине. Не одичание в Ходжа-Бахуитдине и вовсе не «отложенная ностальгия», хорошо известная эмигрантам, стали виной его состоянию. Логинов пришел к тому, что он, так любивший раньше познавать архитектурные души незнакомых городов, вникать в их каменное и музейное нутро, выискивать за вязью стилей хребет цивилизации, теперь, после 11 сентября по самому новому стилю, стал страдать токсикозом на европейскую историю, сохраненную краской и камнем.
«Токсикоз на общество», – объяснил Логинов Уте. Та честно постаралась понять. Понять оказалось сложно. Ей казалось, что нормальной реакцией на 11 сентября может быть только токсикоз на варварство.
– При чем тут общество? – мягко втянулась она в дискуссию. – Володечка, при чем тут общество? Общество, цивилизация – они ведь сейчас в страдательном залоге. Варвары наступают на Рим. На твой Рим! А ты отказываешься от него? Возьми себя в руки. Ты ведь сильный, ты способен к рациональности.
Она из лучших побуждений стала называть его Володечкой, но это имя предательски выдало невозможность справиться немецкому языку с русским. Володьечка! Он только сильнее отчуждался.
Володя не мог ничего объяснить. Но справиться с «токсикозом» также не мог. А если быть честным, и не хотел. Потому что чувствовал: тот плод, что он носит в себе – особый плод. Не случайно он, приверженец рационального, допускает смешение причины и следствия, очевидного пострадавшего с очевидным виновником. Соблазн вспомнить, что он – русский, что до 11 сентября был Сталинград – этот эмигрантский служка, услужливо подбегающий, когда не принимает чужбина, как родного сына, навестил было и Логинова, но был с позором изгнан. Появление служки насторожило Владимира. Он решил, что должен взять за правило постоянно наблюдать за собой со стороны. Делал это с сухой усмешкой, эдакий бесстрашный хирург, сам себе вырезающий аппендиксы. Такой же усмешкой встречал он попытки Уты помочь ему стать европейцем. Он отмечал, как Гайст, спасая «старого Логинова», отдаляется от нынешнего мужчины, от забеременевшего 11 сентября «Логинова нового». Она считает себя и его непричастными к порождению этого события? Он представляет себе дело иначе. В «новом Логинове» вместо сочувствия то и дело пузырьками из глубины поднимается мстительная радость по отношению к Уте и к себе, точнее, к прошлому Логинову. Ута уже вышла на свое «плато», «прежний Логинов» стал высшей точкой ее подъема, ее альтруизма, еще не закрепленного привычкой, ее потребности в выходе из границы Германии в сферу «души», обещаемую некоей матушкой-Россией. Теперь Россия вывезена в ларце, и обязательно надо ее воспитать и приспособить! Под цивилизацию, под общество. Плевать, что новый век распирает цивилизацию по швам или она его – Ута становится госпожой Гайст, ее формы закрепит камень. Володьечка!
Он и корил себя за сухость усмешки, но не мог сдержать ее при виде жившей возле него женщины.
И Уте все чаще становилось тяжело с ним. Ей уже довелось видеть Володю в глубоком упадке духа, в злобной иронии к миру – после гибели Картье, после пережитых им самим потрясений. После того кошмара она и решилась вывезти его сюда, и вот теперь судьба платит ей той же монетой? Нет, так говорят русские. А на самом деле судьба возвращает ей ту же монету. Даже хуже – тогда Логинова можно было понять, теперь оставалось лишь разводить руками и ждать. Но ждать можно то, что приближается, а не уменьшается в движении к горизонту… И этот оскорбляющий взгляд, будто не она его, а он ее спас! Все-таки все русские, все московские, думают о себе больше, чем они есть. Именно московские!
В ней также зрело раздражение, но вполне рационального свойства.
Зато на почве логиновского «токсикоза» Ута Гайст ощутила потребность в общении с семьей, с упрямым и холодным отцом. Она даже взяла на работе свободные дни и отправилась в Мюнхен, где встретилась с чужим, колким, но, как оказалось, очень ей нужным человеком. Чем-то отец похож на Логинова. «Они были бы хорошими врагами», – отметила она. Отец уклонился от дежурного поцелуя, осмотрел дочь трезвым строгим глазом и сказал:
– Да, дорого тебе дались московиты.
Это был пароль к семейному общению, и Ута, потупив взгляд, ответила:
– Дорого, отец.
– Ну, добро пожаловать домой, девочка, – усмехнулся он, – выпей с отцом пива.
Ута пила «Пауланер» и думала о том, что готова была бы выйти замуж за старика. Логинов прав в том, что он, как ни парадоксально, для нее слишком молод. Вот такой бы ей, как отец…
После встречи с отцом в горбоносом широкогрудом Мюнхене Уте полегчало – сегодняшнее само собой отделилось от всего, от «всей жизни», причуды Логинова заняли еще не определенное в категориях, но ясное во времени место, а вокруг обнаружилось пространство, в котором возможно уместить «свое», отдельное от них. И уж только от нее зависело, во что вырастить это отдельное – в целую ли жизнь, или оставить, как садовое растение, время от времени поливая водой. Свобода. Та самая женская свобода, которой никогда не овладеть ее московской подруге Маше!
Только росток новой зависимости тревожил, пробиваясь сквозь рыхлую, черноземную, свежую ее свободу. Зависимости от старика. От отца, но и еще от Иудея. И чем больше раздражение отсекало ее от Логинова, тем сильнее ее тянуло к Пустыннику.
Когда она сбежала на раннем поезде в Мюнхен, когда решилась на побег в прошлое, она боялась встречи с родиной, с Фатерландом, и знала, от чего идет этот страх. Мюнхен, умытый, румяный, покатый, мог восстановить ее веру в родину! Отец был правым, очень правым. От его правизны она некогда бежала сперва в Кельн, а затем в Москву!
Когда они сидели у Frauenkirche, отец пил светлое пиво, она потягивала радлер и рассказывала о жизни. Отец, сразу поняв главное, слушал без внимания. Он уже сделал свой вывод. Но когда дочь, рослая, спелая, однако, как он считал, все еще слабая, упомянула о старике-иудее, взятом ей под опеку, он принялся расспрашивать про жизнь евреев в Москве. А потом произнес слова, которые Ута сразу не осознала, и, растревоженная, торопливая, запихнула быстрой рукой в глубокий разрез распластованной памяти…
– Ты знаешь, я не нацист. Я правый, я требую порядка. Не на улицах, а в умах. Есть два вида порядка, моя заплутавшая девочка. Два вида порядка в трех видах материи. Такова химия Бога. Немецкий порядок атомов, еврейский порядок хаоса и Азия. Плазма. Вся эта Россия, Индия, Китай. Все остальное – производное от трех в химической системе элементов. И еще есть вакуум. Пустота. То, что ваше и следующее поколение еще принимают за свободу. Вакууму противятся все три, девочка. Азии не знаю. Азия – пока недозрелый арбуз… Борьба, настоящая, вечная, идет между двумя порядками, нашим и иудейским. Либо мы, либо они, либо, если мы изведем друг друга, восполнит пустоту Азия, – поделился своим видением отец.
Он рассказал об особом сферическом порядке хаоса, которого требует суровый еврейский Бог, поставивший веру, геометрию неба, над геометрией совести, а геометрию совести – над постулатами смысла. Отец старательно изучил врага, отметила Ута, впервые без раздражения по отношению к «такому» родителю.
«Три молекулы, – гудел отцовский грудной орган, – три молекулы образуют юридический порядок. Отличие – в подчинении, девочка. В химии. Вы, журналисты, пренебрегаете химией событий. Немецкий порядок мира рожден антиеврейской симметрией: здравый смысл, совесть, вера. Триада, определяющая принятие Бога. Остальное – Азия… Еще есть вакуум, который вы называете демократией и которого нет. Оставь кесарю кесарево, Азии Азию, и не пускай в себя вакуум. Ты уже повзрослела до этой мудрости, простой на словах».
Когда она вернулась в Кельн, Логинов вытянул из нее за ниточку воспоминания о Мюнхене отцовские слова, и Ута ужаснулась. Неужели в ней выжил, укоренился отец и, несмотря на все ее побеги от него, теперь овладеет ей? Неужели это в ней и различил Логинов и теперь сторонится ее? Она хотела быть левой, хотела быть открытой, хотела искупить… Бунтовала, но тяга к отцовской правоте, к маленькой мюнхенской правоте, ощутимой в ладони, как стальной шарик, как написанное черной тушью слово Deutschland, одолела бунт?. Или все же нет?
Логинов уже не поможет ей дать иной ответ. Напротив, в его неблагодарных глазах она читает приговор себе, вернее, госпоже Гайст как немке.
Но горский иудей? Что в нем такое есть, что думы о нем не отпускают ее? Что позволяет ей, несмотря на страх перед ним, надеяться найти у него защиту от вакуума, без отказа от той, прежней Уты Гайст?
Ута Гайст все те месяцы, которые прошли с момента ее возвращения из России, не теряла связи со странным, заинтересовавшим ее стариком, который оказался спутником в полете из Москвы. Она возила его в лагерь для беженцев, расположенный под городком с коротким названием Унна, она помогала оформлять бумаги. В отличие от ее московских знакомых-евреев его она про себя называла Иудеем. Она отметила его поразительную для этой национальности непритязательность. Она занялась его обустройством в общежитии под Кельном. Все это она делала, объясняя свою заботу христианской благотворительностью. Но когда старец обосновался в жилище, сложил в углу свой скарб и обратил на нее свои опустошенные солнцем зрачки, она поняла, что благотворительность закончилась, но связь осталась. Она увидела, что старец не нуждается в ней, он умеет выживать, в какие бы щели жизни ни закинула его судьба. Что уж в Германии! Это он нужен ей. Орган, который русские по ошибке называют сердцем и расположенный у женщин в области грудного отдела позвоночника, говорил даже больше – необходим! Ута, узнав о себе это и не находя возможности объяснить, испугалась, перестала появляться у Моисея Пустынника. Но тем чаще раздумывала о природе связи с ним. После периода колебаний, опасаясь злой логиновской иронии, она все же решила поделиться со своим спутником (по-немецки она называла Логинова не Freuend[16], а Lebensbegleiter[17]).
– Это последствия. Плюс инстинкт самосохранения, – жестко, но на сей раз без насмешки сказал он.
– Чего? И от чего? – угадала, но не захотела открыться она. Подумала, что он жесток, как русский земский лекарь, оперирующий без наркоза.
– Войны. Ваш немецкий комплекс. У тех, кто еще помнит, что в этой стране были евреи. Это не совесть, это скрытая ненависть. Тот самый инстинкт. У быдла он в числителе. У порядочных он обращается в знаменатель. А вот откуда он взялся, этот инстинкт – то вопрос вопросов. Кто ответит, тот король историков. Он равен вопросу, откуда берется ненависть, даже когда ей неоткуда браться. Народ неба хочет земли, народ земли – неба.
Ута постаралась сопротивляться, спорила, но спорить с Логиновым – что по гороху голыми пятками ходить.
Только после поездки в Мюнхен тяга к Иудею в ней стала неодолимой. Словно заслонку в камине открыли наверху – и потянуло туда, вверх, из печи высоко в небо.
Когда после 11 числа «партнерство» с Володьечкой стало расстраиваться, Ута не выдержала и опять отправилась к Моисею. Как будто он еще мог уравновесить отца и придать ей силы и средства, чтобы понять den Lebensbegleiter+, а, значит, в ее представлении, сохранить тот целый мир, материальным свидетельством которого в ее жизни остался Логинов.
Пустынник в ожидании своих
2001 год. Кельн
Керим Пустынник[18], он же Моисей Пустынник, не скучал по отставшим в Москве боевым товарищам. Одиночество, в первые дни лишь каплями утолявшее его жажду тишины и спокойного видения самой чужбины чужбин, превратилось со временем во всегда доступный, близкий арык, из которого можно было черпать живительную влагу.
Вот она, чужбина чужбин, родина порядка и кладбище Времени. Вот, оказывается, где умирает Время, где оно превращается в глину. И тогда из глины поднимаются жилища, жилища, жилища гномов.
Из окна машины, в которой перевозила его в лагерь для переселенцев заботливая молодая немка с коротким, как крик ночной птицы, именем и светлыми, как пустое небо, глазами, он впитывал в себя открывающуюся ему Германию. Стоял январь, а пахло печеными каштанами, дымом сжигаемого Времени, обуглившегося до черноты. Моросил дождь и чистым зеленым соком дышала трава плоских полей. Гномы пока прятались от его глаза, но Моисей знал, что они здесь, кругом, и их усилием перемещаются по ровным лекалам стальные тела, приводящие в движение эту кажущуюся жизнь.
В лагере Унна-Массен Моисею Пустыннику выдали папку бумаг, разобраться в которых под силу было лишь академику. К папке прилагались тарелки, чашки и столовый прибор. Дали и денег. Поселили в комнате, где он жил вместе с большой немецкой семьей из Киргизии и евреем из Винницы. Еврей из Винницы не молился, прятал свои ценности под матрас, подозревал в чем-то киргизов и искал понимания у Моисея. Пустынник много повидал киргизов. Встречал и торговцев, и пленных советских солдат, и тех, которые обучались в их лагерях подготовки в Афганистане и Пакистане. Но эти, «немецкие» киргизы были другой кости. Желтые волосы, белые каменные лица. Выпитые степью глаза. В глазах новых соседей в отличие от глаз винницкого еврея сквозило ожидание родины… и уже предчувствие обмана. Моисей с удивлением узнал, что эти киргизы – еще и немцы.
Моисей Пустынник провел с киргизами двое суток, а там его отселили в одиночку, где окно выходило в поле и в небо, и по утрам, и днем, и вечером, и ночью они были одного цвета, небо и поле – серого, потом с синевой, потом опять зелено-серого, пока не чернели, густея в ночи. Поле чернело позднее неба, еще сохраняя запомненный травой и землей дневной свет. Память о свете неба хранил человек Моисей Пустынник. Небо и поле. Их разделяла едва заметная линия горизонта, темная днем и светлая в ночи. Моисей вглядывался в нее, подозревая, что там-то и прячутся муравьиные гномы. Найти их, вытянуть оттуда, приманить к себе дальних ночных светлячков – и устройство зверя открылось бы ему из самого стального брюха.
– Дедушка, а зачем вам Германия? Родственники? – поинтересовался глава киргизского семейства, встретив Моисея на прогулке. У него было семеро детей и, такие же, как дети, многочисленные маленькие крепкие зубы.
– Человек сам идет в клетку. Свобода четырех миров невыносима для него.
Моисей был на пути из магазина. Там он обнаружил массу удивительных предметов. Их, как понял Пустынник, можно было есть, но он опасался, хоть и проявлял любопытство. Он приобрел фрукты и галеты, те, что напоминали галеты, которые много лет назад европейцы присылали моджахеддинам.
Киргиз покачал большой головой.
– Тяжесть это, дедушка. Вот и дети, и полна земля кровников, и встали они крепко, а я смотрю поутру – раската тут нет. Говорят, горы, поля, а все равно тесно. Моим лошадям тесно здесь.
– А где твои лошади, добрый человек?
– Так в Оше остались.
– Коневод?
– Нет, дедушка, я пастух. Тот же пастырь, только для простых тварей, для быстрых. Я под самый вскат солнца табун выведу, и душа на их спинах скачет. Верно вы сказали, что сам в клетку…
Тут уж Моисей покачал головой. Люди делятся на два типа: на тех, кто ведет род от пастухов, и тех, чьи предки распахивали землю ради ее, роженицы, плодов. Свобода пастуха не равна свободе кочевника, как нога мужчины не равна ступне женщины. Оглядев большого немца-киргиза, его тело, начавшее рыхлеть, Моисей подумал, что теперь этим телом в ночи быстро овладеют гномы, изъедят его, как изъедают термиты сладкое дерево. Подумал и о себе: его старое, лишенное спелой крови тело сохранно от гномов. Эта мысль порадовала его и даже развлекла. Дни в Унне он проводил за перемешиванием тяжелой глины, из которой никак не удавалось приступить к лепке чего-то стоящего. Глина представляла собой не мысли, а прамысли о природе любви и природе веры. Красная глина. Адам. Моисея тяготил вопрос, повелел ли Аллах любить в чистой вере, или верить лишь в чистой любви? Женщина с именем, коротким, как крик ночной птицы, сказала, сидя в его кубе и глядя в оттенки сери, что их Бог не требовал стерильной любви. Так и сказала «стерильной», и он пожалел ее, не изведавшую еще никакой любви. Пожалел и вспомнил бинты, сохранявшие стерильность лишь до того, как их обагряла жидкость жизни, свищущая из конусов пулевых ран. Белые как соль бинты из Германии, Италии, Франции санитары разрывали черными пальцами и без антисептиков стягивали ими рану на бедре, а он смотрел, не вкушая боли, на смешение начал, и уничтожение белой соли расплывающимся тяжелым цветом доставляло ему истинную боль.
Прошли зимы и лета, многие зимы и лета, несколько жизней уже прошли, а замысел любви не стал ясен настолько, чтобы можно было отделить от него и исполнить свою малую часть его и уйти. Но – уже пора, пора ясности!
Вот перед ним – нахлынувшая из раны в небе Германия. Люди должны жить в чистоте, но чистота вынуждает к хирургической жестокости. Грязь тоже порождает жестокость, но иного, животного свойства. Есть и третье – это третье цветет серостью здесь. Чистота земная, обманная, опасная. Чистота подобия. Приспособленная к жилищам гномов. Об этой чистоте и сказала немецкая девушка, проявляющая о нем нужную ей заботу: на чистом жизнь не родится.
Моисею Пустыннику давно не хотелось задавать вопросов. На войне все реже и реже встречались мудрецы, способные на них отвечать. Даже Одноглазый Джудда, старый верблюд жизни, более не казался Пустыннику человеком, у которого можно было бы узнать о связи веры и любви – тот единственный вопрос, который не открывался ему в ясной конечной форме.
А тут – даже пастуха захотелось зацепить кончиком вопроса, даже не знающую любви женщину с крупными ладонями и ступнями.
После двух недель Унны Пустынник отправился жить. Здесь это называлось «на постоянке». От слова пахло лошадью, вставшей в стойло. Глаза евреев, встреченных Пустынником в общежитии, в городской управе, на курсах местного языка, походили на грустные яблоки того же умного зависимого животного. В городе Фрехен любили таких евреев. Так говорили еще в Унне. Их селили в хорошие общежития, проявляли заботу и закрывали глаза на их капризы. У Моисея не наблюдалось капризов, и за это ему принесли в комнату новый письменный стол с ящичками и чемодан постельного белья. Главный в городе для «постоянников» немец, большой дядька с влажными губами, остался доволен собой. Он вспотел, самолично втаскивая чемодан в комнату, и вытирал синим платком лоб и шею. Он не знал, что Пустынник привык ночевать, постелив на полу шерстистое одеяло. Разговорник немецкого языка он клал под голову. Книга еще пахла типографией, но этот запах не мешал старику.
– У вас такие условия, – с завистью говорили ему те, которые уже обжили пятачок земли, притаившийся на склоне холма у подножия большого города Кельна, – когда мы вселялись, центрального отопления еще не было.
– Зато Kleidungsgeld[19] больше давали, – включались в спор другие. Моисей хотел бы топить углем и скучал по серому окну Унны. Но во Фрехене афганец узнал, что было время, когда в Германии извели всех евреев. Это удивило его, но и объяснило, отчего влажными были губы у немца, главного в городе для «постоянников».
Осмотревшись во Фрехене, Моисей Пустынник направился в Кёльн, в большую синагогу. Раввин Вайзманн, «мудрый человек», раз в неделю приезжал из Аахена и принимал новых «постоянщиков» в общину. Раввин Вайзманн слыл стариком взыскательным и даже придирчивым в вопросах Галахи, а Аахен считал местом для евреев более правильным, чем безбожный Кёльн.
Люди, сидевшие в приёмной, волновались. Шептались, что раввин Вайзманн спрашивает по Талмуду и может проверить обрезание. Юноши были бледнее свежеоштукатуренной стены.
– Где вы находите кошер? – с ходу спросил Пустынника рабби Вайзманн, ощупав Моисея неспешным взглядом.
– Бог придумал кошер раньше, чем человека, – ответил негромко Моисей. Толмач задержался с переводом и с опасением взглянул на раввина.
– В вашей стране знают имя Всесильного? – строго произнёс раввин, и толмач снова вздрогнул.
– Мера силы равна мере свободы. Кто из нас, тварей земных, знает меру свободы и закон свободы?
– Израиль и есть закон, – Вайзманн огляделся вокруг, ища опоры. Крупной полной ладонью он оперся о стол. В душе его поднялось беспокойство, а уже готовые поучительные слова рассеялись, как дым при резком порыве ветра. Но слово «Исраэл» вернуло ему уверенность. Этого опасного старика надо спросить про обрезание, надо поставить его на место.
– Кто делал вам обрезание, Моисей Шток? В каком возрасте?
Пустынник усмехнулся. Он подошёл ближе к раввину, по ходу приспустив бечёвку, служившую ему вместо ремня, и свободные штаны соскользнули с его бёдер.
– Лишь тот, кто прошёл все дороги мира, знает цену земли своей, уважаемый Вэйзманн. Я не прошёл ещё всех дорог мира, мне ещё рано на землю мою.
Рабби Вайзманну стало горячо в щеках, и ладони его покрылись экземой. Он отвёл взгляд от старика и углубился в его бумаги. Голова переводчика на страусиной шее встрепенулась. Он тоже старался рассмотреть через стол разноцветные листы. Наконец, раввин Вайзманн спросил мрачно:
– Какие молитвы вы знаете?
– Знающий не молится, молящийся не знает. Мозг знает много святых слов, сердце верит нескольким, живот понимает одно. Молитва Субботы, Заговор Святого дня и Чистого мира, понятен моему животу, уважаемый Вэйзманн. Вы верите в спасение этого мира? – Пустынник склонился над столом. Раввин из Аахена вынужден был оторваться от бумаг – лицо человека, внушившего почтенному ашкеназиту необъяснимый страх, не вмещающийся в ящичек обычного, оказалось столь близко, что он уловил особый запах старости. Его учитель, раввин Шульман из Антверпена, в те годы, когда рабби Вайзманн был ещё совсем молод, сказал, что Бог Израиля дал своему народу ключ, открывающий дверцу, которая отделяет сферу единого от ящичка частного. Но, предупредил рабби Шульман, пользоваться этим ключом – и есть наука веры. И с тех пор остался в вере Вайзманна страх не соответствовать этой науке. Страх годами прятался глубоко, но вдруг полез наружу. Рабби заставил себя посмотреть Пустыннику в глаза. «Каббалист», – понял он причину своей тоски. Моисей тоже понял, что рабби Вайзманн, поистине проницательный человек, не примет его в общину, и это осложнит выполнение и без того сложной заповеди его Субботы. И он спросил:
– Вы задаёте мне, старику, вопрос, уважаемый Вэйзманн. Ответьте и вы мне. На этот вопрос не найду ответа. Говорят, было время, когда вывелся на этой земле народ Книги. Если это правда, то почему так было угодно Богу его? И почему послал он семена его обратно на эту землю?
Когда Моисей Пустынник покинул раввина Вайзманна, люди, томившиеся в приёмной, проводили его взглядами, полными зависти. А затем вслед потянулись слухи о старике с Кавказа, который поставил на место аахенского раввина, и теперь в Кёльн пришлют нового, для усиления. Кто-то даже утверждал, что новым раввином и станет старик, ответивший на все хитрые вопросы аахенского Вайзманна и сам задавший вопрос, повергший в смущение мудреца. Шептались, что старик оказался тайным проверяющим раввината. Действительно, в Кёльн прислали второго раввина, но то был молодой англичанин из Швейцарии. Он не заменил Вайзманна, а прибыл в сложный город в качестве подкрепления. Он привёз с собой жену и пятерых мальчиков – будущих раввинов, а также целый багаж книг, призванных помочь ему разобраться во всевозможных ересях, и, пользуясь указаниями мудрецов, одолеть и победить их. Но Моисея Пустынника, нового члена кёльнской еврейской общины, эти слухи не достигли. Раз в неделю, когда в синагоге устраивались обеды для пожилых, он ездил в Кёльн, на Роонштрассе и разговаривал там с людьми, дважды в неделю он посещал курсы немецкого языка в Народной школе вместе с многодетными женщинами из Африки, упрямо говорившими только по-английски. Однажды, поразив местных чиновников до неких ими самими неведомых глубин, он явился на биржу труда и заявил о намерении работать. В качестве желаемой деятельности он вписал в анкету уход за спортивным инвентарём и спортивными полями. В то время из Москвы прибыли Черный Саат[20] и другие боевики из группы, подготовленной Одноглазым Джуддой, и Моисей Пустынник со всей своей невозмутимой и ровной энергией принялся за их обустройство. В этом деятельном состоянии его и застала Ута, навестившая его в середине сентября.
Вася на ковре у Вострикова
13–14 сентября 2001-го. Москва
Новоиспеченного полковника ФСБ Васю Кошкина[21] давно не вызывали на ковер к начальству. Как повысили в звании, как обмыли приказ, так и не вызывали. И Васю Кошкина с обретением третьей звездочки стали тяготить погоны. Он поймал себя на том, что завидует бывшему боевому товарищу Рафу Шарифулину, давно уже состоящему на службе не у Родины, а у самого себя.
Вася хорошо помнил давний разговор с Рафом – это было в Кабуле, незадолго до свержения Амина. Говорили о долге, о том, кто кому и для чего служит. Не со всяким поговоришь о таком, а с Рафом можно было. Шариф тогда своим буддистским инструментом добрался до Васиных самых внутренних органов. «Когда-нибудь ты начнешь задаваться вопросами, на которые сейчас воспрещаешь себе искать ответы, – сказал тогда Раф Шарифулин, поглядывая на боевого товарища так, будто был старше на добрый десяток лет. – Тогда тебе осточертеет служба и начет тебя точить, как растущая опухоль, необъятная наша Родина, ради которой все… Сейчас готовься, а то потом побежишь от себя, как француз по Смоленской выжженной дороге». Вася запомнил, слова Шарифа царапнули его душу. С другой стороны, Кошкин ощущал на себе странное влияние Балашова. Писательские рассуждения о внутренней родине, о том, что Родина – это субстанция, связанная более с памятью, с определенным временем жизни и с отсутствием готовности оторваться от самого себя – понятны они Васе не были, но помимо раздражения вызывали в нем чувство недопрожитости, но не в будущем, а в прошлом. Как не прогоревшее полено, которое вынули из костра и затушили, банально залив водой.
Кошкина занозило, что война, прожитая им и осевшая на душе тяжеленным камнем, для Балашова служит пластическим материалом, из которого он лепит фигурки для своего смешного театра. В этом театре ему, Васе Кошкину, отведена скромная немногословная роль. А Васе захотелось самому определить свою роль. Почему это Андреич сам может приютить в своей истории пигмея писателя, а он – нет? Вот тут-то, как ему стало казаться, мешала служба. «Частному» Рафу проще «скрыться» от Балашова, улизнуть от него… Но большой начальник, генерал Востриков вернул Васю к действительности.
– Василий Брониславович, – генерал заметно отделил отчество от имени, – не залежался ли на лаврах? Полковник – это полковник, товарищ Кошкин. Полковник – еще не генерал. Понимаешь? Помнишь наш последний разговор, полковник? Я говорил, что не надо поперек батьки в пекло!
Кошкин устремил глаза в потолок. Чего хочет от него случайный этот человек, оказавшийся на ответственном месте? Хотя, как с Горбачева пошло, все они теперь такие, эти новые генералы…
– Ты, Кошкин, разбудил зверя… – продолжил сановник Востриков, – теперь там, на самом верху, у меня выясняли…
Кошкина раздражала и манера недоговаривать предложения, и перст, указующий в небо. На самом верху… Тоже мне, да кто тебя туда пустит!
– Товарищ генерал, если вы о заложниках, то ведь освободили, как того требовала поставленная руководством задача. Наше дело маленькое. Но важное.
– Ладно, Кошкин. Дурку тут не валяй. Умельцы вы тут дурку валять. У тебя татар в роду нет? Вот так-то. А то хитрый, как татарин. Ты мне о заложниках, а я тебе об этом, как его. Афганец этот. Шах Масуд.
«Деревня, – выругался про себя Вася, – жаль, что когда генеральские звезды „кабинетным“ дают, то теоретический экзамен не принимают. Типа канминимума».
– Вы имеете в виду главнокомандующего Северным альянсом Ахмадшаха Масуда? – уточнил он.
– Да, главнокомандующего. Меня теперь наши главнокоманующие трясут, отчего это мои люди в обход внешней разведки с Масудом сносятся и арабскими террористами занимаются.
– Террористы, непосредственно угрожающие России, – наш профиль. Как я понимаю. А арабские они, чеченские, солнцевские или коптевские – это вопрос статистики для теоретиков из аналитических отделов.
Востриков поднял голос, и Вася вдруг догадался по ломкой ноте, что начальник – существо несчастное, затравленное, одинокое.
– Тебе незачем понимать, Кошкин! Ты что себе думаешь? Тут покруче твоих дружков люди есть… Ветераны! Родина знает, кого в генералы… Побегаешь у меня в служках-дружках! Ты мне чтоб через месяц все об этих хулиганах раскопал, чтоб ни днем позже. А то я тебе звезды укорочу, узнаешь меня!
– Слушаюсь! – буркнул Вася.
«Узнаю. Кишка у тебя тонка меня разжаловать». Опытный Кошкин предположил, что общие разговоры о том, что освобожденные его группой заложники как-то связаны с Масудом, докатились до верха, там проявили интерес, и теперь Востриков хочет прошустрить, выслужиться вперед разведки. Вот и стоит трехзвездный Вася Кошкин на ковре, как нашкодивший школьник в кабинете директора. Стоит и думает, кому же он теперь служит, какой «внутренней родине»? Впрочем, спорить с генералом бесполезно. Вася просто махнул рукой и решил забыть на неделю о вздорном генерале. На Руси обещанного три года ждут. А теперь даже и в ФСБ.
Однако Востриков напомнил о себе гораздо раньше, чем ожидал Василий. Уже в тот день, когда Паша Кеглер бежал со своими пленками в московское бюро ZDF и готовился брать приступом эксперта Балашова, Кошкин снова отдувался в кабинете генерала. На этот раз Вострикова будто подменили, из него сдули воздух, так что тело обвисло на худой душе, что тебе тряпье на заборе.
– Ну вот, Кошкин. Дождались. А я ведь просил вас. Просил ведь разобраться… Просил…
Кошкин понял, что так изменилось в Вострикове: тот приобрел нечто сугубо штатское. «Может, опять переводят? Куда-нибудь в Газпром или НТВ укреплять?» – предположил Вася.
– Работаем, товарищ генерал. Не покладая рук.
– Работаете. Знаю, как вы работаете… Генерал… Знаю, какой я вам генерал… – Востриков встал из-за стола и подошел к Кошкину так близко, что тот даже отступил на шаг – иначе он смог бы упереться взглядом в желтенькую, размером с восковой пятачок, макушку.
– Говорят, у тебя, Кошкин, всегда фляга с эликсиром при себе. Вместо табельного…
– Кто такое говорит, товарищ генерал? Слуховщина это. Врут завистники.
– Брось, полковник. Не простые здесь вы, а мне в простоте острая потребность.
Вася заметил, что Востриков изрядно пьян. Зная способности начальника по «этому делу», он предположил, что генерал не просыхет минимум с их предыдущей встречи. Глубокие морщины на пиджаке подтверждали эту догадку.
– Что разглядываешь? Доставай свое табельное.
Кошкин после секундного размышления полез в карман. Было утро, фляжка приятно, полновесно и послушно легла на ладонь. Генерал чмокнул и пригубил из горла.
– Вот ты, полковник, тоже знал? – с капризной ноткой в голосе спросил Востриков и покрутил на кошкинском пиджаке пуговицу. – Все у нас, оказывается, всё знали… А я…
Генерал произвел еще один жадный глоток, вернул фляжку, вскинул птичью головку и пронзительно посмотрел на Кошкина.
– И как вы все с этим жили, а? Ты скажи мне, Кошкин, как вы жили, если знали, что все вот так…
Василий вдруг понял – у Вострикова не дома беда и не разжаловали его пока, тут другое: Вострикова смял каток истории. Бывают такие люди. Вася в своей боевой жизни видел, как генералы запивают на недели, как пытаются стреляться или адъютанта пристрелить. Но чтобы так развезло? Из-за американцев, из-за пиндосов, что получили для острастки на другой щеке земли?
– А когда дома в Москве грохнули, не пробило? – спросил он, уловив, что генерал ручной и не опасный сейчас. Кошкин понял нечто важное о жизни: и в маленького, ничтожного, по сути, человечка, навроде Вострикова, может вместиться огромное. История вмещается разом, как рояль в пустую гостиную, и делает это существо значительным и, что еще острее и важнее показалось Кошкину, – свободным. Ему стало досадно и завидно.
Васю Кошкина «американская трагедия» нисколько не впечатлила.
«Людей много накрошило. Но зато не будут теперь гладить по головам чеченских „повстанцев“, как после московских взрывов. И службы безопасности их – туфта. У нас бы размолотили чертей до черты города. Думали, они земли пуп, а теперь получили урок физики с географией». Так говорили коллеги в «фирме», такие разговоры вели пассажиры в метро, так рассуждали соседи по дому, так считала очередь в булочной. Кошкин соглашался с этим, но соглашался так же, как согласился бы, что клуб «Ювентус» лучше «Баварии» – очевидно, но издалека.
Только теперь, глядя на Вострикова, Кошкин подумал, что событие это огромно, поскольку может коснуться его судьбы. Чертов Балашов с его миллениумом. Востриков напрягся и сумел угадать его мысли.
– Ты военный человек, бывалый, дело я твое смотрел. Кожа у тебя дубленая, толстая как у апельсина. А я здесь по разнарядке, так сказать. Из пожарной охраны. А тут – колесо. Чертово колесо. Наверх думал… Осуждаете? А кто не думает? Ты вот не думаешь? А я… Да что с вас, «афганцев»… И вдруг вниз… Вся жизнь…
Востриков жадным глазом устремился на фляжку. Он был жалок.
– Да почему вниз? Наше время поспевает! Сейчас все кинутся террористов ловить, пиндосы грузинам помогать перестанут. Вам с нами в самую гору!
– Ты, полковник, не понял ни черта. И они, «там». Тоже, говорят, скачок в карьере… Но пойми ты, из шкуры не вылезешь… Не могу. Не хочу. Вот играешься в шпионов, а потом – такое. Я уже рапорт подал.
«А с чего меня вызывал? Из-за фляги, что ли?»
– А тебя я вызвал, чтобы сказать: твоих друзей теперь всех шерстить будут. Новый придет, там за спиной не забалуешь. Я-то к тебе по-доброму. Вспомните еще меня.
– Какие друзья? – прикинулся все же простачком Кошкин, протягивая тем временем генералу фляжку.
– А такие. Которые про боевиков Назари много по телевизору говорят. Которые от Шаха Масуда к тебе как к оперу на докладки бегают. Всяк сверчок знай свой шесток. И ты узнаешь, Кошкин.
Да, Вострикова все же тряхануло начальство. Но не насмерть, поскольку тот, благодаря генеральской интуиции, «нахлестался» заранее до частичной невменяемости. Вася представил себе, как начальник, дыша перегаром в пол и заметно раскачиваясь на носочках, докладывал по «делу Кошкина», к примеру, самому директору.
– Что там у вас по взрывникам афганским? Чтобы срочно передали всю информацию вашу, всю эту лабуду, во внешнюю разведку! Что вы там тянете, Востриков! Это сейчас валюты ценнее. Понимаете? Так разъясните вашему Мышкину, Кошкину и прочему зоопарку… Сам президент интересуется!
При слове «президент» воображаемого Вострикова зримо качнуло.
– А что Кошкин, ваше высокородие, – вдруг возьми да и скажи он, – Василий Кошкин – тот же солдат родины. Скажут заложников освободить – освободит. Скажут небоскреб взорвать – и взорвет. Тем горда и почетна служба наша Отечеству.
Воображаемый генерал согнулся в поклоне и зычно икнул.
– Но-но, вы мне еще ковер изгадите! – поднял голос глава ФСБ на уже, считайте, схарченного генерала. – Распустились тут сами, оттого и офицеры самоволом занимаются. Расследуют. Все все знают, все о Назари говорят, а директор ФСБ – как теща в Саратове, последним… Сам президент…
Кошкин одернул себя. Настоящий Востриков вернул ему фляжку. Там на донышке еще плескался остаток коньяка. «На глоток», – оценил Вася на слух.
– И что теперь? – просто спросил он.
– Что, что… – генерал вернулся за стол и плюхнулся в кресло, – служить будете. Родине нашей. И как полагается служить будете, полковник Кошкин! – вдруг взвизгнул Востриков и хлопнул с силой по столу подвернувшимся журналом «Солдат удачи». – Так, чтобы ни один враг! А потом и тебя скрутит в бублик!
Кошкин решил, что надо срочно встретиться с Мироновым. И в консультанты. В консультанты. Поскорее. А на душе было до странного легко: будто он сам хирург, вынувший у тяжелобольного острый камень из почки. Маленький и острый, как совесть.
Кошкин с Мироновым обсуждают 11 сентября и паритет с Ютовым
Вася Кошкин намеревался приехать к Миронову домой, но тот сослался на ремонт и назначил встречу в кафе Домжура. Вася желал поговорить с Андреичем тет-а-тет, но тот, как назло, притащил за собой целый выводок родственников из Питера. Кто б мог подумать, что у Миронова могут быть родственники… Но те охотно пили пиво, нагло разглядывали Кошкина и никак не уходили.
– Это мои практиканты. Обучаются тонкостям аналитической работы. Готовлю будущее… Моя Настя[22] ведь понесет. Когда-то и от кого-то, – представил их Миронов.
«Дрожжи они у вас учатся расщеплять. Печенью», – подмывало съязвить Кошкина, но он смолчал, поскольку на одного молодого любителя мироновской аналитики приходились две спелых практикантки. «Откуда он их берет? Не время сейчас». Вася замкнулся… Наконец, молодежь исчезла, получив от Андреича немножко долларов – как он сказал потом, на мороженое.
– Агентура будущего! Не замутнены сексуальными комплексами и излишним образованием! – приступил было к объяснениям Миронов, но тут появился Раф[23]. Он подошел к их столику и вместо приветствия сообщил:
– Говорят, Василий, ты небоскребы в Нью-Йорке грамотно грохнул?
От Шарифа привычно потянуло коньяком. Люди в кафе с интересом обернулись к Кошкину.
– Собака брешет, ветер носит! А с меня погоны рвут в генеральских кабинетах. Из-за ваших, между прочим, авантюр! – взвился Вася. Увидеть здесь Рафа он также не рассчитывал. Он понял, что Миронов заранее догадался, о чем поведет речь Василий, потому и вызвал на подмогу Шарифа.
– Ты что кричишь? Вспомни правило номер два: настоящий штатный сотрудник не пьет без боевых товарищей. И еще одно вспомни, – Миронов повысил голос, – звездами на погонах ты обязан этим товарищам. А отсюда вывод: не генералам их и снимать.
– А я погоны не ношу, – буркнул Кошкин и нырнул в бокал с пивом. Последние слова так и потонули на дне подбоченившейся емкости. «Почему он, тоже, кстати, полковник, и полковник действующий, – почему он должен выслушивать поучения двух отставников?» Миронов же порадовался, что первая атака отбита, можно приступать к беседе.
– Кто взорвал? Что коллеги говорят? Посвяти нас, Василий.
– Коллеги говорят, у нас смена кадров скоро пройдет. Писатели и журналисты получат чины майоров и подполковников. Говорят, что писатели теперь в большей цене, чем источники. А Нью-Йорк – с этим пусть ЦРУ и ФБР разбираются. Меня лично больше тревожит судьба героя нашего времени Василия Кошкина. А также одного не знаменитого афганца и одного знаменитого Ингуша. Знаменитого Ингуша, которого пришла пора сливать. Или сольют Васю Кошкина, 100 лет ему жить на зарплату!
Кошкин вопросительно посмотрел на Миронова, а Раф – на Кошкина. Ясно стало, что Вася всерьез пришел за Большим Ингушом, народным депутатом Русланом Ютовым, – тем единственным человеком, который связывает их судьбу с взрывниками, ушедшими на Запад.
– А что удивляться, уважаемые отставники? Господин Балашов по телевидению выступает, дева его немцам историю про террористов Назари сливает, а к этому балагану в придачу какой-то хмырь из балашовско-логиновской группировки дает интервью о взрывниках на германщине. А кончик ниточки от этой банды интеллигентов к кончику Васи Кошкина привязан. И об этом в нашем сугубо засекреченном мире всем, конечно же, известно. Такой ход мысли, Андрей Андреич, под силу не только вашим практиканткам, но даже генералу Вострикову. Я предупреждал, с писателями хорошим не кончится!
Он снял, протер и снова пристроил на переносице огромные очки, которые он надевал редко и больше для важности, чем ради остроты зрения.
– Рано кипятишься. Береги дыхание. Еще все только началось, Василий. Для нас еще все только начинается. Последствиям человеческой глупости не дано превзойти трагичностью последствия человеческого ума, – глубокомысленно сообщил Миронов.
– Когда будешь расхаживать в генеральских погонах, товарищ Василий, не забудь о том, что говорил о генералах в чине полковника, – добавил Раф.
– Положение стратегически изменилось, – лицо Миронова вдруг приняло сосредоточенное и даже сердитое выражение, и Кошкин помимо воли ощутил прилив энергии и веры в то, что Андреич снова знает, как ловчее класть по ветру истории их кораблик…
– Сдавать Руслана не будем. Теперь Руслан – последний рубеж, который мы можем сдать. Не считая нас самих. Но о присутствующих по русской традиции не говорят. О них пишут. А мы теперь для Руслана Ютова – единственный естественный союзник. Это раз. А он для нас – последний буфер между нами и темными немарксистскими силами, поддерживающими международный терроризм в его агрессивнейших, мать их, формах. Это два.
Кошкин задумался и медленно произнес:
– Что мешает нам передать Ютова моим коллегам и спать спокойно? Пусть ищут взрывников, если такие вообще существуют. Пусть торгуются за них с немцами. Не наше это дело, хоть и жаль немцев.
– А пиндосов не жаль? – поинтересовался Раф.
– А тебе?
– Да, помню. Тебе никого не жаль. Ты ведь жизнь воспринимаешь в философском, так сказать, смысле. А я нет.
– Ответ неверный, потому что не полный. Жалость проистекает либо из сострадания, либо из справедливости.
– Либо из целесообразности, – добавил Миронов. Из соленых палочек, принесенных к пиву, он соорудил на столе конструкцию, напоминающую Пентагон.
– Целесообразность в высшем смысле я, как человек сугубо буддистский, отрицаю столь же уверенно, как и справедливость, а сочувствие – зверек сугубо домашний. Я чужим на руки его не даю. И заметьте, никакой философии, геостратегии и антимарксизма.
Миронов причмокнул. Вот в таких мелочах проблескивает истинная радость жизни. Приятно думать, что Раф как-никак его ученик.
– А знаешь, Василий, что порадовало меня в твоем предложении?
– Что?
– Там не было слов о государственных интересах России. И об офицерском долге. Потому что если эти глупости, я бы решил, что новые погоны свели тебя до прожиточного минимума. Или коньяк в излишне малых количествах. Запомни главное: государственные интересы России – это мы. Мы трое и еще пара столь же отвратительных типов. Особенно сейчас, в нынешние времена развала биполярной системы… Вот. В нынешние времена предложенные тобой действия приведут к следующим незамедлительным последствиям. Первое: твои коллеги продадут тебя Ингушу за умеренную мзду, а если повезет, то и подороже – самому Зие Хану Назари. Напрямую. И не мне тебе рассказывать, как просто это сделать через посредников, которых в отличие от всего остального ваша фирма не растеряла за десять лет беспредела. Еще схема: твои генералы из страха передадут выше и выше, в администрацию, в аппарат президента, в какой-нибудь думский комитет. А там сам знаешь кто сейчас заправляет. Тля!
Кошкин опять снял очки. Печально, что Миронов мог оказаться прав.
– А далее действия противоположной стороны отработаны до естественности. Полковника ФСБ Василия Кошкина сливают и затем нейтрализуют. Но то – полбеды. Потому как сам виноват. Но вместе с ним «двинут крюком» и нескольких господ, нисколько не повинных в его глупости. Вот этого допускать никак не желательно. Тупиковая ситуация, но! Сила ютовых пока только в том, что они купили и кровью повязали тех, кто у нас наверху, но наша сила в том, что мы – в самом низу. В нашем бардаке у нас есть еще время для маневра.
– Значит, снова встреча с Ютовым? – коротко спросил Раф.
– Незамедлительно.
– Андрей Андреич, – взмахнул рукой Кошкин. Воздушная волна докатилась до Пентагона и скособочила его старательно выровненные стороны, – все бы хорошо, все бы складно, если бы не Кеглер да Балашов. После треклятого интервью в чем вы будете убеждать Ютова? Нет, наш единственный способ уйти от удара, под который ваши разговорчивые писатели-практиканты нас подставили, – это передать эстафетную палочку дальше. Это же чукче понятно!
– Не обижай чукчей… Это тебе не понятно, что тут не Ютов раскинул сети и не он их тянет. А тот, кто тянет, тот не со дна рыбу берет. Если Назари будет зачищать след, то с Ютова и начнет! Мы должны решить, сколько отдать из того, что нам известно. И неизвестно! А если ты тину поднимешь, то Назари или те антимарксистские силы, которые скрываются за этим брендом, и тебя, и Ютова как раз съедят. Не подавятся, Василий, ни погонами твоими, ни грозными очками!
Миронов тоже обозлился. Он принял решение, а после принятия решения уже не терпел возражений. И его решение было правильным. Не по логике мысли, а по логике судьбы. Но этого не понять Васе Кошкину. Вот Балашов – тот бы мог понять. Потому и влип…
– Ютов разумен. И разумно жесток. Когда ты ему станешь не нужен, он не позабудет тебя по-русски, а уберет, аккуратно вычеркнет. Пока у нас было равновесие, он терпел. А после 11 сентября равновесие нарушено, и еще как нарушено. А ты мне про какого-то Кеглера. Что он Гекубе… Соринка в глазу. Все и без него, в силу объективных причин, не раз мною указанных, но упорно игнорируемых некоторыми особо преуспевшими по службе в период политического беспредела товарищами, решительно переменилось. И теперь генерал Ютов – наш естественный, хотя сугубо временный, союзник. В силу наличия не общих целей, но общих опасностей. Ты вспоминай, Василий, навыки выживания в геополитических катаклизмах. Сейчас некто, чье имя нам неизвестно, потенцию перевел в движение. Этому «некто» больше не нужна «серая зона», типичным представителем коей является наш оппонент Ютов. Некто вознамерился как можно шире распахнуть фронты войны и желает Большого Джихада по всей дуге кризиса. В том числе и на вотчине Руслана. А Ютову вторая Чечня не нужна. Иначе из Назрани уже шли бы «двухсотые» и «трехсотые». Руслан хочет стратегически другого. Теперь ему с ними не по пути и без всяких Кеглеров, а в силу объективных обстоятельств. Руслан должен смекнуть: время открытой войны – не его время. А если еще не смекнул, то я должен ему втолковать. Ему надо помочь, чтобы он прошел с нами всего несколько шагов. И мы будем прикрыты его политическим трупом. А иначе он прикроется нашими. Ты хоть понял, Раф?
– Вопрос имею, – Шариф отвлекся от созерцания своих аккуратно выровненных ногтей, за которыми виделась культура, сравнимая с историей ухода за английскими газонами, – чтобы убедить Ютова, нужен калым. Отдавать придется. А что нам отдавать, Андрей Андреич? Опять же погоны Васины или очки?
– Отдать бы ему акулу пера! – брякнул Кошкин.
– Молодец! Не утерял! Ютову точно нужен этот выскочка. Кеглер. Мы совершим сделку с Большим Ингушом. Деловую сделку с деловым человеком. Мы пообещаем Кеглера! И поищем Кеглера! А Ютов пусть даст нам выход на немарксистские силы, устремившиеся на родину создателя «Капитала».
– Все равно авантюра, – Кошкин распустил узел галстука, стянул его через голову и погрузил в карман.
– Любое действие без соответствующей подготовки – авантюра. А мы подготовимся. Вопрос у Рафа иной – в логике. В логике нашего пациента.
– Кто чей пациент, еще поглядеть надо.
– Хорошо. Пока оппонента. Психотип – ключ к логике. Поскольку ее определяют не факты, а цели. Факты только выправляют траекторию, как бег в блиндаж под минометным обстрелом. Чего хочет оппонент? Желания, выходящие за круг обычных, выделяют из толпы Героя, Злодея и Праведника. Что сделало из генерал-майора Ютова, имя коим – легион, Большого Ингуша?
– Деньги, Андрей Андреич. Не усложняйте. Деньги и еще раз деньги. Деньги плюс география. Скопил с Афганистана капитал, собрал банду, выстоял в лихие времена – вот и пользуется теперь географией. Как таможенник своим постом. Как кто России какую гадость – это через него. Гуманитарка – к нему. Кавказцев замирять – к нему. Вот и весь Большой Ингуш. Вся премудрость. Его давно уже «двинуть крюком» пора, как вы на редкость верно сформулировали.
– Тише, тише, товарищ будущий генерал. Ты что расшумелся? – одернул Кошкина Раф.
– А что, господин частный сектор, не прав я? Сдавать его пора, и на дно.
– Для Ютова деньги – средство. У него дальняя перспектива власти. Выборы.
– Ну и что? Вот он нас завалит и выберется. Президентов субъектов Федерации у нас не судят, как известно.
– Ты не понял. И выборы – не цель. Наш объект, к счастью, имеет другие амбиции. Я полагаю, он не президентом автономии хочет быть. Он не страну, а народ хочет вести. Цари от президентов чем отличались? Тем, что о наследниках думали. «Афганские» генералы наши – порода особая. Широкое, но дисциплинированное мышление, привычка постепенного преодоления рубежей карьеры умеренным сочетанием героической жестокости и знания привычек начальства. Уважение к врагу. Плюс устойчивость к алкоголю и идеологии любого сорта. Это не диктаторы по природе. Самые настоящие демократы в наших палестинах – это они и есть. Несостоявшиеся наши пиночеты национальных окраин. Рухнувшей империи Добра и Зла, – при этих словах Раф привстал и почтительно отсалютовал Миронову пивной кружкой. – А Руслан Ютов – еще и стратег, склонный к математическому мышлению. Я его личное дело как следует изучил. Автор целой теории создания множественных союзов ко взаимной выгоде всех сторон. Название говорит об особой черте в характере оппонента: теория небесной астролябии. А ты ярлык клеишь – авантюра. Сейчас все его детище поставлено под топор! Ему, как и нам, невооруженным глазом видно столкновение геоисторических пластов. И он – в середке. С исламистами ему не по пути, уж он-то понимает, что они его, с его географией и его астролябией, теперь в миг проглотят. Это даже узбеки поняли, а Ютов и подавно разберется. С Западом ему тоже трудно. Не до него пока Западу. Даже с «Хьюман Сенчури» и то какой-то Картье, ноль без палки, а помешал. Что о политике говорить тогда? У Запада своя программа, трудом и потом выверенная, распланированная на годы, утвержденная парламентами. Бюрократия! Чечни и Грузии им пока хватает, чтобы нас за ухо держать по-учительски… Только чтобы с Россией идти, да под нее не лечь, мандата мало. А народная волна – аванс кратковременный, им распоряжаться надо умело и в нужный момент. Так учил нас и Руслана Владимир Ильич Ленин. А иначе получится слава Джохара Дудаева, которая нашему объекту не нужна. И Ютов не станет спешить. Он знает, что одной жизни не хватит, чтобы крепкий дворец поставить. Для наследника старается. Ему сейчас в Большом Джихаде определяться рано… И вот что я тебе еще скажу, Василий: бастарды от сочных любовниц – хваткие ребята. И благодарные, если им отцы дают путевку в жизнь. Благодарны, умны и злы. Два поколения – это срок закрепления династий на троне. А секретарши у Ютова спелые…
– Вы, Андрей Андреевич, такой сравнительной философией пособника международного терроризма Ютова убеждать намерились? – поинтересовался Кошкин. Неожиданному скачку в рассуждениях Миронова он уже не удивился в силу многолетней привычки.
– Не собираюсь, Вася, а уже собрался. Если… Если мы найдем журналиста, то распорядимся находкой ко взаимной временной пользе. Так он должен думать. И будет думать. Будет думать, Кеглер нам столь же нужен, как ему. Весь макроскопический опыт человечества говорит за это.
Кошкин вслед за Рафом против воли улыбнулся.
Нельзя сказать, что Миронов убедил его логикой. Напротив, чем больше распалялся Андреич в своих упражнениях, тем отчетливей становилась Васе авантюрная сторона всего предприятия. Пожалуй, лишь в одном мироновские доводы были безупречны: при всех раскладах, даже сдай он Ютова со всей его депутатской шайкой тепленьким, зарываться в песок придется глубоко, на всю предусмотренную уставом глубину блиндажа. А потому в силу вступали иные правила, и вспомнилось, как в Афганистане шли они вдвоем с Андреичем через минное поле. И расположение мин вряд ли поддавалось логике, которую на ходу, от шага к шагу, вот так же увлекаясь, развивал тогдашний майор Миронов. И Васе понравилось идти впереди и слышать в спину ворчливое: «Шагай короче, что ты ходишь, как холстомер. У тебя ноги к моим вдвое». И хорошо было. Потом.
Вася улыбнулся. Он извлек из кармана наказанный им галстук, растянул угрем на столе, разгладил утюгом ладони. Он решился.
– Снова забивать стрелку? Только учтите, мои ребята теперь в стороне. Теперь пусть господа частники потеют.
– А то частники не потеют! – окрысился Раф. Из-под припухших век мигнули желтые быстрые маячки. Миронов заметил их и возрадовался. Не только Ютову приходится искать союзников. Кого – по идее, кого – по интересу, кого – за деньги, а кого – по родству элементов судьбы. Как тут без Шарифа…
Миронов ушел раньше, озадачив поручениями. Кошкину надлежало аккуратненько, чтобы «кого не надо» не растревожить, «пробить» по спецканалам журналиста, нарисовавшегося в нужном месте в ненужное время. Легко сказать «аккуратно»!
Рафу предписывалось провести оперативные мероприятия по подготовке встречи с Ютовым.
– Ну что? Тебя-то что привело в этот сумасшедший дом? – Кошкин невидящим глазом уперся в опустевший мироновский стул.
– Так я в нем родился, Вася! Забыл? Где нас еще так оценят, как не в родной психушке? Мне хорошо здесь. Как и деду Андреичу. Опять хорошо.
– А если станет плохо?
– Жена думает, в Европу поедем. В Прагу. Пусть думает. Но я против. И деньги нужны, и Люба моя тут, с ней что?
– Ты что, всерьез припал? А ведь учил тебя Андреич: женщин всегда на одну больше, чем требуется. Если придется выбирать, с кем останешься, старик?
Раф не ответил. Кошкин в их молодые годы был красавчик, в Балашихе девки все его были. Да что Балашиха… Если б только Андреич знал… А вот теперь…
Кошкин угадал мысли Шарифа.
– Ты тоже не помолодел. Хотя тебе к лицу, – без злобы согласился он, – всему, видать, свое время, а общая мера одна.
– Нет. Просто в одной жизни упрятаны несколько. Только от предыдущей до следующей дотянуть нелегко, потому что ничего о ней не знаешь. Плывешь, как мореман без карты. Считают, у теток бабье лето… Так оно и у нашего брата есть, я понял. Для тех, кто дотянет. У Андреича уже бабий декабрь покатил. А я боюсь дожить, когда его занесет снегом. Вот тогда конец Родине.
– Ты брось этот имажинизм. Мы люди крупные. Нам и одной жизни на себя не натянуть. Лопнет, как… Да, слишком большие. Как мишень. Пьем? За то, чтобы от нас зависело как можно меньше! История делается маленькими. Маленькими, как мы. Вожди, герои, войны, революции – чухня все это. Нас возьмем: пропустим ребят Назари, они грохнут германцев, и в Европе начнется бардак и война. А ведь никто не скажет, что Вася Кошкин стоял у кормила новой истории. Или у горнила… Хотя вру, классик Балашов напишет. Маленькие люди, вот такие, как мы с тобой, пропустили ребят, клюнувших небоскреб в Нью-Йорке. Чтоб не скреб общее небо…
– Все от маленького человека, только любовь от Бога. Одна любовь от Бога. Остальное от нас с тобой.
– Значит, все же с женой? Бог ведь дал, Бог и взял… Я оттого и не женюсь!
Раф отвернулся и, не став допивать, потребовал счет. На том и расстались, как обычно, не вполне довольные друг другом.
Кошкин не сразу отправился домой, а вернулся на службу. Следовало поскорее понять, что за птица этот Кеглер.
Раф отказался от шофера. Домой и ему не хотелось. Люба сегодня была в отказе – да и отчего-то тоскливо стало от мысли о встрече с ней. Как будто ждала разлука. Или вечная жизнь. Он спустился в метро. Давно он не был под землей. Одышка. Много лиц, привычных к движению в подземных тоннелях и к долгому сидению в вагонетках. Женщины, читающие романы, мужики, изучающие газеты. Обстановка, исключающая дыхание любви. Бог не случайно на небе, он не проникает под землю. В Анголе для выполнения боевого задания он несколько дней провел под землей в деревянном пенале наподобие гроба. Психика выдержала, глаза он тренировал по специальной системе, но слух обострился настолько, что от подземных шумов, открывшихся его уху, впору было сойти с ума. Тогда ему и явилось видение: девочка, худая, со спичечными ножками, с подающей надежду грудью, с глазами, какие бывают у большой собаки, которой заноза попала под коготь. Вот такая девочка, и больше ничего. С ней он и вылежал жуткие подземные дни. И вот точно такая девочка ехала в вагоне, перед ним. Правда та, из Анголы и из мечты, была не русская, та была похожа на узбечку… Видение читало «Спид-инфо», прислонившись головой к надписи «Не прислоняться».
– Вам под землей не страшно? – спросил у нее Шариф.
Она оторвалась от чтива и подняла глаза, слегка отстранившись и закинув даже голову назад. Длинные светлые волосы пощекотали ухо сидящего пассажира. Ей было лет шестнадцать.
Рафу стало неудобно за пиво.
– Вы опасаетесь, мужчина? А чего опасаться? Я наверху-то не боюсь, – негромко ответила девушка, словно знала, что даже в шуме вагонном он расслышит ее.
– Боюсь. Давно тут не был.
– Ну, понятно. Вышли только?
– Скорее вошел.
– Ну, понятно. Ничего, привыкните. Вам до какой?
– До конца, наверное.
– Ну, понятно. Так это ж Кольцо!
– А тебе куда? Я провожу, хочешь?
– Ну, понятно. Только не говорите, мужчина, что я на вашу дочку похожа.
– Ты на мой глюк похожа. И не говори мне «мужчина». У меня имя есть несложное. Раф. Не сложнее собачьего.
– Странный вы. Опасливы под землей, а до дела – бодряк. Пошли тогда на перевал, моя станция «Пролетарская». В школе, небось, девочкам портфель носили.
– Я в школе не учился, милая. А на перевал пошли.
Девушка-девочка, перед тем как выйти из вагона, прикоснулась ладонью к Рафовой руке:
– А глюк по-немецки – счастье. Вот и глючит вас под землей.
Шариф, сам не понимая зачем, потащился за ней. Длинный московский день, запущенный легким бумажным самолетиком, плавно, но безнадежно приближался к посадке, но Рафу мерещилось, что в фиолетовом бутончике вечера, распускающегося за домами на Пролетарке, вызревает плод, ароматный, нежный, абсолютный в своей простоте и оттого неодолимо желанный, потому что от относительного, оказывается, износилась его героическая душа.
После встречи Миронова, Кошкина и Рафа. Миронов с Балашовым
Попрощавшись с Кошкиным и с Шарифом, Миронов побежал домой, откуда принялся названивать Балашову. Тот попался ему не сразу. Андреич попробовал заполучить писателя к себе, чтобы как следует разобраться с ним, но Балашов, почуяв запах паленого, от встречи уклонился. «Дела, Маша… И к маме надо съездить», – неумело соврал он, от чего градус мироновской крови дошел до точки кипения.
– Ты, Игорь, до матери можешь не доехать, – рявкнул Андреич, – скажи, где ты. И я тебе объясню, где мы сейчас находимся все вместе и по отдельности из-за твоей болтливости.
Игорю пришлось раскрыть место дислокации в городе Москве. Он сидел с Бобой Кречинским[24] в пивной, пил тяжелое разливное пиво «Тинькофф» и слушал басни приятеля, который год назад столь решительно повлиял на его судьбу. Боба не обрюзг, но постарел. Его лицо, ранее склонное к мимическому артистизму, гипсом затвердело в подкожном слое. Он рассказал Балашову, что пиво «Тинькофф» очень больно бьет по печени, но теперь ему все равно, поскольку он утратил интерес к женщинам, хотя роман о мухах-лесбиянках пошел на ура.
– Не с-слыхал о моем успехе? З-завидую. Хотя нет, нет, н-не з-завидую. Мне все равно. Понимаешь, п-пишу, а смысла нет. Нет и нет. А с другой стороны п-посмотреть, в обычной жизни р-разве не так? В вашей то есть реальности? Самое умное, что п-приходится услышать – с-смысл в детях. И что д-д-дети? А еще я недавно понял: у меня первой любви так и не с-состоялось. Сразу вторая.
– Ты поэтому про мух-лесбиянок пишешь? – сухо ответил Балашов. В нем обнаружилось глухое чувство, похожее на ревность. Удивительно, что не раньше, а именно теперь. «За такого гипсового павлина могла выскочить Маша? С таким спать?»
– У вас-то д-дети будут? – Боба перешагнул широким махом через вопрос коллеги по цеху и поскакал дальше: – Ч-что ж, ты мужчина. Как ж-журналист Павел Кеглер с откровениями выступил, я сразу о т-тебе вспомнил. Ты Турищевой верно отказал с фильмом. Она по тебе до сих пор л-локти кусает. Интересуется! Что в тебе т-только тетеньки находят? Ладно… Скажи, как тебе сил хватило упрятать к-книгу в стол? Я бы не смог. Как ты еще в реальности умещаешься?
– Клаустрофобия. А ты мне тогда не поверил.
– Н-не поверил. Хотя… Этому не поверил. Зато п-поверил, что с М-машей у тебя может серьезно. Может, н-навсегда. Только и тут не з-завидую!
– Почему?
Кречинский ответил, но Балашов не расслышал, потому что тут как раз появился Миронов. Он вынырнул из ниоткуда прямо у столика, с нескрываемой неприязнью оглядел Кречинского и, не здороваясь, поставил перед Балашовым на стол вопрос весом с пудовый кулак.
– Павел Кеглер – птица из чьей клетки? Твоя или девушки твоей, распрекрасной и словообильной?
Кречинский же ничуть не смутился нового человека.
– И вы о К-кеглере? Я как раз к-классику объяснял: когда тайное становится явным, важно занять правильную позицию… Я ему и говорю – как ты не б-боишься…
– Это какая еще правильная? – обрезал его Миронов.
– Моя. Я п-подальше от г-глобальности. От вечностей. И от госб-безопасности. Я поближе к ж-женскому. Я уже ему объяснял. Мой к-кавказский прадед считал, что в ходе начавшегося к-крушения мира спасется матриархат и полигамия. Вот я разрабатываю основы будущего п-первобытного б-бытия. Теоретические и в малых формах.
Миронов неожиданно улыбнулся. Балашов перевел дух.
– Это Кречинский, известный писатель-модернист. По совместительству бывший супруг небезызвестной вам Маши.
– А, вот к чему полигамия, – нечто свое вычленил Андреич.
Биографическая подробность о Кречинском его не заинтересовала.
– Пойдем, Игорь, отсядем на 300 секунд, а дальше я оставлю ваш сугубо творческий тройственный союз.
– Я п-пойду. Я вам мешаю. Вот всегда т-так: в нужном месте в ненужное время. Как женская прокладка, – предложил Боба, всем своим видом давая понять, что охотно остался бы за столом.
– Вы нам не можете помешать по самой сути вещей. Но можете помешать самому себе. Времена наступают, как при Иосифе Сталине. Слово обрело вес, выраженный в последствиях оного.
Боба взял пиво и тяжелым, плоским шагом отошел к стойке.
– А почему клаустрофобия? – задумчиво оставил он свой вопрос, проходя мимо Балашова, и сам же ответил: – Реальность узка и вертикальна, как лифт? Так?
Миронов, выяснив, как возник Паша Кеглер в его пенсионной жизни, не стал ругать Балашова, хотя рука так и чесалась дать тому добрую затрещину. Предостеречь он хотел! Чудила… И Логинов хорош!
Но Миронов осознавал, что упреки мало что дадут ему. По получении максимума информации следовало использовать ситуацию с наибольшей выгодой или с минимальным ущербом для себя. В нем включился механизм, который, как ему иногда казалось, и составлял его основную человеческую суть: оценка ситуации и принятие единственно верного, хоть и не всегда логически обоснованного решения. Заработал этот маховик, и на душе полегчало. И не только оттого, что он увидел очертания выхода, но и оттого, что в решении угадывалось магическое соединение нескольких различных линий жизней в одну Судьбу. Судьбину. Он вспомнил, как мать ему, маленькому, нашептывала голодными вечерами: ничего, ничего, судьбина такая татарская. И он представлял себе их судьбину в виде теплого румяного хлеба с сахаром, и эту судьбину давал ему исподтишка, из-под фартука, татарин-дворник Яким. Затем Андрей узнал, что татары едят конину, и Яким из видения пропал, но каравай остался…
Первое, что сделал Андреич, оказавшись дома, – он бросился к телефону. Линия никак не хотела пропускать его в азиатское далеко, и все-таки, когда гнев стал уже подкатывать нетерпеливому хозяину к горлу, оттуда донесся голос афганца Куроя.
Миронов звонит Курою
Полковник Курой[25] не удивился звонку из Москвы и, как Миронову показалось, обрадовался.
– Здравствуй, старый враг! – сказал Миронов и ощутил, что если и не защекотало у него в горле, то заглотнуть коньячка граммов триста захотелось так, как не хотелось давно. С неделю, а то и две.
– Здравствуйте, полковник. Голод сводит собаку с кошкой.
– Кошка не гложет собачей кости. Это время сводит края раны.
– Я – не зарубцевавшийся край. Вы вспомнили обо мне в плохое время, полковник.
– Ты прав. Но мы так устроены с тобой, полковник: радости в одиночку, в тягости жмемся плечом к плечу – ведь нас мало.
– Теперь совсем мало. Вы меня, понимаю, в бой зовете, а у меня пора одиночества. Уеду в Германию, сяду писать книгу. Время моей войны прошло. Я отношусь к стороне, уже проигравшей, кто бы ни победил.
– Отчего к германцам? Отчего не ко мне?
– У вас не то что старых врагов не жалуют, а старых друзей. Нет, полковник, в Германию. Она лечит таких, как я. Не друзья, не враги, а чужаки. Инопланетяне. Земля неодушевленная.
Миронов представил себе, что творится сейчас вокруг афганца в стане северных после смерти Панджшерского Льва. Наверное, такой же знобкой была кожа людей, верных президенту Наджибулле, после того, как Россия окончательно отвернулась от них, а самого Наджиба повесили пакистанские офицеры из МВР, прикинувшиеся талибами. Но Андреич знал или считал, что знает Куроя: человек-гора не из тех, кто не успел подготовить себе лежбище – может быть, и в Германии, но, скорее, в близкой Масуду Франции. А что еще вероятнее, гораздо ближе: в Таджикистане, в Киргизии или в спокойном Казахстане. Миронов был убежден и в другом: афганец не ляжет на глубокое дно, пока последний его агент, последний боец не отдаст свое тело богу его войны.
Он так и сказал.
– Книги пишутся после войн, Карим. Я знаю. Мы уже написали с тобой одну книгу, но она оказалась не полна. Там не хватает по меньшей мере одной главы. Я бы ее назвал так: «Месть за Льва». Из-за нее я и беспокою тебя поздней ночью. Простишь?
– Ночь не бывает поздней, полковник. Это утро бывает ранним. Да, ради такой главы – сам буду тревожить вас каждым ранним утром.
– Золотые слова. Наш общий знакомый с пером в руке сделает из них оправу для красивого перстня – последней главы еще не написанной книги. Но ему нужна наша помощь. А нам – его слова.
– Зачем нам слова, когда мы все понимаем без слов? Наши слова слишком дороги, чтобы ими наполнять чужие книги.
Миронов подумал, что Курой напоминает о цене за спутниковую связь и тактично предлагает перейти к делу. И он решил попытаться сразу выбить «десятку». Он рассказал о журналисте Кеглере, направившемся в Афганистан и каким-то пока не ясным образом связанном с двумя обстоятельствами: с одной небезызвестной Курою ингушской темой и с гибелью Ахмадшаха. Последнее Андреич привязал к первому по наитию, то была импровизация и даже компиляция, но ведь уже не раз именно такая пальба навскидку выручала его, приносила успех. Потом уже Миронов нашел легкое объяснение тому факту, что выстрел и впрямь пришелся в «десятку»…
Афганец звучно выдохнул:
– Ваши слова сулят мне цель, полковник. Значит, я еще способен желать целесообразности. Я помогу вам и вашему писателю, но эта глава не быстро напишется. Не знаю, зачем она вам, но я рад, что точку в ней нам ставить вместе.
«Не вместе, парень, не вместе. Но при моем участии», – про себя поправил собеседника Миронов.
После передачи с Кеглером. Первый звонок Ютову
15 сентября 2001-го. Москва
Звонок Большому Ингушу Миронов отложил на утро. «Утро вечера мудренее». После разговора с афганцем Андрея Андреича безжалостно терзало одиночество, и бороться с Ютовым в такой кондиции не было сил. Кречинский с пустобрехней про вечное женское, Балашов, у которого печень последним из органов сопротивляется наступлению нового российского релятивизма, – да что они, когда его боец, его боевой товарищ Василий Кошкин, выходит, тоже скроен не по его мерке, что ли… Куда ни деться, только афганец Курой, только Руслан Ютов – они ему подобны. Как подобны друг другу золингеновские ножи. Найдет когда-нибудь археолог такой нож, и сразу по тавру определит признак века. Хотя, трезво оценивая положение афганца, и его вскоре ждет одиночество отстранения. Отстранения от века… Миронову захотелось позвонить Насте, выдумать срочное дело, вызвать сюда и вырвать ее из молодой чужой ему жизни, как больной зуб. Но он сдержался до утра. Кесарю – кесарево, Богу – богово. Миронову – мироновское.
Поутру Настя, как всегда, опоздала, и уж на ней излить накопившееся недоброе Миронов не преминул. Только что толку! Девушка была словно покрыта особым гладким слоем, как лист алоэ или тефлоновая сковородка – ливень претензий собрался в крупные шарики, да и скатился с ее покатых плеч. Встряхнет русыми волосами и скажет одним лишь изумрудным взглядом: «Корите, корите. Да, вот такая я. Жизнь короткая, а молодость – еще короче. И куда вы без меня!»
– Нельзя быть цветком полевым, девица. Сорвут, выкинут и не заметят. Серьезные дела, а ты… – угас и на этот раз гнев Андреича, – хотя что с тебя… Тут писатель твой любимый так отличился… Иногда только диву даешься, сколько вреда может причинить себе человек из одного лишь сочувствия к ближнему. Потому Христос и учил: «Возлюби как самого себя». Но не больше.
– Мой любимый писатель обо мне ни строчки не написал. Сами говорили. Так что я к нему теперь равнодушная.
– Ты сейчас за телефон засядь, и в следующем писательском опусе будет тебе место особое… Кульминационное, – добавил он.
Миронов усадил Настю дозваниваться в Союз журналистов и на телевидение, дабы разузнать все, что можно узнать о Кеглере и о его последней передаче. Эта работа была, в общем-то, бесполезной, но зато зубная боль одиночества если и не утихла совсем, то стушевалась или притаилась в глубине, в засаде. Как бы то ни было, теперь можно говорить с Ютовым.
Миронов плюнул на затраты и позвонил Ингушу с мобильного. Игра в конспирацию по-прежнему увлекала. Трубку в Назрани по офисному номеру взяла, как и положено, секретарша. По-русски она отвечала твердо, в ее голосе Миронов угадал полногрудую зрелость и медовую тягучесть. Что ж, Руслан Русланович, скажи, кто твоя секретарша, и я скажу… Похоже, накануне, с секретаршами Ютова Миронов тоже попал в «десятку». Он даже повеселел.
– У Руслана Руслановича совещание. Звоните позднее, – отразила она Миронова.
– Вы даже не спрашиваете, кто звонит? – не спеша продолжил разговор Андреич. «Генеральша на меду», уже окрестил он секретаршу.
– Нет, не спрашиваю. Это ничего не изменит.
– Милая, если бы это… – он выделил последнее слово, – ничего не меняло, я бы не звонил сюда. Я позвонил бы Руслану Руслановичу на мобильный телефон. И вы, и я отлично знаем, что нет такого совещания, которого нельзя было бы отменить, отложить, прервать или покинуть. В случае чрезвычайных ситуаций, геостратегических и личных катаклизмов. Поэтому прежде чем произнести среднестатистическое «звоните позже», все-таки поинтересуйтесь, кто звонит. И с чем.
– Скажите, кто. Но у Руслана Руслановича важное совещание.
Наконец-то Миронов уловил обиду и растерянность.
– Я понимаю, что в нашем мире пропуском через приемную депутата служит больше «кто», чем «с чем». Хотя, если с изнанки мундира посмотреть, то скажите, милая, какой процент от разумного человечества сможет кратко и ясно осветить вопрос, «с чем» она. От кого они, сказать куда ведь посильней?
Секретарша ответила неожиданно:
– Жизнь человека, уважаемый, состоит из целого минус сорок лет работы по 165 рабочих дней, в каждом из которых восемь часов. Итого пять тысяч двести восемьдесят часов. Для всех «с чем» этого времени явно не достаточно. Поэтому скажите «кто», или мы расстанемся инкогнито.
«Как пить дать, любовница. Простая так не взвинтила бы. Полногрудая генеральша, на меду настояна… Эдакая Настя в будущем. Если таковое наступит».
– Сорок лет по восемь часов – это мужской расчет. А женское – его ведь часто не вычитать, а прибавлять следует. Это мне известно, и известно так же, что известно и вам. Передайте генералу Ютову немедленно, что по срочному делу к нему московский полковник. И не говорите мне слово «позже» – это решение выходит за пределы ваших чисто служебных полномочий, голубушка.
Женщина, как ни хотелось ей швырнуть трубку, но сперва ловко и обидно схамить, все же сдержалась, пошла к патрону, который раздумывал в кабинете о делах и просил не беспокоить его. Через пять минут Андреич услышал его слегка скрипучий, хмурый, как сомкнутые брови, голос.
Курой после убийства Масуда
Вторая половина сентября 2001-го. Северный Афганистан
Полковник Курой был не из тех людей, которые откладывают важные личные дела в долгий ящик. Как-то русский офицер Миронов ему сказал, что нет ничего более государственного, чем личное, и с этой фразой он был совершенно согласен, как и всякий уважающий себя афганец. Нынешняя просьба того офицера обещала обернуться делом очень личным.
Один из руководителей разведки Ахмадшаха Масуда, полковник Курой, не мог смириться с тяжкой потерей. Он не верил, будто русские врачи в Таджикистане сумеют вернуть к жизни растерзанное тело, и сразу представил себе, что будет означать смерть Льва для войска. Еще с прошлой зимы агенты сообщали ему, что арабы что-то готовят и ближе сходятся с талибами. Но к конкретной информации разведчики подобраться никак не могли. Курой говорил о своих опасениях не только шефу службы безопасности, но и самому Масуду. Только Масуд…
– Каплю, выпавшую на сухую землю из кувшина, обратно не соберешь, Карим. Пусть наши люди делают свое дело, а враги – свое. Аллах хранит жизнь слуги столько, сколько ему она нужна.
– Иногда чуть дольше, иногда чуть меньше. Ведь и мы, стреляя, делаем поправку на ветер… – ответил разведчик. Но Масуд только улыбнулся. Отчего Кариму всегда, с самого начала его похода за Масудом казалось, что этому учителю французского открыто знание о жизни в целом, знание, не доступное другим? Может быть, благородство? Оно соединяет звенья жизни, дни и годы в целое и ясное?
И вот Масуда убили. Убили просто, так просто, что Карим не мог избавиться от мысли, что предательство, открывшее ворота убийцам, вызрело в собственных рядах. Но для дела это уже значения не имело. Лишившись головы, тело Панджшерского государства распласталось бесхребетным студнем медузьим, а через несколько дней, когда, после атаки на Нью-Йорк, из-за океана зазвучали грозные призывы, генералы северных бросились в разные стороны искать новых союзников. Карим ощутил себя неподвижной точкой черной войны, соединившей в себе слишком многое: начало новой смерти, долг, боль осени, остроту памяти. Но как в себе найти точку опоры, чтобы, оттолкнувшись, идти дальше?
– Одной ступней мир опирается на человека. На одного человека. Найдешь его, найдешь себе опору. Но помни – это опора, но не смысл, – учил его однажды, в молодости, дядя Пир аль-Хуссейни, вождь племени вазиритов. На узких голубых губах играла усмешка. Так насмехался старик над своим избранником-воспитанником, когда знал наверное, каким вопросом снедаем почтительный ученик.
– А вторая, учитель?
– А вторая – на его врага. Это знали мудрецы прошлого. Убивая врага, они отравляли и его злейшего недруга.
– А если это были они сами, учитель?
Голубые губы сошлись в линию, глаза на миг закрылись.
– Это выбор, Карим. Его не объясняют словами. Ты молод, тебе предстоит изведать выбор тогда, когда груз чужой жизни становится тяжелее собственной смерти…
Карим двадцать лет носил в чреве сущность, субстанцию, оставшуюся от непонятых им слов Пира. А теперь он понял. Мозгом, телом и существом. И улыбка Пира аль-Хуссейни оказалась равна улыбке бывшего учителя французского. Карим еще не готов был к выбору, но уже догадывался, что выбора делать и не придется, он осуществится незаметно, сам собой. Развяжется, как узелок на поясе халата, охватывающем исхудавшее тело странника.
Полковник Карим не поехал с маршалом Фахимом в Душанбе, не ответил на приглашение генерала Атты присоединиться к посольству, направленному в Дели. Отказался сопровождать хозяина Герата, Исмаил Хана, в Тегеран. Он мысленно очертил жестким черным грифелем глубокий контур, воткнув иглу циркуля в свое сердце. Учителю уже дан ответ, который еще только ищет русский полковник Миронов, в силу обстоятельств не потерявший опоры на человека и его врага. Если свобода безгранична, как время после смерти, то смысл открывается гранью, предназначенной только тебе одному. Смысл – именной, факсимильный, как сказал бы русский. Смысл, никак не увязанный с целью. Печатка на перстне.
Когда из Душанбе пришла весть, что врачам не удалось спасти Ахмадшаха Масуда, полковник Курой сел на землю, сгреб ее, старую, как прах, в ладонь и крикнул в ее ухо так, чтобы услышали его зов истлевшие телом предки. Крикнул, и птицы встрепенулись и закружили в черной воронке ночи. А потом он спросил себя, за что он воюет. За этот пепел?
– Ничто так не упрощает путь, как враг за перевалом. Ничто не искушает простым смыслом так, как знамя войны в руках, – однажды сказал ему Масуд, двадцать лет сам державший это знамя и дававший Кариму формулу смысла. И все-таки… Не земля. Не свобода. Не вера. Не ненависть. Не они сделали и Карима человеком войны. А что? Он не знал. Еще не знал. Он выполнил первую часть задачи, он нашел Человека, о которого мир упирается одной ступней… Теперь предстоит решить вторую часть задачи: восстановить равновесие, убить врага. Но сперва – его найти. Вот это и можно принять в качестве цели новой жизни – войны.
- Слава Богу, господину обоих миров,
- Царю Судного дня!
- Направь нас на путь прямой,
- Путь тех, когда ты облагодетельствовал,
- Не тех, на кого ты разгневан, и – не заблудших…[26]
Ночной звонок русского полковника и был, наверное, голосом Царя Судного дня, услышавшего его молитву. Первый раз за многие дни большой черный человек улыбнулся в усы при мысли, что жизнь земная – таинство лишь оттого, что человеку по скудости взгляда его открыта лишь малая толика уравнений, сковывающих мир событий цепями формул – оттого человек и удивляется и восхищается случаю, сводящему несводимое в один ответ. На самом деле уравнений столько, сколько неизвестных, и нет причины замирать в трепете, угадывая ходы в игре небес. Есть закономерность в том, что русский полковник, владеющий перстнем с символами Неба и Воды, станет последним перевалом на его, Керима, пути без учителя – пути, когда-то и начавшемся встречей с тем самым Мироновым. Перстень Пира аль-Хуссейни, когда-то переданный русскому, вернется… Когда-то.
После разговора с Мироновым Курой принялся за дело. Это дело он разделил на три стадии. Сперва следовало просто подумать. Ничего не делая, ни к чему себя не побуждая, просто подумать. Если существует связь между появлением Кеглера и Логинова в стане Ахмадшаха, между убийством Льва Панджшера и выступлением пресловутого Кеглера по российскому телевидению, то эта связь имеет причину. Уравнений столько, сколько неизвестных. Надо лишь спокойно искать ответ. Версию. Предположение. Догадку. Затем следует понять, на кого можно положиться в новой личной войне – исходя из предположения, что все большие друзья Льва могли теперь на деле стать главными врагами его помощника. Очертить круг. В выборе людей не требуется торопливости. Он и не будет торопиться, потому что единственное оружие слабого в борьбе с великим – это время! И лишь тогда, когда грифель по ровному кругу распорет глубокой раной кожу спящей земли, он приступит к действию войны.
Миронов после известия об исчезновении Кеглера
20 сентября 2001-го года. Москва
Маша удивила Балашова, вдруг заговорив с беспокойством о Паше Кеглере. Оказывается, его подруга после появления у него на кухне настойчивого человека в тельняшке успела проникнуться, по ее собственному выражению, «дружеским волнением». Слова Маши показались Игорю чудью, и чудью не безобидной. Настоящая женщина из любой свой чуди может вырастить сверхзадачу. Тем более женщина столичная.
Выяснилось, что Маша беседует с Кеглером по телефону в отсутствии Балашова, и, что особенно насторожило, беседует не только с ним, но и с его матерью. Она уже знает о нем подробности: и о школьной влюбленности, и о школьном же пристрастии к Бродскому, из-за собственного отчества – ах какая новость для породы Кеглеров, – и о том, что на работе давно бы сделал карьеру, если бы не лирическая его рассеянность и отсутствие практической жилки. Главное же, что Маша принесла в балашовский дом непонятно чем вызванное волнение за Пашу Кеглера. Более того, она уже упрекала в черствости Игоря, требовала, чтобы он понял и разделил ее заботу.
– Я же тебе в какой раз уже объясняю! Он мне перед отъездом позвонил. По большому секрету…
– А я тебя уже в сотый раз спрашиваю: если по секрету, то с какой стати он тебе его доверяет?
– Не груби, ты на себя не похож.
– Я не грублю. Я огрубляю. Это разное.
– В том и дело, что разное. Лучше груби, но не огрубляй. Огрубляя, ты на себя не похож. Как ты не поймешь – это случайность. Мы с тобой тоже случайно ведь.
От слова «тоже» Игорь зверел.
– Мало того что этот чудак, как баба, по телевизору наболтал с три короба, хотя договаривались. Так он еще, как и я, с тобой «тоже»! Хорошо еще, тебя с собой не увез. Как подружку. Без знакомства с мамой не решился…
Тут приходила очередь звереть Маше. Она «выдавала» Игорю колкости про его собственную маму и про многое другое. Такого всегда хватает, когда люди живут рядом больше года. Впрочем, некоторым, оказывается, довольно и месяца.
– Этот, как ты выразился, «чудак», пока некоторые о Кабуле по ветеранским басням книжку с трудом нацарапали, в том самом Кабуле сам снимал, – мерзким, ровным тоном пилила Маша.
Игорю вспомнился их спор о любви. Изгнание запаха Кеглера мифическим Смертником. Вот тебе Смертник. Вот тебе изгнание…
– Вижу, что ты себе игрушку нашла. Может, ты по Логинову скучаешь, злишься, что твоей немецкой подруге герой достался, а тебе – писатель захудалый. Злишься, мстишь мне. Только все равно Паша Кеглер – это пародия на Володю. Сама себя смешной выставляешь, – окрысился он окончательно в ходе очередной утренней перебранки.
Двойной удар произвел впечатление на Машу. Ей стало жаль Балашова и еще больше жаль Кеглера. Она осознала, что за «игрушкой», поначалу действительно призванной дразнить Балашова, прячется человек, мелькнувший через ее жизнь в никуда. С ним на самом деле могло случиться только трагическое. Но больше всех – жаль себя. И она решилась объяснить Игорю о себе.
– Ты у меня очень умный, Балашов. Но послушай меня еще раз. Один раз. И постарайся услышать. Пойми, я одинокая. Тебе трудно понять, ты уже надулся. Думаешь, а как же ты? Не то. Я женщина, Балашов. Женщина одинока иначе и почти всегда. Женщине трудно уцепиться за смысл. А чувству – чувству кто поверит, когда за тридцать… Я плыву, плыву на крохотной лодчонке. И вот остров. Логинов-остров, там гномы живут. Они не добрые, не злые, они знакомые. Женщине какая разница… Это мужчина к добру тянется, как дитя к соску. А женщина – сама добро. Только одинокое очень. Еще сто лет плыть – и Кеглер-остров. Говорят, у моряка радость, когда землю видит. Пусть необитаемую, но землю.
– А я? Я тоже остров?
– Ты мой парус, Балашов. Без тебя я не плыву сейчас. Останься мудрым, в тебе мудрость есть. А если не мудрость, то тонкость. Помоги мне, и я буду плыть, плыть мимо островов. Но от вида бесконечного моря без надежды земли я сойду с ума. Понимаешь?
Игорь услышал Машу. Просто услышал. Тонкость – путь к простоте. Он услышал, успокоился и решил помочь ей. Помочь, сохранив бдительность. Чтобы долгий штиль не вызвал мечты об острове.
«Итак, – постарался выстроить цепочку Игорь, представив на своем месте Миронова, – Паша Кеглер зачем-то отправился в Афганистан. Нет. Сначала. Их с Кеглером совместная жизнь начинается с Логинова и Масуда. Это факт. От него, по методе Миронова, и потянем. Дальше: Кеглер у них дома. Это тоже факт. Телеинтервью его – тоже факт. Все. Дальше, судя по рассказу Маши, Паша Кеглер улетает в Ташкент. Отнесем это к разряду полуфактов. С целью? С целью попасть в Ходжу и что-то снять там с неким журналистом. Именно это сообщил под великим секретом во время тайного телефонного прощания с Машей широкогрудый индюк в тельняшке. Будем считать это полуфактом… Но дальше? Дальше в дело вступает Кеглер-мама. Кеглер-мама страдает сердцем. Кеглер-сын часто звонит. Допустим. Допустим, что Маша не выдумала это с целью уколоть Балашова-сына… Интересно, а из Ходжи, с Логиновым, Кеглер-сын тоже звонил ей? Черта с два, знает он экономных немцев, они не за звонок, они за глоток воды спросят. Хотя, с другой стороны, российский крепостной – он нищий да ушлый. Ладно. Кеглер едет в Ташкент, хотя у матери предчувствие. Это не факт, но понять тоже можно. Обещает позвонить. Пусть так. Кто не обещает? Не звонит. Кеглер из Ташкента не звонит матери. Этот полуфакт – все, из чего Маша выращивает трехглавое чудище заботы, тревоги и миссии спасения. Миссия спасения – верный диагноз болезни. Для Маши, не для мамы, естественно». Балашов подумал, что Машу и впрямь проще вылечить, разделив с ней игрушечную заботу. И он выполнил просьбу Маши, связался с Мироновым, хотя сделал это скрепя сердце. Маша просила, чтобы Андрей Андреич по афганским связям выяснил, где сейчас обитает российский журналист.
– Что сама не спросишь? Андреич тебя любит…
– Любит. Только меня он слушать не станет. Он мне вина предложит или кальвадоса молдавского. Скажет, что нечего сейчас в Афганистане вменяемым людям делать. Пообещает, конечно, «выяснить», но сразу и забудет.
– А я что?
– Ты? Ты другое. Тебе он доказать что-то хочет.
– Что доказать?
– Наверное, что в нем ты наткнулся на золотую жилу Истории. С тобой он – молод… Но не важно, что. Ты объясни просьбу, он хоть шаг сделает. Ему тебя разочаровать никак нельзя. Он же от тебя зависит!
Балашов возгордился и стал прикидывать, как ему подобраться к «афганцу» с этим бредом, да еще по поводу того самого Кеглера, кто был виновником ссоры между ними. Он не решился говорить с Андреичем по телефону, а потому, махнув рукой, попросил о встрече по очень важному делу. На душе полегчало. Маша, не дожидаясь ответа, чмокнула его в затылок.
– Зачинать важные дела хорошо под светлое пиво, – обрадовал Игоря Миронов. У писателя отлегло на сердце, и он помчался к «афганцу». По дороге он поймал себя на желании, чтобы история, которую он сейчас поведает Андреичу, содержала хоть крупицу правды. И сам себя испугался: ведь как захочется такого, так и выйдет. Словно прошлое с будущим – это одна нить, продетая через игольное ушко его желания.
К вящему удивлению Балашова, Миронов отнесся к истории-бреду серьезней, чем ожидал рассказчик. «Афганец» заставил Игоря повторить ее, а потом насупился.
– Начудили вы дров. Еще отольется. Хотя опухоль – не нарыв. Вскрывать лучше раньше, чем никогда, – время от времени бормотал он свое, мироновское. Наконец, выйдя из раздумий, устремил на Игоря немигающее око.
– Будем искать. Со всевозможной срочностью. Твою Марью отблагодарим еще. Господин нам нужен. И пустая кость в домино играет. С кем он уехал? Что значит, забыл? Память тренируй. Не в меньшей мере, чем печень.
– Так ему же звонили, Андрей Андреич! Маша номер разузнала, мать Кеглера звонила. Ничего не знают. В Ташкенте расстались. Ни в какой Афганистан этот журналист не собирался, а поехал в Ашхабад. А Кеглер уговорил, уговаривал свернуть в Ходжу, да только напился. В Ташкенте его и оставили.
Андреич впервые на памяти Балашова извлек из нагрудного кармана ручку и клок бумаги, нацепил очки и принялся что-то записывать по краям листочка. Про Игоря он словно забыл.
В итоге Балашов вернулся домой озадаченный и возбужденный. Очки на носу Миронова – это дорогого стоит.
Маша, выслушав отчет, повторно поцеловала спутника и поспешила позвонить Кеглер-маме. Только тогда Игорь понял, как она верит в Миронова.
А Миронов после встречи с Балашовым поскакал по Москве, как мячик. Сперва он повидался с Кошкиным. Разговор вышел долгий, куда дольше, чем с писателем. Вася не мог взять в толк, зачем перед стрелкой с Большим Ингушом заниматься еще и каким-то Колдобиным, зачем «пробивать» его билеты через аэропорты. К чему эти хлопоты?
– Может, мне его и Кеглера-мерзавца во всесоюзный розыск? Объявлюсь у начальства по-простому, скажу, нашли, наконец, сообщников Назари. Двух российских щелкоперов! Вот потом радости для «МК»!
Но Андреич настаивал на своем так, что Кошкин понял: проще согласиться. В отместку Вася, правда, продержал Миронова в копеечном кафе «Бульварное» лишний час, делясь своей полковничьей болью.
– Уйти хочу. Как схватим за мягкое место Ютова, как выйдем на взрывников, если они есть в природе, так уйду. Скука… Ни одной бабы на работе. Хочу как Раф. Водку пьет и в ус не дует, – жаловался Кошкин, не забывая о графинчике с напитком, открытым Дмитрием Менделеевым.
– В периодической системе ты, Вася, на месте хлора. А Шариф – инертный газ. К нему тетки идут, потому что не боятся. А ты…
– Какой?
– Одновалентный.
– Обижаете? Зря. В Афганистане моя валентность вам лишней не была. Сами меня просите, а обижаете.
Миронова раздражал такой разговор, тем более что за графин, наполняемый и наполняемый, «как наша жизнь», водкой, платить предстояло ему.
– Я прошу? Да бог с тобой, Василий. Оглянись вокруг! Это я твою работу за тебя делаю. Учти: война пошла настоящая и мы к ней не готовы. Об Афганистане ты к месту вспомнил. Только теперь – не как тогда. Теперь вся Россия живот до горбатых позвонков втянет. Совсем скоро. Если до Вашингтона добрались, то до Москвы – рукой подать. Так что о рафовских частных харчах позабудь. Это скоро он к тебе с девками под крышу побежит. Как писал английский классик, век вывихнул сустав.
Миронов знал, что Раф не побежит под Васину крышу уже никогда, но успокоенный Кошкин отправился готовиться к встрече Большого Ингуша.
Миронов же этим не ограничился.
Вернувшись домой, он набрал номер старого боевого друга Ларионова. Старик в последнее время сдал, и Андреич звонил ему редко. Ларионов долго не мог расслышать, что ему говорит «афганец», хотя и узнал его голос и, когда понял, что Миронов просится в гости, с нескрываемой радостью сказал:
– Что, Андрей, убежище понадобилось? Все не угомонишься?
– Нужно, Иван, – честно, даже удивившись себе, ответил Миронов. Ему стало жаль Ларионова… Был красавец, рослый, загорелый, злой. Как сейчас видит его в кабульском далеком году…
– Ну, приезжай, если нужно. Я рад тебя увидеть. Хоть так вспомнили, – свел ершистые брови Ларионов.
Миронов не стал рассказывать товарищу ни по телефону, ни потом, при встрече, о том, что после рассказа Балашова в нем «осуществился резонанс» и его беспокойство перед встречей с Ютовым, и раньше пульсировавшее в нем, не только удесятерилось, но обрело направление, вектор. Миронов больше не желал видеть случайность в исчезновении Кеглера. Василий, конечно, был прав, видя в Ютове опасность, причем прав в большей мере, чем подозревал сам.
А, откинув случайность, «афганец» ощутил тревогу.
Когда-то Миронов объяснил Балашову схему одоления тревоги и страха: «Беспокойство – его гони, ищи за ним опасность. Опасность – действие, рождающее противодействие. Кто находит план в противодействии, тот побеждает страх».
Теперь Андреичу привелось вспоминать свои поучения на практике: уже давно он не ощущал опасности столь явственно, как теперь. Но он разработал план, и предстоящая встреча с Большим Ингушом должна была стать «спецоперацией по нейтрализации многоканальной опасности» – столь мудреное название Миронов сочинил в память о диссертации, не написанной в спокойный послеафганский год.
Кому еще передать радостную тяжесть мысли, отлитой в мягкий, но уже смертельный свинец?
«Если бы ты знал, Иван Ларионов, как ты мне нужен», – про себя произнес Миронов. Он знал, что виноват перед бывшим резидентом бывшей разведки. Но знал и свое оправдание: ну не может он заставить себя прикоснуться к старости. Не потому что боится постареть от того сам. Не потому…
Прежде чем ехать к Ларионову, Андрей Андреич собрал в портфель необходимые личные вещи. Сложившись, выглянул в окно. Потом отодрал под батареей полоску паркета, извлек из тайника сверток в промасленной тряпке, взвесил его в ладони, развернул, внимательно осмотрел предмет, словно за долгое время лежания тот мог полегчать, и запаковал обратно. Пакет он отнес соседу, которого время от времени использовал как шофера.
– Я, Роберт, в отъезде на ночь. Себе возьми пока. Завтра я тебе позвоню, съездим с тобой кое-куда, так захвати. Только держи под сиденьем.
Роберт взял сверток, усмехнулся в усы:
– Понял, Андрей Андреевич. Сделаем. Далеко ехать-то? Я машину, если что, подготовлю. А то с прошлого заезда колесо бьет. На близкое хватит, а если в дальнобой, подтянуть надо.
– Подтяни. Близкое порой подальше далекого. И супруге кланяйся.
С этим Миронов и уехал.
Ютов и Миронов. Обмен журналиста на взрывников
Следующий день сверток так и пролежал непотревоженным в квартире аккуратного соседа. Звонка от Миронова не последовало. У того образовалось иное дело.
Андреич встретился с Большим Ингушом в старом добром Домжуре. Схема встречи была не проста.
Ютов прилетел в Москву с Рустамом и его бригадой. Рустаму он поручил обеспечение своей безопасности. О том, что Соколяк прибыл в Москву еще раньше и с другим заданием, своему нукеру Ютов сообщать не стал.
Черный джип «Паджеро» подъехал к Дому журналистов в полдень, за час до назначенного времени встречи. Причалить напротив не предоставлялось никакой возможности, поэтому водила, потыкавшись по бордюрам, смирился и откатил метров за сто, к парковке у кафе. Водила то и дело чертыхался. Он ненавидел Москву.
Разведчики из машины направились в здание особняка. Один остановился у памятника и спросил другого:
– Это кто?
– Лэрмонтов, – ответил тот без нотки сомнения.
– Ага, хорошо. Наше место, кавказское. Правильное место. Рустам сказал, будем их тут на ремни резать.
Знаток классики зашел внутрь, второй остался у двери.
Бабушки-вахтерши, книги, выставленные в холле, произвели на разведчика тягостное впечатление. Ему приходилось раньше обламывать стрелки в российских городах – и в дрянных кафе, и в роскошных ресторанах, и у кинотеатров, и просто на улице. Там нередко поблизости оказывались женщины, они продавали мороженое – вот такие же старушки, как эти, собирали пивные бутылки, торговали газетами. Такие не вопили, не падали навзничь, когда поднималась пальба. Пули в таких попадали редко-редко, они заговаривали их своими медными мертвячими глазами. Но эти, здесь, были другими. Смотрели дерзко, как учительницы в школе, и он шел с нехорошим чувством чужака, которого не удостоят улыбкой ни за деньги, ни за силу. Он подумал: наверное, самое страшное, что могло бы с ним приключиться – если его заставят прочитать все эти книги…
От корешков пахло судьбами, в которых все было ложью, как в Москве. Интересно, был среди книг Лермонтов? Лермонтова разведчик уважал, бог уж ведает по какой причине.
Он подошел к лотку, напоминавшему старую деревянную школьную парту, только очень длинную, так что за нее можно было бы усадить целый класс. Взял лежащую сверху в одном из рядов книгу. Прочитал: Нострадамус. Оценил критически: «Ну что хорошего может написать человек с таким именем». Зашел в кафе, где была назначена встреча. По прошествии получаса он позвонил Рустаму и доложил обстановку. «Одни тетки здэсь. Говорю, мужчин всэх наши горы забрали». После этого два других джипа приблизились к Домжуру и остановились в переулках возле ГИТИСа. Рустам огляделся и облизнулся. Разведчик был прав. Теток, девок, ох каких девок, вокруг пенилось море. Он даже подумал пошутить, что Джахар, Шамиль и Борис Абрамович специально придумали войну-войну, чтобы теплых девок на Москве можно было топтать, как кур в чужом курятнике. Но он сдержался: Большой Ингуш сидел рядом с ним мрачнее тучи.
– Иди, Ахмет. Все сделай, как говорили. А женщины потом будут, – Рустам послал в Домжур следующего бойца. Тот сперва заплутал, вышел на Арбат, но добрые люди указали ему дорогу.
Гена Мозгин сидел за угловым столиком, напротив входа. Он пребывал в одиночестве, но никому не позволял ни подсесть, ни забрать стулья. «Занято, увы», – вежливо отклонял он посягательства. Соседний стул он нагрузил большим пакетом с портретом революционного чекиста Феликса Дзержинского.
А народу, как назло, набралось много. Кафе штурмом взяли дети – их была целая гроздь, штук пятнадцать, и успокаивали их две молоденькие училки и строгая мамаша, ограничивавшая их в пирожных. Судя по всему, классная касса уже раньше оказалась истощена. Мозгину стало жаль детей. Лакомые пирожные здесь по нынешним ценам стоили истинную копейку. Дети вращались вокруг столов проворными вихрями, зато, по неусидчивости своей, не требовали много сидячих мест. «Детям – пирожные», начертал на салфетке девиз Гена. Сам он не пил даже пива, утоляя жажду соком. Но в пражских пирожных отказать себе не мог. Мужчины-посетители интересовали бывшего майора ГРУ больше женщин, детей и пирожных. Три компании привлекали его внимание. Четверо пенсионеров интеллектуального фронта колдовали над графином водки. Мозгин сидел уже час, и графин за это время наполнялся не раз. Вряд ли это были наемные убийцы или бойцы Большого Ингуша. Хотя шеф, мудрый всезнающий Шариф, готовя Гену к заданию, объяснил, что под Ютовым ходят и кавказцы, и русские, так что на внешность ориентироваться не надо. Но одно было понятно: прицельный огонь деды вести не смогут. Если только это не бутафорская водка.
Другая группа тревожила Мозгина. Два молодых человека пили соки-воды. Не на пять минут зашли, а даже пива не пригубили. Гена не знал, что то были орлы из частной охранной фирмы «Барс», из бывших кошкинских. Действующих Вася привлекать не стал по соображениям политическим, и тут с ним даже Миронов не спорил. А бывших позвал. «Услуга за услугу». Мозгина в лицо они не знали.
Третья группа вызывала особое Генино любопытство. Не красивая, но уж больно ухоженная женщина (Мозгин оценил ее возраст просто – моложе его) пила коньяк в окружении трех мужчин. Этим господам Гена не доверил бы и шариковой ручки. А женщина ему понравилась. Угадывалась в ней аккуратная требовательность. Возможно, она здесь по тому же делу, что и он…
Разведчик Рустама, заглянув в кафе, сразу увидел человека с большим портретом Дзержинского на пакете. Отметил: в таком муравейнике русские ни брать, ни убирать патрона не решатся. Он вышел в холл, позвонил Рустаму и уселся на кожаный диван. Назло книжным теткам сел, широко расставив колени, руки скрестив на груди. Так он и провел пару десятков минут, пока в клуб не вошел сам Ютов в сопровождении Рустама и двух джигитов.
По предварительной договоренности между генералом и полковником Руслан Русланович появлялся в Домжуре первым. После того как его фигура возникла в дверях кафе, Гена отправил сигнал Андрею Андреичу, и тот спустился из зала на втором этаже вниз. С Мироновым шел Шариф, но за стол к Ютову полковник направился один. Мозгин уступил ему место.
«Черт бы побрал этих детей», – выругался про себя Гена. Сесть было совершенно некуда, а торчать свечой в зале глупо и опасно. Он подошел к стойке, поближе к женщине. Они обменялись заинтересованными взглядами.
– Ну, генерал, что будем пить на этот раз? – тем временем вместо приветствия произнес Миронов и сел. Он ощутил неудобство от того, что огромный глаз дверного проема упирается ему прямо в спину.
– Вы хозяин, полковник. Вы утратили интерес к джину?
– Пристрастие – это то, что предваряет, разжигает страсть. Джин имеет обратное действие. Да и нет здесь хорошего джина. Поэтому предлагаю водку. Напиток, более других напоминающий пьющим об их далеком, но всеобщем родстве. Нет более подходящего напитка для закрепления нашей вынужденной дружбы.
– А коньяк? Хороший французский коньяк? Солнце, линза винограда, сухость дуба, крепость времени? Нет?
Миронов покачал головой. Ютов подумал, что голова полковника сама чем-то похожа на желтую вызревшую виноградину.
– Нет, Руслан. В коньяке горек труд, пот, который уравнял крестьянина и аристократа. Это Европа, это нам далеко и от нас далеко. Чуждо в силу отсутствия простоты. В том благородном напитке, который нас сопровождает по жизни, горечь другого свойства. Она лишена благородства свободы, зато полна свободы от свободы. Так сказал мне на днях один настоящий писатель. Разве нам обоим не этого надо в нынешних геополитических обстоятельствах?
– Писатели да журналисты… Меня беспокоит, что писатели играют в вашей жизни важную роль, полковник. Водка открывает путь душе наружу, но не обратно.
– Душа – это собака. Обученная выживать душа находит путь к хозяину. Этим умением мы, генерал Ютов, отличаемся от писателей. И тем паче от журналистской хевры.
Ютову, не разобравшемуся в мироновских дефинициях, стало еще тревожней. Не так, как бывает тревожно от близкой опасности, а так, как в промозглую серую осень тревожится постаревшее сердце. Отправляясь в Москву, он склонялся к тому, чтобы все-таки сделать в своей игре выбор в пользу Соколяка, а теперь подумал, не лучше ли было бы держаться за боевого Рустама, чтобы не потерять в этой чужой осени сердце и голову. Но полковник прочитал его мысли.
– Родство силой обстоятельств и фактов. Чтобы наследники наши хранили наши души…
Две линии плана, как делящаяся надвое веточка клена, были в руках Соколяка. Для одной, боевой, он собрал маленькое войско. Вторая, мирная, казалась адъютанту Ютова никчемушной. По какой веточке поползет жучок? Ответ за Ютовым. Если с Мироновым мир, (а Соколяк отчего-то не сомневался, что воевать с полковником в нынешних обстоятельствах Ингуш не станет, иначе послал бы он на Москву одного Рустама с бригадой), то цена мира одна: прошедшая через них чертова группа взрывников, которая нынче пудом висит на шее. Что до него, то черт бы с группой, сейчас вокруг такое начнется, что слили бы ее тихо, и разошлись. Что друг друга джихадить? Слили бы. Но не он завязан на взрывников, а Рустам. Рустам знает путь к тому чинуше по кличке Писарь, который мастырил для группы крепкие паспорта. Не он, а Рустам ведал тихим уходом из жизни тех одиноких еврейских граждан, на чьи имена оформлялись корочки. Только Рустам знает последние имена, с которыми взрывники ушли через них в Россию. Знает. Но захочет ли их вспомнить? А чинуша укрылся в Чечне, и его, пугливого зверька, там, без Рустама, тоже не найти…
«Рустам ручной», – бросил Ютов Соколяку во время тайного разговора перед отъездом в Москву. И добавил коротко, плевком: «Еще ручной». Соколяку почудилось, что генерал словно попросил адъютанта убедить его в этом. Но Соколяк покачал головой, отрицая – нет, теперь не ручной Рустам. Теперь настроение иное, и это Соколяк чувствовал кожей, находясь рядом с кавказцем. Для того и поехал за Ютовым в Москву – здесь убеждать проще. Зверь вдали от логова не так кусач. Соколяк должен прикрыть Ютова в случае их неудачного разговора. На случай, если Рустама не устроит мир Ютова с Мироновым. Генерал не стал формулировать задачу адъютанту именно в такой форме, но тем и ценен стал ему Соколяк, что умел выуживать смысл, прячущийся промеж слов. Соколяк подготовился и к крайней мере. Он задумал провести ликвидацию Рустама, имитируя бандитскую разборку. «Наезд» на Большого Ингуша. Заказ уже был сделан, московские бойцы ждали только сигнала.
При упоминании о наследниках Ютов нехорошо вздрогнул. Он обозрел коротким взглядом залу и снова поймал себя на том, что из всех окружающих его человеков, из оставшихся в живых малых и больших игроков его Небесной Астролябии этот старый спутник по судьбе обладает наибольшим химическим сродством с ним. И снова полковник подхватил ютовскую мысль:
– Нет короче друзей, чем союзники поневоле. В центре нашей системы, Руслан, одна судьба, и прежде чем решать о войне и мире, давай выпьем водки – кто поймет нас, если мы изживем друг друга?
– Я заключил с вами мир. Но я не понимаю, что происходит сейчас. Я не понимаю. Мои люди нервничают. Мои партнеры нервничают. Это плохая основа для дружбы, о которой вы говорите. Вы еще не убедили меня, полковник.
Ютов говорил вежливо, но ясно давал понять и голосом, и выражением лица, кто за столом ведет игру. И Мозгин, и Шариф подобрались. Лицо ингуша-телохранителя одеревенело, будто было исполнено из того же строгого материала, что и вешалка, у которой он стоял.
– Нас возвращает в прошлое. Разворачивает к точке расхождения. И ты, Руслан, понимаешь это, иначе не приехал бы сюда, – невозмутимо продолжил свое Миронов.
– Увы, все мы подчиняемся законам марксистской физики. Даже те, кто считает себя свободными от них, – Миронов посуровел: – Суди сам, генерал Ютов: как ни увязли мы сегодня в ваших проблемах, как ни слабы наши плотины, как ни скуплена на корню наша высшая власть вами и ими, а новый Афганистан перемешает по-старому. Старые карты. Тут не национальные даже на кону. Пуп геостратегического равновесия будет разорван. Этого не дадут ни Бушу-юниору, ни нашему юниору, ни-ко-му. Волей-неволей придется определиться, с кем ты перед войной.
– Вы определились? Это вами бойкий журналист выпущен в бой?
– Я еще тогда определился. Тогда. Я – инвариант, постоянная величина системы. Не нашей системы, а той, о которой ты мне говорил.
Ютов картинно, громко вздохнул.
– Шах Масуд был, как вы сказали, инвариант!
Миронов посмотрел на собеседника, желая понять, что в большей степени несут его слова, угрозу или сожаление. Ютов не дождался ответа и продолжил:
– В моей системе нет неизменных. Не было и нет. Я выстроил ее на противоходах планет.
Тут Миронов усмехнулся. Ему понравилась эта мысль.
– Есть, генерал Ютов. В любой системе есть неизменное. Ноль точки отсчета. Философы называют этот ноль смыслом жизни, стратеги – конечной целью действий. Наша обязательная ахиллесова пята. И ты не без нее: твой наследник – вот твой инвариант. И если его нет в реальности, мы ищем его в идеальном плане. Ищешь ты, ищу я. Мы уже говорили об этом, Руслан Ютов. Мой ноль переживет это государство. Я все делаю для этого. Ты мне пока в этом деле не враг. А потому приступим к миру. Не в моих целях было нарушать его. Время не пришло.
– И я думал так, но журналист Кеглер посеял во мне сомнение. Которое побуждает к действию. С чего это он вылез на божий свет со своими откровениями про Германию?
Ютов оглянулся, и его человек, а вслед за ним Мозгин потянулись к оружию, скрытому под пиджаками.
– Журналист – не наш. Но прошел близко к нам. Судя по моим данным, очень близко. Слишком близко. И пропал. Я очень желаю знать, по какой причине и чьей воле. Мистическая фигура. Мы бы и сами хотели найти его. И понять. Нам это будет даже проще, чем вам.
Ютов странно посмотрел в зимние глаза полковника. Может ли статься, что Миронов на самом деле захочет заняться поиском? И чего желает старый лис за Кеглера? И от Кеглера? И что лучше, если сами мироновцы поймают журналиста, или, напротив, если они так и не смогут добраться до него? Ютов бродил впотьмах: он за прошедшие дни ничего, пугающе ничего не смог узнать о московских силах, двинувших на черное поле быструю шашку. Он решил прямо спросить у собеседника:
– Зачем вам журналист?
– Это не тот вопрос, ради которого стоило ехать в направлении, противоположном стратегическому.
– Хорошо. Вы уважаемый человек. Я задам другой. Что вы хотите за журналиста?
Что ж. Миронов похвалил себя. Расслабляться еще рано, но похвалить себя можно. Когда Андреич решился встречаться с Ютовым и уговорил Кошкина обойтись пока без доклада начальству, он не был уверен, что Большой Ингуш сам не разыщет предмет предполагаемого бартера – связи Ингуша в Москве велики, в спецслужбах есть свои люди, и если журналист Кеглер возник, вопреки уверениям Балашова, не по воле случая, а по замыслу, то, может статься, незачем генералу торговаться с Андреичем. Потому следовало узнать цену Кеглера, прежде чем выставлять его на продажу. И с этой задачей он, кажется, справился.
Миронов выпил водки, задержал рюмочку у рта и изучил ее дно так тщательно, словно там утонула муха. Он подозвал официантку и попросил принести графин.
– Теперь семга пойдет, – доверительно сообщил он Ютову и заказал бутерброды.
– Мы не отдаем вам Кеглера. Мы ищем его и находим. И разбираемся. Вместе. Ради нашего последнего союза. Мне надо пережить лихолетье нынешней смуты и победить. Перенести по ветру семя. Это обоснование союза с Большим Ингушом…
Ютов старательно нащупывал в потемках слов ниточку мысли и не перебивал полковника. Он уже сам налил водку из простого графина.
– …Ребята Назари… У них нет союзников навек. Ты – не союзник. Кавказ закончился, как и должен был закончиться – коротким бикфордовым шнуром к большой бомбе. Так? Ты хотел быть обезьяной, с горы смотрящей за битвой льва и носорога? Ждал часа силы? Ты ошибся. Гора, на которой ты сидел, оказалась мамонтом. Время твоего таланта, Руслан, вызрело раньше срока. Теперь ты встал меж величин, а те несутся навстречу друг другу с жуткой марксистской силой. Твое положение хуже моего, – Миронов вдруг задержался в летящей речи и хитро прищурился, – но я предлагаю взаимовыгодный выход. Вместе искать наших скелетов в наших шкафах. Ты – взрывников, мы – журналиста.
Теперь пришла очередь улыбнуться Большому Ингушу. «Ну вот, приехали. Какой-то российский отставной полковник предлагает отдать ему за какого-то паршивого журналиста партнерство с Зией Ханом Назари! Еще месяц назад после такого бартера уважаемый полковник Миронов взлетел бы на воздух, ягодицами кверху. Но теперь, после чертовых событий в Нью-Йорке, он прав, и это понял, увы, не только сам Ютов, но и Соколяк, и даже Рустам. Изменилась Небесная Астролябия. Может быть, единственным спасительным телом, за которым можно еще укрыться от несущихся друг на друга звезд, станет временный союзник по одиночеству, сокамерник по прошлому. Мелок союзник? Может быть. Но тем и велик Большой Ингуш, что умеет малое использовать в борьбе больших!» Большой Ингуш оглянулся и громко, как он уже давно не говорил буфетчицам, потребовал виски. Потом обратился к собеседнику:
– Я сегодня отвечу откровенностью на вашу прямоту, полковник Миронов. Вы проницательно правы. Я сторонник постоянного вращения, вы – слуга временного равновесия. Что вы предложите мне? Мне, Руслану Ютову, совершающему выборы в несегодняшней целесообразности? Что за вами? Государство без идеи, без власти, без сока силы? Государство, которое существует лишь потому, что еще не исчерпан бандитский общак? Единственное живое, что пока питает вас, вашу расу – это мы. Жизнь чужда морали, жизнь и есть мораль. Это знаете и вы. На что вы рассчитываете? На Америку? На Европу? Полковник, увы, вы предлагаете мне свадьбу и с чахлой, и с занудной невестой. Она не поможет мне достойно дойти до преклонных лет. Или я не прав? – Ютов произносил эти слова опять негромко, с достоинством отдаваясь словам. Он нравился себе в речи. Жаль, что она умрет, отцветет вместе с ее единственным слушателем.
Миронов понял, что последнее слово еще не сказано, что Ютов желает быть убежденным. Наверняка он привез два плана, один из которых – под пиджаком башибузука с деревянным лицом, а второй… Второй живет на кончике языка Андрея Андреича Миронова! Хуже было бы, коли Ютов согласился бы сразу – тогда жди удара в спину. Или прямо в лоб. «Что ж, раз ты, так и я», – отчеканил про себя Андреич. Он тоже окликнул официантку и попросил ром. От его командного голоса школьники на миг стихли, как птицы перед первым раскатом грозы…
Миронову вспомнилось, секундным сном наяву пронеслось, как сидел он с генералом Ютовым в его штабе в Шибергане и как сказал тот, в ком только вызревал еще будущий Большой Ингуш: «Не война разоряет землю, а отсутствие порядка. Вспомните это, когда вас снова пошлют сюда. Воевать». Сказал и наполнил стаканы американским виски. Миронов тогда позавидовал – как же, вот так, по стаканам, виски. От зависти даже стихла боль в висках и позвонках; та боль, что терзала после подрыва его автомобиля на мине. А еще ему тогда показалось, что Ютов хотел употребить слово «умирать», но перед чекистом, хоть и не совсем «тем» чекистом, остерегся. Шел 89-й год, оставалось совсем немного времени до того, как дивизия генерала должна была покинуть Афганистан, и офицер-зенитовец принес хорошую весть с «той» стороны, от духов, от Шаха Масуда: афганцы откроют коридор, опустят русских восвояси. Оттого и виски.
– Я не в мундире пришел. Я не представляю государство, Руслан. Ты знаешь. Но это – пункт второй. Вторая высота, и я еще отойду на нее. Ты представляешь мое государство больше, чем я. Даже по формальным признакам власти. Общак, как ты верно заметил, больше дело твоих, чем моих рук…
Миронов приподнял руку, не позволяя себя перебить. Из будущей книги писателя Балашова он представил себе фразу: «Вот здесь, за этим столом, решалась судьба континентальной Европы в геостратегическом разрезе»…
– Я более не представляю интересы государства. Даже так: за государством будущего нет. Человек свободный еще не способен осуществиться свободно в государственном порядке. А не свободным уже не хочет быть. Только из временной целесообразности, из страха или профита ради. И в том и в другом случае это разрушает материал. Где быстрее, где медленнее. Конечно, возможна суперидея. Если она преодолеет родовое и прочее частное. Но и здесь ловушка истории. Суперидея подлежит постоянному воспроизводству, из поколения в поколение. Но ее носители быстро изнашиваются, поскольку средства для них естественным образом становятся целью. В этом и кроется наша необходимость философская и наша сила. Мы не власть, мы орден, мы ген суперидеи. ДНК. Мы обучены, созданы выживать в любых условиях, мы не верим никакой власти, но умеем быть нужными любой. Нас слишком мало, чтобы нас вывести списком на поле боя, но слишком много, чтобы извести поодиночке. Мы не можем выигрывать войн. Но умеем подтачивать древо чужой власти. И мы способны прожить дольше, чем срок износа парадигм временем.
Миронов бросил на визави взгляд, полный восхищения порожденной им самим фразой. Но тот остался верен своей риторике.
– Вы не преувеличиваете прошлого в перспективе будущего? Почему тогда бандитская клетка во всех тканях вашей государственной печени вытесняет вашу?
– У нас сложный процесс воспроизводства. Селекция и вызревание. Я ведь сказал уже, Руслан, мы не побеждаем, мы переживаем. В любой среде. Но на нас нет досье с компроматом, хотя и мы лишены предрассудка морали. Подумай, генерал, столь ли ты силен, чтобы пережить нас? В нынешних обстоятельствах смены парадигм, после 11 сентября?
– А ваши писатели и журналисты – это новые призывники вашего ордена? – предположил Ютов. Слова полковника произвели на него большее впечатление, чем могло показаться на первый взгляд. Он вспомнил, как смурнели его высокопоставленные российские партнеры, когда он старался навести у них справки про этих новых каменщиков. Орден… Ютов представил себе, как ему придется выковыривать вот таких упрямых опанциренных Андреичей, одного за другим, как жуков из-под толстой российской дубовой коры – если все-таки война.
– Любой предмет – оружие в руках профессионала. К тому же писатель несет в организме важный фермент, превращающий его в естественного союзника.
– Какой?
Миронов не ответил. Ему пришло в голову, что Ютов не торопится. Странно это. Интересно было бы знать, сколько бойцов он собрал здесь. Может быть, прав Вася Кошкин? Может быть, и надо было крутить ему руки сразу, если уже ввязались… Может быть… Но в Шибергане, в Панджшере, в Герате не существовало «может быть». Скажи мне, генерал Ютов, в чем твоя суперидея? Помимо власти. Потому что тот, кто был с тобой в Шибергане и в Герате, не поверит словам, которые ты скажешь о свободе своего народа…
– Журналисты, писатели – не наша кость, Руслан. Но твои чеченские герои – тоже не наша. Только и не твоя. И уже никогда твоей не будут. В том твоя драма как одного из героев нашего времени.
– Отчего же? Такие же звери, как и ваши.
– Согласен полностью. Но в них есть антиген, фермент разрушения нашей системы. Когда в 127-ю особую бригаду, в спортроту новые космополиты набирали ваших бойцов, через несколько месяцев они уничтожили основу армии – избили младших офицеров и сержантов. Разве с ними вы перейдете ваш исторический Гиндукуш?
На этот раз не ответил Большой Ингуш. Миронов прав. От нынешней России проще освободиться, стряхнуть ее руку со своего плеча, чем от клещевого хвата партнеров с гор и из пустыни. И снова Ютова если не охватило, то посетило странное чувство: здесь, за столом, над которым склонились повоевавшие свое мужчины, лепилось большими грубыми ладонями нечто не только важное, но особенно личное.
– Нельзя возвращаться в прошлое навсегда. Вы это понимаете, полковник Миронов. Нельзя возвращаться больше одного раза. Прошлое – ненадежный скакун.
– Я не знаток лошадей, генерал. Мое дело – виски и огнестрельное оружие. И то и другое тем вернее, чем старей. Придет время и ты, генерал, тоже произнесешь слово «когда-то». Но сегодня от тебя зависит, что уместится там, в слове из семи букв. Счастливое число, кстати…
Юрий Соколяк, издали проводив взглядом Большого Ингуша, когда тот направился в депутатский зал Домодедово, испытал глубокую досаду. Он не знал, чем завершилась стрелка с Мироновым, эту встречу «обеспечивал» не он. Он ждал иного сигнала, но вместо приказа об атаке прозвучал отбой. Неужели Рустам согласился отдать Миронову взрывников? Соколяку не очень-то верилось в такую сговорчивость нукера. Неужели верность пса хозяину одолела самовольную жажду ветра и подвига? Соколяк, скрепя сердце, свернул свою операцию. Но сердце ныло: беда, беда! Может быть, это ревнивая жажда убрать соперника выпью стонет в груди? Соколяк черным зрачком впился в колодец души своей и более не нашел там этого чувства. И это совсем скверный знак.
Дождавшись отлета Большого Ингуша, Соколяк распустил московскую «разведроту» – слово «бригада» он не любил, – поехал в Битцу в сауну, где сперва выбрал себе двух красавиц, с которыми напился, пропел в караоке и двинул в гостиницу. Поутру, очнувшись с женщиной, он с удивлением обнаружил, что сердце больше не томит мысль об ошибке. Напротив, юный день обещал душ, хаш, страсть без любви в преддверии доброй войны… К неудовольствию Ютова, его помощник вернулся из Москвы на сутки позже положенного.
Ютов уговаривает Рустама сохранить мир с Мироновым
Из Домжура Ютов, несмотря на возражения Рустама, повелел сопровождению следовать в аэропорт и дожидаться его там. Сам же направил водителя «мерседеса» в ресторан «Шинок», что на Красной Пресне.
– Поедем, Рустам, отобедаем. Я отдохну от твоих доблестных джигитов, а они – от обязанности блюсти мое тело. Едем. Когда еще украинского сала поест истинный федуин, как не после разговора с москалем. Горилки выпьем. Сюда мы теперь не скоро.
– Пусть и охрана поест. Зачем людей отсылать? Я не верю русскому.
– А зачем тебе верить, Рустам? Верить – это моя забота. Я переговоры веду. Я знаю, ты сквитаться с ним за итальянку хочешь. Вот и Соколяк тоже хочет. Горячие вы головы. Но не время мести сейчас.
– Отчего не время? Самое время! – без жара, а с глухой, злой убежденностью выговорил Рустам. Не нравился ему ни «афганец» Миронов, который сам в Назрань не едет, а словно сюда на поклон зовет, ни вялые, без стрельбы и угроз, переговоры, будто и впрямь мир заключают, ни отправка генералом охраны, ни выбор места для трапезы. Рустам, считая себя находящимся на войне, не всегда придерживался законов адата и шариата, но то, что предложил Ютов, выглядело насмешкой. Или проверкой на послушание.
В «Шинке», когда халдей с бабьим беленым лицом поднес горилочки да пышных пирожков с грибками и с капусточкой, Ютов приблизил стопку к подбородку и произнес громко, как в микрофон:
– Не любишь ты мир, Рустам. Но не в войне жизнь. Клаузевиц говорил, что война – продолжение политики. Я добавлю: война – только дорога для доброго мира.
Рустам выдержал взгляд генерала. Что им какой-то умник Клаузевиц? Сегодня, на чужбине, рядом с набеленными мужчинами, ему особенно не хотелось соглашаться с таким Ютовым. Обидно было – Большой Ингуш казался тут не столь уж большим. Именно тут, где следовало выглядеть великаном!
– Говорят, на равнине кто рождается в год войны, в жизни тянется к миру. А отец мой так говорил – кто в горах на свет явился, на равнину не сходит. А кто сходит, тот род не от волчицы ведет.
Выпили. Ютов понял, что впервые за долгое, долгое время пьет вместе с Рустамом. А еще понял, что если дать Рустаму волю, Среднерусской низменности вообще бы не было… Они все с ума посходили. Уже свои, ручные, отбиваются от рук. Хотя мудрые говорят, что такой момент в жизни вожака всегда наступает и важно не проглядеть его. Ютов взглянул на свои руки. Они показались похожи на теплые пирожки. Нет, рано еще. Сейчас еще рано, но завтра будет поздно. Корягой в памяти всплыла фраза чертова гэбиста – чтобы наследники наши хранили наши души… Не поневоле они союзники с русским полковником, а, выходит, по большой судьбе! Большей, чем может вместить в себя весь Рустам, целиком и в розницу. Ютов решился.
– Орел горд. Косуле не взлететь орлом. Но орел подохнет с голода, если только в небе будет парить, если не спустится за жертвой. Мне, Рустам, нужны имена афганцев, прошедших по нашим путям год назад.
Большой Ингуш ждал ответа с холодом на сердце. Сможет ли он отказаться от одного из своих крыльев? Но нельзя отдаваться ветру. Один звонок, одно нажатие кнопки на мобильном телефоне, и Соколяк вернет орла с облаков на землю.
Рустам черно, недобро усмехнулся:
– Какие имена у афганцев… Саид да Хамид. Вот все имена. Зачем русскому знать лишнее? И зачем нам из-за русского ссориться с памятливыми друзьями, которые сильнее ветра?
«Что ж, повезло тебе, что не сказано слово „предать“. Еще одну попытку я дарю тебе, Рустам», – выговорил про себя Ютов. Халдей разлил по высоким стаканам морс. Жидкость в искусственном свете показалась похожей на худую кровь.
– Я объяснял тебе много раз. Помнишь, я объяснял тебе про планеты? В движении планет нет дружеского и вражеского. Есть верное и неверное. Что верно для одной планеты, гибельно для другой. Я ухожу со старой орбиты, иначе большие планеты расплющат меня, как скала и волна плющат попавший меж ними плот. Я умом, не сердцем, взвесил силы. Я ухожу и плачу свою цену. Идешь ты со мной? Или хочешь начать свой путь? Говори сейчас, и если со мной, то в твоем ответе я хочу слышать имена.
Говоря это, Ютов достал мобильный телефон и дважды нажал зеленую кнопку. Придави ее еще раз, и в телефоне Соколяка проснется, рванется на волю звук, возвещающий о начале операции «Рустам».
Рустам взглянул на телефон задумчиво. Отчего здесь он не испытывал робости перед Ютовым? Он не стал торопиться с ответом, разглядывая сутулый волосатый палец, постукивающий по клавише аккуратно обстриженным ногтем… «Нет, Большой Ингуш, ты умнее, ты дальновиднее меня, но не хитрее. Твое время прошло, и твой дух перейдет ко мне. И сын твой поведет под узду моего скакуна!»
– Я зверь войны. Я в небесных теориях слаб. Зачем раньше не сказали? Были бы имена. Теперь искать надо. Разве упомню я их? Писаря надо искать. Писарь в Чечню ушел, на дно лег. Мне ил поднимать надо. А в Москве мы сами второй конец обрубили…
«Выходя на огонь прямой наводкой, подумай, за кем первый залп», – вспомнился Ютову один из уроков тактики. Рустам был прав. Он мог себе позволить не помнить имен. И без него Писаря не найти. И в другом прав нукер: мидовского чиновника в Москве, того, кто «провел» взрывников через немецкое посольство без очереди и без «следов», сам Ютов убрал руками киллера. Сколько голов у змея! Множатся эти головы. Был один швейцарец Картье, потом возник таинственный Логинов, за ним новые, новые гниды – разведчики, журналисты, писатели, всякой твари по паре.
– Есть притча в еврейской религии, – обратился он то ли к Рустаму, то ли к самому себе. Глаза нукера вспыхнули на смуглом лице угольками интереса.
– Евреям страшными врагами были жители Египта. Ничего нет более вечного, чем вражда соседей. Еврейский народ был у египтян в рабстве, но потом Моисей вывел их и сорок лет водил по пустыне, чтобы иссочилась рабья кровь соляным потом. И еврейский Бог решил наказать народ египетский и наказал жабами. Чтобы жабы заполнили всю землю, оставленную евреями. Но послал еврейский Бог только одну жабу на землю египетскую. Один египтянин решил одолеть зло и стукнул ее палкой. Но тогда на его глазах из одной жабы стало две. Он стукнул снова – стало четыре. Он позвал людей, и принялись они изводить жаб, но те множились и множились, двоились от ударов и так и заполнили землю египетскую…
– Нам не надо сорок лет ходить по пустыне. Мы не были рабами, – отцедил свое Рустам. Про жаб он ничего не понял, но про вождя, подобного Моисею, коим хотел стать Руслан Ютов, намек показался прозрачным, как вода горного озерца.
– Многообразие форм жизни – способ сокрытия пустоты, – совсем уж непонятное для нукера изрек Ютов. Все-таки опять навеял на него туман полковник! – без колкости, но с сожалением разочаровавшегося сказал себе Рустам.
– Моисей! – ответил нукер. – Один – Моисей. Так одного звали. Моисей, вышедший из пустыни.
Палец Ютова вздрогнул и покинул кнопку.
Миронов после встречи с Ютовым
22 сентября 2001-го. Москва
Разговор с Ютовым Миронов при всем желании не мог квалифицировать как свой успех.
– Бородинская битва, – кинул он Рафу.
– Что, Москву сдадим?
– Временно. Временно отступлю на заранее подготовленные позиции.
Андреич был уверен, что убедил Большого Ингуша, но теперь инициатива осталась за генералом, и от этого на душе покоя не прибавилось. Кто знает, с кем еще встретится Ютов, пока Миронов обретет нужный для обмена товар. Нет, не успокоила встреча его тревогу. Самое время залечь в логове.
После Домжура Миронов отправился к Ларионову. Он уже освоился у того в жилище. Мимо хозяина шагал деловито, едва обращая внимание, как на знакомую до мелких царапин мебель. Ларионов радовался и старался следить за возникшей в доме суетой, чтобы тупая боль в коленях, последняя спутница жизни, оставила его на время. А вместе с ней отползла бы не старость, нет, а та змея, чей яд превращает мужчину в старика из старца – бесполезность.
Как говорил один знакомый человек с Кавказа – отчего там люди долго живут? От воздуха? От травы? Ерунда. Старики тянут долго, оттого что они нужны долго. Там их не терпят, там к ним прислушиваются и слушаются!
Миронов и от природы был наделен, а в многочисленных жизненных упражнениях отточил до остроты наблюдательность в отношении окружающих его людей, но также он был оснащен простым и добротным механизмом, защищающим его нутро от излишней тонкости. Он умел копить наблюдения в памяти души, никак не поддаваясь им. Сперва дело. Так и тут, у Ларионова.
После Домжура скромный ужин он приготовил сам, водка им была принесена простая, «Русская». Выбор водки вызвал у Ларионова улыбку. Хорошо еще, что в нем видят человека, способного пить сивуху.
От Ларионова Миронов позвонил афганцу. С Куроем он связывал главную надежду на успех, считая, что Васе Кошкину и конторе вынюхать след журналиста окажется не под силу. А значит, и Руслану Ютову не под силу…
– У тебя что, к духам линия бесплатная? – все-таки вмешался в ход событий Ларионов. Он, видите ли, на звонках в Питер экономит, а тут Афганистан.
– Эта линия дорогого стоит, – туманно ответил Миронов, но принялся отсчитывать сотенные. Хозяин не возразил.
Поутру Андреич стал прощаться с Ларионовым. Тот приуныл, хоть и силился бодриться.
– Ну что? Опять на три года? Смотри, дочка мне пожелала еще в 2005-м Новый год отпраздновать, так что не затягивай.
– Ладно, Иван, судьба – не глазок, в нее не заглянешь. А со старостью бороться надо.
– Сам-то боишься Ее?
– Нет. И ни к чему эти вопросы. Боюсь не боюсь… Вот вернусь, и обсудим за чашкой водки.
– Добро. Веди свою битву. Есть там еще за кого биться, на Гиндукуше? – спросил бывший резидент советской разведки в Кабуле. Его белесые, покрытые рыбьей пленочкой глаза протиснулись сквозь тяжелые веки и в них отразилось беспокойство.
– Есть. Наших с тобой интересов там никто не отменял, – как можно увереннее постарался ответить Миронов.
– Да брось ты, Андрей Андреич. Тогда серьезно было, а теперь – как понарошку. Только пули настоящие. Что за порядок, когда ты из-под государства войну ведешь, а ему будто и дела нет. А то я не вижу.
– Государство – это я. Таков естественный путь навязанного нам развития. Запомни: когда над этой землей пронесется вихрь, порожденный известными нам антимарксистскими силами, и снесет пену, поднявшуюся за годы смуты, мое государство малое, если, дай ему бог, выживет, то готово будет присоединиться. Ко мне. А пока – стратегия выживания плюс финансовая основа. Есть у меня враг, товарищ и брат. Пока есть враг, старости не подступиться.
С тем Миронов и ушел, а Ларионов, стоя у окна, следил взглядом за тем, как тот пересек двор, и потом, уже когда товарищ пропал из виду, продолжил смотреть в пустоту колодца. Судьба – не глазок. Судьба – колодец. Глядящих в него врагов примиряет не общее горе, но общая черная вода…
Андрей Андреич устремился от Ларионова в Измайлово, на Щелковской сел в ждавшую его уже машину и выехал в район Балашихи. Там водитель-сосед долго петлял, следуя указаниям Миронова. Тот уверенно гнал «Ладу» в глубь леса, к верной, казалось бы, гибели – дорога по мере удаления от трассы все больше теряла устойчивость формы, пока совсем не пропала. Инженер очень секретного в прошлом КБ и одна из первых жертв конверсии был обязан Миронову не только машиной. После того как КБ перевели на производство кастрюль и вантузов, Андреич принялся щедро оплачивать его водительские и курьерские услуги… Каждый раз, предлагая работу, он имел сосредоточенный и даже сердитый вид, не допускающий возражений…
Наконец, Миронов подал сигнал «стоп» и машина замерла. Накрапывал подмосковный дождик, капли мелкие, но не чистые, а маслянистые, тяжелые. Они не желали скидываться «дворниками» с лобового стекла. Сосед спрятался под дерево и протянул Андреичу сверток.
– Увесистый.
– Я в этих лесах перед заброской в Кабул стольких часовых снял… Марш-броски накручивали до полного изнеможения вероятного противника. Вот теперь стрельбы проведем. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, Роберт.
Он распеленал сверток. На ладонь легло тяжелое тело пистолета. Роберт прищурился так сладко, словно его почесали за ухом.
– Партизанить самое время, Андрей Андреевич. Сейчас только кликни, столько народу в леса уйдет…
– Нет, сейчас не уйдут. Пообвыклись. Верхи уже могут по-старому, а низы никак не хотят по-новому. Новый режим не от народа пойдет. И не шел никогда. Новая власть, по скудости ее ума да по жадности, будет сметена офицерством и прочими хорошо организуемыми элементами. В силу отсутствия прослойки, прозванной интеллигенцией.
– И то лучше. Чтобы не бессмысленный и беспощадный.
Защитившись от мороси, Роберт излучал благодушное согласие с любым видом бунтов, революций и путчей, предлагаемых Андреичем. Он был уверен, что, возьмись Андреич за бунт или путч, и они выйдут у него шумно, суетно, бестолково, леваком, но в итоге всем на благо, вовсе не на обычный исторически русский манер.
Миронов улыбался одними скулами. Он не разделял настроения соседа. Он относил себя к узкому кругу специалистов, которые на деле знают, как готовятся и производятся восстания, революции и контрреволюции. И как тщательно, вдвойне тщательно, творятся легенды о них. Он был в Венгрии, в Праге, был в Эфиопии и в Кабуле. Где только он не был. И везде после его приездов вспенивались «антимарскистские силы». Но то были чужие страны, чужие народы. Горбоносые, светловолосые, где женщины – красавицы, где солнца много, но меньше, чем песка, где… Но здесь… Здесь жил народ, который он, по странному, возможно, даже фатальному заблуждению, считал своим. А потому, прежде чем и в этом простолицем, умытом росой лукоморье начнется то, что он живописал злым утренним языком, он хотел бы забраться в каменную щель земли и пережить там близящееся лихолетье.
Роберт по дороге в Москву разговорился. То ли ранний подъем, то ли стрельбы из ТТ размягчили его. Миронов отметил, что, видимо, в каждом с самой молодости, коренятся симптомы старости, ее особые черточки, исподволь прорастающие в небо времени. Не углядел садовник, не чикнул вовремя ножничками – и запущен сад. Андрей Андреич слепо отсчитал в кармане сотки и передал соседу.
– Да что вы! За такие до Питера ехать можно. Дел-то было, Андрей Андреич…
Миронов подумал, что, может быть, как раз имело бы смысл ехать до Питера с Робертом, но девки, как пить дать, тряпок с собой наберут. Ехать обозом, в тесноте? Нет, даже эвакуация должна проходить с комфортом… Он крякнул, подумав о тратах на билеты, и набрал номер Балашова. Под «девками» он разумел Машу и Настю.
Горец приводит к Курою Чары
20 сентября 2001-го. Северный Афганистан
В воцарившемся после смерти Масуда хаосе, в обстановке, когда ни к кому ни за чем нельзя обратиться, если речь шла не о заключении новых альянсов, не о продаже земли и прочей собственности, не о встрече с зарубежными эмиссарами, зачастившими в Ходжу, не о тайном предложении отъезда за границу под гарантии, полковник Курой вызвал своего лучшего человека и поручил дело.
Высокий горбоносый Горец, сморщившись в понимающей ухмылке, отправился искать тех, кто мог что-то слышать о российском телеоператоре, находившемся в Ходже во время убийства Льва Панджшера.
Полковник был очень рад, что судьба не только уберегла Горца в большой войне, но оказалась милостива и в мелочи: его лучший разведчик остался при нем сейчас, когда чаще доводилось видеть затылки соратников, чем их глаза. На Горца можно рассчитывать в затяжной личной войне, он своим глазам верит больше, чем словам муллы, а глас желудка ему более умный советчик, чем звон золота. Курой никогда не спрашивал, отчего Горец вступил в войну, и не знал, на каком рубеже, на каком рубце души тот намерен остановиться. Не спрашивал, потому что видел в черных зрачках баловника анашой, что спрашивать этого не надо. Мудрый аль-Хуссейни научил его, что между всеми живущими на земле существует связь. Не словесная, а хрупкая, как застывшая стеклянная нить. Иди, высокий человек, иди по следу, меченному полковником Мироновым.
Но только отправился Горец по следу, как вновь Куроя потревожил звонок московского его двойника. На сей раз Миронов не рассуждал о философии войны, как борьбы за старость. Он сообщил нечто важное об объекте их взаимного интереса и попросил звонить исключительно по «схеме один», как будто Курой обязан был знать, что сие означает. Афганец предположил, что всего лишь звонить следует на мобильный.
И Курой вернул Горца. Тот появился неожиданно скоро, как будто никуда и не отправлялся.
– Что, Горец, пусто как никогда? Или не искал? Поддался общему упадку духа? – Курой напустил строгости.
– Если бы общему, я бы в Фергану ушел, устат. К тихим киргизам. Отлежался бы там. Уйдем вместе, устат? Детей нагуляем, как правоверные. Они за нас довоевывать будут. В Ходже пришлые хазаре шепчутся, что за Кандагаром большая сила встала, арабы да чеченцы с наших мест поднялись, туда ушли.
– Что пришлые говорят, я уже знаю. Я тебя не за тем посылал. Рано к киргизам. Наша война – наш ишак. Ладно. Вижу, не узнал ничего. Так я дам тебе подсказку.
Полковник передал своему разведчику то, что сообщил ему о Паше Кеглере Миронов. О поездке в Ашхабад.
Горец, хоть и не подал вида, сразу уловил особым своим нюхом, что теперь есть чем подцепить занозу. В Ходже ошивался забавный туркмен, про которого сведущие люди говорили, что он знает про все и про всех. А о ком не знает, о тех может узнать. За деньги – охотно, а то и за интерес. Сам он приехал от какой-то московской газеты и уже успел, слышал Горец, сходить в неспокойный Герат.
Полковник заметил мимолетное изменение в темном лице агента.
– Что, Абдулла, пока не уйдешь к киргизам? Быстро вытащи эту занозу, этого Кеглера, и я отпущу тебя готовить зимовье.
– До зимы деньги нужны. И не джумбаши, устат, если быстро на след выйти хочешь.
– Деньги будут. Много будет. Больше, чем пуль и овец. Денег больше будет, чем воды. Забудешь еще, зачем они, деньги.
На этот раз Горец не понял мысли полковника и решил «обглодать» ее попозже, в одиночестве.
– Деньги сейчас нужны. Без денег сейчас кто поможет… – пробубнил он свое. Он посчитал, что если после дела и откинуться на отдых к киргизам или в иное становище, о котором сейчас и Курою знать незачем, то в гости на север следует идти не дервишем, а баем.
Полковник даже не вздохнул для порядка, услышав про деньги. Он выдал доллары, и Горец ушел. Но стоило солнцу лишь один раз обойти кругом землю, и сутулый афганец вновь восседал перед Куроем, а рядом с ним устроился чужак. Чужак скрестил ноги на темном иранском ковре и без стеснения рассматривал дыру в носке. Его брюки лоснились на коленях, как спина лошади на солнце. Полковник Курой отметил, что чужак выглядит столь же естественной в его штабном кабинете вещью, что и ковер, распластавшийся на земле.
– Вот Чары, четвертый сын Пророка. Привел его, устат, потому что слышал про него – если Аллах доверил тайну жителю земли до захода солнца, то к рождению луны ее будет знать этот бродяга, из далеких краев пришедший к нам.
Курой склонил голову. Он налил четвертому сыну чаю на донышке пиалы и медленно, тяжелым взглядом снизу вверх, откровенно осмотрел его.
– Ай спасибо. Ай спасибо. Уважение важнее жажды.
Курой с удивлением перевел взгляд на Горца. Тот усмехнулся.
Полковник поймал себя на том, что гость, несмотря на дыру в носке, привлекает его. Лицо не холеное, но ровное, красивые длинные пальцы… Перед ним сидел, посмеивался над обычаями родного края, отнюдь не простолюдин. Широкий шрам, тянущийся через лоб к затылку и теряющийся в зачесанных назад волосах, вызвал уважение к его обладателю. Курой снова налил чаю, наполнив на сей раз пиалу наполовину.
– Человек как ковер, – произнес Чары и выдул пиалу враз. На фарси он говорил сносно, но огрубленно.
– Как живут наши туркменские соседи? – спросил Курой по-русски и снова посмотрел на Горца. В глазах его блеснула короткая молния. Полковник не доверял туркменам. Если быть точным, то, относясь к природе человеческой философски, он вообще никому не доверял. Ни узбекам, ни русским, ни туркменам, ни французам, ни хазарейцам, ни, ни, ни… Но среди этнологической массы он особенно выделял помимо американцев «туркменских» туркмен, то есть тех, что попадали в их края из страны Туркменбаши Великого. Будучи неплохо информированным о том, что делается в стане союзника муллы Омара, в этой братии он видел одних агентов противника.
– Ай, как живут! Туркмен, что верблюд. Самый спокойный житель пустыни, пока последняя колючка есть. Ты туркмена посади посреди пустыни на ковер, дай ему чай пить и чай, он и счастлив. Всю жизнь просидит, песни петь будет. Я их ненавижу, спокойных братьев моих. Себя продадут, лишь бы им не мешали в небо плевать, – словно отвечая ходу мысли Куроя, хохотнул гость. Глаза его спрятались за щелочки век.
– Русские говорят, многие знания – многие печали. За каким делом в наши края? За печалью? Или за иным приехали, уважаемый Чары?
– То не русские говорят. То евреи говорят. А печаль во мне не задержится. Печаль да желчь печень гонит, храни ее святой Турахон. Меня в туркменской тюрьме за знания уж так мытарили, так тело еще помнит, а душа зажила…
Горец зажмурился. В русском он был не силен, и ему понравилось неожиданное слово. Нечто ласковое было в «мытарях». Раздражение полковника ему тоже доставило удовольствие.
– Я в Иране стоял у могилы Хафиза, – продолжил тем временем Чары. – Хотел сфотографировать, подлый журналистишка, только охранник удержал меня. Он сказал мне: «Нельзя остановить вечное». И я отошел, подумал и понял. Жизнь – это не я. Жизнь – это то, что течет через меня.
Полковник ощутил боль. Быструю и легкую, как игла. Такой бывает освобождающая боль воспоминания. Масуд тоже часто говорил о Хафизе. Курой не запоминал приводимых строф, выплывавших в податливый воздух облачками теплого дыма. Расплываясь, облачка соединяли рождающие их губы со сводом горного неба.
– Я пришел за деньгами! – вернул его на землю четвертый сын пророка. – Я журналист и бывший сын героя этих мест Ходжи из Насреддина. Меня нельзя купить, но можно нанять – вот я и рассказал о себе все.
Чары приподнял пиалу, и полковник, спохватившись, вновь налил в нее чаю. На донышке. Потомок Ходжи все же грозил вызвать его доверие. Горец, не скрыв удовлетворения, причмокнул:
– Наш гость прошел Кавказ и Гиндукуш. Он ходил со мной по одним тропам. Достойный человек, только жаль, что женатый!
– Скажи мне тогда, путник. Скажи то, зачем привел тебя сюда мой Горец. У серебряной луны времени больше, чем у золотой падающей звезды, – полковник провел огромной ладонью в воздухе, зачерпнув неба и опустив его горсть до самой земли.
– Это верно, верно, устат. Луна светит отраженным светом. Журналист – та же луна. Чем ночь чернее, тем она ярче. Если солнце есть, – Чары отставил пиалу. – О журналистах я все знаю. Все знаю. Плохо дело у вашего Кеглера. Хуже, чем у кролика, поверившего удаву.
Курой удивленно вскинул брови. Он поймал себя на том, что совершенно не представляет себе, как выглядит этот Кеглер. Черный он, белый, твердый, как орех, или ломкий, как хворостина.
– Что могло с ним случиться? Ты знаешь его? Его пути знаешь?
Лицо Чары вмиг приобрело детское выражение растерянности и испуга. Словно вот-вот, и он расплачется.
– Где видел? Зачем видел? Чары – какой человек? Маленький человек. Вы, устат, уважаемый человек, что вам мое слово? Пух, а не слово!
Курой понял, что обидел гостя. Это было правильно – обидеться. Молодец. Чей бы ты шпион ни был, а молодец. Только плевать сейчас мне на твои обиды.
– Я не знаком с тобой, уважаемый Чары. Ты путник издалека, а память дороги едва ли не весомее памяти лет. Не держи на нас обиды за торопливость, недостойную пыли на твоих сапогах, – Курой выразительно прицелился глазом в дырку в носке, – но ты застал наш край в тяжелый день. Как хорошо говорят русские, на вдохе…
– Сочный лист не гонит ветер. Ветер гонит сухой лист. Что гнало бы меня вдаль от родных мест, если бы не своя беда?
– Чужая беда как чужая жена. Да к тому же не листу решать, какой его ветер гонит, куда гонит. Согласен?
Гостя удовлетворил ответ. Черточка обиды, опустившая кончики губ, исчезла с его лица. Он потянулся к пиале. Горец огладил короткую, не растущую в длину бороду, и кашлянул. Четвертый сын Пророка сдал экзамен, он снова доставил удовольствие Горцу. Но теперь пришел черед говорить о деле.
– Наш гость уверяет – нет здесь москвича. Если есть, то в Герате его искать.
– В Герате? В Герат сейчас без друзей не ходят, – усомнился Курой.
– Верно, верно. Без друзей, – оживился Чары, – я врать не буду, таким уважаемым людям зачем врать? Кеглера я не знаю, что за человек. Может, он орел, а не человек, а может, мышь. Но второго, кто с ним шел, ох как я знаю. Змея, змея холодная. Самая опасная, поверь мне, уважаемый. А если не веришь, то прогони меня лучше с глаз своих, как самого ничтожного из людей.
– А кто второй? – сперва не понял полковник.
– Колдобин. Второй – Колдобин, – возмутился Чары, как будто его собеседник обязан был знать этого Колдобина, – Колдобин хуже змеи. Если Кеглер с ним, темное за ними дело. Просто так не поедут. А еще вернее, обманул злодей вашего простака. Обманул, как меня.
– Чары был в Герате с этим Колдобиным, – Горец помог начавшему соловеть полковнику. Времени с туркменом в Ходже он успел провести не много, но уже, казалось, все знал о жизни ходкого человечка, совмещавшего неусидчивость скитальца с пристальной пронзительностью рыночного философа.
– Да, с Колдобиным, змеем. Из Туркмении ходили с ним через талибские земли. Три года назад был. Этот змей меня туркменам сдал. Шесть месяцев в КНБ сидел я. Еле расплевался.
Шрам на смуглой, только подернувшейся неглубокими морщинками коже почернел.
– Откуда знаете, что он сдал? Зачем ему?
– Ай, откуда! Туркмения что, Швеция или Америка? Я сам раньше в органах работал, у меня там кумы да родственники. Я из племени Атта, я вам из спальни Туркменбаши узнаю, на каком боку он сегодня спит.
Курой знал это племя, малочисленное, но влиятельное. Аристократия. Вот откуда высокий лоб и пальцы, не загубленные мытарствами кочевой мужской жизни. Среди сынов племени Атта были и в Афганистане заметные люди. Туркмен, не воинственных, находившихся здесь всегда в меньшинстве, а потому не составлявших конкуренции другим этническим группам, брали в свое окружение местные князья. Были они у северных, стоявших вокруг профессора Раббани, были и у генерала Дустума, и в Герате тоже. Были и в Мосуле, и в Мешхеде, и в Пешаваре – разнесло их по дворцам, выстроенным на дуге, очерченной вокруг злополучного афганского королевства.
– Про племя Атта люди мне давно говорили, что лучше ходить в их родственниках, чем во врагах, но попасть в родственники проще, чем во враги, – добавил Горец. Весь путь понимания, который сейчас проходил полковник, он уже проделал раньше, когда один из знающих людей посоветовал ему направиться со своим вопросом к туркмену, болтающемуся в Ходже без видимого дела.
– Ведь верно говорят. Меня же следователь допрашивал, у следователя жена, у жены соседка, а соседки сын и есть мой родственник. Вот вы разведка, разведка, а я скажу: разведсеть против бабьей почты – что ишак против верблюда. Колдобин, змея, меня КНБ сдал, потому что он у них хорошие деньги получает. А плохие разве бывают? Они ему за пагубное пристрастие платят. В Москве статьями сколько заработаешь?
– Сколько?
– Ай, я считал, что ли? Я с русским уже к Кушке подошел, к пропускному пункту Имам-Назар. Меня господин Гарик, посол талибский в Пакистане, самолично до границы довез. Потому что хороший он человек, господин Гарик, и племя мое уважает, – Чары хитро ухмыльнулся: – Я для змеи Колдобина все сделал. Я по таким местам прошел, что никаким его покровителям ашхабадским не снилось там ходить, а как на КПП встали, смотрю – глаз у меня наметанный, как у старого портного, – пропускают пакистанцев группой. А я их в лицо знаю, я их до того в Кандагаре видел. А одного вспомнил еще с Пешавара, когда я по Пакистану ходил…
– А зачем ходил, уважаемый?
– К родственникам. Волка ноги кормят. Что на одном месте сидеть? Жизнь – птица. Парит, парит, а потом все одно на землю. В небе кто из мертвецов смог остаться, а?
Курою представилась чайка. Он вспомнил этих шумных и сердитых птиц, он видел их на чужом море, белом от прибрежной пены. Чайки парили над волнами и ныркали вдруг хищными клювами под воду. И так все время, и морю не хватало рыбы, чтобы насытить их безмерный голод, злой и черный, как вспученный чаячий глаз. Как их крик.
– На холодной воде тоже бывал, Чары?
Туркмен не оценил вопроса. Он склонил голову набок и уставился на полковника черным немигающим глазом. «Далекая чайка над морем войны». Афганец подумал о Миронове. Кто бы ни был этот Чары, русский полковник найдет способ использовать плута в своих колдовских играх. Курой кивнул головой, и Чары продолжил рассказ:
– Я подошел ближе, а они дают туркменские паспорта пограничникам. То есть под моим гербом – в Ашхабад. Для того Туркменбаши и открыл консульства у талибов в Герате и Мазари-Шарифе. По дипломатическому каналу опий гоняли, мне точно известно. Только русские меня с таким знанием взашей из всех редакций.
– Про дипломатов с опиумом и мы давно знаем. Афганский продукт и Европа любит. Тем и живем, – грустно согласился полковник.
– Ай, верно говорите, устат. Я про Ашхабадский воздушный порт столько знаю… Я бы всех, кто там пенку снимает, и Сердара первого усадил бы… Фактами… Только не нужно никому… Но на то дипломаты и есть, чтобы прилюдно постыдное делать, – Чары осекся, увидев усмешку на губах хозяина. Он вспомнил, что если бы не опий, не пережила бы армия Масуда столько зим, – да, лихое дело. А тут другое. Зачем чужие, туркменские паспорта, дипломатам? Вот я, любопытный чурка, всему ответы ищу. Пошел сперва к господину Гари́ку. Господин Гарик ко мне большую симпатию имеет…
– Почему так, уважаемый? – Курой снова усмехнулся. Если уж хвастается здесь, в стане северных, этот чудак или наглец дружбой среди талибов, то выбор его верен: господин Гари́к, умеренный, разумный посредник, служит не худшей рекомендацией.
– Я хитрый, но честный. Как Пророк повелел. Я самый истинный мусульманин.
Тут уж улыбнулся и Горец. Кое-что он уже разузнал о туркмене, из чего сделал вывод, что в вольном отношении к Корану у них больше сходства, чем расхождений.
– Только ишак я. Сорок пять лет прожил, а ишаком остался. Стал ишаком, дети – они что, ишаки, что ли? Сказал мне господин Гарик, что лучше тут не лезть, что Туркменбаши паспортами платит арабским друзьям за счета в надежных банках, за их услуги. Но язык мой – беда моя, и жажда журналистская правды. (Тут уж и сам туркмен усмехнулся.) Я Колдобину возьми и скажи: давай статью писать. Такой фугас рванет… Все рассказал ему, змею! Хорошо, говорит, молодец, Чары, мы с тобой такую бомбу водородную хлопнем! Наказал мне: «Ты здесь погоди, порасспрашивай. Второй раз через кордон зачем ходить… А я, говорит, пока в Москву быстрым бесом, дела скину спешные, и как раз выйдем с тобой на самой первой полосе. Денег с тобой заработаем маленько-маленько, Чары!» Так и сказал. А я еще упрямился: что еще там расспрашивать, все и так расспрошено! Но русский змей хитрый, он спорить не стал, знал, с каким ишаком связался. Так он мне красавицу-узбечку подложил. Ай, запал я на нее, а он и отъехал. Я на КПП пошел, там меня пограничники в яму. Людей в яме много, весело сидели. Били не сильно, щадили, только есть совсем не давали. Кроху хлеба и глоток воды на день. Да что рассказывать, он знает, – туркмен указал на Горца. Тот закатил глаза к небу так, что можно было испугаться, не выкатятся ли они из глазниц. Чары остался доволен произведенным, по его мнению, эффектом и продолжил:
– Офицер добрый попался. Через пять дней, когда звезды близкими стали, что хоть ногтем выковыривай, он меня отпустил. У них-то глаз наметан: по числу ребер, которые видны, определяют, сколько еще голодный протянет. Рентгена не надо. Как нижнее ребро высохнет от пустоты в желудке, как оттопырится – пора могилу копать, значит. А я похудел быстро, от усталости, что ли, или от нетерпения. Все помощи ждал-ждал от змеи Колдобина. А офицер говорит: хватит, мил человек, тебе «голодное ребро» уже дыбом стало. Иди отсюда, горемыка, нам тут сейчас трупы без надобности. И отпустили меня.
– А почему денег сразу не дал?
– А как дать? Узбечка все высосала. Даже деньги! Сердце туркмена – большое сердце. Больше чем кошелек. А с малым рублем в чем убедишь? Там у поста каэнбэшники стоят туркменские и указывают, кого в яму, а кого дальше. Колдобин прошел, шепнул, и Чары – на похудание. Чары как отпустил офицер, он на радостях побежал через Мары, а там его, барана, ишака, уже за загривок всей пятерней и взяли. Змей мое сообщение не в редакцию, а в туркменский КНБ отправил. Мне секретарь тогдашнего министра сам рассказал. Колдобину за это квартиру новую в Москве помогли купить. Вот сколько денег за одного туркменского барана. Потом много об этом Колдобине от своих разузнал… А если не верит мне устат, – Чары вдруг повернулся к Горцу, – я знаю, где искать.
– Долго в зиндане держали? – словно не расслышав последних слов, поинтересовался Курой. По крайней мере это проверить еще недавно было бы совсем не сложно. Еще недавно, еще несколько дней назад – совсем не сложно.
– Один день. В тюрьме день равен ночи, белое – черному. Думал, не выпустят. А вот жена вытащила, как коренной зуб клещами выдернула. Что я без нее? Хотя и с ней что?
– А что, Чары, жена у тебя – Генеральный прокурор?
– Строже. Через родственницу к самому Сердару Великому попала, подойти сумела, прошение о помиловании ему прямо в руки! Пять тысяч долларов за меня собрала. Он под дурью был и подписал прилюдно. Он с народом без дури не общается, а мне хорошо с того. Я на воздух выскочил, а пока ему объяснили обо мне на ясную голову, я уже с параши, домой не заходя, прямо в Москву…
– А жена?
– Что жена? В Москве что, женщин мало? – туркмен рассыпался мелким сухим смешком, но ни Горец, ни Курой не поддержали его веселья.
– Наказал хоть змею московскую?
Тут Чары еще пуще расхохотался. Курой даже позавидовал, хоть смех гостя пах криком чайки и мертвой рыбой. Хотелось бы и ему сейчас так посмеяться над своей бедой.
– Я не бог, чтобы наказывать. Из московского зиндана и моя не вытащит. Вот вы – змееловы, с вашей помощью я с ним и посчитаюсь. Ай нет?
Чары ушел от полковника в веселом духе. Встреча с новым, как обычно, совсем неподалеку расположившимся от старого, да еще за деньги – что может быть радостнее для кочевника, жаждущего убежать от постоянного… Небольшая, но греющая сердце сумма постоянных спутников временного лежала в кармане туркмена.
Курой не был столь же доволен после прощания с гостем.
– Где ты нашел этого сына ослицы и халифа, Горец?
– Старая лошадь сама находит дорогу в стойло.
– Не жаль тебе денег, которые я дал ему, Абдулла?
– Мне жаль только своих денег. Что мне до чужих? Его золото долго не задержится в его худых карманах.
– И попадет в твои? – Курой сухо рассмеялся. Горец был, видимо, уверен, что находится ближе к источнику мудрости, чем Чары, и уж подавно – чем его командир. Ладно, Горец, кто близок к мудрости, тот помнит будущее.
– Различаешь уже очертания своего завтра, Горец?
– Вижу, устат поверил туркмену. Значит, опять мне в дорогу. Но без денег я не пойду, полковник.
Вместо того он спросил о другом:
– Ты когда-нибудь видел серых морских птиц?
Горец покачал головой. Серые морские птицы выклевывали червленую рыбу из толщи Каспия. У рыб мудрые глаза, как у солдат, проигравших войну. Рыбы похожи на полковника, еще не пославшего его в путь. Серые птицы были чайками племени Атта, не ведающими, но указывающими путь к вечности.
С грохотом в небе пронеслись самолеты. Это были МиГи, их и Горец и полковник угадали по звукам моторов. Они шли с севера, без опознавательных знаков, но воины знали, что взлетали они в Термезе. Они разогнали чаек, но полковник был за то на них не в обиде – новые птицы клюнули его врагов в самое темя, когда те, окрыленные смертью Льва, готовились развернуться в броске от Мазари-Шарифа до самой северной границы. Курой и Горец переглянулись и поняли друг друга. Не за землю эта их война, где враг становился другом и снова врагом и снова другом. Не за землю. Не за веру. Не за деньги. Все хуже и дольше.
Афганский полковник позвонил русскому и поведал про российские МиГи, отбомбившие за Шиберганом. И про четвертого сына Пророка, посланного им либо шайтаном, либо самим Аллахом – тоже рассказал. Про Горца Курой не проронил ни слова, зато он постарался разъяснить московскому полковнику, что они вдвоем снова завязали вокруг себя узелки событий, сами оставшись неподвижны. Но Миронов перебивал, говорил о своем и всячески старался не замечать философских стараний афганца.
Миронов исходил из своего резона: он сделал из разговора немедленный вывод: Курой торгуется. Значит, появился предмет. Андрей Андреич имел возможность оплатить туркмена, которого «торговал», афганец. Миронов решил за деньги Ютова отработать «туркменский след». Вот это, усмехался Андреич, истинное владение физикой явлений. Вот это поистине круговорот материи в природе! Но торопиться в торговле с афганцем – потерять уважение. «Обожди, Курой, я тоже знаю толк в той настоящей войне, исход которой решается не на полях битв, а на базарах и в чайханах!»
Комитетчики в Москве
23 сентября 2001-го. Москва
Три туркменских комитетчика, высадившись в Москве, взялись за дело сразу. Командировочные им выдали скромные – 50 долларов на лоб плюс столько же на жилье и транспорт из расчета четырех дней. Кроме того, майор Гурбан Кулиев вез зашитые в поясе тысячу долларов, которые он мог израсходовать в случае крайней необходимости и отвечал за них головой. Разведчик должен уметь жить скромно…
Первые сто долларов были пропиты уже в Домодедово. Еще сто – с таксистом, пока брали девок где-то на Тверской. Зато водила поселил их в ведомственной гостинице Министерства высшего и среднего образования на Водном стадионе, где за трех мужиков и трех перезрелых баб, занявших две комнаты, взяли шестьдесят баксов, не спрашивая паспортов. Правда, майор Кулиев приказывал разместиться в одном номере и грозился вычесть из жалования, но ловкие тетки налили ему лишку и он замолчал. Но и будучи пьяным в дым, он наказал лейтенанту Назару Бабаеву быть в ночи бдительным, чтобы московские шлюхи не обчистили карманы. Назар Бабаев бдил всю ночь, утомив всех, и девок, и спутников-комитетчиков, и соседей, учителей из Вологды, приехавших на симпозиум. Назар, чтобы не уснуть, самозабвенно исполнял национальный фольклер. Потом кто-то из вологодцев все же дал ему по мордам, девки раcтолкали могучего майора и тот погнал северян, затем по мордам дали и девкам, так что на одной удалось сэкономить, зато пришлось выписываться из номеров. В общем и целом к полудню следующего дня три похмельных туркмена обнаружили, что денег у них предательски мало или, можно сказать, их совсем нет. На опохмел пошла часть неприкосновенного запаса. Майор, удрученный головной болью, уже не спорил, а потому к пятнадцати часам московского времени невыносимая легкость бытия ощущалось бойцами во всех членах. Они сняли номера в гостинице «Академическая», часок поспали, выпили пива и отправились на поиски объекта. Единственное, что им теперь досаждало – это назойливые и повсеместные московские менты. Некоторые не знали о Туркмении.
План, предложенный капитаном Атаевым и утвержденный майором Кулиевым, был до гениальности прост. Раз денег сразу стало не хватать, раз Москва душит ценами, значит, надо поскорее протрясти клиента и, сделав дело, отгулять успех с девками, дать им по мордам ради экономии и ехать домой. То, что «кисляк» Балашов расколется сразу, у похмельных бойцов сомнений не вызывало, не такие в их руках кололись! Просто следовало действовать с наибольшей прямотой и напором. По фамилии и телефону, найденному у Кеглера, в адресном столе девушка сообщила адрес. «А вы ему кто?» – полюбопытствовала она. Девушка была не красива чертами, но глаза заискрились живчиками.
– Мы его братья, – склонился над окошком Бабаев, но майор Кулиев одернул его, опасаясь дополнительных трат.
Таксист докатил до места лихо, с ним нельзя было не выпить пива.
Захорошело. Осталось только взять Балашова.
– А как брать будем?
– Дыню купим. Скажем, подарок.
– Да какие тут дыни…
– Молчать. Смирно. За дыней ша-ом! Мрш!
Лейтенант Бабаев справился с заданием. Дыню, купленную у узбека на углу, он сторговал вчетверо. А чтоб знал, чурка немытая! Даже майор Кулиев остался доволен подчиненным.
– Ну, двинулись, – скомандовал он, взяв дыню под мышку.
– А если он отсутствует по адресу? – высказал опасение капитан Атаев. Как оперативник он был наиболее грамотным. В свое время он отучился в Ташкенте.
– Будем выжидать, – отрезал майор. Ему уже грезилось холодное пиво в холодильнике объекта.
– А если он не один? – настаивал Атаев. Он раздражал могучего майора, но с ним следовало считаться как с родственником влиятельного в их краях человека. А потому Кулиев отправил лейтенанта еще за одной дыней.
– Для бабы его!
На этот раз Назар Бабаев сторговался лишь вдвое, узбек на углу уловил некое коварство и уже отказывался признавать в лейтенанте земляка.
– Понаехали тут, – проворчал он про себя, все же признав, что в дынях этот покупатель в отличие от московских лохов толк знает.
– Ну, пошли. Ты, Атаев, первый, ты на язык силен. Бабаев, замыкаешь. И без живодерства пока. Кто его знает, что он за псих.
Балашов сидел дома и ждал гостя. Впервые к нему обещал заехать Миронов. После того как Маша уговорила его обратиться к Андреичу по поводу Паши Кеглера, пару дней «афганец» не объявлялся. Дело в том, что вышел между ними странный для Балашова разговор. Встретились в «Джоне Булле». Миронов пришел без пакета, что Игоря насторожило. Выпили за здравие, а потом, по забавному выражению Маши, пошла пурга.
– Твой том изучил внимательно. Хорошо. Следующая лучше выйдет. Есть верные места. Время для нее пришло. А заумь – это ничего. Это сейчас дань современной моде.
Балашов пил молча «Хайнекен» из высокой узкой кружки и раздумывал над тем, сколько месяцев потребовалось Миронову на чтение черновика одной из глав, отданных полковнику по слабости характера еще до отъезда Логинова. С другой стороны, чему удивляться: Маша не зря определила Миронова как сочетание стихий земли и огня: человек-вулкан. Копит, копит, а потом вот оно. В ему одному ведомый срок.
– Заумь мы почистим. Настю посадим, она как картошку выберет. Толковая девка. Твоя не зря взревновала. Но я не к тому. Что издатель твой себе думает? Если будет тянуть, мы ему письмо от ветеранов. Только друга нашего, Отца всех ингушей, убери… Не потому, что образ плох, а потому что хорошо выписал. Не за чем сейчас. Он нам сейчас мирный нужен и дружественный.
– Что значит убрать, Андрей Андреич? Это же не сценарий, это роман! Нельзя так. Пусть лучше лежит, – возразил Балашов. Он был готов к чему угодно, но только не к такому обороту и от возмущения даже поначалу позабыл, что решил не публиковать книгу вообще! Но и Миронов уперся. Он принялся распекать Балашова. Разошлись злыми друг на друга. А поутру и того круче: «афганец» возник в образе телефонного духа. Он строгим голосом изложил новую затею:
– Сегодня ночным – на мою дачу. Новые сведения поступили. На Кеглере завязано многое… Маше звони, три часа ей на сборы. Только необходимое. Там и по книге обговорим. На трезвую холодную голову. На реке перспектива иная…
Игорь пришел в ужас от приказа на проведение срочной эвакуации. Он готов был допустить, что опасность могла существовать. Но такая спешность… А Маша? А ее работа? Ведь засмеет!
Балашов взмолился:
– Андрей Андреич, я поехал бы. Возьму перевод, словарь, да поеду. Но Маша… Знаете же! А без нее куда?
Миронов сдержался, чтобы не выругаться.
– Игорь, литература еще вчера закончилась. Просыпайся. Мужик ты или… Не хочет – убеди! Устной речи не хватит – сгребай в охапку, тащи силой. Чтобы не написали о классике Балашове в прошедшем времени. Все. Последнее мое…
И замолчал. Молчание полковника убедило писателя лучше резких слов. Игорь дал обещание. Но Маша, конечно, ответила в соответствии с его ожиданиями:
– У твоего Миронова просто месячные. Отложенная реакция на период повышенной солнечной активности.
Маша даже думать об отъезде отказалась наотрез. Она была возбуждена: немцы хотели ускорить работу над фильмом и для усиления прислали еще одного менеджера. «Молодой, красивый, как бог. Будешь с „афганцем“ чудить, Балашочек, закружусь в вихре», – пугнула она, и Балашов сник. Удрученного прозаика Маша все-таки пожалела и согласилась с одним: приехать пораньше домой и самой разобраться с Мироновым, дабы не смущал тут умы!
Сжалилась, но на душе и у нее посмурнело. Кто он, ее избранник? Ее, красивой и взрослой уже птички. Есть в нем мужчина? Созревает ли в нем хотя бы мужчина? Ждет она на пару с Мироновым, когда из скорлупы яичной мужчина-творец вылупится, а, может быть, они ждут напрасно? Книгу натрудил, и та в стол. Ни денег, ни семьи. Зато причастность к Истории. Но ведь и эту монету со смертью Ахмадшаха из руки выхватили. Паша Кеглер и выхватил. И как будто не избранность судьбы осталась, а одна вина. Жалуется, что устал. Да, готова допустить, что это – от одиночества художника. Теперь Смертник в героях забрезжил – как тут без одиночества. Хорошо, но ей-то что остается? Что останется? Ведь в его художнические мастерские с ним не пройти. Только если в перспективе вечности. Но жить хочется сейчас. Отчего не летать красивой и взрослой птичке? Балашов – парус, да. Но крыло ли?
Как совместить одно и другое? Спросив себя это, она приободрилась, как облегченно веселеют умные люди, поняв, что их печаль настолько неразрешима, что и печалиться не стоит труда. Совместить одно и другое – это то же, что обрести счастье на земле.
О себе как мужчине думал и Балашов. Андреичу просто. Силой увези. Выкинь Ингуша из книги. Потому что так надо сейчас. Мужчина тот, кто знает, как надо лгать ради правды. Андреичу правда известна, он может врать. Только правда эта выходит крохотной, что копейка! Игорю вдруг стало так жаль «афганца»…
Тут и позвонил Миронов. Лишь до половины выслушав рассказ писателя о неудаче с Машей и о новом немце, он смел эти крохи со стола одним махом:
– Ясно. Немцев теперь много понаедет. Я тебе раньше говорил. Будет книга – бестселлер. А ты спорил. На даче подчистим. Факты – и в печать. Я мухой на вокзал, в ветеранской билеты возьму. Жди дома. И подругу придержи. Ты не думай, я тебя понимаю, евреек убеждать непростое дело. Когда я в академии столовался, у меня была… Придержи, хоть лаской, хоть силой, я из кассы к тебе, решу все проблемы. Все из тех, что можно еще решить… И сделаем по законному глотку. За начало третьей мировой и, следовательно, окончание второй…
Андрей Андреич, верный своей манере, создав мироновскую вербальную конструкцию, бросил трубку и, вероятно, умчался в свои дали, а Балашов остался додумывать, кто остался проигравшим солдатом Второй мировой. У него возникло предположение, что таким солдатом выходит «германец» Логинов.
Когда в дверь позвонили туркмены, Игорь решил, что это Миронов успел уже обернуться с билетом. Для порядка он все же спросил, кто там…
– Балашовы здесь проживают? Игорь Балашов.
– Здесь. А что?
– Открой, мил человек. Мы с вокзала. Ваш друг Павел, наш родственник-знакомый, заехать попросил, гостинцы попросил передать. Хоть разбейся, сказал, а узбекскую дыню моему хорошему другу привези. Мы дыню передадим и дальше пойдем. Мы узбеки, в Москве проездом.
Игорь глянул в глазок. На него смотрела, ухмыляясь, добродушная физиономия. Вровень с ней находилась дыня.
Игорь вздохнул с облегчением. Значит, вместо эвакуации, посидят с Машей и Андреичем втроем за водкой и дыней. А потом вдвоем.
– Здравствуйте! – поклонился капитан Атаев и прошел в коридор. Он вручил Игорю дыню и замешкался.
– Спасибо, спасибо. Как там Павел?
Атаев почесал в затылке:
– Да. Большой человек. О вас как говорил… Но так не перескажешь. Это за чаем… Но вы занятой, что там с нами, проезжими…
Игорь понял, что обидел людей с Востока. Взял подарок в коридоре, не предложил с дороги чаю, а они из Ташкента перли… Специально приехали…
– Ай спасибо, ай спасибо! Ай, не зря говорят, москвичи – добрые на калачи.
Гость прошел за Балашовым и снял туфли. За ним протиснулся в узкий коридор второй. В ладони, как регбийный мяч, он тоже держал дыню. Игорь не знал, что узбеки бывают такие большие. За спиной Кулиева лейтенанта Бабаева он просто не заметил и обнаружил его присутствие только на кухне. Одного стула не хватило.
– Ай, ничего, мало вам хлопот. Мы с Назаром вдвоем усядемся. Или хозяйку ждем?
– Да я сам. Я сам. Сейчас. Чаю или водочки? А? С дороги? А хозяйка позже. Мы без нее. Вы рассказывайте, как наш человек в тельняшке? Он же в Афганистан – так мы волновались, – Игорь не мог сдержать иронии.
– А что волноваться? Незачем волноваться. В Ташкенте он задержался. Один знакомый, другой знакомый. У узбеков знаете как… Вы, уважаемый, дыньку дайте, я ее сам, по уму…
Узбеки в охотку жахнули водочки, за хозяина. В кухне обильно запахло сладостью и потом. Игорю стало хорошо. Вот ведь какие люди живут вдалеке. Теплые, спелые.
Нож у горла дохнул душистой дыней. Игорь не заметил, как оказался на стуле. Капитан Атаев стоял у него за спиной.
– Добрый хозяин, что смирная собака. Гостей слушает, сам молчит, – вкрадчиво, на ухо, шепнул капитан и рассмеялся. Игорь еще подумал, что узбеки от водки пошли шутковать, и отстранил чужую руку от шеи. Гурбан Кулиев приподнялся и через стол ткнул Балашова кулаком в зубы. Этого хватило для того, чтобы писатель податливо запрокинул голову. На зубах он ощутил языком крошку и кровь. Игорю стало очень страшно, но и гордо. В тайном жизненном теннисе он сравнялся с Логиновым по счету. Только бы Маша задержалась на службе. Только бы не прискакала раньше. Пусть хоть с немцем, пусть. Только подольше, молю тебя, Господи, молю что есть силы…
Прежде чем приступить к допросу, гости выпили еще водки и осмотрели холодильник.
– Это что? – спросил Атаев.
– Это алкоголь из яиц, – постарался доступнее объяснить суть яичного ликера Балашов, но в его словах комитетчики усмотрели обиду. Гурбан подошел к Игорю поближе и с силой макнул его лицом в подставленную вторую дыню. Спелый плод с хрустом раскололся, и Балашову показалось, что он вот-вот захлебнется в сладкой жиже. Он взмахнул руками, но капитан сзади ловко перехватил запястье и вздернул кисть за спину до пронзительной боли, которая гвоздем прибила, распластала Игоря на столе, лицом в тарелке. Кровь из носа наплыла в сок, дышать стало невмоготу.
– Это тебе первый привет от Пашки, – Атаев предвкушал уже удовольствие от допроса, но его отвлекала, мешала сосредоточиться желтая бутыль с иностранными буквами.
– Эй, узбек, иди попробуй, – приказал он лейтенанту, – а ты что, как лещ на Каспии, жабры топорщишь? Ты отвечай, пока я добрый, кто твоему другу героин торгует? Кто его с террористами свел? Что знаешь о тергруппах? Кто твой хозяин, падла-а!
Атаев профессионально впал в истерику, которая была сродни блатной. Майор приподнял голову за волосы, убедился, что объект еще жив, и снова обмакнул его в миску. В дверь позвонили. У Игоря сквозь бешеный стук в ушах ухнуло: только, только, только не Маша. «Я отработаю, Господи! Все что угодно требуй с меня, Господи!» – прохрипел он.
Туркмены всполошились. Гурбан огромной ладонью прижал игореву щеку к столу и шепнул истово:
– Кто там, гнида?!
Капитан прижал нож к кадыку так плотно, что Игорь не мог даже сглотнуть. Наконец, Атаев сообразил, что так подопечный не сможет ответить.
– Может, свалит? – спросил Бабаев о человеке за дверью. Лейтенант уже попробовал яичный ликер и «поплыл». Напиток его поразил неземной изысканностью. Жаль было рвать когти с уютной хаты. Повторный настойчивый звонок был ему ответом.
Балашов испытал уникальное в сорокалетней жизни ощущение. Это был покой и счастье униженного, раба, зэка. Существа на грани, живущего в эйфории неясной чужому глазу свободы, которая остается и рабу. Зернышко свободы, не числом, а самим наличием уравнивающее царя и раба. Свобода найти верный ответ, тяжелый как жизнь и легкий как ложь.
– Дед. Мой дед-ветеран, – прохрипел он. – Ветеранский заказ. Внуку.
– Что ж ты, гнида… Старик молодому тащит, – майора возмутило такое непочтение к старшим. Он взял кусок дынной корки, вставил в рот Балашову – «скажи хоть слово мне, гнида!» – и шепнул Бабаеву: «Встречай. Скажи, приятели у внука. Пусть уйдет старый».
Назар Бабаев подошел к двери, глянул в глазок и сделал знак майору – не обманул хозяин, но не уходит упрямый ветеран. Кулиев знал, что они такие, те еще победители. У самого дед отвоевал. Майор махнул рукой, мол, запускай, здесь разберемся. Лейтенант, примерившись к замку, открыл дверь.
Миронов, взяв без очереди билеты, поспешил к Балашову. У метро он купил для Маши дорогое вино с французской этикеткой и перцовую водку с интригующим названием «Осталко». Сумка с необходимыми вещами была при нем, остальное зависело от Балашова. На душе у Андреича скребли кошки. Давно он не был так одинок, как в этот осенний период. Мало того что Балашов обидел его непониманием. Неверием. Такая уж порода писательская. Раньше, бывало, и партия обижала… Но Настя… После того как на Миронова навалилось безошибочное чувство опасности, он задумался, кому звонить первому: Игорю или Насте. Это был и выбор, и повод. Выбор ближнего. Повод – о себе. И Андреич, сам себя презирая за слабость, за тягу к женскому, за зависимость от женского, выбрал Настю. Он позвонил ей на домашний, но квартирка встретила его длинными гудками, как уходящий корабль. Он набрал номер мобильного.
Звонок пришелся Насте как нельзя не ко времени. Она находилась на квартире у бойфренда. Френда она привезла из летней поездки в Керчь. Парень был неотесан, но бодр телом, современен и, по-своему, как ей показалось, способен служить ей. Вот за такую угаданную готовность она ему многое готова была пока простить, а изъяны – так на то Настя и есть, умненькая-разумненькая. Воспитает, обтешет, подправит… Ее папаша в Москву тоже не графом приехал, а ничего…
Насте до этого злосчастного лета наличия потенциального жениха не требовалось. Парней вокруг крутилось в достатке, а так, чтобы одного выбирать – да зачем ей обуза! И вдруг как болезнь какая: подружки, дальние, близкие, все вернулись из отпусков не то что помолвленные, а уже беременные! «Дуры, самки, кошки!» – ругала подруг Настя, но отставать было никак нельзя. «Вот так отстанешь от века бабьего, не нагнать», – делилась с ней когда-то мать. Настя запомнила страх. Потому на нового своего френда стала смотреть с учетом перспективы.
– Оставь, Анастаси. Кайф ломать, – возмутился атлет, когда Настя, ослабив объятия и легонько оттолкнув его от себя, потянулась к сумочке, в которой дрожал телефон.
– Ну чего ты! – «бычок» полез упрямо бодаться, целовать ее грудь. Насте стало больно, она ударила парня сильнее и дотянулась до телефона.
– Это, может, мой оперативник. На службу свищет, – успокоила она френда и нажала на кнопочку.
– Да успеет твой папачис простучаться. Ему что, Анастаси. Масло, небось, отошло уже. А мой обидится… – громко возмутился атлет. Девушка не успела прикрыть трубку.
– Настасья! Пулей домой. Сборы. Ночным в Питер едешь, – в бешенстве выкрикнул Миронов в ответ. «Что ж такое, что ж такое! – взбурлило у него на сердце, – даже эта пигалица, которую в ладонях грел, на поверку чужая, чужая!»
– Какой Питер, Андрей Андреич? Мне ко врачу завтра, месяц ждала. И занятия, и сессию завалю. И вам забота и растраты лишние!
– А ты деньги мои не считай! Что у тебя за знахарь? Зубной, что ли?
– Же-енский. Знаете такого? – Настя тоже взвела голос до высокой ноты. Ее возмущало умение Миронова за миг бесцеремонно влезать лысой головой в самое ее интимное.
– С кобелями надо меньше вязаться. Говорил тебе: выучись сперва, потом найдешь нормального, а то так с балбесами затаскаешься. Вернешься из Питера, сходишь к акушеру.
– Анастаси, пошли папачиса на мороз! Сколько можно мозги колбасить! Я уже без страсти стыну.
Настя опять не успела защитить ухо Миронова от этих обидных слов.
– Ладно, Настасья. Не хочешь в Михайловское, в Шушенское отправлю. Я сегодня отъезжаю, а ты, как жлоба бросишь, вспомни: дома у меня не появляйся, по телефону не звони. И писем не пиши. А прошлой зарплаты тебе на резинки и на лекаря как раз хватит.
Миронов бросил трубку. С чего он так взъерепенился? Насте-то что угрожает? Но он не мог успокоиться. Сел в метро, поехал зачем-то на Таганку. По дороге парень-студент решил уступить ему место в вагоне.
– Я еще тебя перестою, – рявкнул в ответ Миронов и зыркнул на парня так, что тот выскочил из вагона на следующей станции и уже с платформы крикнул, что Берлин не только полвека назад взяли, но уже с червонец как отдали. После этого Андреич взял себя в руки, вышел на «Бауманской», дошел до Елоховской церкви, дал рубль нищему и позвонил Балашову.
Настя после разговора оделась. Ей стало больно за Миронова. Мохнатая, как у шмеля, грудь ее френда вдруг показалась ей до тошноты противной.
– Анастаси, кроха, забей на папачиса. Папачисов много, я один. Не штукарь же он тебе отваливает, так чего батрачиться, чего теперь love на лаве одевать.
Он обхватил ее талию и притянул к себе.
– Пошел ты! – грубо оборвала его ласку девушка. – Ты сам хоть тысячу деревянных домой принеси, а не от своего папочки из Жлобинска!
– Анастаси, я ведь и обидеться могу! – надул губы атлет. Он не мог взять в толк, что произошло в один миг с покладистой и охочей до него подругой. А еще советовали друзья – не бери молодуху, объезженная кобылица меньше брыкается.
– Обиженные в соседней хате сидят, – опустила его Настя и ушла. «В Шушенское так в Шушенское. Еще посмотрим, кто у нас в какое Шушенское. Я вам еще такую личную жизнь покажу», – выцокивала каблуками, выговаривала Настя своим подружкам. Со словами о хате к ней вернулась уверенность, что атлет прав и ее Миронов, как бы он ни свирепел, никуда от нее не денется. Хрена вам, не отстанет она от бабьей судьбы! Она почему-то подумала о Балашове, о том, что чуть раньше или чуть позже, но тот освободится для нее от маленькой вредной еврейки.
Назар Бабаев отворил дверь, и Андреич вошел в незнакомый темный коридор.
– Ну, приветствую, Игорь, в твоем неосветленном жилище. Писатель – это крот. При свете он слеп, зато в слепых подземных тропах ночи вселенской он зряч. Ты мне свет включи.
Назар Бабаев не знал, где включается свет. Он пощупал стену, но выключателя не нашел и сказал как можно ласковей:
– Вы, дедушка, проходите. Хозяин там, на кухне.
– А вы кто будете?
– А мы гости из Ташкента. Гостинцы завезли.
Лейтенант никак не мог разглядеть ветерана. Голос у того был не стариковский, и, больше того, звучали в нем такие знакомые Назару Бабаеву ноты, что хоть вытянись в струнку и отвечай по уставу. Миронов замешкался в коридоре, зацепившись большой дорожной сумкой за вешалку.
– Ты иди вперед. Зовут как, как фамилия?
– Назар.
– Что Назар? Из Ташкента сам?
– Нет, из Кызылкума. Вы проходите, дедушка.
– А спутников твоих как фамилии?
Назар Бабаев, привыкнув к полумраку, присмотрелся, наконец, к ветерану. Отметил, что дед еще крепок. Вот такие любопытствующие, они всех их еще переживут. Желуди дуба. А глаз один и тот стеклянный. Не моргая смотрит. Второе веко намертво сомкнуто, как запаяно. Как пить дать, Берлин брал!
– Все вам надо узнать, уважаемый! Амангельды и Гурбан, земляки.
Миронов отцепил, наконец, сумку и, слегка подтолкнув вперед молодого, шагнул в кухню.
Капитан Атаев встал ему за спину и обхватил горло предплечьем:
– Не нервничай, дедушка, дыши глубже.
Но Андреич вдруг присел и с неожиданной ловкостью вынырнул из-под руки. Через миг он уже левой запрокинул голову капитана, отпустившего от боли заломной на колено. Указательным пальцем-крюком Миронов едва не вспорол капитану щеку ото рта до уха. В правой дедушка держал невесть откуда взявшийся пистолет. Рукоятью он в силу огрел свою жертву по уху и направил оружие на майора.
Назар Бабаев уважал ветеранов. И ожидал от них всяких возможных пакостей. Но этот превзошел его ожидания. И про такие стволы, что тот наставил на майора, он когда-то читал в учебнике. Оказывается, запомнил, что патроны в них от автомата Калашникова, и ливер ковбойская дура выбивает через любой бронежилет. Назара Бабаева успокаивало то, что смотрела тяжелая приблуда на большого Кулиева. Лейтенант молча опустился на колени и руки заложил за затылок. Он вдруг вспомнил, что в КНБ служить пошел не по своей воле, а за старшим братом, потому что иначе не выжить большой семье, а в опричнине и харч получше, и прав побольше. Ему пришло в голову, что сейчас главное – по дури чужой не схлопотать тут пулю, а там либо свои вытащат, либо здесь, в России, убежище просить можно. Бабаев слышал, тут многие осели, и ничего, живут.
Гурбан Кулиев тоже подумал о сдаче в плен. Но он мыслил иначе. За операцию отвечал он, и иной дороги, кроме как обратно, у него не было. Держало начальство за горло его крепко, и кровь на нем была, хоть и не злодейски пролитая, как та, что на капитане Атаеве, а все одно. Ведь троюродный брат Кулиева с опальным министром финансов дружбу водил, так теперь всей семье выслуживаться. Сорвись он здесь, сдайся просто, и все пойдут по этапу как предатели. И отец, и братья, и зятья… Не дай бог!
Майор Кулиев, насколько мог, прикрылся Балашовым. Игорь был в сознании, но не ощущал своего тела, словно попал в лапы медведю.
– Пусти его, – крикнул Миронов. Целиться в медведя и удерживать обмякшего капитана было тяжело, долго так не простоять.
Майор Кулиев понимал, что попал в засаду. Их здесь ждали, хотя все странно. Русская контрразведка? Может быть, ждали, но не их? Если так, то договорятся. А если ФСБ? Если все же по наркоте? Если ни при чем террористы? Тогда полковник Сарыев кинет Кулиева. Кинет, как говорится, влегкую.
– Пусти внука, – уже не кричал, а членил слоги Миронов.
– Отпусти моего человека. И разойдемся! – предложил майор, не расставаясь с живым щитом, а, напротив, отступив с ним из-за стола к окну.
«Афганец» выпустил Атаева и шагнул в сторону. В этот момент майор с невероятной силой толкнул Балашова на Андреича.
– Атаев, бей! – заорал туркмен, голос его взвился тонко и лопнул, сорвался на хрип.
Тело Балашова не только долетело до Андреича, но едва не сбило его с ног. «Афганец» вынужден был правой рукой закрыться от него и откинуть в сторону. Капитан от начальственного крика пришел в себя и слепо, с колен, бросился на Миронова. Гурбан, видя, что маневр удался и ствол ТТ больше не направлен на него, решил повторить атаку. Поднапрягшись, он двумя руками швырнул на русского кухонный стол и устремился вслед за ним.
Андреич увидел надвигающееся на него темное пятно. Слева в грудь ткнулся головой, прибил к стене, упрямый капитан. Миронов, стукнувшись затылком об угол, только и успел что провернуться в коленях – как только крест-связки выдержали – и выставить вперед себя Атаева. Стол со всего маху обрушился капитану на спину и голову и раскололся надвое. Из-за него наскочил с рыком человек-медведь.
Гурбан Кулиев учуял запах крови. Он уже знал, что раздавит коварного старика раньше, чем тот успеет навести на него оружие. И тогда его ждет медаль, орден, и из его личного дела, может быть, вымарают строчку о нехорошем родстве…
Андреич не испытал ужаса. Напротив, некто главный в нем, его управляющий, усмехнулся, отвечая в непрерывном споре с Настей, с Кошкиным, со всем миром: поглядим, кто стар. Он принял решение, откинул ТТ в сторону Балашова коротким кистевым движением и встретил туркмена правым крюком, вложив в удар вес, удвоенный толчком от стены.
Гурбан Кулиев, только проводив мгновенным взглядом лет пистолета, не успел осознать, что за препятствие встретилось на его пути. Молотом его ухнуло в челюсть и бросило в сторону, на колено. Он взвыл и сквозь желтую пелену ринулся вновь в атаку. Вслед за ним, все же склонившийся к тому, что победа достанется майору, с громким боевым кличем, но не спеша, двинулся в бой Назар Бабаев.
Андреич задыхался. Сердце прыгало прямо в кулак из груди. Его хватило еще на один добрый удар. Левой наметив лишь тычок, он пробил костяшками пальцев под лапами чудища в самый кадык. Уклонился вправо и вложил левой встречный в сопровождение, как учил инструктор Долматов. От удара ногой, нанесенного Бабаевым в прыжке, он даже не устранялся, а просто взял его на живот, двинувшись навстречу.
Лейтенант Бабаев отрабатывал смертоносные техники ушу больше года, он постигал секреты кемпо-карате шесть месяцев, но майа тоби гери в чужой московской кухне вышел у него вялый, вовсе без души. Он сам потерял равновесие и упал на зад. Миронов схватил его за ухо и рванул, так что у лейта почернело в глазах от боли. Он распластался на полу. В обоих носках желтели дыры.
Обычный здоровый человек на месте Гурбана Кулиева уже лег бы навзничь рядом с Бабаевым от ветеранских гостинцев, но не таков был майор. Он собрал последний воздух в легких, сжал зубы и, схватив стул, словно палицей замахнулся на врага. И тут кухню потрясла, жахнула по перепонкам, густая резкая волна от выстрела. Балашов пересилил себя, нащупал ТТ и, прицелившись в медведя, нажал на спусковой крючок. Пуля, прессуя воздух, выбрала невероятный маршрут: прострелив штанину майору и едва не задев «причинное место», она усвистела в окно, унеся с собой часть рамы со шпингалетом. Запахло порохом и штукатуркой.
Гурбан Кулиев упал на колени и схватился за пах. Он не мог разобрать, ранен ли он туда или просто контужен, но его медвежий дух оказался сломлен. Балашов, открыв рот, ошалело смотрел на Миронова. Тот подошел к нему и хотел взять оружие. Игорь не отдавал, упирался, пока Андреич не шлепнул его ладонью по щеке и не рванул с силой. Потом, не упуская из виду узбеков, помог ему подняться.
Через полчаса примчался Раф, вслед за ним поспел Вася Кошкин с помощником, капитаном Утюгом.
Туркмены сидели вдоль стены, руки у них были стянуты подручными средствами. В ход пошли пояса Балашова и единственный его галстук. Хальцтюх, так это слово выговорил на нервной почве Миронов.
Андреичу было нехорошо. «Сахар. Холестерин будем понижать», – объяснил он. Он отказался от остатка водки и пил воду, чем поразил Васю с Шарифом. Эти водкой не побрезговали. Они плеснули ее и пленникам и приступили, переглянувшись, к допросу. Кошкин настаивал на перекрестном, Раф убеждал, что вышибать инфу лучше поодиночке.
– Мы их запутаем, – объяснял Кошкин.
– Куда их путать! Это же узбеки, их распутывать надо. Они же друг дружки больше, чем нас, боятся.
Майор Кулиев, придя в себя, геройствовал. Осознав, что он цел, туркмен взвесил, кто ему сулит большей опасностью, русские или свои, и решил помолчать. Был бы он здесь один или вдвоем с лейтенантом, тогда дело иное, тогда сумели бы договориться. Но Атаев – этот ведь, гнида, уровняет с грязью, если вернут на родину…
Бабаев, оказавшись один на один с Кошкиным в камере для допросов, то бишь в сортире, сразу попросил политического убежища. «Все расскажу. Все расскажу. Только обратно не отправляйте, дядя», – частил он и заглядывал в глаза с подобострастием. Вася лишь пару раз ударил его под дых и в печень, и тот пошел говорить о спецзадании, о задаче группы, о наркодилере Кеглере, террористе Балашове, как-то связанном с боевиками Назари. Эту связь и должна была выявить группа Гурбана Кулиева. Под конец допроса Вася взял в толк, что имеет дело с туркменами.
Иначе повел себя капитан Атаев, оставшись наедине с Рафом. В узких глазах допрашивающего он распознал не родственное, но понимающее. «Узбек. Неужели СНБ с ними? Серьезно все».
– Я в Ташкенте учился, – сделал он заход по-узбекски.
– Плохо учился? – в тон ему ответил Шариф.
Атаев усмехнулся. Он бы вел допрос так же. Он бы еще для убедительности вогнал бы шприц с хлором под ноготь или просто штырь в зад, тогда бы хорошо посмеялись шутке. Но он был на Рафа не в претензии за его излишнюю мягкость. «Обмосковился», – подумал Атаев. Отчего-то он чувствовал себя уверенно. Если майор да лейтенант почудакуют, то все еще будет хорошо. Видимо, разведка, работают интеллигентно. С разведкой ко взаимной выгоде можно договориться, они не отморозки.
В Ташкенте Атаев в свое время учился с разведчиками. Сам не попал, бабы подвели.
– Допрос официально проводите? – уже по-русски спросил капитан.
– Ага. Сейчас адвокат подъедет. Ну, что привело вас, господин… господин Атаев, в столицу нашей родины, город-герой Москву? Ворвались к гражданину, учинили разбой!
– Пьянство. Туркмен такой человек: как выпьет водки, мозги в живот уйдут.
– А привет от Павла Кеглера?
– Так то в аэропорте земляк попросил. Передай, сказал, дыню, а тебя там накормят и напоят. Я-то этого Кеглера знать не знаю.
– Хорошо, хорошо, хорошо. Завтра мы отправим тебя на твою теплую родину, а в газете пропечатаем: люди Туркменбаши учинили в Москве разбойное нападение. И все. Никакого скандала, а из вас веревки совьют. Думаешь, почему я такой спокойный? Я спокойный, потому что я знаю – тебе в Ашхабаде, в тихом доме на Фирюзинском шоссе, в зад вставят все то, чего не вставил я.
Атаев оценил тонкость и информированность коллеги.
– Рахмат. Большой рахмат. Я понял. Но есть вариант. Я, устат, не скрою. Я за эту командировку хочу звезду при жизни. На погоны хочу. И на грудь хочу. Ты тоже хочешь. Давай поможем друг другу, брат?
Раф подошел к капитану и похлопал его по щеке взятой в сортире газетой.
– Сейчас поможем. Ты дельный парень. Я таких видел. Крови на тебе, что воды в этом бачке. Но то – твои долги, не мои. А история у нас с тобой выйдет такая: ты мне гутаришь, что вам здесь надо, кто подельники, кто начальник. Ну, сам знаешь что к чему… А затем мы в соседней комнате сядем с нашим профессором и решим, какую тебе слепить басню так, чтобы ты за звездой домой поехал, а не за крюком в попке.
И капитан Атаев рассказал все, что знал о деле. Без фантазий и путаницы, четко, по-армейски. Доложил. Теперь дело было за хозяевами. Туркмен перевели в спальню, врубили радио погромче, а сами на кухне собрались на совет.
– Что с ними делать теперь? – спросил первым Кошкин после того, как ясность возникла в главном: гости понятия не имеют, в какой связи находятся Назари, Большой Ингуш, Балашов, Кеглер и их начальство.
– Что делать… В холодную. В Лефортово пристрой их. Там их главный, которому наш писатель чуть залпом достоинство не оторвал, вспомнит про свое начальство… – предложил Миронов. Его аорта еще не перестала биться крупной дрожью, но он уже перемежал водочку с перцовой «Осталко», им же и привезенной.
– Андрей Андреич, у меня ведь свое начальство! Сколько мне их держать? Под каким соусом? Как узнают, что коллеги, меня же четвертуют! Мало того что с взрывниками болото, так еще братьев-туркмен подсадил. Газ, Андрей Андреич, не тетка. А Газпром – не дядька.
– Отпускаем. Пусть едут. Дарим им версию, и пусть едут. Я этих пацанов как Красную книгу читаю. Нет страшнее зверя, чем испуганный заяц. Это называется «мягкая вербовка» в дружественных органах, – уверенно вмешался Раф.
– Какая версия! Какие органы! Мы сами пока на сопле подвешены! – взвился Кошкин.
– Не просто на сопле, а на сопле неизвестности. Разные вещи, полковник. Напружи мозги. Ученые люди говорят: нет безвыходных положений, есть нестандартные решения. Шла бы речь о тетках, ты бы в панику не впадал, боец Василий Кошкин!
Раф предложил короткий прямой ход. Капитана Атаева следовало отправить в Ашхабад первым рейсом. Вместе с майором-медведем. Их задание было выполнено, звезды уже сияли на кителях. В ходе спецоперации Балашов был взят и допрошен. Объект, расколовшись, сообщил, что выполнял заказ. Чей? Отчего не Бориса Березовского? Конечно, Березовского. Но сам он – писака, только на слив работает. К наркотрафику отношения не имеет, но с чеченцами связан. Взрывники Назари дорого стоят, но проданы. «Ветер дует с Кавказа», – произвел он на свет слоган. Тот, кто в Туркмении воду мутит, тот поймет. Пусть ветер с Кавказа на Кавказ и возвращается. К нашему другу Ютову.
Миронов с гордостью посмотрел на ученика.
– Как же, Андрей Андреич? Мы же только с Русланом замирились! Теперь и его во враги? Мало нам? – упрямился Кошкин.
– У нас и будет мир. Потому что у них выйдет война, а нам мир тем крепче! Вот ютовская Астролябия в оперативно-практическом приложении.
Миронова волновало одно: как добиться от туркмен согласованности действий?
– А что ее добиваться? Жить захотят, сами согласуются, – уверял Раф.
– Молодой скиснет. Как прижмут, поплывет, как дерьмо на паводке… – Кошкина не оставили сомнения. А как же, он один в погонах… Балашов в военном совете не участвовал. Близкое расставание с туркменами угнетало его. Вместе с ними знакомая опасность, пережитая, уже домашняя, должна была уступить место другой, черной, неведомой. Но спасителей Балашова его чувства не интересовали. Утюг ждал в машине, и машина должна была развести пришельцев по судьбам. Майора Кулиева и капитана Атаева отправили в Домодедово. Предварительно им разъяснили версию до таких деталей, что она больше не вызывала разногласий и каждый остался в убеждении, что напарнику не с руки стать доносчиком. А при определенной ловкости и согласованности еще возможны и погонные звезды. Лейтенанта Бабаева к облегчению его коллег оставили париться в Лефортово. О просьбе Бабаева им не сообщили, а пообещали задержать за пьяную драку и попытку изнасилования уважаемой российской гражданки. Тогда, по плану Шарифа, туркменская сторона забудет про него на время. А там что-нибудь да придумается. Да и кто ему, замазанному, потом поверит…
Майору Кулиеву не нравился такой план. Ему лучше было бы забрать лейтенанта с собой и по дороге поработать с ним, объяснить все опасности, которые могут возникнуть в его жизни, распусти он язык. А еще надежнее вышло бы, если бы русские послушались предложения Атаева и просто свернули Назару шею. Но майор сообразил – неведомой русской спецгруппе нужен заложник. С тяжелым сердцем он полетел в Ашхабад.
Назара Бабаева Кошкин взял под свою опеку. Миронов уломал его, что эту рыбку держать в Лефортово трудно, но в Москве пристроить можно. Дать надежду на паспорт. А начальству – демонстрация активности и успех оперативного мероприятия. «След далек, но горяч», – так проштамповал устный вердикт Андреич. Бабаеву, предварительно переписав номер, сожгли паспорт и доставили в знакомую ментовку. На пятнадцать суток в «камеру хранения».
После визита ветеранов убеждать в отъезде Машу долго не пришлось. Она только ощупала раненую форточку, Игорево лицо, снова форточку и заплакала. Тут и суровый Миронов смягчился:
– Ну вот. Дынь поели. Туркменские ковбои умеют убеждать. Женщину. Твоим германцам на пять фильмов… Пусть. А ты собирайся. Воздухом будешь дышать. Озон необходим для снятия стресса. Равно как коньячный спирт. Сейчас Раф нас на вокзал.
– В иллюзию любви? Хорошо, пусть так, – только и ответила она.
Раф отвез их на Ленинградский и долго еще беседовал тет-а-тет с Мироновым, пока Игорь с Машей пили пиво в буфете. Когда садились в вагон «Николаевского экспресса», Шариф подал Маше мохнатую руку, слегка притянул к себе и шепнул на ухо:
– Не тревожься, сестричка. Мы с Васей Кошкиным ваши тылы прикроем.
Маша не знала, когда стала сестрой этому странному человеку, но после таких слов ей стало спокойнее перед дорогой. Она поцеловала Рафа в щеку, и тот, улыбаясь, исчез в ночи города. А в усталом мозгу Игоря Балашова исчезла его Москва, та Москва, которая была музыкой его молодости. Интеллигентные молодые люди, кухонная демократия, далекая от войны… Поезд увозил его в иную судьбу. «Хватит ли сил?» – спрашивал он себя, силясь разглядеть в набирающих скорость тенях за окном знакомые кварталы, уцепиться за них. Ховрино, Крюково… Кто знает, на какую судьбу хватит у него силы? Счастья он не испытывал, но и возврата не хотелось. Больше того, он отверг возможность возврата в ту свою судьбу.
Андреич существовал в ином строе мыслей, связанном не столько с уходящим, сколько с предстоящим. Он был молчалив, пока поезд не выехал за пределы Москвы, а потом его прорвало. Впервые на памяти Балашова «афганец» так смеялся. Маша хохотала вместе с ним. Она была словно пьяна.
– Сто лет будешь целиться, не попадешь так. Чуть выше, и мы бы с писателем сидели не в Николаевском, а на Бутырском. А сантиметром ниже – лучше не думать. Всю руку о гориллу отбил. Вот такого Челубея встретишь на Куликовом поле, и думай, как тут Русь защищать!
Кисть у Миронова вспухла, впрочем, не правая, которой он молотил челюсть майора Кулиева, а почему-то левая.
– Игорь, решительный поворот в романе выведи – когда окажется, что не только Маша, но и ты – меткие стрелки из БНД. Агент-писатель бежит по следу террористов Назари! – Миронов продолжал смеяться.
– Самое интересное другое. Самое интересное, если я окажусь агентом КГБ! Или вы. Ваше появление со стволом – это почище моего снайперского выстрела. Как вы поняли? Вы что его, всегда с собой носите? – Игорю, наконец, передалось возбуждение его спутников.
Миронов отвечать не стал, предпочтя сохранить таинственность. Не стал рассказывать, что афганец Курой коротким, как жизнь, телефонным звонком оповестил о сумасшедшем туркмене-журналисте, ненавидящем Колдобина. Песчинка, упавшая на весы и случайно оказавшаяся спасительной, не бывает случайной. Не стал объяснять, что относится к старым, еще в СССР мужавшим кадрам, и уж узбека от туркмена отличить может. И от хазарейца, и от таджика – повидал он солдатиков разных. И об интуиции профессионала… Балашов унес в сон загадку о поэтическом седьмом чувстве, которым Бог наделяет своих Героев. Счастье – это что пришла не Маша. Счастье – это осуществленная ответственность.
Колдобин и Мозгин
В те минуты, когда поезд уносил Машу и ее спутников от Твери в брызжущее из-за горизонта утро, и Маша, ворочаясь в прохладной бессоннице, ловила себя на том, что впервые с ней происходит нечто, что не управляется ее разумом и волей, а катится под горку раскатистым самокатом – и хорошо, и вот оно – счастье, пугающее, страшное скоротечностью, – в эти минуты Григорий Колдобин, как раз закончив статью в газету, готовился приступить к приятной части вечерней программы. Его подруга или, как раньше говорили, любовница, курила тонкую сигарку, пока известный журналист принимал душ – в спальне Колдобин курить настрого запрещал, – и разглядывала пустой двор. Она соскучилась по этому человеку, состоящему, казалось, из одних недостатков.
