Музыкальный интеллект. Как преподавать, учиться и исполнять в эпоху науки о мозге
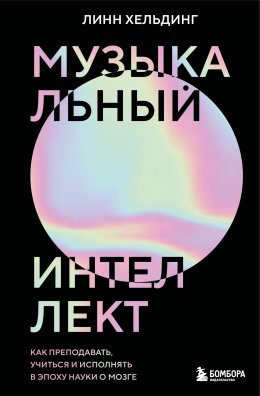
© Дрозд Алина, перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие
О поломках систем и мозге музыканта
Поломка системы— будь то супружество, тазобедренный сустав или ноутбук – это маленькая катастрофа, которая нарушает обычный порядок вещей. Однако для ученых, исследующих мозг, такие поломки— это бесценная возможность для изучения исправных систем. Согласно этой редукционистской точке зрения, повреждение в части мозга не только показывает, как она должна была функционировать в здоровом состоянии, но и дает почву озарениям, которые происходят при наблюдении за тем, как здоровые части компенсируют функции пораженных.
И рождение науки о мозге, и эта книга частично обязаны своим существованием поломкам. С наукой о мозге был связан ужасный случай, приключившийся с железнодорожным работником Финеасом Гейджом, который выбил себе лобную долю левого полушария головного мозга, когда его металлический трамбовочный стержень для уплотнения порохового заряда высек искру. В случае с этой книгой поломка произошла с моим инструментом.
Будучи студенткой, изучающей музыку и стремящейся построить карьеру в опере, в 1980‐х я уже овладела хорошей и сильной классической вокальной техникой с помощью моего первого учителя по вокалу. Имея за плечами некоторую известность после выступлений и несколько побед в серьезных вокальных конкурсах, я оставила дом, чтобы продолжить изучать музыку в одной известной музыкальной школе. Однако всего после шести недель в студии моего нового учителя я начала терять голос, чаще всего сразу после уроков по вокалу. Логика подсказала мне, что я должна сообщить об этом своему учителю, но я лишь получила выговор за то, что тренировалась недостаточно усердно, и мне было сказано тренироваться еще больше. Послушно следуя этому указанию, я очень скоро заработала перенапряжение голосовых связок.
Так началось мое долгое изучение психологии голоса и научных принципов вокальной деятельности, которые начали исследовать в 1960‐е годы учителя по вокалу Ральф Эпплмен и Уильям Веннард и мастерски развил в 1980‐е вокальный педагог Ричард Миллер. При помощи великолепного специалиста по вокалу, который использовал системную вокальную технику Миллера, я быстро вернула контроль над своим инструментом. Я была убеждена, что научный подход к голосу может помочь преодолеть пропасть между тем, что Миллер окрестил «исторической итальянской школой пения», и настоящим временем и, что еще более важно, что наука может ответить на извечные вопросы и разрешить изнурительные споры. (Что вообще такое «поддержка дыхания»?)
В моей быстроразвивающейся карьере учителя я с большим рвением применяла наставление Миллера о том, что, как учителя, «ради наших студентов мы обязаны пользоваться не только всем, что было известно двести лет назад, но и всем, что известно нам сейчас», и усердно применяла то, что я называла «Теорией аккумуляции»[1]. Теория была проста: чем больше ты знаешь о психологии голоса и о том, как работает вокальная акустика, тем лучше ты можешь петь и обучать пению. Тогда мне казалось, что важнее всего, что человек знает.
Похожий образ мышления присутствует в педагогике практически всех музыкальных инструментов (по крайней мере, классических семейств инструментов, которые входят в традиционную американскую музыкальную консерваторию), хотя стандартный метод преподавания в этих школах основан на европейской модели передачи знания от учителя к ученику, в которой технические знания передаются студентам очень личными, субъективными и своеобразными способами. Но на каждые десять подобных учителей музыки, которые не учат психологии той части тела, которая необходима для игры на инструменте, приходится хотя бы один педагог, который верит, что знание биомеханики запястья, чувствительных мышц лица, которые участвуют в игре на духовых инструментах, или компонентов дыхания необходимо для развития, заботы о себе, защиты от травм и восстановления в случае поломки системы. Такой тип знаний, на мой взгляд, жизненно необходим для эффективного и гуманного обучения музыке. Действительно, многим в нашей профессии стоит внять древней клятве Гиппократа для врачей: «Primum non nocere», «Прежде всего – не навреди».
Однако, какой метод бы ни выбирали учителя музыки – эмпирический, основанный на их собственном творческом опыте, или научный, построенный на базе знаний, собранных многими людьми за долгое время, – передача знаний от учителя к ученику в конечном счете держится на способности студента усваивать их. Действительно, такая база знаний практически бесполезна для ученика, если он ее не понимает. К несчастью, эта горькая правда дает недолюбливающим науку учителям идеальную причину воздерживаться и от науки, и от «основанной на доказательствах» педагогики.
Тем не менее в каждом семействе инструментов есть некоторое количество музыкантов, которые ревностно преследуют стоящую за их инструментами науку, движимые интересом к научным фактам и беспокойством за своих студентов, очарованные теорией аккумуляции. Однако в конечном счете многие, кто достиг дальнего берега знаний и уберег свой бесценный груз, обнаруживают, что они не могут выставить свой товар на рынок: не могут одинаково быстро и эффективно поместить свои сокровища в головы своих студентов и загнаны в тупик осознанием того, что что ты знаешь как музыкант – это еще не гарантия учительского успеха.
Это открытие приходило ко мне постепенно. Первой стадией было принятие правды, что позволило обнаружить другой вопрос, назойливый вопрос «Как?». Если мы обладаем знанием, как нам посадить и вырастить семя этого знания сначала в головах наших студентов, а затем распространить его на нашу студию и даже дальше, чтобы другие могли получить от него пользу?
Вторая стадия этого открытия настигла меня в Национальном центре голоса и речи, куда я отправилась, чтобы учиться в Летнем институте вокалогии. Доктор Кэтрин Вердолини Абботт в середине своего курса по теории моторного обучения отступила от темы и сказала, что что учителя и клинические врачи знают о голосе не всегда переносится на то, как тренировать голос. Это озарение словно ударило меня молнией. Через попытки осознать свою роль я поняла, что пока ученые преследуют знание ради самого знания (и, как считается, творцы преследуют искусство ради искусства), учителя – особенно учителя искусства – заняты абсолютно уникальной деятельностью. Мы не можем позволить себе роскошь просто накапливать знания или творческий опыт; мы должны понять, как передать их нашим студентам. Преследуя вопрос «Как?», я пришла к выводу, что «что» науки о голосе нуждалось и в системе доставки, и в «приемнике» знаний: человеческом разуме.
Эти осознания удачно совпали с провозглашенным президентом в 1990‐е годы Десятилетием мозга, целью которого было «увеличить осведомленность общества о выгодах, которые можно извлечь из исследований мозга» и «поощрить публичное обсуждение этического, философского и гуманистического значения этих новых открытий».[2] Эта инициатива привела в это десятилетие к взрывному росту когнитивистики и нейронауки, который начался в 1950‐е годы после красноречиво названной когнитивной революции. С головой погрузившись в исследование, я предложила когнитивистику как логичное направление для сближения науки о голосе и вокального искусства, так как они были не в ладах более века. [3] Позже я предположила, что в ответ на когнитивную революцию должен произойти сдвиг парадигмы во всей музыкальной педагогике, перемещение фокуса с того, насколько хорошо учителя учат, на то, насколько хорошо студенты учатся; сдвиг с того, что музыканты знают, на то, как их тренируют.
Эта книга – результат более девяти лет исследований в этом направлении. Я надеюсь, что читатель найдет это исследование таким же поучительным, стимулирующим и полезным, как и я в своей жизни творца, музыканта и учителя. С этой целью я предлагаю следующие мысли о применении книги.
Целевая аудитория: Эта книга предназначена для всех музыкантов на всех этапах их путешествия, связанного с учебой, преподаванием и исполнительством, а также для тех, кто учит, любит и воспитывает их.
Музыкальные жанры и стили: Эта книга также предназначена для всех музыкантов всех жанров и стилей музыки. С точки зрения мышления, самое большая пропасть пролегает между письменными и устными практиками. Способность читать нотную грамоту – характерный признак западной классической музыки, однако умение импровизировать на основе заученных музыкальных частей крайне необходимо во многих других музыкальных стилях. Эти несходные практики, по всей видимости, требуют различной умственной гимнастики в зависимости от того, подходит ли музыкант к заученному материалу как к холсту для творения или считывает нотную грамоту, воспроизводя написанное композитором произведение. В обоих случаях мозг показывает свою сетевую коннективность, которая, как считается, является фундаментом всех сложных когнитивных задач. Опять же, когнитивистика предлагает плодородную почву для сближения многих различных музыкальных жанров и стилей[4].
Когнитивистика: Многие дисциплины сейчас объединены в направление когнитивистика, а именно нейронаука, когнитивная психология, нейробиология, нейрофизиология, нейролингвистика и эволюционная психология. Так, основатель этой области выдвигал предложение, что более уместно будет назвать ее когнитивные науки, высказывая мнение, что множественное число подчеркнет ее междисциплинарную природу. Тем не менее зонтичный термин когнитивистика– основной термин, использующийся в этой книге. [5] Этот осознанный выбор отражает фокус этой книги на когнитивистике (как мозг обрабатывает информацию), а не на нейронауке (ветви биологии, сфокусированной на анатомии и психофизиологии мозга). Так что в этой книге читатель редко встретит названия структур мозга, а картинки с мозгом, разрезанным, словно кусок говядины, отсутствуют вовсе.
Эксперты и исследования узких тем: Большая часть информации в этой книге о плодотворных методиках практики происходит из области моторного обучения и относительно новой области исследования экспертности. Зачем нам изучать специалистов? По большей части из‐за проницательных наблюдений, качество которых эксперты постоянно стремятся улучшать. Поэтому они и эксперты. А улучшения требуют практически всех качеств, которых сторонится менталитет «не-думай-просто-делай»: саморефлективное мышление, заблаговременное планирование, предсказывание и оценка результатов, контроль за физическими действиями. Так что эта книга предназначена скорее не для музыкантов-любителей, а для экспертов и студентов, занимающихся изучением узких тем – назовем их «искателями экспертности». Насколько далеко ученик готов зайти на пути от новичка до мастера – это в конечном счете личный выбор, но мое мнение таково: очень преданные идее музыканты-любители смогут найти в этой книге многое, что поможет им и доставит удовольствие в процессе создания музыки.
Терминология: Я – певица, воспитанная в западной классической традиции, и я пела и выступала в нескольких разных вокальных стилях: опера, хорал, барочная музыка, мюзикл и джаз. В детстве я также обучалась игре на фортепиано, ударных, скрипке и гитаре. В этой книге я использую общий термин музыкант для обозначения и певцов, и играющих на инструментах, уточняя, о ком именно идет речь, когда это необходимо. Точно так же слово атлет в главах о моторном обучении относится ко всему, что связано с двигательной функцией, а не только к спортсменам. Так что слово атлет относится к музыкантам и танцорам, так же как к бегунам, лыжникам, баскетболистам и так далее.
Местоимения: Принципы когнитивного и моторного обучения в применении к обучению музыке и выступлениям лучше всего иллюстрировать через воображаемые сценарии и истории; так что использование местоимений неизбежно. Я постаралась с одинаковой частотой использовать местоимения он/его, она/ее и они/их на протяжении книги.
Благодарности
Я бы хотела поблагодарить следующие учреждения, организации и людей, которые поддерживали мои исследования:
• Колледж Дикинсон
• Университет Южной Калифорнии, Торнтонская музыкальная школа
• Вестминстерский хоровой колледж Университета Райдер
• Национальную ассоциацию учителей пения
• Фонд «Голос»
• Содружество имени Вана Лоуренса
• Национальный центр голоса и речи и его Летний институт вокалогии
• Панамериканскую ассоциацию вокалогии
• В издательстве Rowman & Littlefield – Натали Мандзюк, редактора приобретений; Майкла Тана, помощника редактора; Келли Хэйгэн, старшего выпускающего редактора; и Джона Шанабрука, копирайтера.
Мне бы хотелось сказать «спасибо» каждому человеку в моей жизни, который стимулировал синапсы в моем мозге. Но я не могу, так что свою искреннейшую благодарность я выражаю тем, чье влияние создало самые прочные нейронные пути. За это я говорю «спасибо»:
• Моим родителям, Роберту и Джоанне, за то, что называют «свободным воспитанием» и что они понимали, как просто нормальное детство. Это было основой всего, что происходило со мной дальше. Как вообще можно сказать «спасибо» за это так, чтобы выразить всю глубину чувств? Вместо этого я регулярно проливаю слезы благодарности, потому что, к сожалению, нормальное не является ни среднестатистическим, ни широко распространенным.
• Моему брату, который научил меня драться как мальчишка. Это умение мне очень пригодилось.
• Моей учительнице по фортепиано, миссис Брэкстон, за то, что настояла на трех уроках фортепиано в неделю.
• Моей учительнице в средней школе, миссис Брэдшоу, которая научила меня писать.
• Покойной Эстер Ингленд, которая научила меня петь так, чтобы мне хотелось быть услышанной.
• Дону Кэри за «эмоции и смыслы в музыке» задолго до того, как я открыла для себя Леонарда Мейера[6].
• Инго Титце, который открыл дверь, чтобы совершить прогулку по беспутному кварталу[7] с наукой.
• Китти Вердолини Абботт, которая открыла мне мой Святой Грааль, теорию моторного обучения, и поделилась черновиками глав про моторное обучение с нашим классом по вокалогии.
• Покойному Полу Кисгену, который с энтузиазмом поддерживал мою веру в когнитивные науки как в третий столп науки о голосе.
• Дону Миллеру, который ставил под сомнение важность когнитивных наук в области науки о голосе. Вот твой ответ.
• Мередит Миллз за то, что заставляла меня безудержно смеяться.
• Крису Арнесону, который отдавал должное моим идеям, но побуждал меня никогда не забывать о практичности. Дай мне знать, как у меня это получилось, ладно?
• Скотту Маккою, который уговаривал меня опубликовать мой текст и затем сделал это сам.
• Дику Сьёрдсма, который разделял мой энтузиазм в отношении человеческого разума, дал мне вести колонку, а затем пристально следил за моей работой. Я стала лучше как писательница благодаря твоей строгости и твоему интересу к моей работе. Ты сделал «Осознанный голос» по‐настоящему «желательной трудностью».
• Линну Максфилду за то, что взял на себя эту колонку, и за его разъясняющий график, пересмотренная версия которого напечатана в этой книге с его разрешения.
• Эрику Хантеру и Мануджу Ядаву за плодотворные дискуссии о природе звука по электронной почте.
• Всем моим студентам, прошлым и настоящим, которые беспрерывно мотивировали меня отвечать на вопрос «Как?».
• Мелиссе Трейнкман за чтение глав об обучении и за то, что ты сама ненасытно жаждешь учиться. Ты именно та аспирантка, которую я надеялась найти, когда наконец‐то заработала честь обучать других.
• Кристин Ротфусс Эрбст, которая открыла мне разницу между разумом магистра и разумом доктора наук (и огромное пространство между ними).
• Мою коллегу по обучению из Торнтонской музыкальной школы Университета Южной Калифорнии Беатрис Илари, которая прочитала главу «Как работает обучение», напомнила мне о том, что в центре всего находятся эмоции, и затем одобрила написанное.
• Моих коллег из Торнтона, УЮК Петера Эрскина, Рода Гилфри, Уильяма Каненгизера, Стивена Пирса и Антуанетту Перри, которые добросовестно работали над Торнтонским комитетом здоровья музыкантов и делились своей мудростью на тему тревожности во время музыкального исполнения.
• Синди Дьюи, потому что она думает, что любой, кто изучает мозг, должен быть очень умным. Ты моя сестра из другой жизни.
• Моим детям, Клэр и Кинану, которые спускают меня с небес на землю. Как говорилось в «Кожаной Лошади»[8], «Настоящность – это то, что происходит с тобой после того, как ты испытываешь любовь ребенка на протяжении очень долгого времени. И это не случается в один момент. Ты приходишь к этому. На это требуется долгое время, и это обычно не происходит с людьми, которых легко сломить, или у которых много острых углов, или с которыми нужно обходиться осторожно». Спасибо, дети, за то, что сглаживаете мои острые углы и заземляете меня.
• О, Блейк Уилсон. Как писал Салман Рушди, «Наша жизнь – это не то, чего мы заслуживаем; она, давайте согласимся, болезненно несовершенна. Песни превращают ее во что‐то другое. Песни показывают нам мир, который стоит нашего томления, они показывают нам, какими мы могли бы быть, если бы были достойны мира». И ты, meine Seele, mein Herz, ты и правда mein guter Geist, mein bess’res Ich[9].
Введение
Новое очарование
Человеческий мозг – суперзвезда нового тысячелетия. Этот невзрачный морщинистый комок нервной ткани извлекли из его потайной комнатки на чердаке человеческого черепа и превратили в поп-культурный феномен – сюжет, напоминающий «Золушку».
Эта история началась в последние десятилетия девятнадцатого века, когда физиологические объяснения человеческого поведения начали превалировать над философскими. Лидеры зарождающейся тогда сферы экспериментальной психологии чувствовали необходимость спасти психологию от философии, женить ее на развивающейся биологии и узаконить ее потомство (психологические феномены) путем тщательного исследования в полноценной научной лаборатории, а не на сомнительной кушетке психоаналитика. Эти психологи-экспериментаторы, особенно американской школы, вскоре очистили мозг от разума и изгнали его и его побочные продукты, эмоции и самоанализ, из серьезных научных исследований. Так эфемерный разум был выдворен во внешние сферы психологии, пока материальный мозг, обращенный в рабство авторитетом науки, отбывал свое нудное наказание в течение эры холодной войны бихевиоризма.
Но на заре 1960‐х мозг был освобожден новыми когнитивными науками. И так начался пигмалионский переход. К 1990‐м мозг воссоединился со своим пропавшим разумом и, одетый в кислотные цвета нейровизуализации, дебютировал как звезда бала в честь новой эры, названной его именем, – провозглашенного президентом Десятилетия мозга.
Технологии визуализации, такие как фМРТ, ПЭТ и МЭГ, теперь могут визуализировать мозг в реальном времени, пока он обрабатывает атрибуты человеческого поведения (например, понимание языка), возвышенные произведения человеческой культуры (такие как музыка) и бедствия, которые эксплуатируют наши нейрональные механизмы (азартные игры и зависимость от порнографии). Превращение ранее невидимой для нас активности мозга в зафиксированные изображения, одновременно волнующее и пугающее, манифестирует мантру новой эры науки о разуме: разум – это то, что делает мозг. [10]
С самого момента их появления броские картинки «мозгорадуги», сделанные с помощью фМРТ, оказались слишком беспорядочными для того, чтобы быть заключенными в академическую тюрьму. Сила убеждения того, что два психолога окрестили «нейроболтовней» и ее «двоюродным братом, мозгопорно», создала новую сферу нейромаркетинга, которая эксплуатирует очарование и авторитетность этих картинок, чтобы продавать всё – от газировки и машин до политических кандидатов. [11] И как лукавая юная старлетка может превратиться из хорошо продающейся красотки в высококлассную актрису, так и мозг при должной ловкости рук становится предметом для коллекции портретов длиною в целую книгу. [12]
Однако популярность мозга не сводится только к фотосессиям. Быстрое прочтение заголовков в Интернете в любой случайный день расскажет вам о новых странствиях любимца СМИ: «Ученые нашли «Точку Бога» в человеческом мозге» или «Кормление грудью делает мозг младенцев больше». Да, есть даже «Атака на подростковый мозг!!».[13]
Суперзвезда-мозг мелькает в темах исследований так же легко, как поп-звезда меняет кавалеров, и, как настоящая дива, он затмевает всё, с чем встречается в одном предложении, даже темы такие привлекательные, как музыка. Партнерство мозга с музыкой создало поле исследований, названное когнитивной нейронаукой о музыке, которое, как понятно из названия, состоит из когнитивной психологии и нейронауки и посвящено научному исследованию нейробиологии музыки. В этой плеяде музыка ценится в первую очередь за ее способность предложить «уникальную возможность лучше понять организацию человеческого мозга».[14] Оставаясь верным себе, мозг крадет всё внимание.
Мозг на музыке
Два столпа исследования в когнитивных нейронауках – это (1) музыка и эмоции и (2) восприятие и познание музыкальных структур. Текущее состояние этого исследования хорошо описывается заголовком популярной книги на эту тему («Это твой мозг о музыке»), и двусмысленность ее названия[15] говорит о том, каким образом элементы музыкальных экспериментов преподносят испытуемым: извне внутрь. Исследования чаще всего проводят однобоко: используют записанные музыкальные звуки (созданные заранее невидимыми нам авторами) и вводят их через ухо в человеческий мозг, который и является конечной целью. [16] Не считая нескольких выдающихся исключений, исследователи обычно используют собранную информацию, чтобы сделать выводы о том, как прослушивание музыки влияет на мозг, а не о том, как мозг может влиять на процесс создания музыки – и уж конечно не о том, как мы можем улучшить этот процесс.
В этой книге я изменила приоритеты, решив для начала сделать шаг назад от сенсационной шумихи вокруг мозга к более взвешенному рассмотрению того, что нам известно о мозге на данный момент. Я сфокусировалась на познании, на том, как человек учится, так что ведущим меня вопросом был вопрос «Как?». Как текущее состояние науки о мозге может сделать нас лучшими музыкантами? Как вы увидите, этот вопрос совсем не рассмотрен когнитивной нейронаукой о музыке, возможно, потому что нейроученые считают эволюционный вопрос «Почему?» более привлекательным применительно к процессу создания музыки:
Еще увлекательнее, чем как люди создают музыку (и, наверное, чем еще более великие тайны), вопрос о том, почему люди это делают, почему другие ее слушают и как ритм может иметь такое глубокое влияние на тело и мозг. [17]
Без сомнений, некоторые музыканты согласятся с научной журналисткой Элизабет Куилл, которая это написала, и действительно найдут эти вопросы увлекательными. Для таких людей написано несколько замечательных книг, в которых они рассматриваются. Но также очевидно, что многие музыканты уже ответили для себя на вопрос «Почему?», и ответ на него связан с эмоциями и смыслами.
Сама Куилл признает «тенденцию музыки нести в себе культурные, религиозные и эмоциональные смыслы» и отмечает, что это ее свойство «может усложнить работу ученых, которые ищут ее корни и ее пользу», допуская, что эти осложнения – это то, что делает поиск ответов на вопросы «стоящим того».[18]
Однако не все когнитивные ученые находят вопрос «Почему?» – по крайней мере, в контексте музыки – стоящим. Полный закат музыки по причине ее «бесполезности» был провозглашен когнитивным психологом Стивеном Пинкером в его печально известном комментарии о статусе музыки в Человеческой ситуации[19]. С точки зрения Пинкера, чистое удовольствие, доставляемое музыкой, можно объяснить только через отказ от этой вводной как от «аудитивного чизкейка»: сладкого, но пустого. [20] Это была воинственная риторика эволюционных психологов, которые взялись найти эволюционные корни музыки, будто бы описание функции музыки может доказать ее ценность. [21]
Но музыкантам такие доказательства ни к чему. Мы уже осознаем самоценность музыки. Однако даже в намного более современных исследованиях музыки и мозга конечной целью является не объяснение силы музыки «умиротворить и дикого зверя», а защита ее от обвинений в бесполезности – доказательство способности музыки, как сказала Куилл, «дать умственный импульс» для таких занятий несравненно более высокого порядка, как «улучшение понимания грамматических правил и более острое слуховое восприятие».[22]
«Эффект Моцарта»
Линия исследования, описанная Куилл, рождена в тени так называемого эффекта Моцарта, теперь полностью развенчанной научной легенды о том, что классическая музыка делает вас умнее. [23] И хотя серьезные научные исследователи с самого начала с подозрением отнеслись к теории о том, что простое прослушивание классической музыки может улучшить когнитивные функции (не может), некоторые на тот момент, да и сейчас, с энтузиазмом рассуждали о когнитивных преимуществах активной вовлеченности в музыку через музыкальные уроки и выступления. Лидер этого направления исследований – канадский композитор и когнитивный психолог Гленн Шелленберг.
В 2004-ом году Шелленберг провел важный эксперимент с целью проверить гипотезу о том, что уроки музыки способствуют интеллектуальному развитию. [24] В исследовании Шелленберга дети, которые посещали уроки музыки, показали увеличение IQ в среднем на 2,7 единицы по сравнению с детьми в контрольной группе. Эти данные могут казаться статистически неважными, да и сам Шелленберг отмечает, что произошло лишь «небольшое увеличение» IQ. [25] Несмотря на недвусмысленное и провокативное название статьи («Уроки музыки увеличивают IQ»), выводы Шелленберга в конце его научного текста куда более унылые: он пишет, что в процессе формального образования «внеклассные занятия, такие как уроки музыки, играют свою роль».[26]
На самом деле, есть много хорошо известных факторов помимо уроков музыки, которые могут улучшить результаты тестов, например, тот факт, что любое обучение может увеличить IQ. [27] Второй известный фактор, влияющий на хорошие академические достижения, это соотношение количества учеников и учителей. [28] Действительно, отличительная черта обучения музыке – это уроки один на один: дети, которые раз в неделю ходят на урок, получают недельную дозу нерассеянного внимания взрослого человека. Этот фактор предлагается считать причиной корреляции между уроками музыки и более высоким IQ, а также более высокой успеваемостью детей, которые ходят в музыкальную школу.
Третий и значимый для корреляции фактор непременно присутствует в жизни детей, живущих по четкому расписанию: родители. Широко известно, что «дети с более высоким IQ с большей вероятностью будут посещать уроки музыки, потому что более образованные и состоятельные родители склонны отдавать своих детей в музыкальную школу».[29] Те же взрослые, которые возят своих детей на уроки, следят за состоянием инструмента и платят за музыкальное образование, позже помогают своим детям с домашней работой, требуют от них здоровой физической активности и обеспечивают им надлежащий отдых – факторы, которые улучшают академические успехи.
Причина, по которой родители дают своим отпрыскам музыкальное образование, может заключаться в чистой любви к музыке или в когнитивных улучшениях, но вероятнее всего – второе. Согласно двум последним опросам института Гэллапа, 88 % опрошенных взрослых верят, что занятие музыкой улучшает общее умственное развитие ребенка (и приносит другие выгоды, такие как самодисциплина, повышенная креативность и способность хорошо работать в команде). [30]
Однако недавнее исследование, попавшее в заголовки, установило, что «существует очень мало доказательств того, что уроки музыки улучшают когнитивное развитие ребенка».[31] Несмотря на привычное предостережение от исследователей широкой публики о том, что «корреляция не подразумевает причинно-следственной связи» (то, что события становятся в одну линию, не означает, что одно влечет другое или что они влияют друг на друга), это исследование, по словам одного из авторов, разожгло медийную огненную бурю. [32]
И начались войны эффекта Моцарта. Учитывая, что создание музыки требует многих когнитивных навыков и их активного использования, было бы удивительно, если бы хотя бы некоторые перманентные когнитивные улучшения не были связаны с долгосрочными практическими занятиями. И правда, есть очень многообещающее исследование, которое показывает, что существует прямая связь между обучением музыке и пластичностью мозга – занятия «смягчают» мозг, делая его более гибким (или «пластичным») с точки зрения восприятия информации. [33] И всё же сложно определить, какой эффект уроки музыки оказывают на умственные способности. Даже Шелленберг допускал, что множество скрытых факторов, влияющих на интеллектуальные достижения ребенка, так сложно переплетены друг с другом, что будущие эксперименты, связанные с зависимостью музыки и познавательных способностей друг от друга, «могут показать, что здесь нет явных победителей или проигравших».[34]
Тем не менее торговые группы индустрии искусства и их сторонники регулярно преподносят исследование Шелленберга и других ученых как полностью доказанное и точное, поскольку широкая общественность верит, что искусство делает людей умнее. Это утверждение стало, по словам исследовательниц образования в области искусств Эллен Уиннер и Лоис Хетланн, «чуть ли не мантрой» родителей, учителей и политиков, а способность художественных классов улучшить результаты детей в стандартизированных тестах – это «практически евангелие для групп, защищающих искусство».[35]
И хотя вполне можно понять желание поставить научные исследования на защиту искусства, этот порыв ошибочен. Присваивая художественному обучению достижения в несвязанных с ним областях, мы упускаем из виду то, что на самом деле может дать искусство. Этот широкий спектр гуманитарных наук учит нас креативному мышлению, навыку, который ценится всё больше из‐за его редкости, что в свою очередь связано с сильным влиянием стандартизированных тестов на существующую систему образования США и повышенным вниманием к таким направлениям, как наука, технологии, инженерия и математика. Нет никакого смысла пытаться измерить полезность чего‐то столь драгоценного, просто прикидывая, как оно сможет увеличить характеристики в совершенно другой области. Я не ценю своего второго ребенка лишь за то, что он уравновесил первого (хотя так и произошло); я нежно люблю его просто потому, что он существует и он это он.
Измерение ценности музыки должно быть менее привязано к когнитивным улучшениям, даже если музыка и правда к ним приводит; скорее, речь должна идти об улучшении человеческого опыта в более широком смысле. Как описывал это литературовед Джозеф Кэролл,
искусство, музыка, литература – это не просто побочные продукты когнитивного процесса. Они – важная составляющая, которая помогает нам совершенствовать и регулировать сложные когнитивные механизмы, от которых зависят наши более высокоорганизованные функции. [36]
Мы должны акцентировать внимание на подлинной ценности и важности музыки не потому, что она делает нас умнее, а потому, что она делает нас лучше. А для того, чтобы делать лучше музыку, учителя, ученики и исполнители могут пожинать плоды самых недавних открытий когнитивной нейронауки.
Музыка и разум
Глава 1, «Наука, искусство и недостающий разум», начинается с обзора современной психологии, огромное влияние которой на повседневную жизнь было связано с популярностью бихевиоризма на протяжении большей части двадцатого века, пока так называемая когнитивная революция 1960‐х не бросила ему вызов и практически не свергла его. По мнению некоторых реформаторов образования, сегодня принципы бихевиоризма всё еще считаются основными во многих сферах преподавания, нанося ущерб таким качествам, как креативное мышление, упорство и внутренняя мотивация. Этот вопрос требует более глубокого рассмотрения, поскольку жизнь музыкантов зависит именно от этих качеств.
И хотя когнитивная революция послужила толчком для того, что комментатор «New York Times» Дэвид Брукс назвал нашим «новым очарованием» наукой о мозге, такие потрясения должны побуждать нас быть осторожнее на пути к этому очарованию; будет разумно прислушаться к древнему предостережению: caveat emptor[37].[38] Хотя креативность, как правило, поощряется культурой и является целью для отдельных людей, человеческое творчество само по себе не всегда нацелено на позитивный результат. Исследования темной стороны человеческой личности показали, что крайне нестандартное мышление, которым отличаются креативные люди, может также порождать «морально гибкое» поведение, что в свою очередь может вести к антисоциальным и даже опасным действиям. [39]
Когда оригинальность сочетается с остротой ума, человеческие качества, которые мы ценим превыше всего, могут принести горькие плоды, и то же самое происходит с музыкой. То, что так любят музыканты, можно превратить в оружие с помощью темного искусства психологии. Как бы тревожно ни было думать о том, что нашу музу принуждают причинять вред, музыкантам не следует пытаться избавить себя от осознания того, что вооруженные силы США использовали элементы музыки, чтобы нанести урон бойцам противника. Во многом благодаря исследовательской работе музыковеда Сьюзан Кьюсик мы знаем, что потенциал музыки причинять боль выходит далеко за рамки увеличенной громкости или высоты тоны. Коварство музыки как орудия пыток заключается в ее способности проникать в разум и «заражать» пленника навязчивыми мелодиями, не оставляя при этом видимых следов.
Далее я выйду из этого темного угла, чтобы рассмотреть исторические вехи в образовании и философии, наиболее значимые для музыкантов, а именно спор 1950‐х годов о «Двух культурах» Чарльза Перси Сноу (о связи искусства и науки) и теорию множественного интеллекта (теорию МИ) Говарда Гарднера, который в начале 1980‐х впервые сделал попытку разобраться в ранее не подвергавшихся сомнениям представлениях об интеллекте. Теория МИ проложила дорогу к более широкому взгляду на человеческие компетенции, которым мы наслаждаемся сейчас, дав пространство эмоциям, которые долгое время были изгнаны рациональностью, и породив призывы к созданию культуры, в которой наука и искусство почитаются как равные.
Таким образом, вооруженная осторожным очарованием и вдохновленная зарей новой эры понимания, которое более близко моему художественному темпераменту, в главе 2, «Основы: у подножия», я развенчиваю популярные представления о мозге и перехожу к рассмотрению того, что мы действительно знаем о нем из текущих исследований, которые наиболее релевантны для музыкантов.
Глава 3, «Как работает обучение», объединяет современные когнитивные исследования и огромное количество теорий обучения, чтобы дать ясное и краткое базовое объяснение того, как работает человеческое познание, фокусируясь на трех китах познавательной способности: внимании, обучении и памяти. Это необходимые компоненты, общие для двух основных типов обучения в стандартной психологии: декларативного и процедурного. Декларативное обучение (известное как обучение по книжкам) необходимо для овладения западной классической музыкой, однако, вероятно, менее важно для других музыкальных жанров, особенно тех, которые не требуют умения читать нотную запись. Однако процедурное обучение (также известное как мышечное или моторное обучение) необходимо во всех жанрах музыки, так как оно формирует основу жизни любого музыканта: технику. Тем не менее никакое обучение невозможно без важнейшей предпосылки – внимания; поэтому вспомогательные средства для внимания рассматриваются в свете новых исследований на тему того, что повышает внимательность и что может этому помешать. Глава заканчивается сдвигом парадигмы в нашем понимании человеческих изменений через нейрогенез (рост клеток мозга) и нейропластичность, чудесную способность мозга трансформировать себя.
Глава 4, «Выученное движение: моторное обучение», более подробно рассматривает процедурное обучение, или моторное обучение (МО). Исследование МО быстро развивалось благодаря поддержке вооруженных сил США во время Второй мировой войны; действительно, росту влияния экспертов-психологов в двадцатом веке во многом способствовали военные действия. Но к середине 1960‐х развитие теории МО замедлилось, так как когнитивная революция повлекла исследователей от прежних областей исследования к более новым и дразнящим сферам, таким как словесное обучение, обработка информации и изучение памяти.
После небольшого перерыва исследование МО возродилось в 1970‐х, когда возникла область спортивной психологии. Сегодня благодаря достижениям в нейронауке (и финансовой поддержке спортивной индустрии с ее многомиллиардными доходами) изучение МО процветает. Новые исследования качества тренировок, их графика и правильного нужного времени для обратной связи произвели революцию в спорте и привели к улучшению результатов в этой сфере. Эти исследования напрямую применимы к обучению музыке и ее исполнению.
В этой главе я также рассматриваю две стороны популярного принципа «Плыви по течению», в исследовании МО известного как теория фокусировки внимания. Новые открытия показывают, что ключевая разница между мозгом начинающего и мозгом эксперта заключается в глубине моторного плана их мозга. Эксперт может «расслабиться и плыть по течению», но как может начинающий сделать то же самое, если на ранних стадиях моторного обучения у него еще нет этого самого течения?
Особое внимание в этой книге уделяется существенному различию между обучением и исполнением. Хотя первое и является ступенькой на пути ко второму, они относятся к совершенно разным областям, однако зачастую они соединяются, что приносит вред обоим. Важнейшим связующим звеном между ними является практика. В главе 5, «Исследования исполнения», я рассматриваю практику как ценный вклад в будущую способность к автоматическому вспоминанию. Музыканты захотят узнать, сколько времени потребуется практиковаться (действительно ли 10 000 часов?) и влияет ли на эту цифру качество репетиций (влияет) – вот почему простой подсчет часов, проведенных за клавиатурой, гораздо менее значим, чем их качество и стоящие за этим намерения. Психолог Карл Андерс Эрикссон, исследователь экспертности, назвал это осознанной практикой. Я рассматриваю, как концепция осознанной практики может произвести революцию в обучении музыке, даже если стать настоящим экспертом не является конечной целью. Я также рассматриваю некоторые из самых горячих тем как в научно-популярной литературе, так и в популярных средствах массовой информации о воспитании детей, включая, например, такое трудное понятие, как талант. Я рассматриваю концепцию желательной трудности психолога Роберта Бьорка, которая получила свое название от необходимого компонента обучения— усилия. Эта необходимость для многих остается неочевидной, особенно для тех, на кого надежно навешен ярлык таланта. Отвращение к необходимости прикладывать усилия в сочетании с культурным феноменом теории самооценки создает мощную комбинацию, губительную для обучения. Ее токсичность особенно очевидна в спорте и музыке, двух областях, в которых моторное обучение является фундаментальным компонентом и на которые американские дети тратят большую часть своей внеклассной активности. Дети, на которых навешен миф о таланте и которых сильно перехваливают, вскоре сталкиваются с тем, что социальный психолог Кэрол Дуэк назвала фиксированным мышлением, которое, если его не заменить установкой на рост, тормозит прогресс на протяжении всей жизни ученика.
Независимо от того, руководствовались ли исторические и современные светила музыки знанием о собственном таланте или стремлением к росту, несомненно одно: все они должны были пройти через минимум 10 000 часов практики – даже вундеркинд Вольфганг Амадей Моцарт. То, что его успех в достижении этого магического числа был как‐то связан с его папой Леопольдом, необъяснимым образом осталось незамеченным в так называемой экспертной литературе, которая уже давно показала, что основным компонентом успеха во многих начинаниях (особенно в спорте и музыке) является участие родителей.
Супермама Эми Чуа нанесла, пожалуй, первый общенациональный удар по теории самооценки в своих печально известных родительских мемуарах «Боевой гимн матери-тигрицы», дебюту которых предшествовал отрывок, опубликованный в «Wall Street Journal» под провокационным заголовком «Почему китайские матери превосходят других».[40] Однако ее книга в той же степени посвящена воспитанию будущих музыкантов, что и воспитанию детей. Значительная часть небольшого тома Чуа состоит из перепечатанных подробных заметок, которые она делала, сидя на уроках музыки у своих дочерей, а также из инструкций по ежедневной практике, которых она составляла для них десятки. Теперь, когда огненный шторм мамы-тигрицы стал историей, музыкальное образование и достижения дочерей Чуа заслуживают рационального рассмотрения музыкантами с точки зрения того, что мы в настоящее время знаем о внимании, осознанной практике, нейропластичности, образовании синапсов и теории самооценки.
Глава 6, «Игры разума», начинается с обзора автономной нервной системы и нашего современного понимания реакции человека на стресс, основанного в первую очередь, на работах нейроэндокринолога Роберта Сапольски. Эта глава включает в себя новую информацию из зарождающейся области исследований тревожности при исполнении музыки, а также два особенно странных явления, которые терзают опытных исполнителей: (1) так называемый иронический эффект, описываемый как неумолимое влечение «в направлении, прямо противоположном» выбранному, что приводит к (2) «захлебыванию» – необъяснимым ошибкам, которые допускают опытные профессионалы во время публичных выступлений[41]. Исследования второго в значительной степени финансируются индустрией спортивных развлечений, в которой многое зависит от способности избавиться от этого захлебывания. Исследование является одновременно увлекательным и обнадеживающим для музыкантов, особенно для «захлебывающихся», которые ищут альтернативы фармакологическим методам лечения. Что касается игр, в которые может играть разум, то чудо зеркальных нейронов обещает подарить травмированным музыкантам практику «без практики».
Эволюционные психологи отмечают, что внимание – это адаптивное поведение; без него человеческая раса бы не выжила. Однако внимание как человеческий ресурс подвергается такой серьезной атаке, что журналист Магги Джэксон связала его упадок с «наступлением темных веков»[42]. В главе 7, «Цифровой мозг», сначала рассматриваются плохие новости: цифровые медиа способны оказывать разрушительный эффект на внимание, память и социальное взаимодействие. Учитывая, что центральное место в жизни музыканта занимают публичные выступления, которые, в свою очередь, основаны на тысячах часов осознанной практики – и что оба эти вида деятельности требуют большого внимания как от исполнителя, так и от получателя, – необходимо трезво взглянуть на фрагментацию внимания, в том числе на культурный вред массового невнимания, о чем рассказано в разделе «Кому какое дело, слушаете ли вы? Проблема внимания аудитории». Однако, хотя музыканты так же, как и все остальные, подвержены зависимости от технологий, мы находимся в уникальном положении, позволяющем бороться с пагубными побочными эффектами этой зависимости и защищать то, что Джэксон оптимистично назвала «ренессансом внимания».
Я заканчиваю это исследование новой науки о мозге в главе 8, «Эмоции, эмпатия и объединение искусства и науки», последним взглядом на важность искусства эмоционального спасения и владеющих им людей, поскольку эмоции связаны с эмпатией, которая является краеугольным камнем цивилизованной культуры. Я возвращаюсь к Сноу и размышляю о том, могут ли призывы к четвертой культуре предвещать новую эпоху, в которой искусство и наука, наконец, станут равноправными партнерами. Автор и вдохновляющий оратор Дэниел Пинк назвал эту возможность «Эпохой концепций», он представляет себе новый мировой порядок, в котором правят «нелинейные, интуитивные и холистические» мыслители. Если Пинк прав в том, что «богатство наций и благополучие отдельных людей теперь зависят от присутствия художников в зале», то музыкантам следует планировать занять там свое законное место[43]. Эта книга может помочь подготовить почву.
1
Наука, искусство и недостающий разум
Какая революция?
Если вы не жили или еще не были в сознательном возрасте во второй половине прошлого века, то вы без сомнений пропустили революцию. Если вы были взрослыми и сознательными, вас всё равно можно простить, если вы ее не заметили, ведь даже бойцы и идеологи этой революции заявляли, что они не замечали так называемую когнитивную революцию, когда она разворачивалась, и осознали ее значимость только задним числом. Тем не менее, учитывая нынешнюю звездность мозга, ключевые фигуры устроили толкотню в очереди за правом похвастаться тем, что они знали мозг еще в невзрачные времена бихевиоризма, когда он пребывал в черном ящике, и помогли ему заполучить его главную роль в когнитивной революции.
По словам прославленного психолога-эволюциониста Говарда Гарднера, ученые, посетившие симпозиум под названием «Церебральные механизмы поведения» в Калифорнийском технологическом институте в 1948 году, стали частью «переломного момента в истории науки»[44]. Хотя Гарднер и признает, что обмен знаниями между американскими и британскими исследователями разума происходил всё чаще и чаще в 1940‐е и 1950‐е годы, он считает этот симпозиум главным предвестником революции, поскольку на нем были представлены два ее наиболее радикальных и жизненно важных компонента: новые теории обработки информации человеком и серьезный вызов бихевиоризму, который в то время традиционно правил в психологии. Однако предвестники редко удостаиваются тех же почестей, что и основное событие.
Согласно психологу Стивену Пинкеру, официальный день рождения революции наступил десятилетие спустя, на противоположном берегу Соединенных Штатов. Местом проведения был Массачусетский технологический институт (МТИ), а 1956 год стал «annus mirabilis[45]» для симпозиума по теории информации, который впоследствии был признан «началом современного научного изучения разума» – и началом когнитивной революции[46]. По случаю пятидесятой годовщины симпозиума МТИ научный писатель Джона Лерер создал ослепительный образ «группы дерзких молодых ученых», которые «представили ряд идей, навсегда изменивших наше представление о том, как мы думаем»[47].
Покойный психолог Джордж Мандлер предпочитал термин «эволюция», он отмечал (сам будучи участником ре-/эволюции), что это было мало похоже на «радикальное искоренение прежних догм». Скорее, бихевиоризм, по словам Мандлера, «угас из‐за своей неспособности разрешить базовые вопросы о человеческом мышлении и поступках, и в особенности о памяти». Мандлер и другие полагали, что разговоры о революции – это романтизация того, что просто было естественным прогрессом психологии. «Многое было сказано на коллоквиумах и в коридорах конгресса, – писал Мандлер, – но письменные свидетельства не говорят в пользу насильственной революции»[48].
Действительно, Джордж Миллер, один из тех самых дерзких молодых ученых, выразил чувство, общее для революционеров, когда они оглядываются назад и оценивают свой исторический момент: «В то время, конечно, никто не понимал, что произошло что‐то особенное, поэтому никто не думал, что этому нужно название, – вспоминал он. – Оно появилось гораздо позже»[49].
Некоторые психологи утверждают, что, не считая выдающегося исключения в виде основания самой современной психологии, революции в психологии – это миф, и продолжать раскручивать сюжетную линию когнитивной революции вредно для этой области[50]. Другие ворчат, что прочие – измы, которые когнитивизм предположительно ниспроверг (в частности, бихевиоризм), всё еще живы и здоровы, хотя когнитивизм и доминирует в этой сфере[51]. Третьи безоговорочно отвергают весь нарратив революции как просто «банальный»[52]. Несмотря на эти, казалось бы, малопонятные дебаты среди экспертов, непрофессионалу действительно важно понимать эволюцию психологии хотя бы по той причине, что эта область занимает властную и влиятельную позицию в американской жизни. Как и сага о самой Америке, расцвет современной американской психологии начинается с ее разрыва с Европой.
К середине двадцатого века экспериментальная психология, избавившись от докучливого разума, наконец‐то прочно утвердилась в качестве естественной науки. Теперь она была готова использовать, как это сделала наука в массовом порядке, свой внезапно возросший социальный статус, обусловленный осознанием того, что если наука может создать ядерную бомбу и высвободить ее ужасную мощь, то она же способна и предложить защиту. Так началось то, что историк Эллен Херман назвала «романтикой американской психологии» – стремительный взлет этой области в годы Второй мировой войны и после нее, в период холодной войны, благодаря организованному соглашению академических, политических, гражданских, военных и правительственных лиц и организаций. [53]
Влияние психологического истеблишмента на американскую государственную политику, вынужденно начавшееся в годы войны, в двадцать первом веке стало настолько повсеместным, что практически ничем не примечательно. О его проникновении в нашу частную жизнь свидетельствует высокое и устойчивое потребление книг по самопомощи и практических рекомендаций, самые популярные из которых – это руководства по диете и воспитанию детей. Психология в современную эпоху – это не просто академическая дисциплина или профессиональное сообщество, но и, как утверждает Херман, «кредо нашего времени»[54].
А что насчет этой революции? Пока влиятельные ученые из области психологии спорят о деталях места и времени рождения, нужно ли всем нам беспокоиться о том, породила ли революция наше нынешнее мировоззрение или нет?
Нас должно это волновать по крайней мере по двум причинам. Во-первых, если революция произошла, мы вполне можем задаться вопросом, как это делают гражданские в военное время, безопасно ли нам находиться на поле отгремевшего сражения. Еще более важной является изначальная причина революции, а именно сущность, реакцией на которую она явилась. В случае когнитивной революции этим антагонистом был бихевиоризм. А понимание последствий распространения поведенческой психологии является ключом к пониманию наших мотивов и слабостей, которые в настоящее время проявляются на всех поприщах музыкальной деятельности, идет ли речь о студентах, учителях, родителях или практикующих музыкантах.
Неразумный бихевиоризм
На заре двадцатого века американская экспериментальная психология стремилась присоединиться к естественным наукам, систематизируя наблюдения с помощью «экспериментального самоанализа», который использовался как способ взломать код сознания. Оно, в свою очередь, простодушно описано историком психологии Дэниэлом Робинсоном как то, что «каждый мужчина, женщина и ребенок знает наверняка в течение каждого часа бодрствования своей повседневной жизни»[55] (Спойлеры! Несмотря на эти грандиозные усилия, сознание как таковое всё еще остается Святым Граалем науки о мозге). В течение столетия вместо того, чтобы сосредоточиться на этом стремлении, многие силы как внутри психологии, так и за ее пределами объединились, чтобы отойти от философии, неумолимо вытесняя интроспекционизм и ментализм и заменяя их бихевиоризмом в качестве доминирующей школы психологической мысли. И хотя Робинсон отмечает, что «трудно выделить факторы, ответственные за ранний успех бихевиоризма», в этой главе уместно будет выделить некоторые из них. [56]
Огромные волны иммиграции в Соединенные Штаты на рубеже и в первые десятилетия двадцатого века соответствовали массовому переходу коренного населения от сельской аграрной жизни к городской. Последовавший за этим рост населения во многих американских городах был взрывным – и нервировал их постоянных жителей. В то же время новые теории образования и развития ребенка в комбинации с влиянием дарвинизма и заложили благодатную почву для новой психологии, которая сместила акцент с личности на рассмотрение граждан в целом. И вместе с этим появилась заманчивая перспектива (и, как утверждали некоторые, необходимость) контроля над групповым поведением.
Наблюдения немецкого психолога Курта Коффки, прибывшего в Корнеллский университет в 1924 году в качестве приглашенного профессора, представляют из себя проницательный взгляд стороннего наблюдателя на американский интеллектуальный климат того времени, который он находил
прежде всего практичным; эти здесь и сейчас, это безотлагательное настоящее с его потребностями занимают центральное место на сцене.<…> В науке такое отношение приводит к позитивизму, переоценке простых фактов и недооценке очень абстрактных спекуляций, высокому уважению к науке, точной и приземленной, и отвращению, иногда граничащему с презрением, к метафизике, которая пытается вырваться из сумбура простых фактов в некое более возвышенное царство идей и идеалов[57].
Ранние бихевиористы, вдохновленные работой Джона Б. Уотсона «Психология, как ее видит бихевиорист» 1913 года, отвергали продукты разума («идеи и идеалы» Коффки) как слишком эфемерные для серьезного научного изучения и, таким образом, полностью отвергали разум как непознаваемый. Они прилагали все усилия, чтобы включить психологию в число наук, превратив эту сферу из той, что занимается внутренними, скрытыми психическими состояниями, в дисциплину, строго ограниченную непосредственно наблюдаемым поведением. А как только вещь становится наблюдаемой, остается всего несколько шагов до измеримости – непременного требования научной достоверности.
Американский бихевиоризм питался каждым из культурных пристрастий, которые перечислил Коффка; возвеличивание «простых фактов» как раз и придавало ему шарм. В главе «Опасность науки» своей книги 1935 года «Принципы гештальтпсихологии» Коффка предупреждает, что для создания рациональной системы психологических знаний обязательно потребуется выбирать только те факты, которые «наиболее легко поддаются такой систематизации». Его предупреждение о том, что мы все можем «заплатить за науку разрушением нашей жизни», было одновременно печальным и пророческим: вскоре последовала катастрофическая Вторая мировая война, отмеченная ужасным врагом, который использовал евгенику в качестве одной из своих мотивирующих идеологий. [58]
В результате после Второй мировой войной психологические теории, основанные на генетике или наследуемых признаках, были тихо отложены в сторону, в то время как защита окружающей среды (социогенетическая часть древней дискуссии «социогенетизм или биогенетизм») получила распространение. На эту подготовленную почву ступил самый известный и ярый сторонник бихевиоризма, покойный профессор психологии Гарварда Б. Ф. Скиннер (1904–1990). Он продолжил дело, начатое Уотсоном и его последователями, продвигая более строгую и суровую школу бихевиористской мысли, которая «не считала себя обязанной говорить о мозге или разуме»[59]
Согласно принципам бихевиоризма, будущее поведение организма, будь то голубь, крыса или ребенок, обязательно определяется положительным и отрицательным опытом, с которыми организм сталкивается в первый раз. Практика манипулирования этим опытом, оперантное обусловливание, стала одним из самых (печально) известных вкладов Скиннера в науку, а тем более в дрессировку домашних собак. И поскольку бихевиористы практически не видели различий в поведении между животным и человеком, основные принципы оперантного обусловливания вскоре были с энтузиазмом применены для контроля поведения групп, например, в тюрьмах и школьных классах.
Системы контроля поведения основаны на наборе допущений, наиболее важным из которых является то, что организмы выбирают свое поведение добровольно. Поскольку положительное поведение вознаграждается, а негативное приводит к неприятным последствиям, бихевиористы полагают, что положительное поведение будет повторяться, в то время как негативных действий будут избегать. Всё это имело рациональный смысл до тех пор, пока психолог Мартин Селигман не обнаружил в середине 1960‐х годов, что некоторые из его животных, которые неоднократно подвергались «неприятным» последствиям боли в лаборатории, выбирали неожиданный третий путь: они просто признавали поражение и сдавались. Даже когда им предоставлялась возможность сбежать, эти животные выбирали не сопротивляться. Селигман назвал эту реакцию «выученной беспомощностью», принципом, который открыл новые пути для исследований депрессии, что, в свою очередь, породило когнитивно-поведенческую психотерапию и движение позитивной психологии. [60]
Тем не менее бихевиоризм не мог объяснить, почему люди не всегда выбирают разумный путь вознаграждения; он не мог объяснить, почему некоторые иррационально подвергают себя повторяющимся «неприятностям». Оказывается, о людях нельзя судить и делать выводы только по внешнему поведению; люди не всегда сами выбирают свою боль.
И всё же бихевиоризм был доминирующей школой психологии в Америке на протяжении такой большой части прошлого столетия, что любой, кто получил стандартное образование в течение этого времени, скорее всего, является продуктом образовательной системы, основанной на бихевиористской психологии. И несмотря на распространенное в настоящее время мнение (которое, кстати, перекликается с сюжетной линией «революции»), что «когнитивное движение свергло бихевиоризм и вернуло разум в психологию»[61], критики, такие как ученый в области прогрессивного образования Алфи Кон, утверждают, что наша культура остается полностью «замаринованной в бихевиоризме»[62]. Он сделал исключительную карьеру, критикуя бихевиоризм, в частности повсеместное использование того, что он называет «плюшками» (конфет, похвалы, финансовых вознаграждений), для «стимулирования» поведения. Кон утверждает, что эти бихевиористские принципы, всё еще распространенные среди родителей и учителей, породили множество поколений школьников, которые выросли настолько зависимыми от поощрений, похвалы и призов, что они находят мало радости в открытиях, мало внутренней ценности в обучении ради самого обучения и, следовательно, мало причин стремиться к цели без обещания немедленного вознаграждения.
Однако исследования психолога Кэрол Дуэк и других показали, что такие стимулы на самом деле не являются основными силами, пробуждающими в человеке старания и креативность. Более того, эти «плюшки» не только не являются эффективными мотиваторами, но и могут вызвать у детей снижение той самой мотивации, которую они призваны были разжечь, перерастая в каскад негативных эффектов, который был остроумно назван «обратной силой похвалы» (к этой теме я вернусь в главе 5).[63]
Если эти стимулы настолько неэффективны, то почему они продолжают использоваться? Ведь уже в 1950‐х годах бихевиоризм был «заклеймен его противниками как узкая, жесткая, догматичная и авторитарная система», хотя эти противники и действовали главным образом в разреженном мире академической науки. [64] Даже после того, как посредники знаний объявляют всю теоретическую систему устаревшей и двигаются дальше, остальная часть общества продолжает идти, часто в течение десятилетий, по следам ими покинутых —измов. Кон утверждает, что так произошло и с бихевиоризмом, ведь Б. Ф. Скиннер продолжает жить благодаря своим «выжившим приспешникам», которые упорно применяют методы оперантного обусловливания в стольких аспектах современной жизни, что бихевиоризм теперь глубоко укоренился в американской психике. «Бихевиоризм, – настаивает Кон, – настолько же американское явление, как и награждение детей яблочным пирогом».[65] Если Кон прав, то всем нам следует проявить чуть больше интереса к свержению бихевиоризма. И, что более важно, мы должны быть внимательными к тому, какие новые теории обучения приходят ему на смену.
Новая наука о разуме
Независимо от того, началась ли когнитивная революция намеренно или самопроизвольно, на конференции на западном или на восточном побережье, в середине двадцатого века возникла новая интеллектуальная среда, после чего подобные междисциплинарные симпозиумы набрали популярность. К 1960 году в Гарварде был основан Центр когнитивных исследований, и вскоре аналогичные центры появились в университетах по всей территории Соединенных Штатов. Когнитивные исследования как область науки изначально задумывались как междисциплинарные и предполагали исследователей из таких областей, как психология, лингвистика, философия, биология, математика, антропология, педиатрия, история, психиатрия и психоанализ. Это объединение, когнитивная наука, в настоящее время включает в себя также нейронауку, социологию, образование и искусственный интеллект, и недавно она получила более широкое определение – «Новая наука о разуме»[66]. В свою очередь, отдельные призывы к финансированию Десятилетия разума соединились в международную инициативу, цель которой – продолжить исследования на базе прогресса, достигнутого в течение Десятилетия мозга 1990‐х годов. [67]
Подобно многим областям, которые она в себя включает, эту новую науку о разуме можно рассматривать с разных точек зрения: как противовес бихевиоризму, как новые горизонты в психологии или как то, что комментатор «New York Times» Дэвид Брукс высокопарно провозгласил «новым гуманизмом» и «новым очарованием»:
Это связано с изучением разума во всех этих областях исследований, от нейронауки до когнитивных ученых, поведенческих экономистов, психологов, социологиов; мы совершаем революцию в сознании. И когда мы синтезируем всё это, это дает нам новый взгляд на человеческую природу. И это далеко не холодный материалистический взгляд, это новый гуманизм, это новое очарование. [68]
Брукс, как и многие не связанные с наукой люди, часто использует слово «революция», говоря об этой новой науке о разуме, но по крайней мере один эксперт, психолог Джастин Барретт, этим недоволен, поскольку «мы должны разобраться в наших «революциях». То, что Брукс называет «когнитивной революцией», в основном некогнитивно»[69].
Комментарий Барретта технически верен. Как он объясняет, «когнитивная революция была, прежде всего, связана с познанием, а не с мозговой активностью» – другими словами, речь шла о функциях мозга (познании), а не о клетках мозга (нейробиологии). Своим рождением когнитивная наука обязана озарению, что компьютерную обработку данных можно использовать как метафору для понимания решения проблем человеком, хотя эта область по‐прежнему в основном занимается изучением обработки информации человеком, а не самим сознанием, которое является одновременно Святым Граалем и самым сложным элементом в новой науке о разуме. Однако образ революции слишком привлекателен для тех, кто находится за пределами научных дисциплин, кто, подобно Бруксу, осознал масштабы этих кардинальных изменений в психологии и начал представлять, что это предвещает для всех нас, как индивидуально, так и для общества в целом.
Критики из академических психологических кругов утверждают, что когнитивная революция вообще не была революцией, потому что она не соответствовала определенным ее критериям. [70] Но, по словам покойного философа науки Томаса Куна, судя по динамике, которая обозначила смену парадигмы, когнитивная революция не только произошла, но и эффективно расчистила игровое поле. Предметы, ранее считавшиеся недостойными изучения из‐за их «внутренности» и, следовательно (что наиболее вопиюще для строгих бихевиористов), невозможности непосредственно наблюдать и измерять их, внезапно были допущены к обсуждению. Важно отметить, что эти предметы включают в себя те самые качества, которые делают нас наиболее человечными: эмоции, сопереживание, память, желание, воображение, рефлексию, проекцию, креативность – и музыку. Всестороннее исследование бесчисленного количества причин, по которым произошло это огромное упущение в современной психологии, выходит за рамки этой книги, но негативные последствия этого изгнания ошеломляют, если рассматривать их в совокупности, что, по общему признанию, гораздо легче сделать теперь, когда они отражаются в нашем коллективном зеркале заднего вида.
Стивен Пинкер объясняет опущение эмоций в начале когнитивной революции ничем иным, как банальной «гиковостью[71]». «Это были занудные ребята, интересовавшиеся занудными аспектами познания, – объясняет он. – Дело не в том, что наши эмоции не являются интересными темами для изучения, просто это были не те темы, которые их интересовали».[72] На это бойкое объяснение (о, эти безэмоциональные, рациональные ученые!) было бы легко купиться, если бы не наше нынешнее затруднительное культурное положение: мы увязли в трясине бихевиоризма, одновременно затравленные возвеличиванием рационального мышления как вершины человеческой мудрости и терзаемые фантомами изгнанных эмоций. И можно только поражаться полнейшей бездушности этого заявления Б. Ф. Скиннера: «Мой ответ на вопрос Монтень [ «Как жить?»] шокировал многих людей: я бы скорее похоронил своих детей, чем свои книги».[73] Истинный шок от этого комментария заключается в его постоянстве, поскольку он был произнесен не импульсивно в прямом эфире, а написан самим Скиннером в его автобиографии.
Пинкер жаловался, что «большая часть научной журналистики сегодня враждебна к ученым», высказывая мнение, что «существует презумпция виновности ученых, что они <…> экспериментируют на невинных жертвах или обмануты фармацевтическими компаниями, заставляющими их создавать лекарства, которые нам не нужны».[74] Но у нас есть основания опасаться науки, которая отреклась от эмоций, и задаваться вопросом не только о том, что было потеряно в результате их изгнания, но, что еще более печально, о том, какой ущерб был нанесен их изгнанием из массовой психологии на протяжении большей части прошлого столетия. Горькая ирония заключается в том, что, хотя Гарвард и сыграл главную роль в начале когнитивной революции, другим его наиболее заметным продуктом в ту же эпоху был некто Теодор Джон Качинский.
В период с 1959 по 1962 год Качинский в составе группы из двадцати одного студента добровольно участвовал в психологических экспериментах, проводимых в Гарварде, конечная цель которых была абсолютно не ясна. Метод заключался в создании экстремальных условий интенсивного психологического стресса. Биограф Качинского, Алстон Чейз, утверждает, что жестокость этих экспериментов надломила разум Качинского и породила в нем бурлящую ненависть к науке, которая десятилетия спустя так ужасно проявилась в альтер эго Качинского, «Унабомбере».[75] Отправляемые Качинским по почте бомбы, три из которых привели к смертям, терроризировали Соединенные Штаты в течение долгих семнадцати лет, пока его брат Дэвид не сообщил обо всём властям, что привело к аресту Качинского в 1996 году в хижине в Монтане.
Пинкер ворчит, что «старое представление об ученом как о герое было заменено представлением об ученых в лучшем случае как об аморальных ботаниках», однако эта характеристика не совсем безосновательна. [76] Психолог доктор Генри Мюррей (1893‐1988) руководил трехлетним исследованием, в котором участвовал Качинский и в котором использовались методы, описанные самим психологом как «неистовые, свирепые и оскорбительные».[77] Его мотивация проистекала из его военного опыта в качестве подполковника в Управлении стратегических служб (предшественнике Центрального разведывательного управления). Мюррей был отрезвлен эффективностью нацистской пропагандистской машины (методы, которые он тем не менее изучал) и взбудоражен неопровержимыми доказательствами того, что целым нациям можно «промыть мозги» для совершения ужасающих актов жестокости. Таким образом, Мюррей, как и многие психологи его эпохи, с энтузиазмом участвовал в согласованных усилиях, направленных на то, чтобы подчинить биологическую, химическую, социологическую и психологическую науку и создать ни больше ни меньше нового «Мирового человека».[78] Министерство обороны США финансировало эти усилия в такой значительной степени, что, по словам Эллен Херман, «в период с 1945 по середину 1960‐х годов военные США, безусловно, были главным институциональным спонсором психологических исследований в стране»[79].
По мере того как новая наука о разуме расцветает и манит к себе, мы должны рассматривать более темные главы в истории психологии с объективной точки зрения исторического времени и заботиться о том, чтобы не стать (заимствуя слово Брукса) «очарованными». То есть музыканты могут с пользой экспериментировать, применяя последние исследования мозга в бизнесе, связанном с созданием музыки, и не гнаться за химерой абсолютной научной истины. Кроме того, как замечает Чейз, «как только вы начинаете цитировать научные данные в поддержку своей позиции, вы говорите только половину правды»[80].
Позволять себе поддаваться очарованию научной полуправды в лучшем случае неблагоразумно по той простой причине, что новая наука о разуме всё еще находится в зачаточном состоянии. Эта новая наука, как и любая другая настоящая, гораздо больше поднимает вопросов, чем предоставляет на них же ответы. По иронии судьбы некоторые из этих вопросов (Как эмоции влияют на выбор? Какова мотивация желания?) – это те же самые вопросы, к которым бихевиоризм стремился обратиться более ста лет назад, хотя он, к сожалению, и превозносил непосредственно наблюдаемые явления, пренебрегая тайнами разума.
В худшем случае, полное принятие этого «нового очарования» и игнорирование темного искусства психологии не позволяет нам защитить то, что мы любим, от кражи и унизительного использования в качестве орудия для пыток.
Музыка как оружие
«Это важный, неопровержимый факт, что американцы изучали и использовали музыку и звук в качестве орудия допроса по меньшей мере пятьдесят лет. Это не феномен нынешней администрации или нынешних войн; это не новость. Единственная новость заключается в том, что за последние несколько лет мы стали всё больше осознавать это; это и, возможно, тот тревожный факт, что наша осведомленность об этой практике не вызвала никакого общественного резонанса», – Сюзанна Кьюсик[81]
Жесткие способы допроса (такие как гипотермия и погружение в воду), используемые ЦРУ и одобренные администрацией Буша в ходе «глобальной войны с террором», включали в себя тщательно разработанные психологические методы. Журналист-расследователь Джейн Майер задокументировала, как техники, представленные в программе Министерства обороны США SERE (выживание, уклонение, сопротивление, побег) – техники, первоначально разработанные квалифицированными психологами для обучения американских военнослужащих противостоянию пыткам – на самом деле были вывернуты наизнанку и использованы для пыток подозреваемых в терроризме. [82] Эти техники включали использование музыки в качестве оружия.
Сьюзан Кьюсик, профессор музыки Нью-Йоркского университета, одна из первых исследовала протоколы «акустической бомбардировки», которые были частью схемы пыток, используемой отделом психологических операций вооруженных сил США. Пугающе прозванная «Музыкальной программой», она выходила далеко за рамки простого обрушивания раздражающе громкой рок-музыки на заключенных. [83] Были разработаны специальные психологические методы, чтобы использовать то, что покойный невролог Оливер Сакс отмечал как особую способность музыки «переходить черту и становиться, так сказать, патологической», имея в виду то, что в просторечии называется «ушными червями» – навязчивые мелодии. Сакс назвал их «мозговыми червями», отмечая, что одним из коварных симптомов того, что он назвал «липкой музыкой», является то, что такая музыка почти всегда не нравится и даже одиозна. Это предполагает «принудительный процесс, когда музыка проникает в часть мозга и разрушает ее, заставляя ее активироваться постоянно и автономно (что может произойти при тике или припадке)» [84].
Хеви-метал, рэп, музыка с сексуальными подтекстами и, что самое гротескное, такие песни, как «Я люблю тебя» из детского телешоу «Барни, пурпурный динозавр», обычно использовались для того, чтобы блокировать способность заключенного сохранять свои собственные мысли (что необходимо, чтобы не сойти с ума), и таким образом «смягчали его» для допроса. [85]
Но музыка может быть превращена в оружие более жестоким, тактильным способом. В конце концов, на самом базовом уровне звук – это движение молекул воздуха в среде. Этой средой может быть сам воздух, дерево, струна, тростник – или человеческое тело. Акустические свойства музыки могут воздействовать на тела задержанных, не оставляя вещественных доказательств, что избавляет виновных от уголовного преследования в соответствии с Женевской конвенцией. О высокой ценности этих и других психологических техник свидетельствует их рубрикация в учебных пособиях ЦРУ – «Пытки без прикосновений». Но новая наука о разуме показала, что, в то время как физические раны заживают, психологические могут остаться с человеком на всю жизнь. [86]
Какой это жуткий поворот событий, что эмпатия, воображение, креативность, музыка – всё то, что было исключено из научного рассмотрения на протяжении большей части прошлого столетия, – были похищены и превращены в орудие психологической пытки. Воспроизведение того, чему посвящены жизни музыкантов, до тех пор, пока оно, по словам Кьюсик, «не исказится до неузнаваемости», вызвало возмущение у многих, особенно у тех, чья музыка была использована во вред. В 2009 году коалиция музыкантов (включая участников R. E. M., Pearl Jam, Nine Inch Nails и Rage Against the Machine) подала петицию о свободе информации с просьбой рассекретить секретные документы США о «Музыкальной программе» и ее использовании для допросов в тюрьме Гуантанамо. [87] В своем заявлении гитарист Том Морелло сказал:
Гуантанамо известна во всем мире как одно из мест, где пытали людей – от пытки водой до раздевания, надевания капюшонов и принуждения заключенных к унизительным сексуальным актам – 72 часа подряд проигрывали музыку на громкости чуть ниже той, которая способна разрушить барабанные перепонки. Гуантанамо, может быть, и является представлением Дика Чейни об Америке, но не моим. Тот факт, что музыка, которую я помогал создавать, использовалась в преступлениях против человечности, вызывает у меня отвращение. [88]
Можно осторожно принимать новую науку о разуме и в то же время твердо выступать против такого унижения нашей человечности. Для этого необходимо осознать жизненно важную роль художника по отношению к научной «полуправде». Когда наука решает какой‐либо вопрос, инструментом является прямое наблюдение, а результатом – эмпирические данные. Но для того, чтобы понять значение этих данных, требуется разъяснение, и на этом этапе даже слова могут оказаться бесполезными. Другая половина научной «полуправды» связана с искусством.
Наука и искусство
Пятидесятая годовщина знаменитой противоречивой кембриджской лекции Ч. П. Сноу 1959 года и последовавшей книги «Две культуры и научная революция» вызвала волну ретроспективных конференций, публичных симпозиумов и обзорных статей по обе стороны Атлантики, и всё это для размышления о том, что историк науки Д. Грэм Бернетт называет «наиболее часто цитируемым изложением взаимосвязи между наукой и обществом»[89].
В своей книге Сноу высказывает мнение, что, хотя среди образованных людей незнание великой литературы считалось отвратительным, незнание науки считалось приемлемым и даже оправданным. В свою очередь, по словам Сноу, незнание науки породило откровенное презрение к ней, что затормозило ее прогресс со всеми его преимуществами для общего блага. Почти сразу же этот раскол был упрощен в средствах массовой информации до простого «противоречия двух культур», и к середине 1980‐х годов и тезис, и сам Сноу достигли окончательного признания культурной значимости: от фамилии Сноу образовали прилагательное – «сноувианский разрыв» – чтобы описать этот раскол. [90]
Несмотря на симметрию, которую подразумевала вторичная версия «Двух культур» Сноу, из его оригинального выступления было ясно, что, по его мнению, вина за эту «пропасть взаимного непонимания» была совершенно не обоюдной:[91]
Много раз я присутствовал на собраниях людей, которые по меркам традиционной культуры считаются высокообразованными и которые с большим удовольствием выражали свое скептическое отношение к неграмотности ученых. Раз или два меня провоцировали, и я спрашивал компанию, сколько из них могли бы рассказать второй закон термодинамики? Ответ был холодным, и он также был отрицательным. При этом я спрашивал о том, что является научным эквивалентом вопроса «Читали ли вы произведения Шекспира?».
Теперь я полагаю, что если бы я задал еще более простой вопрос – например, что вы подразумеваете под массой или ускорением, что является научным эквивалентом вопроса «Умеете ли вы читать?» – не более одного из десяти высокообразованных людей поняли бы, что я говорю на том же языке. И пока возводится величественное здание современной физики, большинство умнейших людей западного мира имеет о нем примерно такое же представление, какое было у их предков эпохи неолита. [92]
Как симпатия, с которой другие западные культуры восприняли «Две культуры Сноу», так и ее необычайная живучесть замечательны, учитывая, что оригинальная работа была пропитана британской послевоенной культурой, в которой она родилась. «Литературными интеллектуалами» Сноу были в основном мужчины (а не женщины, что примечательно) с высоким социально-экономическим статусом, получившие классическое образование либо в Оксфорде, либо в Кембридже в эпоху, когда литература превозносилась, а наука считалась в лучшем случае дорогостоящим хобби для джентльменов-ученых. Но спешный переход Сноу от определения этой социальной касты как «традиционной культуры» к возведению их в ранг «доминирующего класса», который, как он претенциозно утверждал, «управляет западным миром», вызвал резкую критику. Однако это говорит скорее о самом Сноу, чем о разрыве между наукой и искусством. [93] Сноу родился в скромной семье и, получив стипендию в Кембридже, поднялся в высшие классы только благодаря образованию. После вполне сносной карьеры в области научных исследований он занялся написанием романов. Имея возможность смотреть на ситуацию с двойственной точки зрения, он посчитал себя достаточно компетентным, чтобы говорить о науке и искусстве со знанием дела.
Две культуры Сноу включали в себя похвалу Советскому Союзу за его научное образование и мрачные предупреждения о рисках неспособности приобщить бедные слои населения мира к богатствам промышленного прогресса. Таким образом, в своем первоначальном виде она превосходила свою нынешнюю репутацию просто публичной демонстрации дихотомии между наукой и искусством; как язвительно замечает Бернетт, оригинальная лекция Сноу была чем‐то большим, чем «просто наблюдением о том, как трудно общаться ученым и художникам».[94] Тем не менее именно это разделение нашло наибольший отклик буквально во всем мире и до сих пор, как отмечает Бернетт, является «пробным камнем для нескольких поколений комментаторов»[95]
