Смоленское сражение
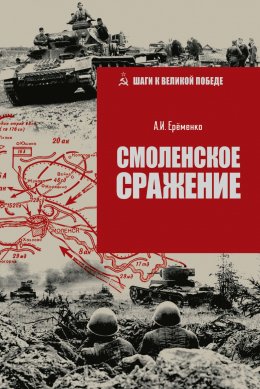
Шаги к Великой Победе
© Ерёменко А.И., наследники, 2024
© Петрушин Н.И., предисловие, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
О книге «Смоленское сражение» и ее авторе
(Предисловие к первому изданию)
Книга Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко посвящена Смоленскому сражению (10 июля – 10 сентября 1941 г.), состоявшемуся на главном – московском направлении немецкого наступления войск группы армий «Центр». Сражение стало решающим в срыве планов вермахта на безостановочное продвижение к Москве. Впервые с начала Второй мировой войны германские войска вынуждены были перейти к обороне на этом стратегическом направлении. Гитлеровский план «молниеносной» войны – блицкриг провалился. Советское же командование получило возможность принять меры по совершенствованию стратегической обороны, повышению боеспособности войск и подготовке резервов.
Смоленское сражение в целом представляло собой комплекс операций: оборонительных (Смоленская, Гомельско-Трубчевская) и наступательных (Рогачевско-Жлобинская, Смоленская, Ельнинская, Рославль-Новозыбковская) фронтовых, а также ряда армейских и других операций. По своим масштабам оно являлось одним из крупнейших во Второй мировой войне. С самого начала на огромной территории сошлись в противоборстве войска общей численностью свыше 1,6 млн человек. Из них немецко-фашистских, объединенных в группу армий «Центр», 1 млн 45 тыс. солдат и офицеров и советских – около 600 тысяч в составах шести армий Западного фронта. Эти объединения включали в себя 37 стрелковых (советских), армейских (немецких), механизированных (моторизованных) корпусов и один советский воздушно-десантный корпус. С обеих сторон действовали 92 дивизии – стрелковые и пехотные, 20 танковых, 12 моторизованных, 4 кавалерийские, 2 немецкие охранные и 7 авиационных (с советской стороны), всего – 137 дивизий. А еще были бригады, отдельные полки, батальоны, эскадрильи, дивизионы. Только на одном Западном фронте Красной Армии по состоянию на 10 июля 1941 г. их было свыше 100. Кроме того – 6 УРОв (укрепленных районов), Пинская речная флотилия. Немецкие войска с воздуха поддерживал 2-й воздушный флот люфтваффе (750 боевых самолетов). Всего в сражении с обеих сторон имелось 16 116 орудий и минометов, 2429 танков, включая 100 немецких штурмовых орудий. В ходе сражения только с советской стороны были введены войска еще четырех фронтов, 11 общевойсковых армий, 59 дивизий. На их вооружении было 4,5 тыс. орудий, почти 4 тыс. минометов, 436 танков. Общая численность войск только советских фронтов к началу боевых действий достигла почти 1 млн 470 тыс. человек, или увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 10 июля 1941 г. – днем начала сражения. Потери личного состава советских и немецких войск за 63 дня Смоленского сражения были огромными. Безвозвратные потери Красной Армии превысили 486 тыс. человек, а общие – почти 760 тыс. человек. В среднем за сутки они превышали 12 тыс. человек. С немецкой стороны безвозвратные потери (с учетом раненых и пропавших без вести, но без учета попавших в плен) – около 100 тыс. офицеров, унтер-офицеров и солдат. И это также свидетельство масштабов и кровопролития сражения. (Подсчитано по: Россия и СССР в войнах ХХ века. М., 2001; Статюк И. Смоленское сражение 1941. М., 2006.)
В течение всего или определенных периодов в сражении участвовали войска Западного фронта: 4, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30-й армий; Центрального фронта (с 26.7 по 25.8.41 г.) – 13, 21, 3-й (с 1.08.41 г.) армий; Резервного фронта (с 30.7 по 10.09.41 г.) – 24, 31, 32, 33, 34, 43-й армий; Брянского фронта (с 16.8 по 10.9.41 г.) – 3, 13, 21, 50-й армий. В течение всего периода сражения участвовала Пинская военная флотилия.
Западный фронт был образован 22 июня 1941 г. на базе Западного особого военного округа в составе 3, 4, 10, 13-й армий. Первоначально фронтом командовал генерал армии Д.Г. Павлов, в июне – июле – ген. – лейтенант А.И. Ерёменко, июле – сентябре – Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Одновременно он же являлся главнокомандующим войсками западного направления. Главное командование этого направления существовало с 10.07 по 10.09.41 г.
Резервный фронт был образован 30 июля 1941 г. с целью объединения действий резервных армий на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. В дальнейшем кроме вышеназванных армий в него вошли 43-я и 49-я армии, Ржевско-Вяземский и Спас-Деменский укрепленные районы. В сентябре – октябре 1941 г. фронтом командовал генерал армии Г.К. Жуков, с сентября по октябрь – Маршал Советского Союза С.М. Буденный. 10 октября 1941 г. Резервный фронт был объединен с Западным фронтом.
Управление Центрального фронта первого формирования было образовано 24 июля 1941 г. на базе управления 4-й армии. В его состав вошли три (3, 13, 21-я) армии. Их задача – прикрыть направление Гомель, Бобруйск, Волковыск. 25 августа 1941 г. в целях объединения управления войсками, действующими на брянском и гомельском направлениях, Центральный фронт был упразднен, а его войска переданы в состав Брянского фронта первого формирования. Центральным фронтом в июле – августе 1941 г. командовал генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, в августе – генерал-лейтенант М.Г. Ефремов.
Брянский фронт был образован 16 августа 1941 г. первоначально в составе 13-й и 50-й армий с целью прикрытия Брянско-Бежицкого промышленного района и недопущения прорыва рославльской группировки противника в тыл Центрального и Юго-Западного фронтов. В последующем во фронт входили 3-я и 21-я армии. В августе – октябре 1941 г. фронтом командовал генерал-лейтенант А.И. Ерёменко, в октябре – ноябре того же года последовательно генерал-майоры М.П. Петров, Г.Ф. Захаров. В начале сентября 1941 г. накануне окончания Смоленского сражения войска Брянского фронта по указанию Ставки ВГК нанесли удар во фланг 2-й танковой группы противника, наступающей в направлении Рославль – Конотоп. Однако они не смогли предотвратить выход немецких войск в тыл Юго-Западному фронту и сами оказались в тяжелом положении. Но уже в ходе Московской битвы при проведении Орловско-Брянской оборонительной операции (10.09–23.10.41 г.) войска фронта сорвали планы противника по глубокому охвату Москвы с юга. На основании директивы Ставки ВГК от 10 ноября 1941 г. фронт был упразднен, а его войска переданы другим фронтам: 50-я армия вошла в состав Западного фронта, 3-я и 13-я – переданы Юго-Западному фронту. Полевое управление оставалось в распоряжении главнокомандующего войсками юго-западного направления.
Во время Смоленского сражения в составах некоторых фронтов и армий в определенные периоды создавались и действовали оперативные группы войск. Так, на Западном фронте из 20 дивизий Фронта резервных армий были созданы четыре группы войск Западного фронта, которые возглавляли генералы С.А. Калинин – командующий 24-й армией, В.Я. Качалов (28-й армией), И.И. Масленников (29-й армией), В.А. Хоменко (30-й армией), а также фронтовая группа войск ярцевского направления К.К. Рокоссовского. Задачи были определены Генеральным штабом Красной Армии и командованием фронта.
Эти группы должны были одновременными ударами с северо-востока, востока и юга в общем направлении на Смоленск окружить и разгромить противника в районе Смоленска и соединиться с окруженными войсками 16-й и 20-й армий. В полосе 21-й армии действовала кавалерийская группа из трех дивизий – 32, 43, 47-й, осуществившая продолжительный рейд в глубокий тыл могилевско-смоленской группировки противника. Общее руководство наступлениями возлагалось на и.о. командующего Западным фронтом (с 19 июля) генерала А.И. Ерёменко. Важнейшими районами борьбы стали Духовщина, Ярцево, Смоленск и Ельня. На Брянском фронте в период Смоленского сражения и в последующем действовали оперативные группы генералов А.Н. Ермакова и А.З. Акименко.
А.И. Ерёменко в своей книге подробно рассказал о боевых действиях Западного фронта, его общевойсковых армиях, группах соединений. Некоторым армиям посвящены целые главы. Именно это позволило охватить не только их боевые пути, но и входящие в их составы корпуса и дивизии. И что особенно важно – полки, их подразделения и части. Надо признать, что до сих пор этим звеньям воинских формирований посвящено мало исследований. В отдельные главы выделены рассказы о действиях во время Смоленского сражения 5-го и 7-го механизированных корпусов, кавалерийской группы. Особое внимание уделено проблемам взаимодействия армий и их соединений при проведении боевых операций. Обращают на себя внимание малоизвестные широкому кругу читателей подробности о рождении и практическом использовании за всю историю войн качественно нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня («катюш»). Этому событию также отведена отдельная глава книги. Огромной роли и вкладе в Победу железнодорожных войск и тружеников стальных магистралей в тяжелейших прифронтовых и фронтовых условиях также посвящено довольно много страниц книги в специально отведенной главе. И это тоже одно из ее достоинств. По признанию А.И. Ерёменко, в подготовке этого раздела воспоминаний ему оказали помощь ветераны железных дорог. Это же можно сказать и о сотрудничестве с бывшими народными мстителями – партизанами и подпольщиками. В целом глава о партизанском движении, его зарождении и развитии, о боевых делах партизанских отрядов вплоть до крупных соединений, о деятельности их штабов до Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) А.И. Ерёменко рассказывает с восхищением, имея на то полное право, так как в течение всей войны имел самые тесные с ними связи.
Автором книги всесторонне и глубоко исследованы: героическая оборона Могилева и Смоленска, боевые действия группы генерала В.Я. Качалова и обстоятельства его гибели в бою 4 августа 1941 г. в районе Рославля. И надо отдать должное тому, что А.И. Ерёменко в значительной мере способствовал установлению его подлинной роли в командовании войсками и реабилитации спустя многие годы.
В целом характерной особенностью книги А.И. Ерёменко является то, что он объективно, в доброжелательном тоне рассказал о боевых и человеческих качествах многих командиров, начальников штабов, членов военных советов, других политработников, о роли коммунистов в борьбе с врагом. Это и И.П. Алексиенко, Ф.А. Бакунин, И.В. Болдин, А.А. Вольхин, Ф.А. Ершаков, М.Г. Ефремов, Г.Ф. Захаров, М.Ф. Лукин, В.А. Мишулин, П.К. Пономаренко, К.К. Рокоссовский, М.Ф. Романов, В.П. Терешкин, И.А. Флёров, А.А. Филатов, В.А. Хоменко, П.Н. Чернов, М.А. Шалин, А.В. Щеглов и многие, многие другие.
В современной историографии по характеру боевых действий и содержанию выполнявшихся задач Смоленское сражение подразделяется на 4 этапа, и первый из них – с 10 по 20 июля. За этот период немецко-фашистские войска (13 пехотных, 9 танковых и 7 моторизованных дивизий) прорвали оборону Западного фронта на его правом крыле и в центре. Подвижные соединения противника, продвинувшись на 200 км, окружили Могилев, захватили Оршу, Смоленск, Ельню, Кричев. 19, 16 и 20-я армии оказались в оперативном окружении в районе Смоленска. На левом крыле фронта 21-я армия вела наступление на бобруйском направлении силами 63-го стрелкового корпуса генерала Л.Г. Петровского. От противника были освобождены Рогачев и Жлобин. За сутки до начала Смоленского сражения – 9 июля в бой с наступающими соединениями 16-й армии и 3-й танковой группы противника на рубеже Идрица – Дрисса – Витебск вступили 51-й и 62-й стрелковые корпуса 22-й армии генерала А.Ф. Ершакова (с 28.8.41 г. – В.А. Юшкевича). Корпусами командовали генералы: 51-м (98, 112, 170 сд) А.М. Марков, 62-м (174, 179, 186 сд) И.П. Карманов. В Смоленском сражении с 10 по 21 июля эти соединения вели тяжелые бои на великолукском направлении с 16 дивизиями противника, в том числе с тремя танковыми и тремя моторизованными дивизиями. К 16 июля противнику удалось окружить западнее Невеля 51-й стрелковый корпус, а 20 июля – занять Великие Луки. Однако на следующий день – 21 июля войска армии выбили врага из Великих Лук (спустя месяц город был вновь захвачен врагом и освобожден от него 30 сентября 1943 г.).
Решительными контратаками противника в районе Невеля соединения и части 22-й армии обеспечили выход 51-го корпуса из окружения, отведя свои войска восточнее Невеля. В дальнейшем, сковывая в течение целого месяца до 10 дивизий противника и обеспечивая стык между Северо-Западным и Западным фронтами, войска 22-й армии вплоть до окончания Смоленского сражения вели упорные оборонительные бои с превосходящим противником на торопецком направлении. В ходе их главные силы армии были окружены, однако благодаря высокой организованности и героизму воинов им удалось сохранить боеспособность, прорвать фронт окружения, отойти в район Андреаполя и севернее, приостановить вражеское наступление. А.И. Ерёменко, с первых дней командуя Западным фронтом, неоднократно бывал в войсках 22-й армии, на ее передовых позициях. Он хорошо знал ее солдат и командиров, о чем поведал на страницах книги.
Ко второму этапу Смоленского сражения отнесен период боевых действий войск западного направления с 21 июля по 7 августа, к третьему – с 8 по 21 августа и к четвертому – завершающему – с 22 августа по 10 сентября. Как видим, продолжительность каждого из этих этапов составила соответственно – 8, 14, 20 суток. Первый – самый короткий этап – длился 11 суток.
На втором этапе сражения была предпринята попытка организовать на западном направлении контрнаступление, использовав войска Фронта резервных армий путем создания армейских оперативных групп, переданных в состав Западного фронта, о чем уже было сказано. Удары наносились из районов Белого и южнее его, Ярцева и Рославля по сходящимся направлениям. Оперативные группы во взаимодействии с 16-й и 20-й армиями должны были разгромить противника севернее и южнее Смоленска. В ходе боевых действий образовались два основных очага борьбы: один – в районе Смоленска и Ельни, другой – на р. Сож и в междуречье Днепра и Березины. В связи с этим 24 июля и был образован Центральный фронт. И хотя в ходе контрнаступления смоленскую группировку противника разгромить не удалось, советские войска сорвали наступление группы армий «Центр» на Москву, помогли 20-й и 16-й армиям прорвать кольцо окружения. Противник понес большие потери. 30 июля немецко-фашистские войска вынуждены были перейти к обороне на московском направлении. Это был важнейший стратегический успех советских войск в Смоленском сражении.
На третьем этапе сражения центр боевых действий переместился на юг. В связи с этим 16 августа был образован Брянский фронт, его и возглавил генерал А.И. Ерёменко. К этому времени в составе Брянского фронта были 13-я, 50-я и переданные с бывшего Центрального фронта 3-я и 21-я армии. К концу этого этапа – к 21 августа противнику удалось продвинуться на 120–140 км, выйти на рубеж Гомель – Стародуб, создав угрозу флангу и тылу Юго-Западного фронта. 16 августа войска Западного фронта, 24-й и 43-й армий Резервного фронта предприняли наступление против духовщинской и ельнинской группировок противника.
Наступил четвертый – завершающий этап Смоленского сражения (с 22 августа по 10 сентября). Войска Брянского фронта пытались фланговыми ударами сорвать наступление части сил группы армий «Центр» в тыл Юго-Западного фронта. Но эта попытка не удалась. 1-го сентября под Смоленском 30, 19, 16 и 20-я армии Западного фронта вновь перешли в наступление, но оно не получило развития. Однако к 8 сентября в районе Ельни 24-я армия Резервного фронта завершила разгром ельнинской группировки противника, а 10 сентября по приказу Ставки ВГК войска Западного, Резервного и Брянского фронтов перешли к обороне.
В результате успешно проведенной фронтовой наступательной операции был ликвидирован т. н. ельнинский выступ, с которого немецко-фашистское командование планировало возобновление наступления на Москву. Захваченный войсками 2-й танковой группы противника г. Ельня еще 19 июля войска 24-й армии генерала К.И. Ракутина освободили от оккупантов к утру 6 сентября и, преследуя противника, продвинулись на 25 км, а 8 сентября вышли к рекам Устром и Стряна, где немецкие войска оказали упорное сопротивление на заранее подготовленном оборонительном рубеже. Но до этого от ударов войск 24-й армии тяжелое поражение потерпели 10 дивизий врага – две танковые, одна моторизованная и семь пехотных. Успешному проведению Ельнинской операции – первой наступательной с начала Великой Отечественной войны – содействовали соседние 16-я и 20-я армии Западного фронта, которыми командовали: 16-й – генерал К.К. Рокоссовский (до 10.08.41 г. М.Ф. Лукин), 19-й – М.Ф. Лукин (до 08.08.41 г. П.А. Курочкин) на смоленском направлении, а 43-я армия генерала Д.М. Селезнева (Резервный фронт) – на рославльском направлении. (Городом Ельня враг вновь овладел 6.10.41 г., а освобожден Красной Армией 30.08.43 г.)
Знаменательным итоговым событием Смоленского сражения явилось рождение под Ельней советской гвардии. 18 сентября 1941 г., спустя неделю после окончания сражения, в соответствии с решением Ставки ВГК приказом наркома обороны СССР гвардейских званий удостоились четыре стрелковые дивизии – участницы Ельнинской операции: 100-я с.д. генерала И.Н. Руссиянова, 127-я с.д. полковника А.З. Акименко, 153-я с.д. полковника Н.А. Гагена, 161-я с.д. полковника П.Ф. Москвитина. Они были преобразованы соответственно в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. 26 сентября 1941 г. еще три стрелковые дивизии, отличившиеся в Смоленском сражении – 107-я полковника П.В. Миронова, 120-я генерала К.И. Петрова, 64-я полковника С.И. Иовлева, – были преобразованы в гвардейские дивизии соответственно – 5, 6 и 7-ю. В ноябре 1941 г. уже в ходе Московской битвы почетного наименования гвардейских были удостоены легендарные стрелковые дивизии – 316-я генерала И.В. Панфилова и 78-я полковника А.П. Белобородова – соответственно 8-й и 9-й гвардейских.
Столь обширное и в определенной мере детальное, прежде всего в хронологическом отношении, изложение хода Смоленского сражения мне представлялось целесообразным по ряду причин.
Во-первых, после издания первых двух книг Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко «На западном направлении» (1959 г.) и «В начале войны» (1964 г.) прошло более 50 лет. К тому же вторая книга увидела свет в значительно сокращенном виде по сравнению с одноименной рукописью, представленной автором Воениздату Министерства обороны СССР. При этом надо иметь в виду и то, что в обеих из названных книг, кроме событий, развернувшихся в ходе Смоленского сражения, значительное место уделено другим операциям на Западном, Брянском, Северо-Западном фронтах, в которых А.И. Ерёменко принимал непосредственное участие как командующий войсками фронта и 4-й Ударной армией.
В 2006 г. в московском издательстве «АСТ» книга «В начале войны» была переиздана, но уже без сокращений и купюр, в первозданном авторском виде. Но и в ней, как и в предыдущем, неполном издании не все аспекты боевых действий фронтов, армий, соединений и частей, принимавших участие в Смоленском сражении, нашли более или менее полное освещение. Видимо, этим можно объяснить то, что, располагая огромным фактическим материалом о Смоленском сражении, недостаточно отраженном в предыдущих изданиях упомянутых книг, А.И. Ерёменко намеревался дополнительно к ним написать книгу о Смоленском сражении. И это он сделал. Но, к сожалению, рукопись этой книги так и осталась рукописью, бережно хранящейся в семье маршала. Не довелось А.И. Ерёменко увидеть свой очередной труд в книжном варианте. 19 ноября 1970 г. Маршал Советского Союза Андрей Иванович Ерёменко в возрасте немногим менее 78 лет скончался.
И вот спустя почти 45 лет после завершения рукописного варианта книги о Смоленском сражении (1968 г.) она увидела свет. Всё меньше и меньше остается непосредственных участников Великой Отечественной войны. И тем ценнее становятся их свидетельства о ратных свершениях и подвигах советских воинов-победителей. И в этом безусловно тоже ценность книги маршала.
Во-вторых, из оглавлений разделов книги видно, что основное внимание автор сосредоточил на боевых действиях армий Западного фронта, таких как 22, 20, 13, 21, 19, 16-й (номера армий приведены нами в той последовательности, в какой они рассматриваются в соответствующих главах книги (от второй до шестой и в одиннадцатой из всех шестнадцати глав книги). И это при том, что фактически количество армий, принимавших участие в Смоленском сражении и сыгравших существенную роль в его итогах, было значительно большим, что видно из приведенного нами перечня армий в составах фронтов.
Вместе с тем отведение автором целых глав книги боевым действиям одной армии, а в некоторых главах, как, например, в восьмой (о боях в районе Смоленска) или десятой (о контрударах нескольких армий и их оперативных групп), позволило автору более детально отразить боевые действия и пути не только этих объединений в целом, но и их соединений и частей – дивизий, бригад, полков, батальонов и их подразделений. И это, несомненно, придает книге фактологическую ценность. Она изобилует подробными описаниями боевых действий бойцов и командиров от самых низших рангов до командующих дивизиями, корпусами, армиями, фронтами.
Маршал Советского Союза А.И. Ерёменко относится к плеяде тех выдающихся военачальников и полководцев, которые оставили их современникам и будущим поколениям богатейшее наследие военно-исторических исследований о Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских агрессоров, мечтавших поработить народы всего мира, и Второй мировой войне 1939–1945 гг. Его книги, а их написано много, по существу, охватывают все 1418 дней Великой Отечественной войны. Только три из них, переизданные в 2006–2009 гг. – «В начале войны» (1964, 2006), «Сталинград» (1961, 2006), «Годы возмездия. Боевыми дорогами от Керчи до Праги. 1943–1945» (1969, 2009), – составляют 130 печатных листов (2065 с.). А ведь были еще упомянутая «На западном направлении» (1959), «Против фальсификации истории Второй мировой войны» (1960, 2-е изд.), «Помни войну» (1971), а также публикации в периодической печати, в том числе военно-исторических и иных журналах и газетах.
Автору названных произведений было о чем поведать не только широкому кругу читателей, но и сделать глубокие обобщения и выводы в области военного искусства, ценнейшие рекомендации для его дальнейшего развития и применения на практике в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации. И у А.И. Ерёменко на это были все основания. В годы войны ему после командования Западным фронтом, в том числе и в должности заместителя Главнокомандующего западным стратегическим направлением, было доверено командовать войсками Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, Калининского, 1-го Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, 4-го Украинского фронтов. По решениям Ставки ВГК он дважды назначался командующим войсками таких крупных объединений, как 4-я Ударная и Отдельная Приморская армии.
После Смоленского сражения войска под командованием А.И. Ерёменко участвовали в Московской и Сталинградской битвах, Торопецко-Холмской (1942 г.), Ростовской (1943 г.), Смоленской (1943 г.), Невельской, Рижской, Крымской (1944 г.), Моравско-Островской, Пражской (1945 г.) операциях. После войны командовал войсками Прикарпатского, Западно-Сибирского, Северо-Кавказского военных округов. С 1958 г., уже будучи маршалом, он продолжал службу в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Андрею Ивановичу Ерёменко в 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1970 г. – Героя Чехословакии. Его ратные подвиги были отмечены четырнадцатью орденами СССР, в том числе тремя орденами Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., пятью орденами Ленина и четырьмя боевыми орденами Красного Знамени.
Если говорить о личных качествах полководца, то, пожалуй, наиболее полно и объективно о них сказано на страницах книги генерала армии, президента Академии военных наук РФ М.А. Гареева: «В целом А.И. Ерёменко, являясь одним из выдающихся наших полководцев… воевал на наиболее трудных направлениях, имея обычно сравнительно ограниченные силы и средства. Но, несмотря на это, как правило, добивался выполнения поставленных перед его войсками задач и внес большой вклад в достижение победы, в развитие оперативного искусства и тактики, методики боевой подготовки войск в боевых условиях. По всем этим вопросам у него можно многому поучиться». И еще некоторые сокращенные выдержки: «Может быть, больше всего отличали от других полководцев особая цепкость в удержании действий подчиненных командиров и войск в рамках намеченных решений и мощная организаторская хватка в проведении их в жизнь… был одним из самых суровых и требовательных военачальников». При характеристике боевых качеств отмечаются твердость его характера, настойчивость, личное мужество и храбрость, непреклонность в достижении цели. «То, что он всегда стремился быть в самом пекле боя и получил несколько тяжелых ранений, характеризует его как полководца с основательной солдатской начинкой». (См.: Полководцы Победы и их военное наследие. М., 2003. С. 250–257, 425–426.)
Конечно, как у каждого военачальника, даже такого масштаба, у А.И. Ерёменко были недостатки, как говорится, издержки человеческого характера: чрезмерная (не всегда необходимая) жесткая требовательность к подчиненным, «выходящая иногда за рациональные пределы…», переоценка возможностей в достижении поставленных целей, с одной стороны, и недооценка сил противника, с другой. Справедливости ради необходимо отметить, что А.И. Ерёменко сам, будучи высокодисциплинированным исполнителем, требовал того же от своих подчиненных.
О самокритичных оценках своей деятельности, признании своих ошибок, просчетов в командовании войсками можно судить хотя бы по его ответу редакции «Военно-исторического журнала» от 28 июля 1965 г. относительно опубликованной в этом журнале рецензии на книгу «В начале войны». Стремясь всесторонне и объективно изложить свою точку зрения о невыполнении в полном объеме поставленных перед Брянским фронтом задач в ходе Смоленского сражения и Московской битвы и причинах этого, А.И. Ерёменко четко заявил: «Я самокритично написал, какие ошибки были допущены мною в оценке обстановки». И далее «…полная ясность в вопросе о временных границах Смоленского сражения будет внесена лишь после того, как все события июля – сентября 1941 года будут исследованы. Нет запрета и на рассмотрение Смоленского сражения в более узких рамках, ограничиваясь боями в районе самого Смоленска». (См.: Приложение в кн. В начале войны: Воспоминания Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко. М., 2006. С. 593–620.) Как видим, Смоленское сражение было глубоко памятно маршалу А.И. Ерёменко, и свои воспоминания и размышления о нем он, как мог, изложил в своей книге «Смоленское сражение».
Смоленское сражение получило свое название по названию города, вокруг которого шли кровопролитные схватки и который считался с давних пор ключом к российской столице – Москве, а территория, прилегающая к городу на Днепре, – Смоленскими воротами в Россию. Напомним, что под таким же названием вошло в историю и сражение 1812 г., состоявшееся 4 (16) – 6 (18) августа между русскими и французскими войсками за Смоленск. Тогда русские войска (15–30 тыс. чел., 170 орудий) под командованием генералов Н.И. Раевского и Д.С. Дохтурова упорной обороной Смоленска отразили атаки французской армии (св. 140 тыс. чел., 350 орудий), сорвали план Наполеона навязать русской армии генеральное сражение в невыгодных для нее условиях, но этого не произошло. Русские войска не позволили сделать это. Успех был достигнут путем ведения активной обороны, широкого маневра резервами и огнем артиллерии. В Смоленском сражении наполеоновские войска потеряли 20 тыс. человек, русские – около 10 тыс. человек.
После отхода русской армии из-под Смоленска 26 августа (7 сентября) у с. Бородино (124 км западнее Москвы) состоялось генеральное сражение русской армии (120 тыс. чел., 640 орудий) с французами (130–135 тыс. чел., 587 орудий), вошедшее в историю как Бородинское сражение 1812 г. Противнику был нанесен большой урон, значительными были потери и русских. Это-то и заставило главнокомандующего русскими войсками М.И. Кутузова 27 августа отдать приказ на отступление. И это было мудрое решение. Бородинское сражение, которому в нынешнем 2012 году исполнится 200 лет, явилось предвестником грядущего разгрома наполеоновской армии в России. А.И. Ерёменко в своей книге предпринял любопытную попытку – сравнить вторжение войск Наполеона в 1812 г. и немецко-фашистских войск Гитлера в пределы России в 1941 г., спустя почти 130 лет. Чем эти оба вторжения через т. н. Смоленские ворота закончились – общеизвестно. Думается, что проведенные в книге маршала Ерёменко сравнения этих сражений читатели воспримут как весьма интересные и поучительные.
Вот так, спустя почти полтора века, в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Смоленск вновь подтвердил то, что он является крепким орешком для врагов России, ее ратным форпостом. И вполне заслуженно, что этот славный, древнейший город Руси удостоен звания города-героя, которое ему было присвоено 6 мая 1985 г. с вручением медали «Золотая Звезда», а еще раньше он был награжден орденом Отечественной войны 1-й ст. (1966) и орденом Ленина (1983). А недавно двум городам Смоленской области – Ельне и Вязьме указами президента от 08.10.2007 г. и 27.04.2009 г. соответственно присвоены почетные наименования городов Воинской славы Российской Федерации. Такие же наименования получили г. Великие Луки, Ржев, подмосковные Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Наро-Фоминск, Дмитров, Ковров, Козельск, а также Брянск и Тверь. Ратные и трудовые подвиги жителей этих городов, их вклад вместе со всем советским народом в разгром немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне оценен по достоинству.
Смоленское сражение (10.07–10.09.41 г.) как пролог Московской битвы (30.09.41–20.04.42 г.) навечно вошло в анналы российской истории. Несомненно, книга Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко «Смоленское сражение» – хороший подарок ее читателям к приближающемуся 70-летию со дня нашей Великой Победы.
Н.И. Петрушин
ветеран Великой Отечественной войны и труда, кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук, лауреат Форума «Общественное признание»
Москва
13.06.2012 г.
Введение
- О, древний город Московии,
- Ты встал на днепровском берегу
- На славу матушке-России,
- На смерть коварному врагу.
1968 г.
Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии с самого начала вылилась в ряд ожесточеннейших битв и сражений.
Если первое полугодие войны Англии и Франции против Германии вошло в историю под названием т. н. «странной войны», то первые шесть месяцев борьбы на советско-германском фронте явились подлинной эпопеей героизма, когда советский народ и его армия, несмотря на самые неблагоприятные условия, сделали все возможное, чтобы остановить вражеское нашествие. Первое полугодие войны слагается из таких выдающихся по своему драматизму и историческим последствиям событий, как приграничные и Смоленское сражения, Московская битва, и других.
Уже в ходе приграничных сражений Советские Вооруженные Силы вписали в свою летопись беспримерные по героизму страницы. Я имею в виду встречное танковое сражение в районе Луцк, Броды, Ровно; оборону Лиепаи, полуострова Ханко.
Несгибаемым мужеством прославили себя участники Смоленского сражения, завершившегося первым в истории Второй мировой войны стратегическим поражением вермахта.
Мне довелось быть участником и одним из руководителей Смоленского сражения, явившегося прологом Московской битвы. Это было одно из крупнейших сражений начального периода Великой Отечественной войны, которое сыграло большую роль в стратегической обороне Советских Вооруженных Сил.
Как известно, по плану «Барбаросса» Гитлер намеревался прямым путем от западных границ нашей Родины через т. н. Смоленские ворота проложить себе путь в Москву. Немецко-фашистские стратеги рассчитывали, что этот бросок будет совершен молниеносно в течение двух месяцев.
И вот спустя сто с лишним лет после нашествия Наполеона в районе Смоленска вновь разыгрались крупнейшие военные события.
28 июня 1941 г. я прибыл на Западный фронт и вступил в командование фронтом. Это было в те дни, когда начали вырисовываться гитлеровские замыслы. Стало ясно, что главный удар вермахт наносит на западном (центральном) направлении, и его необходимо было усилить. К тем четырем советским армиям (22, 20, 13 и 21-я), которые развертывались во втором эшелоне Западного фронта и поспешно занимали оборону на рубеже Себеж, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Ставка дополнительно выдвигала войска еще двух армий с других направлений, несмотря на огромное напряжение, которое испытывал в то время железнодорожный транспорт. В район действий Западного фронта начали прибывать дивизии 19-й и 16-й армий, предназначавшиеся первоначально для южного крыла советско-германского фронта.
Кроме двух указанных армий вскоре на центральном направлении, в тылу Западного фронта, начали развертываться армии Резервного фронта. Ставка бросила на помощь Западному фронту 5-й и 7-й полнокровные механизированные корпуса и 1-ю Московскую мотострелковую дивизию.
Тот факт, что наше командование к началу июля разгадало направление главного удара, обусловило также прибытие на Западный фронт наркома обороны Союза ССР маршала С.К. Тимошенко. С его прибытием я стал заместителем командующего фронтом. 10 июля было создано западное направление, главнокомандующим которого был назначен маршал Тимошенко. Я стал его заместителем. На меня главным образом возлагалось руководство войсками Западного фронта. Но через восемь дней я снова был назначен командующим войсками этого фронта.
Таким образом, Тимошенко и мне довелось нести полную ответственность за руководство войсками Западного фронта, боевые действия которого в тот период включали в себя оборону, контрудары, контратаки и другие меры, вошедшие в историю Великой Отечественной войны под общим названием Смоленского сражения. Это сражение берет свое начало с первых чисел июля 1941 г. до вступления в бой передовых частей 22, 20, 13 и 21-й армий, а окончилось в середине сентября 1941 г.
Наиболее характерной чертой Смоленского сражения является невиданная до того активность в действиях наших войск. Это подтверждается тем, что за период сражения было проведено до десятка крупных оперативных контрударов, сотни контратак. Другой особенностью Смоленского сражения является исключительное упорство наших войск в обороне, в т. ч. городов и населенных пунктов.
Прежде чем начать повествование о весьма сложном и очень напряженном Смоленском сражении, я хотел бы коротко изложить ход военных действий в первые дни войны, в дни приграничных сражений на всем советско-германском фронте.
Еще перед началом войны вермахт сосредоточил у наших границ 190 дивизий, в их числе 154 германских, 18 финских, 18 румынских и 2 венгерские. Эту огромную сухопутную армию должен был поддержать воздушный флот в составе 5 тыс. самолетов.
Наши западные приграничные округа – Ленинградский, Прибалтийский, Западный и Киевский – были в начале войны преобразованы в Северный, Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты. Кроме того, был вновь создан Южный фронт[1]. Фактически преобразование свелось к переименованию. Ничто не изменилось, так как силы фронтов не были ни полностью укомплектованы, ни сосредоточены, ни развернуты для ведения боевых действий и не могли оказать существенного противодействия стремительно наступающему врагу.
Ударные группировки противника, особенно его подвижные соединения, значительно превосходя на главных направлениях наши войска, рассекали спешно развертывавшиеся в боевые порядки советские части, углублялись на нашу территорию все дальше и дальше.
В беспрестанно меняющейся обстановке часто нарушалась всякая связь между командованием и войсками, что, естественно, крайне затрудняло управление во всех звеньях, а подчас делало его и вовсе невозможным.
Большой ущерб причиняла нам вражеская авиация, нанося мощные удары на большую глубину, она выводила из строя объекты стратегического значения, уничтожала боевую технику и живую силу.
Все это вместе взятое еще более увеличило перевес сил в пользу врага. За первую неделю войны враг захватил значительную территорию в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. Наиболее опасными были западное и северо-западное направления, где враг наносил удары на московском и ленинградском направлениях.
Сейчас, спустя много лет, особенно ясно осознается необходимость глубоко изучить и тщательно учесть этот горький опыт и не допустить повторения чего-либо подобного.
Наша армия не имела достаточного опыта, она не была отмобилизована, наши новые западные границы не были достаточно укреплены, а приграничный район, ставший театром военных действий, не был к ним подготовлен. Можно указать и еще на ряд непосредственных причин наших поражений.
Эти просчеты вытекали из переоценки наших сил и были связаны с предположениями, что гитлеровцы не посмеют на нас напасть.
Так, считалось, что заключением пакта о ненападении с Германией нам удалось избежать войны на весьма продолжительный срок. Никто не может оспаривать положительного значения этого шага советского правительства. Война для нашего народа оказалась, таким образом, на некоторое время отодвинутой. Тем не менее неизбежность столкновения в самом ближайшем будущем оставалась несомненной.
Удар агрессора оказался, таким образом, для наших пограничных округов неожиданным, враг сразу же нанес нам большой урон и захватил огромную территорию. Особенно трагично то, что наши войска, прежде всего те, которые находились близ западных рубежей страны, были укомплектованы отличными воинами, в большинстве хорошо обученными и преданными Родине.
В свое время довольно оживленно дискутировался вопрос о том, насколько внезапным было нападение гитлеровцев на нашу страну. Я считаю, что для нашей армии, в том числе и для командующих войсками округов, это нападение было внезапным, поскольку армия не была своевременно приведена в боевую готовность[2]. В результате этого гитлеровская армия захватила инициативу, добилась определенного военного преимущества и вынудила советские войска к отходу.
Рассчитывая закончить войну против Советского Союза в возможно короткий срок, немецко-фашистский Генеральный штаб согласно плану «Барбаросса» намечал одновременно нанести удары на трех основных направлениях.
Первый удар планировалось нанести из Восточной Пруссии на Псков, Ленинград силами группы армий «Север». В группу армий «Север» входили 16-я и 18-я полевые армии и 4-я танковая группа. Их поддерживал 1-й воздушный флот.
Второй удар немецкое командование собиралось нанести из района Варшавы на Минск, Смоленск и далее на Москву силами группы армий «Центр» в составе 4-й и 9-й полевых армий, 3-й и 2-й танковых групп. Группу армий «Центр» поддерживал 2-й воздушный флот. Этой группе армий придавалось особое значение.
Третий удар предстояло нанести группой армий «Юг» из района Люблина на Житомир, Киев и далее на Донбасс.
В группу армий «Юг» входили 6, 17 и 11-я полевые армии и 1-я танковая группа. Группу армий «Юг» поддерживал 4-й воздушный флот.
Группе армий «Север» должна была оказать содействие финская армия, а группе армий «Юг» – венгерско-румынские войска. На крайнем северном фланге немецкого стратегического фронта развернулась немецкая армия «Норвегия», которая получила приказ овладеть нашими северными портами в Баренцевом море и захватить Кировскую железную дорогу.
Следует сказать, что сравнительно крупные силы нашей армии прикрытия находились вправо и влево от линии Белосток – Лонжа. Этот район, выдававшийся тупым клином далеко на запад, лишал непосредственной связи вражеские группировки, которым предстояло действовать в Прибалтике и на Украине, и угрожал их флангам и тылу. Противник, понимая огромную стратегическую ценность района Белостока для всего дальнейшего наступления, сосредоточил здесь наиболее сильную группировку[3]. Он намеревался двумя ударами по сходящимся направлениям окружить наши войска в Белоруссии. Это должно было создать предпосылки для поворота танковых войск на север, уничтожения (совместно с группой армий «Север») советских войск, находящихся в Прибалтике, и овладения Ленинградом.
Лишь после выполнения этой важнейшей задачи гитлеровское командование намеревалось развернуть наступательные операции по овладению Москвой.
Операция по окружению и уничтожению советских войск в Белоруссии была возложена на группу армий «Центр» (под командованием фельдмаршала фон Бока), насчитывавшую до пятидесяти дивизий, в том числе 15 танковых и моторизованных. Группе было придано большое количество артиллерийских, саперных и других специальных частей и соединений. Уже к исходу 21 июня эти войска развернулись вдоль нашей границы между Сувалками и Брестом.
На сосредоточение такой массы потребовалось значительное время, переброска войск к нашим границам производилась поэшелонно с февраля до июня 1941 года.
Из документов, опубликованных в послевоенное время, известно, что силы группы армий «Центр» были развернуты следующим образом: в так называемом сувалковском выступе, а также на участке от Августова до Остроленки (270 км) – 3-я танковая группа генерала Гота и 9-я армия генерала Штрауса, далее на юго-восток вдоль Западного Буга вплоть до Влодавы (280 км) – 2-я танковая группа генерала Гудериана и 4-я армия фон Клюге. Эта группировка войск была создана для нанесения двух одновременных ударов в направлениях Сувалки – Минск и Брест – Барановичи.
Дальнейшее наступление в Белоруссии планировалось германским Генштабом следующим образом.
3-я танковая группа во взаимодействии с войсками 9-й армии прорывает нашу оборону северо-восточнее Сувалки и, двигаясь через Вильнюс, выходит к Минску. 9-я армия частью своих сил наступает вслед за 3-й танковой группой для очистки и закрепления занятого района, а оставшимися силами двигается в общем направлении Гродно с целью расчленения и уничтожения наших окруженных войск. 2-я танковая группа, также взаимодействуя с пехотой, преодолевает укрепленную линию вдоль границы северо-западнее и южнее Бреста, а в дальнейшем наступает в общем направлении Барановичи, Минск, чтобы в районе Минска соединиться с 3-й танковой группой. Так завершается окружение советских войск в Белоруссии.
Одновременно 3-я танковая группа наносит удар на Белосток с тем, чтобы при поддержке 9-й армии «срезать» белостокский выступ.
От Минска немецко-фашистские войска должны были наступать на Смоленск, с ходу преодолевая водные преграды: Березину, Западную Двину, Днепр. При этом 3-я танковая группа и 9-я армия наступают в северо-восточном направлении и занимают Полоцко-Витебский район, а 2-я танковая группа вместе с 4-й армией действует непосредственно против Смоленска.
После падения Смоленска 3-я танковая группа вливается в группу армий «Север» для действия на ленинградском направлении.
Задача прикрытия мобилизации, подтягивания и развертывания наших войск в районе западных областей Белоруссии, естественно, возлагалась на войска Западного особого военного округа под командованием генерала армии Д.Г. Павлова. Непосредственными исполнителями этой задачи являлись 3, 10 и 4-я армии. В первый эшелон этих армий выделялись стрелковые войска, а во второй – механизированные корпуса. Стрелковые дивизии должны были развернуться вдоль границы от Копцово до Влодавы (450 км), чтобы прикрыть минское и бобруйское направления. Воздушное прикрытие наземных войск возлагалось на авиацию округа.
Война застала войска округа в гарнизонах и лагерях в 50—200 км от границы, а самолеты – на аэродромах в зачехленном состоянии. Граница охранялась лишь пограничниками. Правда, на многих участках саперы вместе с подразделениями, выделенными им в помощь из общевойсковых соединений, вели работы по укреплению новой границы.
Незадолго до войны в войсках округа началось перевооружение и связанное с ним обучение личного состава владению новыми образцами оружия и техники. Особенно большая работа проводилась по созданию механизированных и танковых соединений. Чтобы ускорить создание механизированных корпусов, они формировались на базе танковых бригад, отдельных танковых батальонов, кавалерийских и других частей. На первых порах в механизированных корпусах оставалось то же вооружение, что и в танковых бригадах и батальонах. Но уже с 1940 г. в корпуса стали поступать новые танки КB и Т-34, правда, этих танков к началу войны было еще немного.
Некоторые части получили новую технику перед самой войной и, естественно, не успели еще ее освоить. К началу войны мы имели значительное количество танков, хотя их не хватало для укомплектования механизированных корпусов. Однако многие типы танков устарели (Т-26, БТ-5, БТ-7 и др.).
Авиация накануне войны также получала новую технику. Авиационные части, имевшие на вооружении истребители И-16, И-15, И-153 («Чайка»), бомбардировщики СБ, ДБ-3, начали перевооружаться истребителями МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1, бомбардировщиками Пе-2 и штурмовиками Ил-2.
Войска противника, наступавшие в полосе Западного фронта, превосходили войска фронта в два раза, а на направлениях главных ударов, в частности на брестско-барановичском, имели четырехкратное превосходство.
В 4 часа утра 22 июня артиллерийским обстрелом нашей границы враг начал военные действия на западном направлении. Артиллерийский обстрел продолжался 1–2 часа. Одновременно были нанесены удары с воздуха по аэродромам и городам Гродно, Лида, Белосток, Волковыск, Барановичи, Бобруйск, Брест, Пинск и др. Глубина авиационного воздействия достигала 300 км.
Войска округа, для которых начало войны явилось полной неожиданностью, вступали в бой разобщенными группами и вследствие этого несли огромные потери, особенно в технике. Инициатива сразу же оказалась в руках противника.
Весьма характерное свидетельство мы находим в книге Гудериана «Воспоминания солдата». В частности, он пишет: «…20 и 21 июня находился в передовых частях моих корпусов, проверяя их готовность к наступлению. Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Брест, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов.
Перспективы сохранения момента внезапности были настолько велики, что возник вопрос, стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа, как это предусматривалось приказом»[4].
Об этом же свидетельствуют и наши архивные данные[5].
Уже в первый день танковые части противника на ряде участков проникли в глубь нашей территории на 50–60 км. Связь между штабами и войсками была парализована, руководство частями и соединениями чрезвычайно затруднялось. В особенно тяжелом положении оказались соединения, находившиеся на флангах Западного фронта.
3-я армия, которой командовал генерал-лейтенант В.И. Кузнецов, была глубоко обойдена с правого фланга соединениями 3-й танковой группы противника. 56-я стрелковая дивизия 3-й армии, оборонявшаяся на фронте до 40 км, оказалась в полосе наступления трех немецких дивизий. Дивизия оставила Гродно и откатилась на юго-восток. На второй день войны она вела бои уже севернее Немана. Отошли и соседние две дивизии, 87-я и 27-я, создав оборонительный рубеж южнее и юго-западнее Гродно.
В результате отхода 3-й армии между смежными флангами Северо-Западного и Западного фронтов образовалась брешь шириной более 100 км, которую использовал враг, продвинувшийся здесь за двое суток на 120 км.
Не лучше обстояло дело и на левом фланге Западного фронта, где оборонялась 4-я армия под командованием генерал-майора А.А. Коробкова[6]. Здесь действовали 2-я танковая группа противника и один из армейских корпусов 4-й армии. В полосе наступления гитлеровцев оказались четыре дивизии армии (6, 42, 43 и 75-я). Под напором численно превосходящего противника, имевшего в первом эшелоне 10 дивизий, в том числе четыре танковые (во втором эшелоне было шесть дивизий), наши части начали отход.
Генерал А.А. Коробков приказал командиру 14-го механизированного корпуса генерал-майору С.И. Оборину нанести контрудар из района Пружаны, Кобрин. Контрудар не удался, так как дивизии корпуса находились на большом расстоянии друг от друга и объединить их в единый мощный кулак не удалось. 4-я армия вынуждена была отойти за р. Ясельде.
Командарм не сумел правильно оценить противника и поэтому не смог принять необходимых мер, чтобы преградить ему путь. Местность же благоприятствовала организации обороны и созданию заграждений; несмотря на превосходство противника, все же можно было замедлить его продвижение.
Отступление наших войск на флангах Западного фронта создало тяжелые условия для соединений, оборонявшихся в центре – в белостокском выступе. Здесь оборонялась 10-я армия под командованием генерал-майора К.Д. Голубева. На армию наступали четыре армейских корпуса противника – 7, 9, 13 и 42-й.
Отступление соседей, и особенно 4-й армии, создало для войск 10-й армии критическое положение. Так, 13-й механизированный корпус генерал-майора П.Н. Ахлюстина, дислоцированный в Бельске, попытался было закрепиться на рубеже р. Нужец, но, имея большой некомплект материальной части, уже 23 июня вынужден был начать отступление.
Войска, расположенные на правом фланге и в центре белостокского выступа, оказали врагу яростное сопротивление, однако в связи с катастрофическим положением на флангах фронта вынуждены были отойти за рубеж р. Бобр.
Командование Западного фронта в соответствии с директивой наркома обороны вечером 22 июня решило силами двух механизированных и одного кавалерийского корпусов с рассветом следующего дня нанести удар из района Гродно во фланг группировке противника, наступавшей из сувалковского выступа.
В эту конно-механизированную группу должны были войти: 11-й механизированный корпус 3-й армии (командир генерал-майор Д.К. Мостовенко), 6-й механизированный корпус 10-й армии (командир генерал-майор М.Г. Хацкелевич), 6-й кавалерийский корпус (командир генерал-майор И.С. Никитин). Возглавлял группу заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант И.В. Болдин.
Однако нанести по противнику фланговый удар оказалось весьма трудной задачей. Дело в том, что в исходном районе (южнее Гродно) находился лишь 11-й механизированный корпус, в то время как штаб 6-го кавалерийского корпуса был в районе Белостока, а его дивизии разбросаны на большом удалении друг от друга (36-я – в районе Волковыска, а 6-я – у Ломжи).
В назначенный срок (23 июня) начал действовать лишь 11-й механизированный корпус, остальные войска при попытке занять исходное положение для контрудара подверглись ожесточенным ударам авиации противника и в значительной мере утратили свою боеспособность.
На следующий день, 24 июня, войска 11-го механизированного корпуса и часть сил 6-го механизированного корпуса, которым удалось подойти, нанесли удар по противнику южнее Гродно и добились некоторого успеха, сковав в районе Гродно четыре пехотные дивизии противника и задержав на несколько дней их продвижение на Лиду.
Однако уже 25 июня наш контрудар захлебнулся. Это объяснялось почти полным отсутствием авиации и недостаточным артиллерийским, в первую очередь зенитным, прикрытием. Наши потери в личном составе и материальной части от авиации и артиллерии противника были очень велики. В условиях непрекращающихся ударов противника с воздуха не могло быть налажено и снабжение войск боеприпасами и горючим.
В Москве в этот период очень слабо представляли себе обстановку, сложившуюся на фронте. Задача состояла в том, чтобы быстро вывести из-под удара соединения, находившиеся в приграничных районах, на те рубежи, где можно было организовать жесткую оборону, а не бросать разрозненные соединения в бесцельное в тех условиях контрнаступление.
3-я танковая группа противника, захватившая Вильнюс, двинулась на Молодечно и, по существу, не встречая сопротивления, вышла к Минскому укрепленному району.
Такой успех врага был отчасти связан с тем, что командование Западного фронта приняло не соответствующее сложившейся обстановке решение о наступлении в сторону Лиды войск, находившихся к северо-западу от Минска.
Плохо были организованы боевые действия войск и на левом крыле фронта – на барановичском направлении. Войска 4-й армии, в значительной степени уже обескровленные, поспешно отходили на восток.
Для организации рубежа обороны на этом направлении была выгодна р. Шара. Однако находившиеся здесь войска (до трех дивизий) действовали разрозненно. Танковые соединения врага легко преодолели этот рубеж и вышли в район Барановичей.
Таким образом, несмотря на мужество и героизм советских воинов, стойкость многих частей и соединений, приграничное сражение окончилось для нас неудачно.
3-я танковая группа противника за четыре дня наступления продвинулась в глубь нашей территории более чем на 200 км. Заняв Вильнюс и не встретив здесь организованного сопротивления, она повернула основные силы на Молодечно, Минск и охватила соединения Западного фронта с севера и северо-востока. В то же время 2-я танковая группа, взаимодействуя с 4-й армией, охватила войска фронта своей мотопехотой с юга и юго-востока, углубившись на нашу территорию также примерно на 200 км.
В связи с поворотом 3-й танковой группы к Минску количество войск противника в полосе Западного фронта увеличилось еще на 12 дивизий. Продолжало возрастать и превосходство противника в боевой технике, поскольку мы несли большие потери в материальной части от ударов вражеской авиации и артиллерии.
Все это создало крайне неблагоприятную обстановку не только для организации более или менее стабильной обороны (о сколько-нибудь значительных контрударах в этот момент не могло быть и речи), но и для отступления наших войск, приказ о котором наконец был отдан командующим Западным фронтом.
С каждым днем обстановка все более осложнялась. Моторизованные части врага уже к вечеру 25 июня, наступая на север, вышли на дорогу Волковыск – Слоним и перерезали наиболее удобный и прямой путь отступления. Почти одновременно пехота противника (9-я и 4-я армии) создала угрозу расчленения войск, находившихся западнее Слонима.
Войска нашей 10-й армии при отходе с трудом обеспечивали свой левый фланг от непрерывных ударов противника с юго-запада. Нелегко им было удерживать и дорогу, по которой наши части отступали на Белосток – Волковыск.
Кровопролитная борьба шла юго-восточнее Волковыска, где противник пытался отрезать пути дальнейшего отхода на юго-восток через Ружаны и на восток на Слоним и Барановичи скопившимся здесь в большом количестве отступавшим войскам.
3-я армия, отходившая в направлении на Новогрудок, вынуждена была вести непрерывные бои с частями 8-го армейского корпуса, стремившегося выйти через Луны на Мосты для встречи с 47-м танковым корпусом 2-й танковой группы.
26 июня начались активные боевые действия в Минском укрепленном районе. Здесь оборонялись сведенные в 13-ю армию (командующий генерал-лейтенант П.М. Филатов) три корпуса (2-й и 44-й стрелковые и 20-й механизированный). Они и завязали ожесточенные бои с вышедшими сюда танковыми силами 39-го танкового корпуса 3-й танковой группы противника.
28 июня, в день моего приезда в Москву, противник добился окружения ряда частей 10-й армии под Белостоком (правда, в последующем большинству из них удалось прорваться на восток).
29—30 июня положение еще более ухудшилось – 47-й корпус противника прорвался к Минску и соединился здесь с 39-м танковым корпусом. Так произошло соединение 2-й и 3-й танковых групп противника. Наша 13-я армия, действовавшая в этом районе, с боями отступила на линию Борисов – Смолевичи – р. Птичь.
В результате соединения 3-й и 2-й немецких танковых групп восточнее Минска наши войска, отступавшие из Гродно и Белостока, оказались в окружении. В частичное окружение попали и соединения, оборонявшиеся в Минском укрепленном районе. Окруженные войска организовали оборону в районе Налибокская Пуща, Новогрудок, Столбцы.
Завершив окружение наших войск восточнее Минска, противник продолжал развивать наступление на восток к Днепру. Сил для отпора врагу, двигавшемуся из района Минска к Днепру, у нас фактически не было. Осуществить важнейшую в тех условиях задачу создания фронта обороны восточнее Минска на имеющихся там природных рубежах, в частности на р. Березине, не было почти никакой возможности. Противник мог беспрепятственно выйти на Березину, а затем и на Днепр, до которого оставалось не более 150 км. И, таким образом, сосредоточившиеся в это время на рубеже Днепра наши свежие силы, подвозимые из тыла, могли, не успев развернуться, попасть под удар.
Вот в такой обстановке, когда требовались самые решительные и неотложные меры, чтобы выиграть время для создания обороны по Западной Двине и Днепру, прибыли мы с генералом Маландиным на фронт.
В конце этого дня 29 июня генерал Гальдер, начальник германского Генерального штаба, сделал следующую запись в дневнике о положении на фронте группы армий «Центр»:
«На фронте группы армий “Центр” события развиваются в соответствии с намеченным планом. В результате беспокойства фюрера по поводу слишком глубокой операции танковых групп, главнокомандующий сухопутными войсками… в своем разговоре с командующим группой армий “Центр” указал Бобруйск лишь как рубеж, на который должно было выдвинуть охранение. Однако на деле Гудериан (и рассматривая это с оперативной точки зрения, надо сказать, что он имеет на это полное право) наступает двумя танковыми дивизиями на Бобруйск и ведет разведку в направлении р. Днепр, явно не для того, чтобы наблюдать за районом Бобруйска, а с целью форсирования р. Днепр, если для этого представится возможность. Если бы он этого не сделал, то допустил бы крупную ошибку. Я надеюсь, что сегодня он овладеет мостами через р. Днепр у Рогачева и Могилева и тем самым откроет дорогу на Смоленск и направление на Москву. Только таким образом удастся сразу обойти укрепленное русскими дефиле между р. Днепр и р. Западная Двина и отрезать расположенным там войскам противника путь на Москву. Следует надеяться, что командование группой армий “Центр” самостоятельно примет правильное решение»[7].
Основной задачей войск фронта в сложившейся обстановке было не дать противнику помешать сосредоточению и развертыванию наших войск, прибывающих из внутренних округов страны. Эти войска должны были подготовить новый оборонительный рубеж, прикрыв мобилизационное развертывание.
Нужно было любой ценой, любыми средствами задержать противника, выиграть время, необходимое для занятия новыми силами рубежа рек Западная Двина и Днепр.
В течение всего первого дня командования войсками фронта я изучал по документам свои войска, изучал противника, отдавал распоряжения, советовался с начальником штаба фронта и другими офицерами и генералами штаба фронта. Меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что нужно взять в руки нарушенное управление войсками и заставить их драться не разрозненно, а организованно по определенному замыслу, во взаимодействии всех родов войск. Я совершенно ясно понимал, что только войска организованные, связанные единой идеей боя, могут остановить продвижение противника, преградить ему путь к нашей столице, нанести ему поражение.
После изучения еще раз сложной и запутанной обстановки на Западном фронте я отдал первую директиву:
«ДИРЕКТИВА № 14
Штаб Западного фронта
17 часов 45 минут
Могилев 1.7.41 года
Карта 1: 500 000
1. Противник захватил Минск и стремится выйти на Днепр, направил основные усилия на Могилев и Жлобин.
Основная группировка противника отмечена до 1000–1500 танков восточнее Минска и до 100 танков прорвались через Березину в районе Бобруйска.
2. Справа и слева фланги открыты.
Задача армий фронта не допустить противника выйти на рубеж Днепра и до 7.7 удерживать рубеж реки Березина на фронте Борисов, Бобруйск, Паричи, обеспечивая себя от обхода танков справа севернее Борисова.
Прорвавшиеся танки в районе Бобруйска уничтожить.
3. 13-й армии в составе 50, 64, 100, 108 и 161-й стрелковых дивизий, отрядов Борисовского гарнизона, 7-й противотанковой бригады, сводного отряда кавалерии, управлений 2 и 44-го стрелковых корпусов, 31-го кап РГК в ночь на 3.7 отойти и упорно оборонять рубеж реки Березина на фронте Холхолица, Борисов, Бродец, имея 50-ю сд в резерве в районе Погодина и 7-ю противотанковую бригаду в районе Погост.
Выход частей на указанный рубеж осуществить с таким расчетом, чтобы до 2.7 удерживать промежуточный рубеж Холхолица, Смаков, Слободки, Черновец. Граница слева – Становичи, Червень, Быхов.
4. 4-й армии в составе 55 и 156-й сд, сводных 42 и 6-й сд, 50-го мк и четырех отрядов заграждения в ночь на 3.7 отойти на рубеж р. Березина и упорно оборонять фронт Бродец, Бобруйск, обратив особое внимание на противотанковую оборону в направлении Свислочь, Могилев, используя отряды заграждения, не пропустить на линию Слобода, Н. Городок, Озерцы.
Отход провести с таким расчетом, чтобы до 2.7 удержать промежуточный рубеж Черем, Осиповичи.
5. Командиру 17-го мк к 3.7 вывести корпус в район Колбы, Слобода, Сума, где привести части в порядок. 4.7 быть готовым к действиям в направлении Бобруйска для захвата последнего во взаимодействии с 204-й ВДБ и 34-й сд.
6. Командующему ВВС:
1) Прикрыть отход и сосредоточение войск на рубеж реки Березина. 2) Быть готовым обеспечить атаку 17-го мк и 155-й сд в направлении Бобруйска с воздуха, действуя в непосредственной связи с атакующими по пехоте и танкам противника. 3) Рядом повторных вылетов уничтожить противника на Бобруйском аэродроме и танковые колонны противника восточнее и западнее Бобруйска у Смолевичей и Борисова.
7. Командный пункт 13-й армии 4.7 Герин, 4-й армии Рогачев.
8. КП штаба фронта лес 12 км северо-восточнее Могилева.
Примечание: По изучении и усвоении директивы таковую уничтожить.
Командующий фронтом Ерёменко
Член Военного совета Фоминых
Начальник штаба Маландин»[8].
Эта директива положила начало организованного отхода; этой директивой отводились войска как бы на предполье Смоленского сражения. Поэтому и нужно считать ее одним из основных документов, положивших начало Смоленскому сражению.
Боевые действия, составившие Смоленское сражение, развернулись на рубежах рек Западная Двина и Днепр и в их междуречье и протекали на огромной территории, ограниченной с севера линией Себеж, Идрица, Великие Луки, а с юга – Бобруйск, Рогачев. Этот район имел меридиональную протяженность более 350 километров по прямой при глубине от 100 до 200 км.
Это сражение имело стратегическое значение и представляло собой комплекс операций войск Западного фронта по срыву плана «Барбаросса». Известно, что прорыв в Смоленские ворота гитлеровцы намеревались использовать для решающего удара на Москву.
Вот что по этому поводу заявил Геббельс, когда наши войска 29 июля 1941 года оставили по приказу Смоленск: «Смоленск – это взломанная дверь. Германия открыла себе путь в глубь России. Исход войны предрешен»[9].
Фашистские заправилы просчитались в своих прогнозах.
К началу Смоленского сражения у нас была создана следующая группировка: в первый эшелон были выделены – 22, 20, 13, 21-я армии; во второй эшелон – в районе Кричев, Новозыбков собирались остатки 4-й армии. В район Смоленска начали прибывать с Юго-Западного фронта 13-я и 16-я армии. Нам также было известно, что в нашем тылу шла подготовка к сосредоточению и развертыванию резервов Ставки Верховного Главнокомандования на рубеже Осташков, Селижарово, р. Днепр, Дорогобуж, Ельня, р. Десна, Жуковка, а также по линии: Калинин, Волоколамск, Малоярославец. По сути дела, это развертывались силы третьего оперативного эшелона войны.
Рассмотрим положение, которое занимали войска фронта. Правофланговая 22-я армия в составе шести дивизий занимала рубеж обороны от г. Себеж до Витебска шириною полосы фронта 200 км, на дивизию приходилось 30 км. Левее 22-й армии занимала оборону 20-я армия на фронте исключительно Витебск, Орша, Шклов. Оперативная плотность в этой армии 10–12 км на дивизию. Южнее 20-й армии на фронте Шклов, Могилев, Быхов занимала оборону 13-я армия (61-й, 45-й стрелковый, 20-й механизированный корпуса) в составе восьми стрелковых, двух танковых и одной мотострелковой дивизий. Общевойсковые соединения 13-й армии были в основном укомплектованы. Но в 20-м механизированном корпусе не имелось танков, вследствие чего он использовался как стрелковое соединение.
Оперативное построение армия имела в один эшелон, а плотность составляла 20–25 км на дивизию.
И, наконец, на левом крыле фронта в полосе (иск.) Быхов, Рогачев, Речица занимала оборону 21-я армия в составе трех стрелковых корпусов (63, 66 и 67-го). Командовал армией генерал-полковник Ф.К. Кузнецов. Армия обороняла полосу шириной 140 км, имея оперативное построение в два эшелона. Ее укомплектованность была примерно такой же, как и у 22, 20 и 13-й армий. Оперативная плотность составляла 19,5 км на дивизию.
Гитлеровцы наносили одновременно несколько сильных ударов на широком фронте от Идрицы до Быхова. Это давало врагу широкий простор для маневра и нанесения ударов сильными танковыми кулаками на узких участках фронта при одновременном массировании всех сил и средств, особенно авиации. Так, 2-я танковая группа наступала на фронте 190 км, а удары наносили на двух участках общим протяжением 70 км. В полосе главных ударов плотность танков противника достигала 30 единиц на 1 км, в результате чего на избранных направлениях враг добивался подавляющего превосходства.
Смоленское сражение было сложным сражением, как по характеру наступательных боев и операций, так и по оборонительным боям. В боевых действиях войск этого сражения преобладал маневр. Авиация, танковые и моторизованные войска оказывали непосредственное влияние на мобильность, на подвижные формы боя. Фашистские войска все время рвались вперед с целью не дать нашим войскам образовать устойчивый фронт обороны и тем самым задержать наступление немецко-фашистской армии.
Инициативу действий враг удерживал в своих руках, он волен был в выборе направлений для ударов. Имея полное господство авиации в воздухе, враг прорвался в глубину нашей обороны, окружил наши войска, стремился уничтожить их или пленить. На эти действия фашистов наши войска, участвовавшие в Смоленском сражении, ответили могучей силой героизма, показали железную стойкость и невиданное в истории войн сопротивление. Враг с первых дней Смоленского сражения почувствовал, что мы не та армия и не тот народ, с которыми фашисты воевали на западе.
