Три судьбы
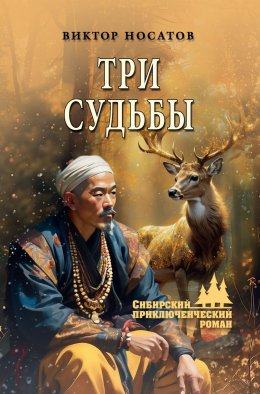
Сибирский приключенческий роман
© Носатов В.И., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
Часть первая
Поезд прибыл в Хабаровск ранним утром.
Выйдя из вагона, я первым делом направился в кассу, чтобы закомпостировать билет на поезд до Москвы.
Кассирша, недовольная тем, что я прервал ее дрему, проворчав: «Ходят здесь всякие…», объявила, что поезд на Москву прибудет лишь через четыре часа с четвертью.
«Это же прекрасно, – подумал я, – времени теперь с лихвой хватит и друга Леху, сложившего свою буйну голову в афгане, помянуть, и в достопамятном для нас храме Рождества Христова свечку за упокой его души поставить.
Возвратившись после кладбища на вокзал, чтобы узнать не опаздывает ли московский поезд, я услышал доносящийся издалека благовест.
«Да это же храм моей юности зазывает меня к себе!» – искренне обрадовался я. И ноги, невольно подчиняясь этому настойчивому переливчатому звону, сами понесли меня по пустынной в этот утренний час Ленинградской улице к животворящему и блаженному для неприкаянной души источнику.
Переливистое благозвучие разновеликих колоколов, исходящее из пустых глазниц островерхой звонницы наземного представительства всевышнего Небожителя, напоминало всем и вся о воскресной службе и порождало в душе волнительное предвкушение благостного общения с невидимым Богом. Неяркий свет, теряющийся средь могучих густолистых деревьев паркового ограда, постепенно просачивался через закопченную осеннюю крону и, скапливаясь над ней, высвечивая то тут, то там плотную гарную муть, двигался на зовущие колокола, постепенно обволакивая свиданное место Божьего духа и жаждущих праведной жизни грешников. Осветление ускорялось с каждой минутой, и вот уже первые лучи вернувшегося из зарубежного круиза долгожданного Светила коснулись величественных куполов храма Рождества Христова, что на Ленинградской, страстно слизывая с них видимую позолоту.
Дзинь-дзон-дзон, дзинь-дзон-дзон, дзинь-дзан… Завораживающий звон и чарующий свет, сливаясь воедино в звенящий свет, увлекают и возносят над землей то ли душу, то ли все тело, ставшее невесомым и крылатым, поднимая все выше и выше; и вот уже оно – гнездо звоново, откуда вылупливаются от ударов чугунных языков близнецы дзиньдзондзини и разлетаются далеко по округе, созывая верующий люд к святому Лику Христа. Еще взмах крылами, еще вираж – и опять паренье, но уже на уровне глаз представившегося мне распятого Мученика, – в них и страдание и блаженство с непонятным простому смертному одновременьем, – мы не боги и испытываем в одноразье либо то, либо это.
Опять взмах, вновь подъем, выше, выше, все дальше от пылающего уже истонченным светом храма, и земля уже внизу поката и обща, без подробностей, разглядный лишь один многоголовый храм в окрестованных светозвенящих шлемах, а в многоцветных нитях, тянущихся к нему слева и справа, лишь угадывается многоликое людское движение; и только орлиные зраки углядят в нем неспешность и солидную торжественность и у молодых, и у старых, и у одиночек, и у пар, и у групп.
Бесшумно парит тело, поет и блаженствует душа в колокольном сопровождении, предвкушая близость Всевышнего.
Дзинь-дзон-дзон-дзинь, дзинь-дзон-дзон-дзинь-дзан…
Но не надобно находиться так долго и в такой близости с Богом, ибо человеку присущи соперничество, зависть и чванливость. Однако общаться с Ним периодически желательно, чтоб не забыть про Него совсем.
Звенящая и истончающаяся пуповинная смычка с ежедневно рожающей и оплакивающей юдолью – Землей – вытягивается из-за облачности, напоминая о возвращении, тем более что двустворчатые резные врата храма растворяются, впуская первых прихожан.
Дзинь-дзон-дзон-дзинь, дзинь-дзон-дзон-дзинь-дзан…
Чувствуя усиливающийся обжигающий свет храмовых куполов и успевших уже напитаться заревом окон, плавно глиссируя над прихрамовым небоплесом, над головами идущих планирую, никем не видимый, в церковное нутро, наполненное ладанной нагарью, многоцветьем икон и росписей.
Стихает или становится неслышным изнутри колокольное зазыванье, здесь иные звуки, иное действо, люди рядом, и не надо напрягать зрение и слух, чтобы видеть их глаза и слышать их усердные мольбы, обращенные к явившемуся на воскресную встречу Божьему Духу.
– К тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже! Приклони ухо Твое ко мне, услыши слова мои, о Боже!
О ком и о чем молит эта старушка в траурном одеянии, страстно крестясь и надолго приникая к полу? Лишь подумалось, и ответ вывалился из-под черного, закрывающего морщинистое лицо платка:
– По убиенным на войне…
И называет имена:
– По Петру Трофимовичу, по Василию Петровичу, по Андрею Васильевичу, по Сергею Андреевичу, по Ванюшке и Витеньке…
Целая ветвь мужского родословия – тут, видно, погибшие и в Гражданскую, а может, и в Первую мировую, и во Вторую, а Ванюшке и Витеньке, вероятно, достался афган, спрашивать – надрезать и без того незаживающую рану. Да и ясно без спроса, что на земле нашей Костлявая, пройдясь своей широкозахватной косой, подрубила не одну мужскую ветвь родословного древа, оставив неисчислимых сирот и неизмеримое горе незабвенное.
С амвона звучат слова о праведности миролюбия и пагубности зла, о вере в человеческое добро и милосердие, угодные Всевышнему.
Слушаю святого отца, и душа принимает их, а взгляд, осторожно касаясь лиц прихожан, ищет следы внутренней уверенности в необходимости своего действа: искренни ли те, кто кладет перстами на себя крест или фарисействуют? Не впервой приглядываясь таким образом к посетителям храма, неожиданно нахожу в своей душе и разуме согласие – они все верят или хотят верить во всевышнюю силу добра и справедливости, и для них, видимо, это единственная надежда жить, подпитываясь этой верой. Вероятнее всего, многие из них несправедливо обиженные случайностями или непонятые обществом, отверженные им безосновательно и порой оскорбительно. Не раз встречались таковые. Обыкновенные люди, воспитанные семьей и школой, покорно занявшие свою нишу в общественном устройстве и никогда не забывающие свой «шесток», остающиеся всегда в напряжении, как пружины в большом механизме. И вдруг что-то лопалось. Что-то срывалось, сламывалось – колесико, пружинка, винтик бунтовал. Иной человек вдруг иначе смотрел на себя, на свое дело, на свои цели, на свою жизнь, жизнь соседей, словно прислушивался к тому устройству, в котором он был деталью, а верен ли ход этого механизма и какова цель этого движения?
Человек начинал задавать слишком много вопросов, он раздражал, отвлекал от режима, от графика, от привычного болотного устоя, и общество или те, кто выступал от имени общества, то есть народа, отвергало его, изолировало или уничтожало, чтоб не заражались другие его инакомыслием, вопросоманией и желанием жить иначе.
Другой же, прозревший рано, осознавший смертельную опасность в своем прозрении, замыкался в себе, или как в убежище, уходил в храм, где был понят, успокоен и обнадежен. Начиналась иная жизнь, в которой он находил покой и ответы на многие вопросы, возникшие в связи с его прозрением и выпадом из общества, из несуразного механизма, который был всегда в интенсивном движении, но никуда не шел, ничего не показывал, производя лишь звон и грохот. Храм становился свиданным местом единомыслящих, верующих в высшую справедливость, в Силу Добра, олицетворением которых для них становился Всевышний – невидимый и запретный, но хранимый в себе всеми поколениями, закодированный иными словами: Душа, Совесть, Честь, Милосердие, Любовь, Ум, Терпение, Доброта, Верность. И не зря говорят Старые в ответ на подлый поступок человека: «Бога в тебе нет!» И понятно теперь – когда в тебе есть Бог – Душа, Совесть, Честь, Любовь и Милосердие и прочие качества от Бога, – жить легко и приятно. Бог наставит на истинный путь, пожалеет и поймет, ибо он мудр, добр, милосерден, терпелив и справедлив…
Закончилась воскресная проповедь. Душа оттаяла, растрепанные мысли объединились в голубиную стаю, и полет их стал ровным, высоким и целенаправленным.
С клироса полилось елейно-ангельское песнопение. Серебряная ладанка, курясь благовониями, словно маятник вечного времени, раскачивалась в руке служителя церкви, который торжественно и величаво осенял крестным знамением лица прихожан, будто одаривал божьим благословением. От неземных песнопений и густого ладана кружилась голова. Большие и малые каменья сверкали на одеждах священника, на окладах икон, восхищая и завораживая и настраивая на лицезрение чуда; и оно не заставило себя долго ждать, появилось незаметно и неожиданно, коснувшись каждого, кто верует… И остальные ощутили Его присутствие в храме, как дуновение ветерка, явившегося из-под высокого, расписанного яркими красками потолка.
А может, некоторым, как и мне, все это показалось. Не поверилось… Ну что ж, Бог терпелив, а вера не приходит случайно…
В храме стало душно. Преодолевая привычное в этом месте изнеможение, стал пробираться к выходу, не дожидаясь конца службы. Огибая один из боковых приделов храма, вдруг почувствовал непонятное беспокойство, будто укорный взгляд ерошит затылок. Оборачиваюсь и тут же натыкаюсь на этот взгляд. В полумраке лицо не разглядеть, невольно делаю три-четыре шага навстречу этим глазам, и вдруг, узнав его, от неожиданности, нежданной радости и удивления всплеснул руками. Передо мной стоял тот, кого я еще полтора часа назад ходил проведывать на кладбище и даже возложил цветы на могилу. Это был Леха Переверзев. Седой, худющий и постаревший. Бледное морщинистое лицо казалось изможденным, как у умирающего старца в монастырском склепе, и только курносый, облупившийся нос да пронзительные глаза выдавали молодость его души. На нем были простенький, поношенный костюм, светлая застиранная и чуть великоватая рубашка, вся его одежда, казалось, с чужого плеча и кричала о нужде этого человека. Но это был он, бывший детдомовец, которого незадолго до совершеннолетия приютила у себя моя соседка – баба Саня. Добрая душа, чувствуя свою кончину, решила сделать доброе дело, как она говорила, угодное Богу. Сама съездила в детдом и сама выбрала себе внука-сироту, отогрела теплоотдатливой душой, одела, обула, откормила, приручила к новому жилью и как-то представила нам.
– Вот, – сказала она, – мой наследник.
Я знал, что нелегко живется бабке. Были у нее, конечно, и дети, и внуки, но навещали редко. Приезжали обычно осенью, чтобы поживиться урожаем из бабкиного сада. Все остальные заботы о ней пришлось взвалить на плечи соседям. Уже потом от Лехи мы узнали, что у него с бабкой Саней уговор. Он будет за ней ухаживать, помогать до самой смерти, а она оставит ему в наследство дом и сад.
В детдоме Леха проучился девять лет, и осенью мы с ним пошли в один класс, в выпускной. Класс был небольшим, человек двадцать, это все, что осталось от трех восьмых, а затем и от двух девятых. Дотянуть до десятого класса у многих из моих сверстников не хватило желания.
После окончания школы, до армии, мы с Лехой работали механизаторами, благо что в школе получили две специальности – слесаря и механизатора.
Похоронили бабку Саню, и Леха стал полноправным хозяином дома и сада. Правда, первое время надоедали родственники, которые попытались даже судиться с Лехой, но у них ничего тогда не вышло.
За время учебы и работы мы сошлись с Лехой довольно близко. Часто проводили вместе свободные часы, даже влюблялись в одних и тех же девчонок.
Было видно, что после холодно-неуютного детдома Леха понемногу отходил, исчезли его затравленность, обособленность. Он стал общительным, добрым и веселым парнем, без всяких комплексов. И все-таки от нас отличался. Во-первых, потому, что был человеком слова, если что-то обещает – расшибется в доску, а сделает. Во-вторых, был скуп, не любил транжирить то, что доставалось ему нелегким трудом, копил про черный день. Возможно, эта черта присуща только человеку, познавшему нужду, тому, кто прошел через все тяготы детдомовской, унизительной, жизни. Несмотря на это, мы, сельские пацаны, с удовольствием водились с Лехой. Помогали ему по хозяйству, и всегда двери его дома, как и его душа, были открыты для нас.
В армию его забрали первым. Чтобы дом не пустовал, он сдал его на два года городской семейке, которая использовала усадьбу вместо дачи, перечисляя деньги на Лехину сберегательную книжку.
Недели через две призвали в армию и меня.
Мы не знали ничего друг о друге больше полугода, пока однажды родители не переслали мне Лехино письмо со странным адресом. Там стоял всего лишь номер полевой почты. Замполит роты, где я служил, объяснил, что, по всей видимости, мой друг служит за границей. А где, трудно сказать. Я написал. Леха ответил. Я снова написал, но больше не получал от него ни единой весточки. Уже перед увольнением в запас родители написали мне, что на Леху пришла похоронка, что вскоре из Афганистана прибыл цинковый гроб, и военкоматовская похоронная команда без излишней помпы закопала его на сельском кладбище, придавив могилку тяжелой гранитной плитой.
Я по приезде домой ходил с одноклассниками на кладбище, читал выбитые на камне строки:
ПЕРЕВЕРЗЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
02.03.1969—11.12.1987 гг.
И все. Больше ни знака, ни слова, указывающего на то, что Леха не умер от болезни, не продырявлен ножом в пьяной драке, а погиб, выполняя интернациональный долг. Долг! Да кому он должен был в свои неполные девятнадцать лет и за что? За то, что когда-то спившиеся родители подкинули его в детдом? За то, что в детдоме над ним издевались все, кто мог – преподаватели, старшие мальчишки, просто чужие люди на улице? За то, что, не спросив, погнали в эту чужую азиатскую страну? Никому он ничего не должен, и от этого смерть его еще горше и обиднее. Может быть, тогда, на могиле друга, я так и не думал, может быть, эти мысли были навеяны мне ветром перемен? Может быть.
А тогда мы молча помянули Леху, закусили луковицей и черным хлебом. Тризна у гробовой плиты была недолгой, и вскоре мы разошлись, у каждого уже были свои заботы, срочные дела. Лехи не стало, а нам предстояло еще жить и добиваться чего-то в этой пока что неведомой, но прекрасной жизни.
Как-то тоскливо стало в нашем маленьком переулочке без Лехи. Возможно, это было оттого, что я стал взрослей и по-другому смотрел на мирок, где жил до службы в армии. А может быть, потому, что из Лехиного дома подозрительно смотрели на нас новые жильцы – родственники бабки Сани. Они, по-моему, единственные из всех нас, знавших Леху, радовались его гибели.
В поисках лучшей жизни разъезжались по стране мои добрые соседи, и вскоре переулочек наш стал для меня не только тесным и тоскливым, но и чужим. Чужие люди вокруг, чужие разговоры. Чужие воспоминания.
Вскоре и мои родители, так и не найдя в таежном Хабаровском крае того, что искали, продали дом и выехали в Подмосковье, благо что и там вслед за Дальним Востоком начали появляться неперспективные деревеньки, жители которых на пике урбанизации устремились в города, пополняя ряды лимиты. Нашли там хороший дом с большой усадьбой, который обошелся им буквально за гроши. Немного было желающих жить в глубинке, месить там сапогами грязь. Однако в деревне я не ужился, уехал в Москву, трудился на заводе, затем окончил журфак МГУ и теперь работал специальным корреспондентом в редакции одной из центральных газет. Куда только ни заносила меня репортерская жизнь, но с особым трепетом и радостью я приезжал в Хабаровск, на свою малую родину. Поселок, где я родился, располагался в пригороде, и частенько свое свободное время мы мальцами проводили в городе. У каждого были там свои любимые места. Были они и у меня. Парк со стоящей на возвышении старинной церковью Рождества Христова притягивал меня особенно. Вовсе не вера в Бога толкала меня туда, а ощущение причастности к интимному таинству, непонятному и запретному. Частенько, втихую от родителей и друзей, приезжал я сюда, слушал перезвон колоколов, глазел на крестные ходы, особенно любил торжественные воскресные службы. Мне все эти действа были интересны. Интересны хотя бы потому, что все, связанное с церковью, ее служителями и Богом, было для меня, как и для большинства моих сверстников, под запретом. Я лицезрел таинство, происходящее в храме, и воображение мое рисовало такие чудодейственные картины, что я чувствовал себя и художником, и поэтом, и врачевателем человеческих душ, ощущал себя необыкновенным человеком, способным на большие и славные дела. Здесь я мог думать и говорить Богу все, что хотел, и он никогда не прерывал меня. В школе мне говорили, что Бога нет, но я все равно рассказывал ему обо всех своих обидах и чаяниях или просто молча фантазировал. Не знаю, почему, но с тех лет я навсегда сохранил где-то в глубине сердца тихую умиротворенную любовь к храму моей юности.
И когда удавалось побывать в городе моего детства и юности, я всегда выкраивал часок, чтобы зайти в лоно таинственной и величественно торжественной, всегда готовой принять странника церкви. И хотя в городе уже построены более величественные и восстановлены более древние храмы, меня, несмотря ни на что, всегда тянуло на Ленинградскую, к этому неказистому святилищу которое навсегда осталось для меня чудотворным.
Все это промелькнуло в моей памяти в одно мгновение. Леха Переверзев шагнул навстречу, и наши пальцы сошлись в крепком мужском рукопожатии. Трудно было сдержаться от бурных восклицаний, выражений восторгов и искренней радости, но каждый понимал, что здесь не место для этого, и мы, не сговариваясь, стали пробираться к выходу, аккуратно обходя верующих.
И только на улице я заметил, что за нами неотступно следует молодка с грудным ребенком на руках.
– Это моя жена – Сашенька! – представил ее Алексей, светло улыбаясь и нежно касаясь ладонью ее плеча. – А это наш сын Кирюша! Кирилл Алексеевич. Уснул мальчонка…
Я тоже представился, непроизвольно наклонившись к мадонне с младенцем, приблизив руку к сердцу, успев разглядеть ее большеглазое лицо, излучающее внутреннее обаяние.
– Иван! Мы школьные друзья с Алексеем… – У меня вдруг перехватило дыхание, будто перед рыданной волной.
– Простите… Трудно говорить… Но ведь два часа назад, чтобы навестить его, я ходил на кладбище… Оставил цветы на могилке… Просто чудо какое-то… Живой… Не верится даже… Боюсь радоваться… чтоб не спугнуть свершившееся чудо…
– Да вы не волнуйтесь, – улыбнулась Саша, – никуда он от нас с Кирюшей теперь не денется. Жить теперь ему до ста лет…
– Не сглазь, Сашенька, – вежливо придержал жену Алексей, в задумчивости наблюдая поверх дальних верхушек заоградных тополей, над которыми кружили горластые черные птицы.
– У нас вся жизнь еще впереди – не жил ведь – то боролся за жизнь, то воевал против жизни, растрачивая на все свое здоровье… Теперь вот только и начал жить. – Он ласково обнял жену и нежно лизнул взглядом личико спящего сына. – Начали жить… Что там, впереди, кто знает?
Укорачивая возникшую паузу, спрашиваю:
– Ну, как же это получилось, Лех, что тебя похоронили-то?
– Да я и сам долго не знал…
– Ведь кого-то же похоронили на нашем кладбище.
– В этом-то и весь трагизм… Уму непостижимо! Такого пришлось насмотреться! Такое узнал, что жить расхотелось…
Жена перебила:
– Может, поедем к нам, там и повспоминаете… Встречу отметим…
– Нет-нет! – поднял я руки. – У меня билет на руках, через три часа нужно быть на вокзале.
Необдуманно ляпнул про билет. Ну что он по сравнению с посиделками в таком приятном обществе? Ну не уехал бы сегодня, уехал бы завтра… Уже и отступать поздно.
– Ну хорошо, – с пониманием начала Сашенька, – я вам не стану мешать, вон под сиренью скамейка, в стороне от аллеи, садитесь и беседуйте, а мы с Кирюшей погуляем, может, на базарчик загляну – ты, Леш, не волнуйся. Идите, идите…
Обнявшись, как братья, мы направились к скамье в укромном месте. Прогретый солнцем парк был весел и красив. Из храма еще не выходили прихожане, на аллеях почти никого не видно. Уютное место располагало к задушевным беседам.
Запоздало прижались, щека к щеке.
– В первое мгновение увидев тебя, чуть с ума не сошел, – говорю почти шепотом, ощущая набегавшую волну нежности и солидарности к потерянному было другу.
– Думал, что мой дух тебе померещился? – с деланной веселостью произнес Леха, но глаза его не были веселыми, в них, попеременно сменяясь, отражалось то глубинное страдание, то душевное блаженство.
– Конечно, – согласился я, – только что помянул тебя на кладбище, а тут такая картина…
– А я вот, несмотря ни на что, жив. – Он улыбнулся. Улыбка была вымученной и горькой.
То, о чем он мне поведал потом, походило на страшный сон, который может родить лишь пораженный страшной болезнью мозг. Может быть, я что-то преувеличивал? Вполне возможно! А впрочем, делайте выводы сами.
Мягкий молочный свет, заполнивший операционную, постепенно рассеивался. Откуда-то из небытия медленно проявляются незнакомые лица. Четче всех проявляется лицо склонившегося над Алексеем человека. В тонких, нервных чертах его что-то знакомое. Но, как ни вглядывался и ни напрягался, не узнает. Легкие работают, словно кузнечные мехи, выветривая из груди резкий дух хлороформа. С каждым вздохом все яснее и светлее вокруг.
Алексей наконец-то вспоминает, где видел человека, склонившегося над ним. Он очнулся, когда его, иссеченного пулями и осколками, окровавленного, положили на операционный стол. Увидел хирурга, который, не обращая внимания на стоны, внимательно осматривал многочисленные раны, раздражая холодным блеском металлического зонда.
Особой боли от прикосновения металла не чувствовал, потому что была единая жгущая, давящая и разрывающая боль.
Он чувствовал, что снова проваливается в бездонный колодец небытия, и прикусил губу. Боли не почувствовал, только ощутил во рту солоноватый привкус крови.
На мгновение вырвался из плена бессознательности и вопросительно уставился на хирурга. Тот, заметив его взгляд, ободряюще улыбнулся.
– Считай, что ты заново родился, – ответил на немой вопрос Алексея, – еще бы час, и не разговаривали бы мы с тобой. А теперь жить будешь. Вот только дай осмотреть тебя хорошенько, потерпи, пожалуйста.
Хирург положил свои холодные, тонкие и длинные, как у виртуоза-пианиста, пальцы на его горячий лоб, и Алексей наконец успокоился и шевельнул руками, потом пальцами: они слушались. Под перевязями свербило и болело все тело. Но почему-то не чувствовались ноги.
«Неужели?» – пронеслась в мозгу страшная мысль. Протянул вдоль туловища руки, потихоньку, сантиметр за сантиметром, ощупывая себя. Как самые точные датчики, работают пальцы, то и дело посылая в напряженно застывший мозг импульсы. Здесь все цело, а здесь бинт сырой от крови, больно. Пальцы с трудом дотягиваются до бедер и испуганно замирают. Что дальше, под простыней? Белизна холста, скомкавшегося там, где должны быть ноги, пугает. Хочется побыстрее узнать, что же там дальше, а страшно. Страшно так, что в жилах леденеет кровь. Несмотря на невыносимый жар, на лбу выступает холодный пот.
Решившись, резко подает голову и плечи вперед, рывком сбрасывает простыню и видит, что ноги на месте, лишь только перебинтованы в нескольких местах. Хриплый стон и радостный вопль сливается в непродолжительный облегченный выдох, но тут же от боли снова проваливается в черную бездну. Только через несколько минут, почувствовав резкий запах нашатыря, снова начал приходить в сознание. Он еще почти ничего не видел, перед глазами стояла молочная пелена, но отчетливо слышал все то, о чем говорили находящиеся в операционной люди.
– Его надо срочно эвакуировать в Ташкентский госпиталь, возможны абсцессы, – очнувшись, услышал Алексей незнакомый голос.
– Да, парню крупно не повезло. Даже если профессор сам сделает операцию, в лучшем случае он будет недвижимым калекой, – сказал другой.
– Что вы здесь раскаркались? Калека да калека. Парень молодой, еще неизвестно, как поведет себя организм. Многое от него самого зависит, – проговорил третий, глухой женский голос.
– Тише вы! Парень приходит в себя, – сказал хирург, склонившись над раненым.
Алексей теперь уже не делал резких движений. Боль физическая утихла, а на смену приходила щемящая внутренняя боль.
Слова врача о том, что в лучшем случае останется вечным калекой, словно ножом полоснули по еще кровоточащему сердцу.
«Зачем тогда жить? – мелькнула страшная мысль, – ради чего принимать новые мучения?» – Мысль нарастала, ширилась и, словно гора, наваливалась, заслоняя все, что еще недавно было радостным и дорогим. Заслоняла солнечный лучик, играющий на полированных поверхностях хирургического инструментария и в стеклах снежной белизны шкафов. Заслоняла тонкое, излучающее тепло лицо хирурга, его добрые глаза. Заслоняла всю скоротечно прошедшую жизнь. Немного в ней оказалось радости, но это была его жизнь, и он даже после всего перенесенного ее по прежнему любил.
А теперь не видел выхода. Вместо светлого будущего перед ним простиралась черная, беспросветная, бессмысленная жизнь. Жизнь калеки. Жизнь человека, зависящего всегда и во всем от других людей и тем самым бесправного и униженного.
Зачем, для чего мучиться, если тебя никто дома не ждет? Да и есть ли у него этот самый дом? Может быть, ему это все приснилось и, кроме детдома, ничего роднее нет. Нет у него и девчонки, которой мог бы написать о том, что с ним случилось. Он бы не требовал от нее быть постоянно с ним, нет, он слишком горд, но попросил бы написать письмо. Хоть самое небольшое. Хоть в несколько строк. Он бы перечитывал и чувствовал, что хоть немного, хоть самую малость кому-то нужен.
От множества противоречивых мыслей, заполнявших голову, а может быть, и от саднящей на затылке раны Алексей почувствовал нарастающую боль в висках, головокружение. Громко застонал, ему казалось, что огромный камень медленно опускается на него, холодной громадиной давит на ноги, на грудь. Еще мгновение – и он задохнется под его неимоверной тяжестью. Алексей выставил вперед руки, стал звать на помощь. Но не мог пошевелить губами. Тогда начал отталкиваться ногами, чтобы выползти из-под давящей каменной громады. Он задыхался, помогал себе руками, но глыба неотвратимо надвигалась. Холодное дыхание могильной плиты чувствовал уже на лбу, когда губы вдруг резко разомкнулись и он во всю силу легких закричал:
– А-а-а-й!
– Бредит парень, – констатировал хирург и подозвал медсестру, – сделай укол и отправляй в реанимацию. Нужно, чтобы с ним кто-то постоянно находился.
Алексей метался в горячке несколько дней. Об этом сказала ему сиделка, пожилая, болезненного вида женщина. Еще сказала, что через день в Союз летит вертолет, на котором его отправят в другой госпиталь.
На улице было уже темно, но спать не хотелось.
– Скажите, бабуся – что будет со мной?
– Какая я тебе бабуся? – выпалила неожиданно женщина. – Я тебе в матери гожусь! А старо выгляжу, так от того, что столько горя здесь перевидела. Ты уж прости, что резко я так… Доктор не велел говорить, а я, так и быть, скажу. Позвоночник у тебя задет осколком, да и бедро прострелено. Остальные ранки заживут скоро. А эти, не хочу тебя обманывать, сынок, не знаю. Трудно будет. – Женщина отвернулась и стала что-то внимательно разглядывать в окно, то и дело шмыгая носом.
Алексей, чтобы ее успокоить, хотел сказать что-нибудь ласковое, нежное, но резкая боль в пояснице осадила его. Он застонал. Не столько от боли, от бессилия и злобы на свое беспомощное, упакованное в гипсовый саркофаг тело.
– Потерпи, сынок, потерпи, я медсестру позову, – смахнув слезу, повернулась к нему сиделка.
– Не надо, мать, – процедил сквозь зубы Алексей, – не надо. Не хочу!
Он с детства боялся уколов. И когда в их детдом приезжали врачи с круглыми блестящими коробками, он поспешно забивался в самый дальний угол и таился там до тех пор, пока врачи не уезжали. Его называли трусом. Мальчишки-одногодки за это презирали, а девчонки просто не хотели замечать.
– Ну почему не надо, почему? – настойчиво уговаривала сердобольная женщина. – Сделают укольчик, и сразу легче станет, заснешь.
– Нет, мать, не надо. Мне необходимо сейчас о многом подумать.
– Какие могут быть думы в таком-то состоянии? Еле из ада выкарабкался. Лежи да силы набирай, а думщиков и без тебя достаточно. Заснуть постарайся.
– Вы меня извините, но я должен сегодня, сейчас решить главный для себя вопрос.
– Какой вопрос?
– Главный, – повторил Алексей и закрыл глаза, тем самым показывая, что разговаривать ни с кем больше не намерен.
Женщина поняла, что парень хочет остаться один, и, осторожно отворив дверь, вышла.
Алексей открыл глаза, осмотрелся. Лежал он на специальной кровати, ни туловищем, ни ногами шевельнуть не мог. Жесткий гипсовый корсет сдавливал все тело. Он мог свободно водить из стороны в сторону только руками да головой. Тело под гипсом нестерпимо зудело, причиняя муку не меньше, чем многочисленные раны.
«Ну зачем так мучиться, ради чего? – подумал он. – Ведь дома меня никто не ждет. Кому я вообще нужен?» Он растравлял себя этими вопросами, заранее зная, что ответов на них нет.
От черной безысходности, обступившей со всех сторон, на глазах выступили горькие слезы бессилия.
«Вот вывалиться бы из этой кровати да разбиться так, чтоб уж насовсем. Чтобы кончились кошмары, боль, безысходность одним разом. Упасть, и все, – промелькнула шальная мысль, – а что, это для меня единственный выход. Раз говорят, что позвоночник поврежден, значит, от удара о пол сломается гипс, и тогда конец. Долгожданный конец». Мысль эта углублялась и ширилась, приобретая все более и более безумные формы.
Алексей взялся рукой за край кровати и начал раскачивать свое упакованное в белый панцирь тело. Туда-сюда, туда-сюда.
Но рука была еще недостаточно окрепшей, и амплитуда раскачивания была слишком мала, чтобы перевалить его через край ложа. Да и кровать стала предательски громко скрипеть, словно предупреждая кого-то о готовящемся заговоре против человеческой жизни.
Алексей поднял перед собой ослабевшую руку и в сердцах больно стукнул по ней другой, израненной, в бинтах.
Резкая боль, которая тут же откликнулась на удар, немножко отрезвила его. Он вдруг понял, что даже если упадет на пол, то ожидаемого эффекта не получит, а лишь усугубит свое состояние новой, еще большей, болью.
«Ничего, выберу момент, когда повезут на вертолетную площадку, или еще где», – уже без эмоций подумал он и вызвал сестру, утопив красную кнопку звонка, вмонтированную в кровать.
Через несколько минут дверь открылась и на пороге появилась молодая женщина в белоснежном чепчике. Заспанное ее лицо выражало тревогу.
– Не могу заснуть, – пожаловался Алексей.
Медсестра принесла шприц и почти безболезненно ввела ему какое-то лекарство. В голове зашумело, пошло кругом. Все самое страшное – и боль, и черные мысли – остались где-то далеко-далеко позади. Через минуту он уже крепко спал.
Подготовка к отправке в Союз началась с самого утра следующего дня. Алексея сразу же после обильного завтрака повезли в перевязочную. Пока отмокали бинты, особой боли не ощущал, но, когда начали осторожно снимать, тело засаднило. Словно тысячи мелких иголок всадили в кожу. Эта неприятная процедура длилась не меньше часа, а Алексею казалось – целую вечность.
После перевязки попросил обезболивающего, но медсестра сказала, что у них существует норма на наркосодержащие препараты и что если он станет получать инъекции чаще, чем положено, то может стать наркоманом.
Боль, если не шевелиться, была несильной, и Алексей больше не настаивал на своем.
Он готовился к своему последнему шагу и был сосредоточен только на этом.
«На чем нас повезут до аэропорта? – интересовал его вопрос. – Если в закрытой машине, то нечего и рыпаться, толку не будет. Хорошо бы в открытой. На улице не жарко, зато какая красотища! В окно хорошо видно, как вокруг госпиталя буйно расцвели сады. Даже здесь в больничных палатах чувствовался терпкий запах цветущего миндаля, который, казалось, заполнил все пространство от неба до земли, будируя кровь, призывая к жизни. Но зачем я об этом думаю, – оборвал он радужную мысль, торжествующую в глубине сознания, – ведь я твердо решил свести все счеты с жизнью!»
Но жизнеутверждающий аромат весны делал свое дело, выветривая из головы черные мысли, которые, словно тяжелые грозовые тучи, рассеивались под напором неудержимого ветерка.
Скрипнула дверь. На пороге появилась сиделка, за ней хирург.
– Здравствуй, Алеша, – сказал он, по-отцовски его оглядывая и ласково улыбаясь, – как себя чувствуешь?
– Да так, ничего, елки-моталки…
– Ну, раз «елки-моталки», значит, хорошо, – поощрительно подмигнул военврач и присел на его кровать, – я хотел поговорить с тобой перед отправкой, чувствую, маешься ты. Запомни, Алексей, отчаяние – плохой советчик. Постоянно держи себя в руках. Верю, что ты не только выкарабкаешься, но и станешь бегать, как все твои сверстники. В том госпитале, куда тебя отправляем, оперирует профессор Преображенский, мой учитель. Он многих на ноги поставил. Я не прощаюсь с тобой: буду сопровождать на аэродром.
Он встал, поерошил ему волосы на голове, потом решительно развернулся и легкими шагами направился к выходу. Через несколько минут за ним последовала и сиделка.
После этих по-отцовски заботливых и добрых слов в душе Алексея заштормило. Самые разные мысли заполнили его бедную головушку. «Для чего вся эта ненужная канитель с новыми операциями? Ведь все равно он останется инвалидом, станет никому не нужной обузой обществу. Так что впереди светлого будущего не предвидится, – твердил малодушный внутренний голос, но его тут же прерывал голос-оптимист – а может быть, потерпеть, ведь доктор уверен, что профессор уже многим помог, даже самым безнадегам…».
Снова скрипнула дверь, и в палату вошли два санитара и знакомая медсестра. Пришлось спешно прощаться с сопалатниками, такими же горемыками, как и он сам.
В аэропорту госпитальный уазик беспрепятственно пропустили на летное поле, и он, проскочив почти через всю бетонку, остановился у вертолета, вокруг которого шла погрузочная сутолока; четверо первогодков, не принявших еще афганского загара, в новеньких камуфляжных хэбушках и не потерявших фабричного цвета кирзачах под руководством полненького, тоже белолицего майора, по виду не из полевых командиров, неумело и трудно снимали с грузовика тугие тюки, коробки и ящики, по двое несли к вертолету и с трудом впихивали в грузовой люк. К тому времени, когда санитарный уазик подкатил к Ми‑8, новобранцы, потея и спотыкаясь под взглядом белолицего мордастенького офицера тыловой службы, добросовестно затрамбовывали малое отверстие в теле дюралевой стрекозы и уже протаптывали тропу к двери с большими возможностями затащить в брюхо небесного вездехода нестандартный груз.
Когда санитары стали выгружать носилки, майор-тыловик подошел к сопровождавшему раненых капитану медицинской службы и, глянув на часы, спросил:
– Сколько времени у вас займет погрузка раненых?
Военврач, видимо, не впервой занимавшийся подобной операцией, почти автоматически ответил, не отрываясь от своего дела:
– Не менее получаса. Носилки надо отнивелировать и надежно закрепить…
Майор его резко оборвал:
– Даю вам десять минут!
Капитан помог выгрузить первые носилки, потом, потеснив пропотевших солдатиков-первогодков, заглянул внутрь вертолета, затем подошел к майору.
– Все раненые там не поместятся! Может быть… – озабоченно начал он.
– Грузите, сколько поместятся, да побыстрее, – прервал капитана тыловик, не оборачиваясь и продолжая пересчитывать остающиеся тюки, поминутно заглядывая в записную книжку, – остальных верните в госпиталь! Пока машина еще здесь, – заметив, что капитан не спешит выполнять его команду, невольно обернулся и, едва сдерживая раздражение, процедил сквозь зубы: – Я неясно выразился или вы плохо слышите, капитан? – Сделав паузу, он добавил: – Через десять минут борт отправляется…
Военный врач недоуменно улыбнулся, переступил с ноги на ногу и упрямо продолжил прерванную фразу:
– Может быть, часть груза оставить. Ведь у меня тяжелораненые…
Майор нервно дернулся:
– А у меня спецгруз!
– Но речь идет о жизни солдат. – Военврач уже не скрывал растущего беспокойства. – Им нужна срочная операция. В Ташкентском госпитале их уже ждут… Это единственный шанс…
– Капитан, я повторяю – у меня спецгруз и спецраспоряжение командования, потому не может быть и речи о снятии ни части, ни даже килограмма его, – довольно сдержанно и с легкой улыбкой продолжал майор, укладывая сопроводительные документы в сверкающий молдингами кейс, но, видимо, угадав за настырностью военного медика иные, непредсказуемые, действия, добавил: – Понимаете? Спецгруз! И спецохрана! Понимаете?! Прапорщик!
Из-за груды тюков и ящиков в проеме двери показался здоровенный увалень с каменным лицом, снисходительно оглядел узкоплечего, худощавого капитана и, как бы машинально, положил правую руку на кобуру.
– Смотри в оба! – предупредил его майор, сопроводив свою мысль выразительным жестом. – Головой отвечаешь!
Военврач изменился в лице.
– Это же бесчеловечно, преступно бесчеловечно! – прохрипел он от волнения. – Вы жестокосердный человек, вы преступник…
Тыловик набычился, белое лицо его стало багровым, но он, сохраняя внешнее спокойствие, вкрадчиво проговорил с улыбкой вурдалака:
– Полегче, полегче, капитан, а то можешь на неприятность нарваться.
– Нечего меня пугать, бледнолицый брат майор! Пуганы. Обматерены и обстреляны. И пороха нанюхались, и крови насмотрелись, не страшно.
И, не обращая внимания на майора, приказал санитарам:
– Загружайте, только не спеша, и повнимательнее с людьми. А, если потребуется для этого выкинуть часть ваших вещей – я сделаю это не раздумывая.
– Слушай, ты, глиста вонючая! – взвизгнул майор. – Как ты разговариваешь со старшим по званию?!
Он явно был далек от афгана, от кровавой войны и явно не понимал, что здесь ценились иные, чем в Союзе, качества, выработанные и сцементированное общей опасностью, удалью и взаимовыручкой, и, по шкурной тыловой привычке, старался всех устрашить.
– Или сейчас же извиняешься, или я вызываю патруль! – угрожающе пролаял он, видя, что на него никто не обращает внимания.
– Вызывай хоть самого дьявола, которому ты служишь! – равнодушно промолвил капитан, поправляя одеяло на носилках с ранеными.
Майор, явно не привыкший к подобному отношению, обескураженно постоял, прикидывая свои возможности, потом перебросился несколькими словами со своим спецохранником-прапорщиком, сел в уазик и укатил к зданию аэропорта.
Когда загрузили четвертого раненого, к вертолету лихо подвернула патрульная машина, из нее легко вымахнули четверо ладных парней в пятнистых хэбэ и бравый старлей, за ними неуклюже выбрался белолицый майор и взглядом указал на военврача, который помогал нести очередного раненого.
Служака подошел к капитану, взял под локоток и, сказав несколько слов вполголоса, увлек в сторону от носилок, которые, естественно, опустили на землю, однако капитан высвободился от цепкого захвата старлея и вернулся к раненому, но патруль был уже наготове и, по команде начальника патруля сцапав военврача понадежнее, увлекли его в свою машину, профессионально применив для этого заученные приемы.
Патрульная машина резко погазовала с взлетной полосы, а майор-победитель заглянул в мрачное брюхо вертолета, предостерегающе поднял руку и велел санитарам загрузить оставшихся раненых в госпитальную «таблетку» и возвращаться назад, а сам, переговорив с пилотами, охранником-прапорщиком, покинул машину. Вертолетные водилы задраили люки и закрылись в кабине.
Через пару минут, раскрутив винты и набрав обороты, взлетели. С семью ранеными, с трудом уместившимися в чреве вертолета, остался лишь один медбрат с объемистой сумкой на боку, примостившийся между носилками и громадой груза на тубе канатной лестницы.
Несмотря на то, что винтокрылая машина уносила все дальше и дальше от чужой жестокой войны, на душе у Алексея становилось все горше и горше. Не так от этого чудовищного по своей бесчеловечности эпизода на аэродромной бетонке во время погрузки, как от порожденного им внезапного прозрения и ненависти на всю эту грязную и довольно нелицеприятную оборотную сторону войны. Конечно же, он знал из книг, воспоминаний ветеранов и прочих бывалых людей, что война приносит несчастье человечеству, но даже в этом кое кто находит для себя выгоду. Недаром в народе говорят: «Для кого война, а для кого и мать родная». Увидев в вертолете тугие тюки, ящики и коробки с заграничными ярлыками, он вдруг подумал, что где-то уже видел такие же. Вспомнил купеческий караван из полусотни верблюдов, заблудившийся в войне, на которых была такая же поклажа, и караванбаши на низкорослой лошадке, в окружении вооруженной охраны, которые драпанули кто куда после первой же очереди ДШК, побросав свое добро и оставив себе лишь жизни. Но эти мирные трофеи, судя по действиям белолицего майора-тыловика, доставались не тому, кто вел окопную жизнь, подвергался опасностям, а порой и погибал не за понюшку табаку, а кому-то другому, стоящему, судя по размаху, на самом верху штабной лестницы. И страшно даже не то, что кто-то мародерствовал в этой войне, а то, что эти кто-то, наживаясь за счет смерти простых солдат, входили во вкус, заражая своей мерзостью других, и считали своим главным делом на войне нагрести в свои личные закрома побольше дармового добра, перешагивали через убитых и раненых, не обнаруживая ни единой капли милосердия и страха, даже если это были и наши солдаты, как это уже доказал белолицый майор тыловой службы.
Но до конца Алексей не верил своему неожиданному открытию, надеясь в душе, что ошибся по причине болезненного состояния души и тела, думал, что невозможно такое в нашем цивилизованном обществе, да и майор наверняка был коммунистом и с пионерского возраста воспитан по принципу «человек человеку друг, товарищ и брат».
И, может быть, он и убедил бы себя в этом, если бы его сознание не отвлекла боль, которая появилась во всем теле внезапно, когда вертолет, резко накреняясь и вибрируя, шарахнулся в сторону, видимо, обходя внезапно появившуюся на пути вершину. Носилки под ним потянуло вправо и вверх, потом опять резко вниз, отрывая от дюралевого пола. В глазах потемнело, и на него навалилась какая-то неимоверная тяжесть. Он глухо застонал и не услышал своего голоса. Он задыхался и не мог открыть рта, чтобы вдохнуть воздух, тошнота подступала к горлу. Он потерял счет времени, но не потерял сознания, и, слыша гулкие удары в обшивку борта, думал, что «вертушка», как однажды случилось в одной боевой операции, удирает от зенитных пулеметов «духов», кидаясь то вправо, то влево, то вверх, то вниз… И кто-то рядом кричал так же, как тогда, неразборчиво и глухо, кто-то стонал, и что-то шевелилось под ним, причиняя боль и неудобство.
Наконец пришло просветление, и он увидел санитара, спешно отваливающего в сторону тяжелые тюки, которые придавили не только его, но и остальных спинальных раненых.
– Держись, братишка! – ободряюще улыбнулся санитар. Лицо его покраснело от напряжения, которое он испытывал, оттаскивая, отпихивая очередной тюк, освобождая Алексею ноги.
– Да вы что там, растудыт вашу мать?! – орал он, зло поглядывая в сторону кабины вертолетчиков, – охренели совсем?! Тут же раненые!
Но свист винтов и натужный гул турбин заглушал голос.
Алексей повернул голову туда-сюда, осмотрелся. От резких маневров вертолета «спецгруз» раскидало по всей кабине, хотя, как заметил Алексей, тюки и коробки были заботливо перетянуты парашютными стропами.
Когда санитар наконец отвалил от него тюк, Алексей увидел брылястого прапорщика, который стоял на коленях и не то заталкивал, не то вытаскивал из расшнурованного или лопнувшего тюка новенькую дубленку.
Увидев это, Алексей понял все. Не ошибся он в своем страшном открытии, нет, такие же дубленки были в тюках того расстрелянного ими каравана. От жгучей обиды за себя, за своих боевых товарищей, за державу, в которой прижились такие, как прапорщик и белолицый майор со своим спецначальством, на глазах выступили слезы.
И вот тогда, впервые за все время его пребывания между жизнью и смертью, ему вдруг безумно захотелось жить, чтобы там, в Союзе, рассказать всем правду об этой страшной и кровавой войне. Вокруг горе, смерть, разруха, и в этой кровавой мясорубке находятся офицеры, которые строят на этом свой бизнес, занимаются куплей и продажей оптом и в розницу. Что они покупают? Тряпочные блага. А что продают? Офицерскую честь, предавая своих солдат, которые верят каждому их слову.
– И-эх, – горестно простонал Алексей, подавляя в себе закипевшую злость, – конечно, не все офицеры такие. Таких, может, всего-то единицы, но они есть и бросают тень на тех, кто живет вместе с солдатами в окопах и блиндажах, кто делится с ними последней сигаретой, коркой хлеба, тех, кто локоть к локтю штурмует ощетинившиеся пулеметными гнездами высоты, которые защищают те, кто на этой земле родился и вырос.
Алексей вспомнил своего взводного, своих боевых друзей, и у него защемило сердце, подступили к глазам слезы. Нет уже в живых лейтенанта Русакова, их взводного, так же, как нет и сержанта Олега Червинского, ефрейтора Мирзы Юлдашева, рядовых Паши Сорокина и Степана Худенко. Остальных пятерых ребят, которые были с ним в том, последнем, бою, Алексей знал мало. Все они были приданы на время операции их разведвзводу. Три сапера и два переводчика.
Из двенадцати высадившихся на высоту в живых остался только он один. Словно пирог, основательно нашпигованный осколками, но живой.
Перебирая в памяти спонтанно возникающие эпизоды своего последнего боя, Алексей то и дело отгонял навязчивую мысль: «Почему я остался жив? Почему не погиб со всеми?» Это было бы честнее. Ведь его никто не ждал, никому он в Союзе не нужен, а у лейтенанта – больная мать и невеста. Как они выдержит известие о его смерти? Сержанта Олега Червинского ждала молодая жена с двухлетней дочуркой. Сороку – Пашку Сорокина – ждали домой родители и невеста. Он не раз хвалился перед ребятами тем, что все два года службы Наталка – так звали его невесту – присылала пространные письма не реже одного раза в неделю, так что иногда, когда «вертушки» с почтой задерживались на месяц-два, он получал от любимой сразу кучу весточек. А Степка Худенко, хоть и больше года тому до дембеля было, но и он имел больше прав остаться в живых, чем он. Степка подавал большие надежды в живописи, учился в Строгановке, знаменитой столичной студии. Когда было хоть немного времени, он рисовал. Рисовал все, что попадалось на глаза. Даже в тот трагический день Степка, вытащив из своих вместительных карманов затасканный кусочек грифеля, нарисовал на рваном куске плащ-палатки спешащие на помощь нам вертолеты, которые так и не прилетели. Все смотрели на рисованные машины и верили, что они придут. Придут вовремя и искрошат окруживших неприступную высоту душманов. Ведь это им жить да жить, а не ему. Погиб бы он, и по нему никто бы не заплакал.
Алексею стало до слез жалко и себя, и погибших ребят. Он тихо глотал горько-соленую влагу, даже несколько раз всхлипнул, испуганно взглянув на санитара.
– Скоты, подонки, шкуры продажные. – Он ругался долго и смачно, вспоминая тыловика и иже с ним, благо что за свистом и клекотом работающих винтов никто его обличительных слов не слышал. Но ему от этого стало немного легче. Он даже уже начинал чувствовать себя человеком высшего порядка по отношению к тем грязным торгашам чести, которые переправляли наворованное, награбленное в Афганистане своим семьям и благодетелям, как вдруг прорвавшаяся откуда-то из глубины мозга мысль осадила его: «А каков ты сам? Вспомни! Как называется то, что мы сделали тогда в ущелье у ручья? Разве не грабеж? Это ж бандитское нападение на мирный караван».
Алексей усилием воли загонял эту страшную мысль обратно, в самый потаенный угол памяти, но она лезла и лезла на экран сознания. Сначала мелкими, еле разборчивыми буквами, потом начала проявляться все крупнее и крупнее, пока не заслонила весь горизонт разума. С этой мыслью пришлось согласиться.
«Но цели-то у нас разные, – пришло спасительное оправдание. – Те грабили и грабят ради наживы, а нам приходилось отбирать кое-какие продукты и вещи у афганцев, чтобы выжить, в конце концов.
Разве от хорошей жизни пришлось им нападать на припозднившийся караван?»
Просто им очень хотелось есть, да и холодно было в горах ночью без теплой одежды. Ведь никто из них тогда не знал, сколько дней продлятся мучения на этой Богом забытой высоте. А ведь всем им так хотелось выжить, дождаться своих.
А вертолеты все не прилетали и не прилетали за ними, и тогда на смену надежде приходили мысли, что их просто-напросто забыли.
Как же получилось, что их группа оказалась вдалеке от района, где проводилась крупная операция по ликвидации исламского комитета и группировок, ему подчиняющихся?
Почему они, бывалые, испытанные в многочисленных походах и боях солдаты, остались без запаса продовольствия? Ведь всегда, отправляясь на операцию, бывалые бойцы руководствовались правилом: идешь на неделю – бери продовольствия и боеприпасов на месяц, а тут осечка вышла.
Но нет здесь вины взводного так же, как и вины бывалых солдат. Все карты спутались буквально за час перед вылетом. Для отправки всей группы нужно было четыре вертолета. Пришло всего три. Один на подлете к лагерю был обстрелян «духами» и нуждался в ремонте. «Батя», комбат майор Решетов, решил организовать доставку в два приема. На первые три борта загрузили часть людей, а также продовольствие и боеприпасы всей десантно-штурмовой группы. Вскоре машины взмыли вверх и исчезли за горизонтом. Ждать их пришлось долго. Удалось пообедать в гарнизонной столовой и немного передохнуть от спешных сборов, прежде чем прибежал дежурный по лагерю и сообщил, что вертолеты возвращаются обратно.
Не успели «вертушки» приземлиться, а двенадцать человек уже ждали их на специальной площадке.
Сели почему-то только две машины. Третьей, как ни вглядывались в безоблачное небо, не было видно.
Прибывшие борты были изрядно подкопченными, с черными подпалинами на боках. От них несло не только перегретым керосином и маслом, но и гарью с чуть заметным привкусом селитры. Кассеты, в которых утром, словно семечки в подсолнухе, виднелись головки НУРСов, зияли пустыми отверстиями. Грозные «семечки» были вылущены полностью. Летчики, несмотря на то что лопасти машины уже замерли, из кабины не выходили.
Через стекла кабины были видны их почерневшие, усталые лица.
Подошел «батя», постучал в окошко ведомого и показал на часы. Летчик понимающе кивнул и что-то сказал экипажу. Офицеры нехотя зашевелились. Открылась дверь.
Первым на землю ступил командир вертолетного звена. К нему подошел комбат, и они отошли в сторону. О чем был у них разговор, Алексей не слышал.
– Отбой, – нехотя сообщил «батя» взводному, – эти машины сегодня не полетят. Будем вызывать другую пару.
На недоуменные вопросы десантников озабоченно ответил:
– В большую переделку попали летчики, когда возвращались. Наткнулись на огонь ДШК. Один вертолет загорелся и сразу же рухнул в ущелье, никто не спасся. Остальные, – он показал на стоящую пару, – обрабатывали позицию боевиков НУРСами до тех пор, пока не уничтожили огневую точку. Сами видите, без боеприпасов возвратились ребята, да и керосин почти на нуле. Через час нам пришлют другую пару. Так что ждите здесь.
– Подождем, товарищ подполковник, – глухо промолвил взводный и, проводив его взглядом, задумчиво сказал:
– Вот так-то, ребятки. В самое пекло идем. Никто не передумал?
Он спросил скорее так, чтобы что-то сказать. Бойцы это поняли без слов и дипломатично промолчали. Каждый думал о чем-то своем, сокровенном.
«Нет ничего хуже, чем неопределенность», – думал Алексей, шагая взад-вперед около вертолетов. Где-то в глубине души он и не очень-то хотел лететь на ту Богом забытую высоту, где, по замыслу командования, их неполный взвод должен был перекрыть горное ущелье. Взводный уже обрисовал в общих чертах замысел операции, и Алексей прекрасно представлял предстоящий маневр. Прежде всего, на многочисленные холмы, окружающие зеленую долину, выбрасывались десантные группы, с задачей – перекрыть душманам пути выхода в горы из заблокированной долины. На втором этапе в зеленую долину должны войти основные силы и с двух сторон прочесать «зеленку». На первый взгляд, ничего сложного. Но это только на первый взгляд и для тех, кто в таких операциях не участвовал.
Алексей прекрасно понимал, что многое здесь зависит от внезапности и слаженности в действиях всех войск, сосредоточенных в районе проведения операции.
Но порой и этого бывает мало. Алексей слышал от бывалых солдат о том, что были случаи, когда боевики, блокированные со всех сторон, исчезали, словно сквозь землю проваливались, через некоторое время они внезапно появлялись за спиной заградительных групп и, отрезав их от основных сил, внезапно и яростно атаковали. Случалось, что и уничтожали заслоны полностью. Правда, самому ему не приходилось бывать в таких ситуациях. На нескольких операциях, в которых он принимал непосредственное участие, в основном приходилось лишь обстреливать вражеские засады, разминировать дороги да каменные завалы на дороге расчищать. За полтора года афганской войны его даже не ранило ни разу. Судьба благоволила ему.
«Может быть, и на дембель без царапины уйду, – ласкала малодушная мысль, но он ее презрительно отгонял, бравируя сам перед собой. Ну, какой мужчина без отметин ратных?» – возбужденно думал он. От этих дум по телу пробегали холодные мурашки, а сердце тревожно и в то же время сладостно сжималось.
– А, черт с ним, пусть будет, что будет, – махнул он в сердцах рукой, направляясь к ожидавшим вертолеты товарищам. Каждый был занят своим делом. Лейтенант Русаков, расстелив на командирской сумке лист бумаги, что-то писал.
«Письмо, наверное, строчит. Матери или невесте своей», – подумал Алексей. Во взводе ни у кого секретов не было. Он различал письма, которые приходили лейтенанту. Толстые, с размашисто написанным адресом – это были письма от матери Русакова, и тоненькие, с мелкими округлыми буквами на конверте, от одноклассницы лейтенанта. Правда, это он, краснея, говорил, что от одноклассницы, но все-то понимали, что это весточки от невесточки.
Много бы дал Алексей, чтобы прочитать послание лейтенанта к девушке. Сам он почти никому писать не хотел. Правда, однажды пытался списаться со своим другом детства Аркашкой, который после детдома поступил в институт. Но по первому же письму друга понял, что они за те несколько лет, что не виделись, стали такими разными, что после первого же Аркашкиного письма он понял, что отвечать не будет. У них и раньше были разные цели и мечты и порой даже противоположные взгляды на жизнь, а со временем все эти противоречия лишь обострились. От письма друга-студента веяло каким-то болотным индивидуализмом. На его вопрос, пошел бы он добровольцем, «чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать», тот в категорической форме ответил, что никогда и ни за что на свете! А Алексея назвал круглым дураком за то, что тот написал рапорт с просьбой об отправке в Афганистан.
Алексей прекрасно устроился в части. Был каптером у старшины роты. Полгода жил, как у Христа за пазухой. Но, несмотря на это, написал рапорт и даже теперь об этом не жалел. Ведь, что ни говори, а он чувствовал себя в разведвзводе человеком, который нужен своим боевым друзьям, нужен командиру. Первое время думал, что нужен был и афганцам, но, после того как вместо банки тушенки, которую бросил черномазым пацанам-афганцам, в БТР полетела боевая граната, которая, разорвавшись на борту, ранила одного из бойцов, он так уже никогда не думал.
Перед тем как его отправили в Афганистан, Алексей написал письмо своему соседу и однокласснику Ивану, с которым они были не разлей вода, но даже словом не обмолвился о своей загранкомандировке. А ему так хотелось излить перед ним душу. Но, опасаясь, что и Ванька назовет его дураком, он ничего, кроме общих фраз, сочинять не стал.
Конечно, было бы прекрасно, если бы он перед армией познакомился с хорошей девчонкой, которая согласилась бы его ждать, но природная застенчивость лишила его и этой радости. Да если бы и была такая девчушка, то написать ей душевное письмо он бы все равно не сумел. Даже сочиняя письмо Ивану, он долго обдумывал каждое слово, в то время как лейтенант строчил, словно по писаному.
«И все у него, наверное, гладко и красиво выходит», – по-доброму позавидовал Алексей, переводя взгляд на Худенко. Степан был в своем амплуа. Расправив на ящике с боеприпасами рваный кусок оберточной бумаги, самозабвенно рисовал. Алексей подошел поближе. Из-под карандаша художника появлялись контуры узнаваемого города: на фоне серых голых гор, увенчанных белыми чалмами ледников, чуть заметными штрихами были обозначены узенькие лабиринты улочек, высотные дома, обрамлявшие центр города, возвышающийся над другими постройками генерал-губернаторский дворец. Рядом с ним как бы зависал огромный купол главной мечети с приткнувшейся к нему свечой минарета. Дальше, до самых гор, угадывались очертания полей, виноградников и соты дальних кишлаков. То, что на рисунке возник город, раскинувшийся в нескольких километрах от их лагеря, можно было сказать однозначно. Все знакомые, пройденные и пешком, и на машинах места. Вроде бы привычная картина. И все-таки в рисунке Степана чувствовалось нечто, что заставляло еще и еще раз вглядываться в этот незатейливый рисунок.
Алексей вдруг понял, что Степан смотрит на афганский городишко откуда-то сверху. Непонятно, почему, но от этой картины у Алексея почему-то защемило сердце. Степан оглянулся. Виновато улыбнувшись, скомкал лист и бросил в сторону. Ветер подхватил и унес его в свои тайные закутки.
Ефрейтор Юлдашев, вытащив из широких ножен свой отполированный до зеркального блеска тесак, вырезал на трости из орешника узоры. Глаз его был в этом деле наметан, руки довольно искусны. Мирзо говорил, что работать с деревом приучил дед. Не было в кишлаке мастера искуснее деда. Все калитки и двери в домах родных и соседей были испещрены магическими символами восточного орнамента, которыми ведали в их семье с давних времен.
Юлдашев после увольнения в запас хотел поступать в архитектурно-строительный, но деду об этом не говорил, потому что тот мечтал, чтобы внук был, как и он, столяром-краснодеревщиком.
Все, даже саперы и переводчики, чем-то занимались, перекладывали зачем-то вещи в рюкзаке десантника (РД), натирали до блеска оружие. В работе не так медленно тянутся минуты ожидания.
Только Паша Сорокин был не у дел. Он сидел на своем РД и, взяв прутик, что-то чертил на песке. Потом бросал прут и, вскочив с рюкзака, шагал в степь. Ложился в уже подсыхающую от летнего зноя траву и что-то искал взглядом в бездонном небе.
Пашка – мечтатель. Мечтатель, каких свет не видывал. А еще он был рассказчиком почти всех смешных историй, которых гуляло немало по лагерю. Кажется, из кожи вылезет, но заставит слушать свои байки этот взводный балагур и баламут, хохмач и враль, но палец ему в рот не клади, откусит, да еще осмеёт на весь батальон, не отмоешься.
Недаром за ним навечно закрепилась кличка Сорока. Когда знакомились, он прямо так и сказал, что у него кликуха Сорока, и тут же свое прозвище утвердил самой залихватской байкой.
Сейчас он лежал и молчал. Но Алексей видел, как у него часто меняется выражение лица. Оно то задумчивое, и Паша нащупывает рукой былинку, ломает и засовывает в рот, то радостное, чему-то улыбается, рот растягивается до ушей, возле глаз и носа появляются чуть заметные лучики морщин. Алексей вспомнил, как Сорока учил их правильно смеяться, чтобы не было на лице морщин.
Начал издалека.
– А что, ребята, вы всегда так смеетесь? – спросил однажды, когда взвод собрался в курилке, чтобы перед сном еще раз обсудить комедийный фильм, просмотренный накануне. Ребята недоуменно переглянулись.
Сорока скорчил сочувственную мину:
– Как? – спросил его кто-то.
– А вот так. – Паша сделал рот до ушей и залился таким заразительным смехом, что, глядя на него, хохотали все, кто был в курилке.
– А теперь все! Ша! – внезапно прервал смех он, – больше так не смейтесь.
– Почему? – недоуменно и простодушно спросил кто-то из ребят.
– Потому что от такого смеха ранние морщины на лице появляются. – Он многозначительно замолчал, сделав вид, что о чем-то усиленно думает.
– А как надо смеяться? – спросил недоверчивый, ждущий явного подвоха голос. Сорока, словно ждал этого вопроса, всем своим видом показывал: ну ладно, если вы очень сильно попросите, то покажу. Все взгляды были устремлены на Пашку, а тот чего-то ждал.
– Ну, давай, давай показывай, – сказал кто-то нетерпеливо.
Пашка вытянул губы трубочкой, и в напряженной тишине прозвучал его приглушенный ехидный смешок.
– Хе-хе-хе, – ехидно хихикнул он, и ни один мускул не дрогнул при этом на его лице. Глаза смотрели серьезно, бесхитростно, и это было до того уморительно и необычно, что после непродолжительной тишины все грохнули от смеха. Смеялись так, что казалось, потолок землянки обвалится, но нет, потолок выдержал, не выдержали офицеры, землянка которых рядом была. Прислали дежурного узнать, в чем дело…
Послышался долгожданный гул вертолетов. Через несколько минут далеко на горизонте появились две черные точки, быстро приближаясь и увеличиваясь, и вскоре в облаках пыли приземлились две винтокрылые машины.
Провожая на операцию, «батя» попрощался с каждым бойцом за руку. Сказал несколько слов на прощание взводному, и вскоре вся группа заняла место в одном из вертолетов.
Через несколько минут, сделав над лагерем круг, «вертушки», натужно урча, начали забираться все выше и выше. Лагерь сначала был похож на большой загон для баранов, опоясанный колючей проволокой и окопами, затем стал напоминать исковерканный прямоугольник, который вскоре растворился в тысячах подобных прямоугольников – полей.
В иллюминатор были еще видны серые грозди кишлаков, прилепившихся к подножиям гор. Вскоре зеленая долина с садами пашнями, кишлаками и огородишками осталась за бортом. Впереди, насколько охватывал взгляд, простирались горные хребты с крутыми стенами ущелий, которые, словно морщины у глаз, собрались у главенствующих над горной стороной пиков.
Вертолеты пролетали недалеко от белых шапок ледников, венчающих самые высокие головы гранитных кряжей. Казалось, протяни руку – и тут же коснешься жароутоляющего льда, на самом деле седеющие пики проплывали в десятках километров от машин, даже не освежая прохладой раскаленный полуденным зноем воздух.
Из кабины вышел штурман с планшетом в руках. Вместе с лейтенантом они долго о чем-то переговаривались, сверяя карты.
Вскоре машина пошла на снижение, внизу показалась узенькая полоска «зеленки». Посреди нее серебряной ниточкой петляла горная речушка, сверкая в лучах уходящего на покой солнца.
Снизу, с долины, в горы поднималась черная грозовая туча, которая вскоре затмила собой весь горизонт.
Штурман, показывая на нее, начал что-то втолковывать взводному. Тот не соглашался с летчиком, настаивая на своем.
Из кабины позвали штурмана, и он торопливо исчез за дверью. Через несколько минут вышел из кабины какой-то взъерошенный, чем-то напуганный и, указав взводному на точку, отмеченную у него на карте, снова начал увещевать командира группы.
Наконец лейтенант Русаков обреченно махнул рукой. Лицо летчика просияло, и он снова исчез за дверью кабины.
Машина резко пошла вниз. Вторая уже заходила над стремительно приближающейся высотой, и вскоре весь ее склон покрылся всполохами взрывов.
Вертолет с десантом приземлился на вспаханное снарядами поле. Открылась дверь. В нос сразу же ударил резкий запах гари и тротила.
Десантирование продолжалось не больше десяти минут, и вскоре вертолет, обдав десантников керосиновым духом, облегченно урча, взмыл вверх.
Провожая взглядом торопливо уносящиеся подальше от грозовой тучи, которая, словно лассо ковбоя, старалась охватить убегающих от стихии стальных птиц, Алексей почему-то подумал, что прощается с винтокрылыми машинами навсегда.
Вместе с исчезнувшими за горизонтом бортами, скрылось за тучами и жгучее солнце. На долину опустились ранние сумерки.
Начал крепчать ветер. Резко похолодало.
– Все ко мне! – крикнул лейтенант. Дождавшись, когда солдаты вместе со снаряжением и оружием подойдут поближе, лейтенант продолжал:
– Значит так, ребятки. До своей позиции мы не долетели километров шесть-семь. Сейчас просто невозможно сориентироваться, темно слишком, а то бы я точнее сказал. Ночевать здесь придется, так что надо окопаться хоть немного. Кто знает, что за ночь может произойти, тем более что из кишлака, который находится напротив нас, не могли не заметить нашего прибытия.
– Здесь копай, потом на основной позиции вкалывай, – проворчал Паша Сорокин недовольно.
– Разговорчики! – прикрикнул офицер. Сорока замолчал.
– Я вас не заставляю окопы в полный профиль рыть, достаточно и для стрельбы лежа, – миролюбиво заключил Русаков.
Он показал бойцам, где рыть окопы и укрытия, а сам с сержантом Червинским занялся оборудованием командного наблюдательного пункта (КНП).
Рыли они на пару и довольно споро. Земля была глинистая, но рыхлая. По всей видимости, когда-то там была пашня.
Вскоре за быстро растущим бруствером уже не было видно голов командиров.
Глядя на них, быстро работали и остальные солдаты. Правда, что-то не ладилось у Сороки. Вместо того чтобы копать себе окоп, он, достав бинокль, начал обозревать окрестности.
Первым после командиров закончил оборудование окопа Худенко. Это был довольно крепкий парень среднего роста, с крупной головой, покрытой пшеничного цвета волосами. Во взводе его уважали не столько за силу, сколько за умение рисовать. Но ни его сила, ни талант не спасали Степана от постоянных придирок старослужащих. Даже, наоборот, разжигали у некоторых из них лютую ненависть. Что поделаешь, так уж устроен обычный, ординарный человек – не любит он превосходства ни в силе, ни в уме. И если кто-то выделяется своей индивидуальностью, не похож на остальных, то ему надо обязательно дать подзатыльник, чтобы не вылезал из общего одноликого строя.
На прибывшее в роту пополнение Алексей даже не обратил внимания. Многие кинулись к молодым солдатам, чтобы узнать, есть ли среди них земляки, а главное, чего хорошего они привезли из Союза. Алексей в такие игры не играл, а о земляках и не думал. Какие могут быть земляки у человека без роду, без племени.
А для молодых началась трудная, полная горьких неожиданностей жизнь. Алексей через это в свое время прошел и теперь созерцал проделки своих годков с каким-то философским спокойствием, никогда не вмешиваясь в традиционные забавы «посвящения» молодых, едва принявших присягу мальчишек, в солдаты.
Только однажды нарушил он свой нейтралитет.
Было уже часа два ночи, когда ему сильно захотелось во двор. Захотелось так, что сил не было терпеть…
Надев на босу ногу сапоги, Алексей вышел из землянки, отошел в сторонку и столкнулся с группой ребят, которые своеобразно забавлялись: на небольшой площадке, за казармой, вдали от начальства они занимались физическим совершенствованием «молодых».
Кто-то из недавно прибывших солдат не выполнил установленную старослужащими норму, и тогда к нему подошел Узбек. Эта была кличка ефрейтора Юлдашева. Он, не говоря ни слова, схватил молодого солдата за волосы и, пригнув голову вниз, стукнул лицом в землю.
Солдат вскрикнул от боли и зажал разбитый нос руками, затравленно озирался по сторонам, словно надеясь на чудо, которое смогло бы его избавить от мучений.
– Не трогай его, – кинулся Алексей между Юлдашевым и молодым солдатом.
Кто-то кинулся защищать Мирзу, кто-то вступился за молодого. В общем, в результате свалки Алексея хорошенько отделали, правда, все обошлось небольшими ссадинами.
На другой день молодой солдат, за которого заступился Алексей, подошел к нему.
– Спасибо за помощь, – с трудом шевеля распухшими губами, промолвил он.
– Как звать-то тебя, «крестничек», – сочувственно оглядывая солдата спросил Алексей.
– Худенко. Степа.
– Ну, Степа, теперь можешь с гордостью носить звание бывалого бойца. Как говорится, за одного битого двух небитых дают, да только никто не берет!
После того ночного происшествия Худенко никто не трогал. Алексея бойцы если и не боялись, то уважали за его смелость и боевую смекалку…
Закончив свой окоп, Степан пошел помогать Сороке. Тот, увидев подкрепление, бросил работу совсем. Чтобы Худенко не скучно было рыть, Пашка забавлял «молодого» свежевыдуманными байками.
Когда позиции были оборудованы, взводный тщательно проверил окопы и маскировку. Увиденным остался доволен.
Не за горой была ночь, и лейтенант приказал саперам поставить по периметру сигнальные мины.
После продолжительного полета и тяжелой физической работы на свежем воздухе очень хотелось есть. Алексей вытряхнул из РД все свои продукты, рассчитанные на три дня. Сначала решил довольствоваться банкой каши и хлебом, но, подумав о том, что на следующий день они дойдут до основных сил, а там и кухни, и все остальные радости для желудка, махнул в сердцах рукой. Вскрыл большую банку тушенки, кашу и, не подогревая, съел. Потом выдул целую банку сгущенки, запил водой из фляги и вальяжно развалился рядом с окопом.
Прохладный горный ветерок приятно освежал тело. В голове не было ни одной мысли. Хотелось просто вот так лежать и ни о чем не думать.
«Это, наверное, и есть счастье, – думал он после обильной трапезы, – вот так живи да здравствуй. Но так не бывает вечно. Обязательно придет кто-нибудь, и это минутное счастье расстроит», – осадила его единственно трезвая мысль, и, словно в ее подтверждение, Алексей услышал:
– Переверзев, ко мне!
«Ну вот и прошло мое счастье, начинаются тяготы и лишения воинской службы», – подумал он, вскакивая.
– Товарищ лейтенант, по вашему приказанию прибыл, – доложил Алексей, останавливаясь у бруствера.
– Вместе с Юлдашевым и Худенко заступаете в боевое охранение. Через три часа вас сменят саперы. Старший – ефрейтор Юлдашев!
– Есть, товарищ лейтенант, – с чуть заметным восточным акцентом сказал Мирза.
От неожиданности Алексей вздрогнул. Он не видел стоящих где-то рядом Юлдашева и Худенко, думал, что он один.
– Леша, ходи ко мне, – сказал Мирза. Алексей, вытянув руку перед собой, пошел на голос.
С того самого дня, когда он стал между Юлдашевым и Худенко, Алексей сторонился ефрейтора. Тот, видимо, поняв, что перегнул палку в случае с молодым солдатом, старался как-то загладить свою вину перед ним, но натыкался на стену отчуждения. Здесь, на небольшом пятачке чужой земли, в окружении враждебных селений им было не до ссор и недомолвок. Перед неведомым будущим все прошлое просто не имело значения. Перед солдатами было будущее с вечным вопросом – быть или не быть, перефразированное Сорокой в «жить или не жить». Вот сейчас, вчерашние недруги, они шли рядышком, локоть к локтю среди чернильной темноты ночи, и кто знает, что ждет каждого из них? Кто кому помогать будет? То, что помогать они друг другу будут, что бы ни случилось, в этом ни у кого из ни не было ни капли сомнения. Каждый понимал, что иначе им просто не выжить здесь, на этом пятачке, в окружении холодных, бесстрастных ко всему гор.
Так думал Алексей, прислушиваясь к тишине ночи. Так думали и ребята, идущие с ним рядом, в этом он нисколько не сомневался.
Ночь прошла спокойно, если не считать нескольких выстрелов, прозвучавших в кишлаке.
Наступало утро. Алексей уже не помнит, сколько раз встречал в афганских горах восход солнца. И всякий раз это волшебное действо происходило необычно. Вот и в то утро сначала заискрились радужным огнем звезды на успевшем очиститься за ночь от облаков, небе. Потом все четче и четче начали проявляться на еще темном небосклоне белые шапки высокогорных вершин, которые в одно мгновение озарились чуть заметным золотым нимбом. Нимб стал расти, пока не опоясал ледники слепящим глаза ореолом. Стало светать и в долине. Над кишлаком, словно покрывало, колыхалось голубое облако дымка, сотканное из сотен тоненьких нитей, тянущихся из труб и отверстий в плоских крышах глиняных мазанок. Огромные куски ночного савана еще цеплялись за камни в глубине ущелий и садов, но все живое уже ощущало, что скоро, очень скоро выглянет солнце. И светило вырвалось из плена гор, лаская потоком невидимых лучей все вокруг, будоража жизненные соки в каждой травинке, в каждом кустике, в каждом дереве, побуждая все вокруг к активной, радостной жизни.
Алексей слышал щебет птиц, вдыхал аромат долины и снова, несмотря ни на что, был счастлив. Лежал с закрытыми глазами, чувствуя лицом солнечные лучи и позабыв обо всем, блаженствовал.
«Как все-таки хороша жизнь, елки-моталки! – думалось ему в то утро, потому что все располагало к этому – и ласковый взгляд солнца, и прохладный ветерок, и даже неизвестно откуда прилетевший жук, который, приземлившись на мушку автомата, мирно перебирая лапками, чистил свои прозрачные подкрылышки.
Безотрадную весть, которую Алексей узнал в следующее мгновение, с трудом доходила до его затуманенного внезапно нахлынувшей негой сознания. Мир блаженства улетучился сразу же вместе с жуком, который, почувствовав тревогу, взмахнул своими вычищенными перламутровыми крылышками, взмыл вверх и вскоре растворился в небе. Даже солнце, казалось, уже не ласкало, а нещадно жгло, предвещая жаркий день. Стихли голоса птиц. Тревогой повеяло со стороны кишлака. И все это, словно по мановению волшебной палочки, пришло, навалилось на плечи солдат вместе с тревожными словами лейтенанта.
– Вот б…! Мы, оказывается, не в пяти километрах от наших, а в пятистах метрах от бандитского кишлака. – Взводный сказал это после того, как несколько раз сверил карту с местностью. – Нас выбросили во владениях Ахмадшаха, – уже без тени сомнения обреченно произнес он. – Скажу вам, ситуация хреноватая, но небезнадежная. Если «вертушки» вовремя не прилетят, придется драться до последнего!
На высотке воцарилась тревожная тишина.
Потому что все, может быть, кроме Худенко, знали, что такое быть во владениях Ахмадшаха. Живыми из своей вотчины он не выпускал подразделения и покрупнее взвода.
– Даже если предположить, что нас кинутся искать уже сегодня, пройдет немало времени, прежде чем нас найдут.
– Может быть, по радиостанции попробовать связаться? – предложил Алексей.
– Нас просто не услышат, расстояние слишком большое, – сказал лейтенант Русаков удрученно.
– Я уже пытался связаться, – подтвердил Червинский, у которого была портативная радиостанция.
– Будем стоять здесь до прибытия подкрепления, – решительно сказал лейтенант и тут же, что-то для себя решив, приказал: – Углубить окопы и соединить их ходами сообщений. Все продукты и воду в КНП. Постараемся растянуть имеющиеся запасы хотя бы на два-три дня. Не маячить, передвигаться скрытно, ползком, пока полнопрофильные траншеи не отроем. Вопросы есть?
У солдат вопросов не было. Все чувствовали надвигающуюся опасность, и поэтому каждый был собран до предела или старался делать вид, что и не в таких переделках бывал.
Худенко, у которого позиция еще с ночи была оборудована для стрельбы стоя, начал копать ход сообщения к КНП. Все работали молча, сосредоточенно, без обычных шуток и перекуров, глубже вгрызаясь в землю. Знали, хоть и чужая им эта земля, но от пуль и осколков укроет, а это для солдата в бою самое главное.
Высота была голой, словно лысина на голове плешивого, ни одной былинки не колыхалось на ней. Алексей знал, что вся скудная растительность предгорий обычно использовалась дехканами окрестных кишлаков в топку. Даже верблюжья колючка, не до конца объеденная дромадерами (одногорбыми верблюдами), собиралась афганцами, чтобы в ненастные зимние дни обогреть глинобитные хижины.
Так что весь их небольшой отряд был как на ладони, продуваемый ветрами и простреливаемый со всех сторон. Успокаивало всех лишь одно – вершина, на которой их сбросил вертолет, господствовала не только над долиной, но и прилегающими хребтами и возвышенностями. Это было хоть и минимальное, но преимущество над душманами, которые, в этом никто не сомневался, попытаются их уничтожить или захватить в плен.
К обеду круговая оборона была полностью готова. Взводный, оставив двоих наблюдателей – со стороны кишлака и со стороны ущелья, собрал оставшееся воинство на КНП перед глиняным уступом в виде стола, на котором лежали раскрытая карта и компас.
– Вот все, что у нас есть в наличии, – показал лейтенант Русаков в сторону сваленных в углу банок с кашей, тушенкой и сгущенкой, четырьмя буханками хлеба и мешочком сухарей. Все это умещалось на свернутой вчетверо плащ-палатке. Рядом были сложены боеприпасы – несколько цинков с патронами для автоматов, два ящика с ручными гранатами, несколько круглых коробок с гранатами для автоматического гранатомета.
– Не густо, – процедил сквозь зубы Сорока.
– Этих боеприпасов нам и на день не хватит, – прикинув что-то в уме, удрученно сказал Юлдашев, воинственно сверкнув своими черными как смоль глазами.
– Да. Это вы правильно заметили. Поэтому в случае атаки «духов» стрелять прицельно и лучше одиночными. А для автоматического гранатомета надо оборудовать еще две позиции. – Лейтенант посмотрел на Мирзу. – Бери Худенко, двух саперов и сработай побыстрее. Твоя карманная пушка – для нас теперь самое главное оружие. Гранат, сам видишь, мало, так что бей только наверняка.
– Все понэтно, товарищ лейтенант, – коверкая от волнения слова, сказал Юлдашев и вместе со своими помощниками ушел выполнять приказ.
Взводный обвел оставшихся пытливым взглядом.
– Теперь, ребята, надо за водой сходить, пока тихо. Имеющихся запасов едва на день хватит. Кто хочет?
Солдаты молчали.
Поднялся Алексей.
– Я пойду.
– Хорошо. Но одного я тебя не отпущу.
Алексей повернулся к переводчикам, понуро сидевшим в уголке. Солдаты прятали глаза. Видно было, что идти в долину они не хотели. Боялись.
Алексею тоже страшно было покидать обжитую высоту и идти вниз к речушке, которая плескалась в глубине ущелья. Ведь никто не знает, что их там ждет. Может быть, засада, а может быть, пуля из кишлака. Но идти надо. Через несколько часов над головой встанет, словно огнедышащая печь, солнце. Без воды и до вечера в таком пекле не дотянешь.
«Кто-то ведь должен идти, – решил он и, взглянув на прячущих глаза солдат-переводчиков, напряженно ждал, когда кто-то из них переборет свой страх.
Но не дождался.
Встал сапер. Коренастый, загорелый до черноты парнишка. Ни слова не говоря, он начал цеплять пустые фляжки к своему ремню. Алексей занялся тем же.
Присоединив к автоматам двойные магазины, они торопливо, хоронясь за склоном, направились к речушке.
Впереди шел Алексей, за ним сапер. Спускались по тому склону холма, который не просматривался из кишлака. Когда подошли к обрывистому краю ущелья, Алексей вытащил бинокль и внимательно осмотрел окрестности.
В долине все было, как прежде, спокойно. Видно было, как трудились на своих полях дехкане. Одни занимались уборкой пшеницы, другие копались в садах и виноградниках.
Алексей перевел взгляд вверх, вдоль ущелья. Далеко-далеко, ближе к горам, он разглядел большую отару овец, которая серыми точками покрывала крутые склоны пастбища. Трава уже начинала желтеть, заставляя чабанов гнать свои отары поближе к ледникам. Ничего подозрительного или тревожного не заметив, он решил идти дальше. Махнул рукой попутчику, и они, прыгая, словно горные козлы, с камня на камень, начали спускаться к шумливой речушке. Из-под ног то и дело вырывались мелкие каменья и с грохотом, поднимая пыль, неслись вниз. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы не дышать пылью. Алексей взглянул на часы. Прошло всего лишь минут тридцать, а казалось, что минуло несколько часов.
Добравшись до речушки, бойцы, даже не отдышавшись, прильнули к ледяной прозрачной струе. У Алексея сразу же заломило от холода зубы. Ледниковая вода обожгла все внутренности, и он чуть было не захлебнулся, всосав воду и носом, и ртом. Поднял голову, отдышался и снова прильнул к воде.
Пили долго, мелкими глотками, пока не услышали стрельбу.
Торопливо заполнив водой фляжки, бойцы кинулись на приступ круто уходящего вверх склона.
Обратно подниматься было немного труднее. Во-первых, потому, что они спешили, подгоняемые неизвестностью, а спешка не всегда во благо, во-вторых, потому что от булькающей в животе и во фляжках воды стали намного тяжелее и неповоротливее.
В одном месте Алексей сорвался и метров десять катился вместе с обломками гранита вниз. Благо что успел зацепиться за выступ. А то бы так до самого ручья и тащило. Ободрал только локти.
На последнем этапе, когда склон стал почти отвесным, помог напарник. Вскарабкавшись на гребень склона проворнее него, сапер кинул ему конец веревки, которая всегда была при нем.
Пока лезли, Алексей про себя отметил: стрельба ведется только со стороны кишлака, с высотки не было слышно ни одного выстрела.
Это его встревожило больше всего. В голове проносились картины одна страшнее другой. «Духи» могли незаметно подкрасться и вырезать их пост или, хуже того, забрать всю группу в плен.
Не отдышавшись как следует, он выхватил бинокль и направил на кишлак. Руки дрожали от напряжения, бинокль ходил ходуном. Но даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы уверенно сказать: в кишлаке за прошедший час ничего не изменилось. Дехкане как ни в чем не бывало работали на своих полях и виноградниках, а стрельба между тем не прекращалась.
«Что бы это могло значить?» – подумал Алексей и передал бинокль напарнику, который с нетерпением и надеждой взглянул вверх на высотку. Там никого не было видно.
– Давай побыстрее на позицию, – сказал он и сам первый ринулся на приступ. Вскоре запыхавшиеся, взмокшие от усталости и треволнений солдаты были на вершине.
Первыми, кто им попался навстречу, были Юлдашев и Худенко, которые уже закончили оборудовать позиции для автоматического гранатомета и теперь устанавливали на земляной стол свою «карманную артиллерию».
Алексей прыгнул к ребятам в окоп и ни с того ни с сего начал их по очереди обнимать. Радости его не было предела. Только потом, немного позже, он запоздало спросил:
– Кто там стрельбу затеял?
– Лейтенант сказал, что кишлачный гарнизон «духов» встречает каких-то важных начальников, – сказал Худенко, – пока палят в воздух. Скоро начнут в нас. – В словах Степы чувствовалось неподдельное волнение, которое он хотел заглушить этакой словесной бравадой.
– Не дрейфь, салага, будем живы – не помрем, – ободряюще хлопнул по плечу Худенко Алексей и, пригибаясь, направился по ходу сообщения к КНП.
– Вот принесли десять фляжек, товарищ лейтенант, – доложил Алексей, снимая с ремня увесистые солдатские емкости, – на день, может быть, хватит, – неуверенно добавил он.
– Не на день, а на два, – твердо сказал Русаков, – так что придется экономить. Я разделил боеприпасы. Чтобы они всегда были под рукой, разнесите их по позициям.
Забрав патроны и гранаты, Алексей вместе с сапером пошел по позициям.
Все готовились к бою. Даже переводчики. Они уже не прятали глаз. Взяли по четыре ручных гранаты, по десять пачек патронов. На лицах их была написана решимость. Руки только выдавали, когда ребята брали патроны. Они дрожали мелкой, предательской дрожью. Алексей зла на них не держал и потому спросил:
– Что, первый бой?
– Да, – в один голос отозвались солдаты.
– А сколько служите?
– Год уже.
– И что, ни в одной операции не участвовали?
– Нет, не пришлось, – сказал худенький, среднего роста узбек с узенькими черными усиками под орлиным носом.
– Я просился, но командир сказал, что в штабе нужнее, – добавил второй переводчик, таджик.
Еще в лагере, знакомясь со взводом, переводчики рассказали немного о себе. Оба учились в университетах. Один в Ташкенте, другой в Душанбе. Обоих призвали со второго курса, направили в штаб группировки, находящейся в Маймене. Ребята кроме своих родных языков хорошо знали фарси и арабский. Участвовали в допросах пленных, переводили документы исламских комитетов.
– Да, после штаба вам здесь тоскливо будет, – посочувствовал им Алексей, – но ничего, будем воевать рядом. Если что, помогу.
Заметив, что солдаты, не зная куда сунуть полученные гранаты, начали выкладывать их на бруствер, сказал:
– А вы их сюда! – Алексей взял лопатку и, проделав углубление в стенке окопа, показал, куда положить «карманную артиллерию».
– Так удобнее, если что…
Он поправил валик бруствера, выставил свой автомат, прицелился, расчистил земляной столик для упора при стрельбе и только после этого, удовлетворенно хмыкнув, направился в свой окоп.
Стрельба в кишлаке уже прекратилась. Над долиной воцарились полуденная лень и спокойствие. Крестьяне, покинув свои наделы, отсиживались в самое жаркое время в своих глинобитных, с плоскими крышами домах. Алексей не раз бывал в таких жилищах и всегда удивлялся рациональности быта афганцев. Летом там было прохладно, зимой тепло.
«А что еще человеку надо? – думал он, разглядывая афганское селение. – Хороший дом, земля, привыкшие к труду рабочие руки. Живи, работай, будь счастлив. Ан нет. Мало этого человеку. Большего подавай. А за просто так никто свои блага не отдает. И те, кто хочет большего, и те, кто готов защитить свое кровное, берутся за оружие. Пусть бы и воевали друг с другом. Мы-то зачем здесь?»
Эта мысль все чаще и чаще появлялась у Алексея в голове, порождая бурю чувств, и тут же безответно исчезали в глубине сознания. Ведь он по-прежнему еще верил в то, что выполняет здесь свой интернациональный долг, и, очень хотел верить в то, что афганский народ должен относиться к нему, как к своему защитнику.
Но все время, находясь здесь, он, хоть и видел иногда улыбки на лицах прохожих, провожавших взглядом их колонну, но чувствовал, что улыбки и рукоплескания эти неискренние. Доказательств этому было более чем достаточно. Это и случай с гранатой, которую чумазый мальчуган бросил в их БТР взамен банки тушенки, это и стрельба в спину со стороны солдат афганской правительственной армии, это и сами действия сарбазов и царандоевцев, которые при первом выстреле моджахедов кидались в укрытие, оставляя своих русских союзников один на один с врагом. А когда их гнали в атаку, некоторые солдаты и офицеры, ухмыляясь, говорили:
– Вам надо, вы и воюйте!
«Значит, в Союзе нам вдалбливали одно, а здесь все было по-другому, – думал он, – для афганцев мы были не интернационалистами, а неверными, врагами ислама, с которыми под зеленым знаменем священной войны они готовы были драться до последнего. Выходило, что наше вмешательство способствовало не окончанию войны, а ее продолжению. Ведь известно, что, если в семьдесят девятом году в горы уходили отщепенцы, яростные противники режима, а теперь взялись за винтовки и дехкане, чтобы защищать свою землю от нас – воинов-интернационалистов. Абсурд какой-то».
Над площадью, расположенной в центре кишлака, заклубилась пыль. Алексей поднес к глазам бинокль и увидел, как от большого конного отряда, который только что прибыл, отделилась группа человек в пять-шесть. Конники на рысях поскакали к окраине кишлака и затем, перескочив речушку, направились в сторону высоты.
– Всем закончить работы. Приготовиться к бою. Без моей команды огня не открывать! – послышался уверенный голос взводного.
Алексей взял автомат, внимательно осмотрел целик и мушку и только после этого изготовился к стрельбе.
Душманы осадили своих коней где-то в нескольких сотнях метров от высотки. Вперед выехал один. Дальше подножия он забираться не стал. Вскоре послышался его зычный голос.
К окопу, где изготовились к бою переводчики, подполз лейтенант.
– Переводи, – коротко бросил он одному из них.
– Он говорит: курбаши знает, что нас мало. Правда, они думают, что нас человек двадцать. Он предлагает сложить оружие. Обещает всем жизнь. Говорит, что нас переправят в Пакистан, и там мы будем жить до тех пор, пока они не победят. Кто не захочет жить в Пакистане – будет свободен в выборе места жительства. Он говорит, что это слова заграничного гостя, который недавно приехал из Пешевара, и может взять шурави, то есть нас, под свою опеку. Окончательного ответа они будут ждать до рассвета. Если мы не сложим оружие, то воины ислама нас уничтожат…
Всадник поспешно развернулся и резво поскакал к ожидавшей его группе. Вскоре черные вестники исчезли в лабиринтах кишлака, словно страшное наваждение.
«Если дают время думать до утра, значит, уверены в том, что на помощь нам в ближайшее время никто не придет», – подумал Алексей. Да это и понятно, ведь операция идет где-то далеко, наверное, в другой провинции. Пока там все закончится, пока о них вспомнят – много воды утечет.
От этих мыслей в душе появилась холодная и необъятная пустота, тревожно сдавившая грудь.
«В плен? Ни за что! Что о нас подумают в Союзе, что скажет «батя», ребята? Ведь клятву давали», – твердил он себе, но назойливый, малодушный внутренний голосок, который приходит со страхом, с сильным испугом, нашептывал иное: «Ну и дурак! Это единственный путь к спасению. Отсюда никто живым не уйдет, это ясно, как дважды два – четыре».
Алексей, вздрогнул от этой подленькой мыслишки. Продолжая внутреннюю борьбу, он невольно взглянул на своих соседей. Переводчики сидели рядом и, глядя на кишлак, о чем-то переговаривались на своем.
«О чем они там шепчутся, – подумал он, – уж не драпать ли отсюда собрались?»
Заметив, что Алексей за ними наблюдает, переводчики переглянулись между собой.
– Подойди, пожалуйста, к нам, – обратился к нему худенький черноусый таджик. Алексей понял, что сейчас он как никогда нужен этим необстрелянным первогодкам, впервые в жизни соприкоснувшимся с трагической реальностью войны. Они смотрели на него как на бывалого солдата и ждали искреннего, а не показного участия, поддержки.
Алексею стало стыдно за недавно промелькнувшую мысль о возможном их предательстве. И, чтобы как-то загладить свою вину, он, взяв автомат, подошел к ним.
– Леша-джан, – сказал таджик, когда он перебрался в их просторное укрытие, – а ты не боишься?
– Есть маленько, – откровенно признался Алексей, – по-моему, каждый нормальный человек должен опасаться смерти, и ничего предосудительного в этом нет. Это нормальное явление. Надо только пересилить страх и как следует подготовиться к бою. – Придирчиво осмотрев укрытие переводчиков, он предложил: – Чтобы в окопе было безопасней, давайте воспользуемся «духовской» хитростью.
– Какой? – в один голос спросили солдаты. Он показал, как душманы, предвидя артобстрел, делают в своих траншеях специальные углубления.
– Когда обстрел ведется с фронта, они прячутся в углублении со стороны фронта, а когда с тыла, прячутся с тыла, – добавил он, вгрызаясь своей лопаткой в землю. Переводчики поняли эту маленькую хитрость, и вскоре их окоп был оборудован по последнему слову военного искусства.
Алексей заметил, что подобную работу проделывают и остальные бойцы взвода. Только командир сидел у радиостанции, тщетно пытаясь связаться с базой.
Закончив работу, Алексей сел на дно окопа. Рядом примостились переводчики. Помолчали.
«В течение двух дней мы находимся вместе, завтра возможно, будем смотреть смерти в глаза, а я так и не знаю их имен», – неожиданно подумал он.
– Ребята, а звать-то вас как? – спросил он.
– Меня Абдулла, – сказал первый, а это Сахиб.
– Очень приятно, – улыбнулся Алексей, по очереди пожав переводчикам руки.
До вечера времени еще было достаточно, и потому Алексей решил домыслить мучающий его уже давно вопрос – зачем они здесь? Ребята работали в штабе и, естественно, знали намного больше, чем он или взводный. Рассказал им о своих наблюдениях, своих мыслях по этому поводу.
– Я ответа на этот вопрос не знаю, так же как и ты, – сказал Абдулла, – но я хочу рассказать тебе о душмане, которого допрашивали офицеры ХАД (афганские органы безопасности) в моем присутствии. Его взяли, когда тот пытался оставить магнитофон, начиненный взрывчаткой, в провинциальном партийном комитете. Его вовремя обезвредили. Я опускаю подробности допроса. Вот главное, что я узнал. На вопрос, зачем он хотел подорвать секретаря провинциального комитета НДПА, тот прямо заявил, что с того самого дня, как в Афганистан вошли войска неверных, он, как и многие простые афганцы, вступил на тропу борьбы не только с захватчиками, но и поставленным ими незаконным режимом.
Когда ему начали объяснять, что советские войска вошли по просьбе афганского правительства, он злобно прервал офицера и сказал, что мусульманская страна должна искать поддержки только у мусульманской страны. И если бы пришли войска из Ирана или Пакистана, то война бы уже давно прекратилась.
Подобные высказывания я слышал не только от пленных «духов», но и от некоторых высокопоставленных афганских чиновников. Разговаривая меж собой на арабском, они думали, что я их не понимаю.
– Да-а-а, – только и мог сказать Алексей, – выходит, мы тут зря погибаем, кровь проливаем. Одно радует, что хоть в Союзе как героев встретят. Я видел по телевизору, как после войны на Мальвинских островах Англия встречала своих героев. Смотрел, и сердце замирало. Толпы народа, музыка, пресса, телевидение. Премьер-министр с речью выступил. Вот это да!..
– Не рассчитывай, что и нас так не встретят, – мрачно промолвил Сахиб, неожиданно прерывая его.
Эти слова отрезвили Алексея. Он недоуменно посмотрел на переводчика и замолчал, не зная, что на это ответить. Конечно, он от кого-то слышал, что погибших в Афганистане советских воинов в Союзе хоронят тайно, словно преступников, но не верил этому. Не хотел этому верить. Ведь государство послало его выполнять сюда интернациональный долг. Значит, в случае гибели и государство должно исполнить свой священный долг. Ведь ему всю жизнь говорили, что народ должен знать своих героев.
– Что ты болтаешь? – решил одернуть он Сахиба, но тот, не обращая внимания на реплику Алексея, после минутной заминки продолжал:
– Перед призывом в армию я вместе со своими братьями встречал в Ташкентском аэропорту гроб с телом родственника. На мине подорвался солдат. Начальник аэропорта, хороший знакомый отца, разрешил подъехать на машине к самому трапу «черного тюльпана». Когда мы подошли, разгрузка гробов шла полным ходом. Их, словно дрова, швыряли прямо из раскрытого чрева самолета в кузов бортовой машины. Загрузили с горкой. Потом, чтобы не видно было, что именно везут, накрыли брезентом, и машина двинулась к специальному ангару, где производилась сортировка гробов. Вот так встречают погибших героев афгана в Союзе. Нам не сразу выдали гроб, пришлось немало побегать то в военкомат, то в исполком, то в домоуправление. Помыкались немало. Но на гранитном обелиске власти запретили писать, что брат погиб в Афганистане. Посмотрит кто на обелиск, на дату рождения и смерти – и решит: молодой умер, значит, от водки или наркотиков сгорел, или в хулиганской драке порешили.
– Я не хочу, чтобы и со мной так поступили, – с горечью заключил Сахиб.
Вдоволь иссушив землю, солнце спряталось за горы. Вместе с ним уходил последний мирный день. Тяжесть предстоящего неравного боя давила на всех, словно многотонная плита. Даже Сорока, всегда такой неунывающий и шумливый, притих.
Дума была об одном – какая судьбина ждет каждого из них. Останется ли он живым или будет ранен, а может быть, убит. Своеобразно выражал свою надежду на лучшее Степка-художник. Закрепив колышками обрывок плащ-палатки, он самозабвенно рисовал, то и дело посматривая на горы, на заходящее солнце, на растянувшуюся перед ним долину, на помутневшую речушку.
Каждый по-своему угадывал содержание худенковской картины. Но когда он показал свой холст, все были поражены.
На зеленом фоне, в лучах восходящего солнца, плыли два краснозвездных вертолета. Они торопились на помощь. В углу этого импровизированного холста несколькими узнаваемыми штрихами была изображена высота. Внизу, из кишлака, в разные стороны разбегались в ожидании возмездия враги. Может быть, этот рисунок не был еще завершен, может быть, это был не самый лучший рисунок Степана, но он рождал надежду.
Надежду на то, что о них не забудут, что придут на помощь. А с этим чувством и воевать легче.
Солнце уже коснулось седловины высокогорного хребта, когда лейтенант Русаков позвал к себе Алексея.
– Значит так, Алеша, – сказал он, – дорогу до ручья, я думаю, не забыл. Завтра они не дадут нам никакой возможности запастись водой, так что придется еще раз туда смотаться. Возьми еще кого-нибудь из ребят. Вот и Юлдашев хочет с тобой. Не возражаешь?
– Да нет, мне все равно, – ответил Алексей и начал, как и утром, цеплять пустые фляжки на ремень.
Вскоре он, сапер и Мирза покинули лагерь и под покровом быстро сгущавшихся сумерек начали спускаться под гору.
Когда они подошли к спуску в ущелье, где по-прежнему весело журчала горная речка, было уже довольно темно, и потому идти было намного труднее, чем утром.
Пользуясь веревкой, солдаты по очереди спускались с уступа на уступ, с площадки на площадку. Когда наконец-то вышли к ручью, была уже ночь. На чистом, безоблачном небе слепили глаза своим холодным, равнодушным мерцанием звезды.
Солдаты наполнили большую часть фляжек, когда из глубины расщелины послышался звон бубенцов.
– Что это может быть? – встревожился Мирза.
– Пастух, наверное, домой со стадом возвращается, – предположил Алексей.
– Отары по ночам не перегоняют, – со знанием дела заявил Юлдашев.
– Т-с-с-с, – прошипел неожиданно он.
Послышался чей-то говор, но из-за журчания горной речушки, слова трудно было разобрать.
– Давайте перескочим на тот берег и спрячемся у скалы, – предложил Алексей.
– Хорошо! – поддержал его сапер, и вскоре они, изготовив оружие к бою, затаились метрах в десяти – пятнадцати от караванной тропы, петляющей вдоль речки. Вскоре при свете луны, вышедшей из-за горного хребта, показались силуэты людей и животных, растянувшиеся небольшим караваном вдоль тропы.
Впереди, на коне, ехал караван-баши, за ним на расстоянии нескольких шагов плелись пять одногорбых верблюдов, сзади на трех ослах ехали, по всей видимости, купцы и охранники.
– Будем брать, – шепотом сказал Юлдашев.
– На хрена они нам? Только лишнего шума наделаем, – пытался остановить ефрейтора Алексей, но Мирза тут же его прервал:
– Ты что, хочешь с голоду опухнуть? Ведь завтра нас обложат со всех сторон, так что мышь не проскочит. Черт знает, сколько отбиваться придется. Боеприпасов-то в избытке, а вот с продовольствием туговато, сам знаешь.
– Он прав, – неожиданно поддержал Юлдашева сапер, – надо хотя бы попытаться.
– Ну, черт с вами, – согласился Алексей, – только необходимо все сделать тихо, без шума и выстрелов.
– О, это мы можем, – сверкнул глазами Мирза, вытаскивая из-за голенища свой трофейный нож.
Пока солдаты сговаривались о том, как лучше напасть, караван-баши поравнялся со скалой, где они затаились.
Юлдашев кинулся к нему, а Алексей с сапером кинулись в хвост каравана и застали полусонных афганцев врасплох.
Не успели люди опомниться от внезапного нападения, как Алексей уже скрутил веревкой одного, сапер сбил прикладом другого. Третий, не шелохнувшись, сидел в седле и покорно ждал своей участи.
Сапер вытащил из кармана складной нож, обрезал уздечку и начал скручивать руки оглушенному афганцу, потом он вместе с Алексеем связали остальных, а чтобы те не кричали, засунули в рот каждому конец собственной чалмы. Сделав свое дело, они торопливо обследовали содержание караванных хурджинов.
В тюках оказались пряжа и шкуры. Только в одном они нашли продукты – вяленое мясо, рис и лепешки. Там же были и несколько емкостей с водой и каким-то молочным напитком. К радости солдат, в одном из вьюков нашелся и целый ящик с сигаретами.
Перед тем как уходить, Юлдашев развязал пленных и под автоматом потащил их к верблюдам. Он долго втолковывал им что-то по-своему.
Вскоре, добившись своего, он прикрикнул на афганцев, и те забегали, разворачивая караван в обратную сторону. Вскоре они скрылись в глубине ущелья. Трофеев было предостаточно. Триумвират решил, что кроме продуктов и воды надо непременно взять несколько выделанных шкур и дубленок, а также магнитофон и кое-какую хозяйственную мелочь.
Путь наверх был еще труднее, чем спуск, но сознание того, что ребята и сегодня, и завтра, и послезавтра будут сыты, смогут укрыться в шкурах от промозглого предутреннего холода, давало новые силы, заставляло забыть и то невольное преступление, которое они ради общего блага совершили.
Охранение встретило добытчиков радостными возгласами. Лейтенант, узнав об экспроприации каравана, промолчал.
Не отругал. И не одобрил. Война все спишет – так, наверное, думал он, в глубине души, видимо, радуясь тому, что все так благополучно завершилось. И еда есть, и вода есть. И укрыться есть чем, даже покурить теперь в полное удовольствие можно. А главное, ребята целы и невредимы.
«И в самом деле, надо брать побольше от жизни, пока жив, а завтра пусть будет что будет», – думал Алексей, жуя лепешку и запивая ее терпким игристым молоком.
«Утро вечера мудренее», – пронеслась у него в мозгу мысль, когда он, постелив шкуру на дно окопа, провалился в объятия сна.
Утро нового дня тянулось медленно и тревожно. Не было обычного лучистого солнечного потока с гор в долину, когда в течение нескольких минут на смену утренним сумеркам приходил яркий, полный живительного буйства день. От горизонта и до горизонта расстилались серые невзрачные тучи, давя своей массой на все живое и в горах, и в долине. Вот почему не было слышно серебряной трели жаворонка, приветствующего восход, не жужжали трудяги-жуки. Вся природа замерла в ожидании чего-то неотвратимо страшного. Даже ветер, словно испугавшись чего-то, замер, не шевеля, как обычно, сухих былинок.
Вот эта-то звенящая и давящая тишина разбудила Алексея, внесла в душу какую-то щемящую ноту, и душа, вместо того чтобы петь гимн пробуждения к новой, радостной и непознаваемой до конца, жизни, как-то нехорошо, не к месту буркнула: «Сегодняшний день будет расплатой за вчерашнее убийство», – и перед глазами Алексея снова возникло бледно-белое лицо караван-баши с перерезанным горлом, и звериный оскал на лице Юлдашева, вытиравшего свой нож об одежду убитого.
Он чертыхнулся и, стараясь смахнуть это страшное наваждение, вместе с остатками сна, резво вскочил на ноги. Его голова лишь на несколько секунд показалась над окопом, и тут же прозвучали выстрелы. Рой пуль зацвиркал где-то высоко над головой, но Алексей тут же инстинктивно втянул голову в плечи, туловище его резко, до боли в пояснице переломилось, и он в мгновение ока снова оказался на дне окопа. Осада началась.
Никакого знака, извещающего о том, что «шурави» положительно отвечают на предъявленный накануне ультиматум, душманы так и не дождались…
Теперь все зависело от действий каждого солдата, от помощи основных сил и в конечном счете от Всевершителя, который ассоциировался у каждого бывалого бойца с удачей.
Алексей осторожно выглянул из-за бруствера.
Конный отряд моджахедов, человек в сто, спешился на берегу горной речушки, рассекающей долину на две части. В бинокль было хорошо видно, как афганцы, окружившие старика в большой белой чалме, видимо, муллы, расстелили свои коврики и самозабвенно били поклоны, призывая на головы шурави кару Аллаха.
Закончив обряд, душманы разделились на три группы, вскочил и на коней и поскакали в разные стороны.
Две группы начали охватывать высотку справа и слева, третья остановилась напротив, на удалении прямого выстрела из автомата, дожидаясь сигнала атаковать в лоб.
– Без моей команды огонь не открывать, патроны экономить, – бодрым голосом скомандовал лейтенант Русаков.
Склон высоты, на которой закрепились десантники, со стороны кишлака был довольно пологим, и потому лейтенант большую часть взвода выдвинул на это направление. Необходимые укрытия и запасные позиции были вырыты еще накануне.
Над позицией воцарилась напряженная тишина, которую вскоре прервал неугомонный Сорока, громогласно, чтобы слышали все, он задорно начал свой очередной анекдот…
– Однажды американцы окружили в джунглях вьетнамский партизанский отряд. Обложили его со всех сторон так, что мышь не проскочит.
– Сдавайтесь, вы окружены! – прокричал американский офицер на английском.
В ответ тишина.
– Сдавайтесь, вы окружены! – прокричал проводник-вьетнамец на своем.
Снова тишина.
И только через несколько минут, притихшие джунгли прорезал трехэтажный мат, и в следующее мгновение американцы услышали:
– Русские не сдаются!
Сначала на русском, потом на английском, потом на местном наречии.
Все, кто услышал этот анекдот, если не гоготали взахлеб, как Мирза Юлдашев, то, конечно же, усмехнулись про себя и тем самым хоть на минутку отвлеклись от тревожных дум.
Новость, которую передал уже перед самым началом боя взводный, укрепила уверенность ребят в том, что они не одни. Из радиопереговоров, которые ему удалось поймать по радиостанции, он узнал, что их исчезновение обнаружено, что ведутся поиски в нескольких районах, в том числе была названа и зеленая долина Ширинтагаб с одноименной горной речушкой, которая вот уже вторые сутки снабжала их водой.
– Хотя бы один день нам надо продержаться, – уверенно промолвил взводный, с надеждой оглядев солдат.
– Продержимся, товарищ лейтенант, мы непременно сделаем «духов» настоящими духами, – бодро поддержал Русакова Сорока, отпустив еще не одну пару жгучих шуток на головы моджахедов, и тем самым приподнял настроение ребятам.
Глядя на неунывающих, несмотря ни на что, солдат, соизволила преподнести им достойный подарок и природа. Шквалистый ветер разогнал угрюмые, темные тучи, и с гор вместе с прохладой потянуло духом цветущих лугов. На мгновение в кишлаке зазолотились верхушки деревьев. Это сквозь остатки туч проскользнул солнечный лучик. Он, словно вестник надежды, зажег в глазах ребят уверенность в том, что они обязательно выкарабкаются из этой страшной переделки.
А душманы, растянувшись в цепь, уже карабкались на приступ. Их поддерживали пара минометов и горная пушка.
Несколько мин взорвались далеко позади. Пушечный снаряд разорвался, не долетев до позиций несколько десятков метров.
– Всем, кроме наблюдателей, залечь на дно окопов, – скомандовал взводный.
Алексей лежал, втиснувшись в землю, и слышал только, как подрагивает она от очередного близкого разрыва.
Повернувшись вполоборота, он видел, как под действием взрывной волны ссыпается в окоп земля, и мысленно умолял:
– Только не сюда, только не на меня.
Он что-то слышал о теории вероятности, знал, что есть небольшой процент того, что снаряд или мина могут попасть в человека. Но теория не давала имени этого человека, а значит, о проценте вероятности можно было думать лишь для самоуспокоения, и то перед боем. А когда вокруг рвутся снаряды, не остается ничего лучшего, кроме того, как бубнить в свое успокоение:
– Пронеси этот снаряд или мину подальше от меня. В этот момент Алексей, если бы знал хоть какую-то молитву, обязательно шептал бы ее про себя.
Мина разорвалась где-то рядом.
– О Боже, спасибо тебе за то, что смертушка минула меня, – прошептал Алексей.
По голове запоздало застучали комья земли.
«Слава богу, пронесло!» – подумал он, стряхивая глину с плеч.
Внезапно афганская артиллерия замолчала, и Алексей явственно услышал где-то совсем рядом холодящие кровь крики:
– Ал-л-л а!
Казалось, что этот клич несся на него со всех сторон.
«Неужели атакуют со всех сторон?» – пронеслось в мозгу.
«Но почему никто из наших не отбивается? Побило всех, что ли, – эта мысль заставила его вскочить на ноги. Палец лежал на спусковом крючке в готовности открыть огонь сразу же, в то же мгновение, как только появятся боевики.
Врагов он увидел не сразу, а лишь после того, как выглянул за бруствер. Они были в нескольких сотнях метров от окопов. Бежали легко, то и дело останавливались и, не целясь, палили вверх. Пули свистели и верещали вразнобой, то выше, то ниже. Иногда цвиркали, пролетая совсем рядом, жаля в бессильной злобе землю.
– Еще далековато, – облегченно вздохнул Алексей и только после этого огляделся. Переводчики сидели на дне окопа, прижавшись друг к другу.
– Что вы там сидите, в штаны наложили, что ли? – грубо прикрикнул он на перепуганных солдат.
Те встрепенулись от столбняка, зашевелились, начали понемногу выпрямлять непослушные, дрожащие колени.
– Не высовывайтесь! На фоне голубого неба мы прекрасная мишень, – со знанием дела предупредил их Алексей.
Абдулла, набравшись духу, выглянул за бруствер и тут же, увидев вдалеке атакующих, вскинув автомат и дал по ним длинную, беспорядочную очередь.
– Ты что, – озлился на него Алексей, – патроны зря расходуешь? Рано еще!
– Почему рано? Почему рано? – испуганно затараторил солдат. – Ведь они уже рядом, совсем близко, – истерично выкрикнул он и заметался по окопу в поисках убежища, не столько от «духов», сколько от леденящего страха, берущего душу в свои цепкие холодные пальцы.
– Лечь! – крикнул Алексей.
Абдулла послушно плюхнулся на дно траншеи.
– Встать!
Солдат вскочил, и в ожидании новой команды уставился на него.
– Вот так-то лучше, – спокойным тоном промолвил Алексей, – нечего здесь истерики устраивать, Воевать надо!
– Командуй, рафик Алеша, я все исполню, – виновато промолвил Абдулла.
Алексей еще раз показал переводчикам, откуда лучше изготовиться, куда целиться, как стрелять, и только после этого взглянул за бруствер.
Моджахеды за это время продвинулись метров на сто.
Они все так же, как и несколько минут назад, двигались вверх, то и дело останавливаясь, чтобы дать очередь по высотке, правда, прыти у них поубавилось, да и устрашающие вопли стали потише.
«Еще метров на сто подойдут, и надо открывать огонь», – подумал Алексей и, выставив ствол автомата наружу, прицелился. Сквозь прорезь прицела выбрал себе цель покрупнее. Это был афганец примерно одного с ним возраста. Несмотря на то, что он преодолел уже довольно значительное расстояние вверх по склону, в его движениях не чувствовалась усталость. Вырвавшись вперед, он, как заведенный, делал десять шагов бегом вверх, останавливался, стрелял, кричал «Ал-л-ла» и снова двигался ускоренным шагом.
Алексей уже мог разглядеть чуть вытянутое, загорелое лицо своей жертвы. Широкая цвета хаки чалма сбилась на лоб, и он то и дело ее поправлял. По тому, как он основательно ставил ноги, устойчиво на них держался и как бережно держал в своих огромных ручищах винтовку, словно лопату или кетмень, Алексей понял, что перед ним простой афганский пахарь и сеятель, тот, кто должен был кормить свой народ, а не размахивать винтовкой.
Хоть и шевельнулась у Алексея в душе мимолетная жалость к этому врагу, но он тут же загнал ее куда-то далеко-далеко, в самый потаенный уголок сознания.
«Слюнтяй, да он, дай ему возможность добежать до окопа, такое с тобой сделает, что родная мать не узнает», – подумал он, внутренне заводясь.
До бегущего впереди цепи афганца оставалось не более двухсот метров, когда Алексей, прицелившись ему чуть ниже пояса, не дожидаясь команды лейтенанта, нажал на спусковой крючок.
– Та-та, – коротко и сухо отозвался автомат. Вырвавшийся вперед боевик остановился, словно наткнувшись на непреодолимую стену, посмотрел вверх, сделал шаг назад, и упал, завалившись на правый бок.
В этот же момент прозвучала команда взводного:
– Огонь!
Замертво упали еще несколько атакующих. Остальные залегли и начали методически обстреливать позиции десантников.
Эта, хоть и небольшая, победа взбодрила ребят. Даже переводчики уже не втягивали в плечи голову при каждом выстреле, а стреляли, тщательно прицеливаясь. Толку, конечно, от их стрельбы было мало, но, несмотря на это, плотность огня хоть и не значительно, но увеличивалась.
Алексей хотел было подойти и еще раз растолковать непонятливым воякам, что патроны надо беречь, но душманы, подгоняемые своим командиром, поднялись и снова ринулись на приступ. Короткими очередями он сбил с ног одного, затем другого афганца. Потеряв еще человек шесть, нападающие залегли и с еще большим остервенением начали обстрел.
Правда, их стрельба десантников мало тревожила. Беспокоило одно, что боевики где ползком, а где и перебежками уже подползли к позициям метров на сто и могли воспользоваться даже самым небольшим замешательством, невнимательностью с их стороны, чтобы последним ударом опрокинуть всю их оборону и перерезать, как цыплят. Эта тактика была известна многим. Душманы находили любую возможность, чтобы, подобравшись как можно ближе к обороняющимся, закидать их гранатами.
Алексею казалось, что моджахедам помогает родная земля, сама природа, так что он был начеку, наблюдая и за себя, и за переводчиков, которые продолжали безрезультатно обстреливать атакующих.
– Шу-шух-шух, – прошелестели над головой пули. Алексея удивил незнакомый, доселе неслыханный свист свинца.
В тоненьком, почти непрерывном нытье пуль: «пью-пить-пить-пью», исходящем от винтовочных и автоматных пуль, пролетающих мимо, новые звуки вызвали у Алексея суеверный страх.
«Неужели у «духов» есть ДШК?»[1] – удрученно подумал он. – Как же я сразу не догадался!» Алексей взглянул назад, туда, откуда велся огонь, и ахнул. Несколько окопов, в которых прикрывали тыл саперы, были разрушены.
Одна из мин, по всей видимости, попала прямо в окоп, стенки которого обвалились. Из-под земли виднелась только рука, безжизненно сжимающая уже не нужный автомат с перебитым осколком прикладом.
И в соседнем окопе не было никого видно.
Только из третьего окопа кто-то вел огонь. Снова, уже почти на уровне вершины, прошипели страшно назойливые и всесокрушающие пули.
– Шу-шу-ша-ша-шам, – послышалось рядом. Пуля пробороздила глубокую полосу в тыловом бруствере его окопа и, шарахнув о стенку, застряла там. По вспышке пламени, вылетевшей из ствола пулемета, Алексей засек позицию, с которой их обстреливали. Позиция пулеметчика находилась в километре, может быть, чуть дальше от них, на высотке, которая была почти на одном уровне с их высоткой.
«Вот гады, – подумал про себя Алексей, вжимаясь в землю, – теперь всем нам крышка. Спрячешься от огня ДШК, нападающие к позициям подберутся, гранатами закидают. Будешь наблюдать и отбиваться от тех, кто спереди, получишь пулю сзади».
– Товарищ лейтенант, – что было сил прокричал Алексей, стараясь перекрыть гул боя, – нас обстреливают с тыла!
– Вижу, – ответил взводный, – ты лучше за атакующими смотри, – и тут же приказал: – Юлдашев, разворачивай свой гранатомет и накрой расчет ДШК!
Алексей увидел, как Мирза, ловко перепрыгивая из окопа в окоп, перебрался на запасную позицию и, установив там свою карманную пушку, начал наводить на цель. Зарядив гранатомет, он навалился всем телом на ручки и нажал на гашетку.
– Бу-бу-бу-бу-бу, – забубнил гранатомет, и в это же мгновение по позициям резануло:
– Шу-шу-ша-шап-шап!
Абдулла вдруг громко воскликнул и начал оседать на дно окопа.
Вместо головы его зияла одна-единственная рана. Ошметки плоти и кровь, брызнувшие в разные стороны, залепили лицо Сахиба, и он, вереща от ужаса, машинально снимал ошметки с лица.
– Ложись! – крикнул ему Алексей. Но оставшийся в живых переводчик вместо того, чтобы упасть на дно окопа, в каком-то бессознательном порыве стоял, вытянувшись, словно бросая смерти вызов. Но это продолжалось всего несколько секунд, в следующее мгновение он, согнувшись в три погибели, рыгал прямо на лежащий в крови труп.
Алексея тоже стошнило. Спазмы то сжимали, то выворачивали пустой желудок, вызывая боль во всем теле. Он отвернулся от этой страшной картины. В это время нападающие предприняли очередной бросок.
Алексей уже отчетливо видел уставшие, застывшие в испуге лица, натыкался на ненавистные кровожадные взгляды врагов и стрелял, стрелял, стрелял. Стрелял за себя, за тех, кто уже не мог стрелять, за всех. Он уже не укрывался после каждой своей очереди, не замечал роящихся со всех сторон пуль. Целился, нажимая на курок, ждал, пока очередная жертва упадет, дернется и замрет навеки. Переводил прицел на другого, и все повторялось снова.
Кое-кто из боевиков вырвался довольно далеко от основной цепи нападающих, был метрах в 60–50 от позиций.
Алексей отложил автомат, взял ручную гранату, разогнул усики чеки и резко выдернул ее. Дождавшись, когда душманы поднимутся в атаку, кинул гранату что было сил под гору. Она упала недалеко от цепи атакующих, и покатилась вниз. Моджахеды в страхе шарахнулись от нее в разные стороны, но было уже поздно. Раздался взрыв, и несколько человек, испытав на себе силу осколков, запричитали, заверещали от боли.
Раздалось еще несколько взрывов. Атака боевиков в очередной раз захлебнулась. Они начали потихоньку отползать назад, стреляя в тех из своих соратников, кто не в состоянии был ретироваться.
Атака была отбита, но теперь даже это не вызывало радости, когда Алексей узнал о потерях. Погибли два сапера, переводчик и художник Степа Худенко.
Степу сразил пулемет, когда тот, будучи вторым номером у Юлдашева, подносил коробку с гранатами.
– Это меня должно было убить. Это меня должно было убить, – повторял Мирза, стоя перед ним на коленях. Пуля крупного калибра расчленила еще не успевшего возмужать парнишку на две части прямо по пояснице. Длинные тонкие пальцы его еще дергались в агонии, а невинная душа уже отлетела, и этим он освободился сразу от всего – и от страданий, и от возможного плена.
А Юлдашев, поклявшись отомстить за Степана, достал все-таки расчет ДШК и уничтожил осиное гнездо.
Только после этого наступило затишье. Оставшиеся в живых знали, что оно будет недолговременным.
Убитых собрали на КНП. Места хватало, чтобы уложить всех ребят в один ряд.
Одного из снайперов накрыло миной, и от его тела остались лишь рваные и кровоточащие куски. Их сложили вместе, те, что нашли, и накрыли иссеченной осколками плащ-палаткой.
У сапера во лбу было чуть заметное, черное от запекшейся крови пятнышко, и больше ничего, ни одной царапины.
«Это сработал снайпер», – подумал Алексей, прощаясь мысленно с каждым из погибших.
Трое были ранены.
Сержант Червинский и третий сапер – легко, их вражеские пули задели вскользь. Сорока – тяжело. Взрывом мины у него оторвало руку. Теперь вместо правой руки торчала туго перебинтованная култышка.
Когда Алексей добрался до КНП, взводный вводил ему промедол, и вскоре говорливый Сорока затих. Его положили рядом с погибшими. Другого места просто не было.
Лейтенант обвел оставшихся в живых усталым взглядом.
– Вот так-то, ребятки, – сказал раздумчиво, – это война…
В помощь саперу для прикрытия тыла он отправил переводчика, который к этому времени пришел в себя. Боевики словно ждали, пока десантники снова займут свои позиции, и тут же продолжили минометный обстрел.
Алексей, оглядев подступы к позициям, отметил, что моджахеды собрались у речки и о чем-то оживленно спорили.
«Спорьте, спорьте», – подумал он. Но в душе уже не было сил для смеха, уж слишком неподходящее было время. В горле стоял непроглатываемый ком, в глазах горючие слезы.
– У-у, суки! – погрозил он кулаком душманам, собравшимся у речки. В это время рядом взорвалась мина, следом другая.
Алексей плюхнулся на дно окопа и взмолился:
– Только не в меня, Господи!
Прогремели взрывы еще трех мин, и наступила звонкая тишина.
«Слава богу, и на этот раз мимо. Я живу!»…
Это была его последняя мысль, потому что в следующее мгновение свист мины завершился душераздирающим грохотом, в нос резко ударил запах тола и – тьма.
Алексей не помнил, сколько находился в беспамятстве.
Очнулся от удушья и навалившейся на него тяжести. Голова гудела так, словно по ней, как по наковальне, колотили молотками.
– Тук-тук-тук, – учащенно стучало сердце, и эти звуки, усиливаясь многократно, били и били по мозгам, методически и неотвратимо. Алексей хотел сжать голову, но не смог. Придавленные землей руки не слушались. Он попробовал встать, но сразу не смог, и только поднатужившись, так, что в глазах замелькали красные круги, смог пошевелиться. Земля чуть поддалась, отпуская его из плена. «Засыпало, но несильно», – заключил он и стал раскачивать тело из стороны в сторону. Пока освободил из земли голову и плечи, раза два терял сознание, проваливаясь в пропасть небытия.
И только после того, как Алексей вдохнул всей грудью чистого воздуха, силы его словно умножились, и он, освободившись наполовину, начал инстинктивно раскапывать себя руками, ничего не видя и не слыша.
Вскоре почувствовал, что ему кто-то помогает, осторожно разгребая землю со спины. Ног не чувствовал. Когда его откопали, ощутил неземную легкость и в то же время при попытке пошевелить левой ногой его обожгла жгучая, невыносимая боль. Он застонал.
«Если нога болит, значит, на месте», – подумал Алексей и снова забылся.
Очнувшись, он увидел, как его левую ногу бинтует лейтенант Русаков. Грудь была уже перевязана. Мягкий обруч бинта чувствовался и на голове. Взводный склонился над ним и в самое ухо что-то прокричал. Алексей напряженно прислушался и с трудом разобрал, что летят вертолеты, что надо продержаться еще немного. Потом лейтенант достал из сумки сложенный вчетверо лист окровавленной бумаги и засунул ему в карман гимнастерки.
– Так будет вернее! – прокричал он.
– Прощай, не поминай лихом! – добавил лейтенант, направляясь к автоматическому гранатомету.
Грохнул взрыв, который поднял его, как кутенка, в воздух и со всего размаха шлепнул о землю.
С вертолетной площадки Алексея сразу же повезли в операционную. Огромные прожекторы, зеркала и стерильная белизна ослепили его. Он зажмурился. Открыл глаза, только, когда почувствовал, что его наконец-то вытаскивают из гипсового кокона, даже хотел как-то помочь медикам, поднатужился и тут же провалился в глубину небытия.
