КГБ СССР. 1954–1991
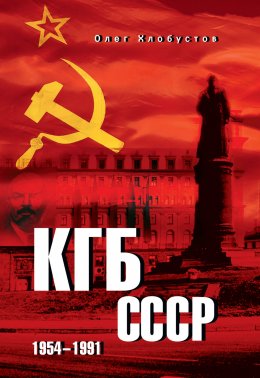
© Хлобустов О.М., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
Предисловие
Должны ли мы, хотим ли мы знать историческую правду? ПРАВДУ об истории нашей страны? Вопрос этот, как представляется, далеко не риторический. И честный ответ на него необходим в связи с многочисленными попытками внедрения в историческое сознание общества мифов и стереотипов, подчас весьма далеких от подлинной исторической правды.
Как подчеркивал заместитель директора Центрального разведывательного управления США Рей Клайн, «ученым известно, что судьбы народов формируются комплексом трудно улавливаемых социальных, психологических и бюрократических сил. Обычные люди, чья жизнь – к худу ли, к добру ли, – зависит от игры этих сил, редко понимают это, разве что смутно и весьма поверхностно. Одной из таких сил с начала сороковых годов стала разведка». В декабре 1947 г., признавался Р. Клайн, «Совет национальной безопасности возложил на ЦРУ проведение тайных операций и акций психологической войны, хотя этой задачи не было указано в законе о его образовании, принятом двумя месяцами ранее»[1].
Сегодня уже более 45 миллионов граждан только России, родившихся после 1980 г., не знают, не помнят Советского Союза, который представляет для них целый неизвестный исторический континент, Terra incognita[2].
И источником знаний об этом неведомом для них мире являются только литература и кинематограф, не считая суррогатной информации «всемирной паутины» Интернета. Преподаватели, писатели, историки-профессионалы, общественные и политические деятели ведут нескончаемые споры об объективности отражения и освещения событий той поры в статьях, очерках, кинофильмах и книгах.
Мне же представляется достаточным отметить, это противоречивое время, как и все, без исключения, иные исторические эпохи, имело своих героев, подлинных титанов, равно как и личностей серых, и даже явно преступных.
Надо ли знать и помнить об этом?
Убежден: надо! Необходимо! Не столько во имя прошлого, сколько во имя будущего нашей страны, нашего народа.
Рассказ о работе Комитета государственной безопасности СССР мы предварим еще следующим принципиальным замечанием, о котором следует помнить, знакомясь с этой книгой.
На всем протяжении своего существования, особенно в 1945–1991 гг., на Западе Советский Союз воспринимался как «большая Россия», наследник Российской империи.
В этой связи не только в сознании обывателя, но и в политическом лексиконе того времени слова «Россия» (Russia) и «СССР», «Советский Союз» (USSR, Soviet Union) употреблялись и воспринимались как синонимы.
Поэтому все сказанное в этой книге характеризует также государственную безопасность России, является неотъемлемой частью ее истории.
5 марта – 22 июля 2024 г.
Рождение сильнейшей спецслужбы мира
Опасность от госбезопасности
Образование Комитета государственной безопасности при Совете министров Советского Союза 13 марта 1954 г. сопровождалось тяжелой родовой травмой.
Напомним, что 7 мая 1946 г. министром государственной безопасности СССР был назначен генерал-лейтенант Виктор Семенович Абакумов[3].
Если в апреле 1943 г., при назначении на должность начальника Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны (ГУКР «Смерш» НКО СССР), Абакумов был креатурой народного комиссара внутренних дел СССР Берии[4] и прекрасно понимал, что ему еще только предстоит заслужить доверие и авторитет в глазах Сталина. С чем он, судя по полученным в 1944–1945 гг. орденам и званиям, безусловно, справился.
Теперь же ему надо было укрепить сложившееся у И.В. Сталина мнение о себе как о принципиальном, надежном, дисциплинированном и незаменимом исполнителе поручений партии и правительства, персонифицированных в воле и указаниях председателя Совета министров СССР. Наглядные примеры его предшественников на этом посту – Г.Г. Ягоды и Н.И. Ежова, осужденных за «контрреволюционные преступления», – должны были научить Абакумова осторожности, сдержанности и осмотрительности.
Основными направлениями работы Министерства госбезопасности были:
– разведка за рубежом (1-е главное управление, до 30 мая 1947 г.)[5];
– контрразведка (2-е главное управление) и военная контрразведка (3-е главное управление);
– розыск агентов иностранных спецслужб (4-е управление); охрана руководителей партии и правительства (Главное управление охраны);
– следственная часть по особо важным делам (на правах управления);
– предупреждение и борьба с преступлениями террористического характера (спецотдел «Т» МГБ СССР);
– радиоконтрразведка (спецотдел «Р»);
– контрразведывательная защита объектов атомной промышленности (спецотдел «К»);
– перевод и обработка материалов по атомной проблеме (спецотдел «С». Но в том же 1946 г. функции этого отдела были переданы в 1-е главное управление МГБ СССР).
Еще одним важным подразделением являлось Особое совещание при министре для вынесения внесудебных решений, вплоть до высшей меры наказания, по уголовным делам, расследовавшимся органами МГБ.
Первым шагом Абакумова стала ревизия дел при вступлении в должность министра: вместо 10 дней, определенных Политбюро ЦК ВКП(б) 5 мая 1946 г. для составления акта сдачи-приема министерства, эта работа растянулась до 18 июля.
В направлявшихся до этой даты Сталину спецсообщениях Абакумов стремился во всех недостатках и провалах в деятельности органов госбезопасности и нарушениях законности обвинить лично бывшего наркома госбезопасности В.Н. Меркулова[6]. Следует отметить, что и члены «комиссии по сдаче дел» – Л.П. Берия, Н.Н. Селивановский и другие, соглашались с наличием недостатков в деятельности МГБ. (В частности, комиссия указала на серьезные проблемы и объективные трудности в разведывательной работе, за шесть месяцев указав на опасности провалов, один из которых произошел в США в ноябре 1946 г. в результате предательства агента «Мирна»[7]).
В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 августа 1946 г. отмечалось, что «чекистская работа в МГБ находится в запущенном состоянии». Вполне вероятно, что данные события стали следствием начинавшейся подковерной борьбы разных группировок в политической элите страны.
Разумеется, новый министр направлял на важнейшие посты в министерстве хорошо ему известных, преимущественно по службе в Смерше, сотрудников, пользовавшихся его полным доверием.
Следует отметить, что в 1946–1948 гг. одним из приоритетных направлений деятельности МГБ СССР был розыск агентуры германских и иных зарубежных спецслужб. В розыск объявлялись также установленные активные члены различных зарубежных антисоветских организаций – от «Антибольшевистского блока народов» (АНБ), «Комитета освобождения народов России» (КОНР), «Народно-трудового союза» (НТС) до «Организации украинских националистов» (ОУН) и тому подобных.
Так, из 86 директив, направленных начальником Управления МГБ СССР по городу Москве и Московской области генерал-майором И.И. Горгоновым в подчиненные районные и городские отделы в 1946 г. почти четверть (18) касались вопросов оперативного розыска установленных агентов бывших германских специальных служб, а также изменников Родине.
Первоначально работа эта осуществлялась на основе приказа НКВД СССР № 00252 от 29 мая 1945 г., объявлявшего «Инструкцию по учету и розыску агентуры разведки, контрразведки, карательных и полицейских органов, воевавших против СССР стран, предателей, ставленников и пособников немецко-фашистских оккупантов».
В отдельных из циркулярно рассылавшихся в подразделения министерства ориентировках по розыску содержались данные на от нескольких десятков до сотен лиц. Основаниями для прекращения розыска лиц, объявленных в оперативный розыск, могли быть: установление фактов смерти разыскиваемых; отсутствия в их действиях состава преступлений (например, сотрудничества с советским подпольем или партизанскими формированиями, выполнение заданий советской разведки), нахождение их под следствием или отбывание наказания, установление их пребывания за границей.
Вот пример шифртелеграммы МГБ СССР от 28 ноября 1946 г.: «…прекратить розыск Таганц… Т.И., 1913 г.р., уроженца… так как принадлежность последнего к германской разведке не подтвердилась (Алфавитный список № 2 ГУКР «Смерш», ст. 623)».
Позднее МГБ стали также направляться ориентировки по розыску агентов английской и американской разведок, готовившихся к заброске или заброшенных в Советский Союз – первая подобная ориентировка датирована 28 сентября 1946 г., и в ней указывалось: «В результате фильтрации и агентурно-следственной работы, органами МГБ был выявлен ряд английских агентов…»
Например, только в 1946 г. управлением МГБ СССР по Москве и Московской области были объявлены в розыск 1232 человека. В этом же году начальником управления были даны указания о прекращении розыска 101 человека.
В связи с активизацией разведывательно-подрывной деятельности против СССР спецслужб Великобритании и США, борьбе органов МГБ со шпионажем придается все возрастающее значение. Основополагающим документом в этом плане стал приказ МГБ СССР от 2 февраля 1947 г. «Об усилении борьбы с агентурой американской и английской разведок».
Хотя исторической справедливости ради следует подчеркнуть, что до середины 1950-х гг. американская разведка, с 18 сентября 1947 г. – Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пребывала в положении «младшего партнера» более опытной британской Сикрет интеллидженс сервис (СИС, или МИ-6).
В одном из более поздних документов КГБ СИС характеризовалась следующим образом: «Главный разведывательный орган Англии, существующий на правах самостоятельного правительственного ведомства, подчиненного премьер-министру. Основные задачи СИС: добывание политической, экономической, научно-технической и военной информации об иностранных государствах; организация диверсионной, террористической, заговорщической, дезинформационной и иной подрывной деятельности, осуществление контрразведывательной работы за границей. На СИС возложены также ведение радиоразведки и дешифровальная работа. В целях конспирации в официальных, в том числе и в секретных, документах СИС обозначают МИ-6, то есть 6-й отдел военной разведки.
Разведывательно-подрывная работа СИС направлена главным образом против мировой социалистической системы, и прежде всего – против Советского Союза. Объектами подрывной деятельности СИС являются также международное коммунистическое движение, молодые развивающиеся государства и национально-освободительное движение в целом.
СИС ведет работу и против капиталистических стран, в том числе и союзных, особенно если их интересы сталкиваются с интересами английских монополий. Центральный аппарат СИС состоит из четырех оперативных разведывательных управлений (каждое из них ведет работу в отношении определенной группы стран), Управления информации и выработки заданий, Инспекции безопасности и ряда вспомогательных подразделений…[8]
Четвертое управление – самое крупное, ведет разведывательную работу в Советском Союзе и других европейских социалистических странах. Ему предоставлено право использовать возможности всех оперативных управлений и их заграничных резидентур для организации подрывной работы против социалистических стран. Оно состоит из 10 подразделений (секций, групп). Секция РСП руководит резидентурами СИС в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Венгрии и других европейских социалистических странах.
Подразделение БИН-51 осуществляет разведывательные операции против СССР и других европейских социалистических стран на территории Англии. Подразделение БИН-52 организует разведывательную работу против СССР и других социалистических стран с позиций, приобретенных в странах Среднего Востока, Африки и Греции. Подразделение БИН-53 собирает разведывательную информацию о социалистических странах через свою агентуру в торговом флоте и гражданской авиации, а также с помощью технических средств. Подразделение БИН-56 осуществляет разведывательные операции с территории Англии против советского Дальнего Востока, КНР, КНДР, ДРВ, а также государств Латинской Америки.
Секция РОГ (так называемая «Группа русской орбиты») обобщает и анализирует результаты разведывательной работы против социалистических стран, концентрирует все задания по Советскому Союзу и другим социалистическим странам и передает их заинтересованным подразделениям, накапливает, анализирует и оценивает всю получаемую информацию, собирает материалы обо всех лицах, выезжающих из Англии в социалистические страны или приезжающих в Англию из социалистических стран, и дает наводки в отношении их оперативным подразделениям управления, координирует деятельность подразделений разведки с правительственными учреждениями, заинтересованными в использовании так называемых «легальных путешественников», сосредоточивает и классифицирует данные о разведывательных объектах в Советском Союзе, накапливает сведения оперативного характера, которые могут быть использованы при проведении разведывательных операций против СССР.
Секция, называемая «Группой поддержки», непосредственно проводит разведывательную работу против СССР с использованием туризма, торгового, научного и культурного обмена, возможностей Би-би-си, «Англо-русского переводческого агентства», «Королевского общества», «Британской ассоциации туризма», различных торговых и промышленных фирм.
Секция «БИН – Сколар» осуществляет операции по вербовке агентов среди обучающихся в Англии советских студентов и аспирантов. Она направляет своих разведчиков и агентов в СССР по каналу студенческого обмена.
Одна из секций Четвертого управления занимается осуществлением «специальных политических акций», разрабатываемых Управлением информации и выработки заданий. Две секции занимаются осуществлением связи с Секьюрити сервис[9], а также с техническими подразделениями и другими управлениями СИС по вопросам, касающимся организации разведывательной работы против СССР и других социалистических стран, с использованием их оперативных возможностей.
Секция, осуществляющая связь с Секьюрити сервис, проводит операции по агентурному проникновению в разведки социалистических стран. Управление информации и выработки заданий разрабатывает и реализует добываемые материалы, выясняет потребности правительственных ведомств в разведывательной информации, разрабатывает задания для оперативных управлений. Этой работой занимаются информационные отделы управления. В составе управления имеются также: отдел специальных политических акций; отдел по поддержанию контактов с разведывательными службами дружественных Англии стран; отдел по изучению методов работы иностранных разведок.
Отдел специальных политических акций разрабатывает подрывные политические операции (дезинформация, идеологические диверсии, подкуп или дискредитации государственных деятелей, оказание поддержки и помощи, в том числе и военной, проанглийским элементам и т. д.), направленные против социалистических государств, коммунистических рабочих партий и других прогрессивных сил. Осуществлением таких операций занимаются все оперативные управления СИС и их резидентуры.
На Инспекцию безопасности возложены задачи по обеспечению конспирации проводимых разведывательных операций, охране помещений, документов и технических средств СИС, а также по поддержанию связи с контрразведывательными органами и полицией. Инспекция вырабатывает рекомендации оперативным подразделениям по использованию агентов-двойников, по предотвращению проникновения в СИС агентов иностранных разведок, расследует причины провалов в работе. Кроме названных, в составе СИС имеются и другие подразделения: служба радиоразведки; центр по кодам и шифрам; служба, занимающаяся разработкой и применением технических средств и организацией связи с агентурой; контрразведывательный отдел; отделы, ведущие работу против зарубежных коммунистических партий, подготавливающие подрывные операции на случай войны, и др.
СИС действует в контакте с органами военной разведки и контрразведывательной службой Секьюрити сервис. Для наиболее эффективного использования деятельности СИС в интересах внешней политики Англии при начальнике СИС учрежден пост советника Министерства иностранных дел со штатом помощников, прикрепленных к различным подразделениям разведки».
О разведке США тот же источник сообщал следующее: «Центральное разведывательное управление (CIA) – главный орган вешней разведки США, создано в 1947 г. в соответствии с законом «О национальной безопасности». Оно ведет политическую, экономическую, военную и научно-техническую разведку за границей, используя различные прикрытия для своих подразделений и сотрудников, и организует подрывные акции (заговоры, мятежи, диверсии) против иностранных государств. На ЦРУ возложено также ведение контрразведывательной работы за рубежом. Основные усилия ЦРУ направлены на развертывание подрывной деятельности против Советского Союза и других социалистических государств. Важное место в работе ЦРУ занимают обобщение, анализ и оценка разведывательной информации, добываемой как самим ЦРУ, так и всей разведывательной системой США. Законом 1947 года ЦРУ предоставлено право вырабатывать рекомендации президенту США и Совету национальной безопасности по вопросам ведения разведывательной работы за рубежом и ее координации… ЦРУ состоит из следующих основных управлений и отделов: Оперативного (разведывательного) управления, занимающегося созданием агентурной сети и ее руководством, сбором информации, проведением подрывных акций и контрразведывательной работы за рубежом; Информационного управления, которое обобщает и анализирует разведывательные сведения, а также составляет информационные материалы для президента и руководителей различных ведомств; Научно-исследовательского управления, занимающегося организацией научно-технической разведки, оценкой зарубежных достижений в области науки и техники; Административного управления, ведающего подбором и расстановкой кадров, организацией прикрытий для разведчиков, материально техническим обеспечением подразделений ЦРУ.
В составе ЦРУ имеется также отдел безопасности, осуществляющий проверку личного состава ЦРУ, и отдел национальных оценок, который готовит аналитические оценки и прогнозы по наиболее важным вопросам, касающимся позиций отдельных стран…
К своей подрывной деятельности ЦРУ активно привлекает университеты и научно-исследовательские учреждения, многочисленные общественные, национальные и международные организации (студенческие, профсоюзные, научные).
Штаб-квартира ЦРУ находится в Лэнгли (близ Вашингтона). В 15 крупнейших городах США ЦРУ имеет свои филиалы. За границей действует большое количество резидентур ЦРУ, работающих под прикрытием посольств, отделений американских банков и фирм, зарубежных военных баз и пропагандистских органов, представительств Управления международного развития и «Корпуса действия». На территории СССР активно действует резидентура ЦРУ, работающая под прикрытием посольства США в Москве. Последняя реорганизация американской разведывательной системы (осень 1971 года) укрепила руководящую роль директора ЦРУ в области планирования, координации и оценки работы всех разведывательных органов США. Деятельность самого ЦРУ поставлена под контроль Комитета по вопросам разведки[10].
Следует отметить, что в 1946–1951 гг. органами МГБ было арестовано несколько десятков иностранных агентов, заброшенных с разведывательными заданиями в СССР, в том числе на территорию Украинской ССР и республик Прибалтики. Также были привлечены к уголовной ответственности тысячи фашистских пособников, виновных в арестах, истязаниях и смерти советских патриотов, подпольщиков и партизан, гражданского населения. Чтобы у читателей не сложилось мнения о «надуманности» подобных фактов, рекомендуем им познакомиться с опубликованными на этот счет документами[11].
Этой же цели – усилению борьбы со шпионажем, служили разработка и утверждение Советом министров СССР первоначально «Перечня сведений, составляющих государственную тайну, разглашение которых карается по закону» (8 июня 1947 г.), а затем и «Инструкции по обеспечению сохранения государственной тайны в учреждениях и на предприятиях СССР» (1 марта 1948 г.). Охраняемые сведения, составляющие государственную тайну, относились к военной и мобилизационной, экономической, научной и технической сферам государственного управления и производства. Однако существенным недостатком являлось то обстоятельство, что вопросы сохранности государственной тайны в СССР не были урегулированы на законодательном уровне. (Первый закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485—1 был принят только 21 июля 1993 г.)
Основной объем работы по защите государственных тайн в сферах науки и техники и обеспечению безопасности (предотвращение диверсий, аварий и катастроф, пожаров и т. п.) в различных отраслях промышленности приходился на Второе главное (контрразведывательное) управление МГБ СССР и на территориальные органы министерства.
В то же время, будучи безгласным исполнителем, В.С. Абакумов, конечно, не мог не понимать, что отдельные «особые поручения», возлагавшиеся на него И.В. Сталиным, являлись прямым нарушением «сталинской» Конституции СССР 1936 г. и принципов советского законодательства и правосудия. Например, содержащиеся в указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. «О направлении особо опасных государственных преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР». Таковым же являлись и отдельные устные указания и приказы самого министра. Но его положение осложнялось также отсутствием как закона, так и даже утвержденного Положения о МГБ, в которых бы четко регламентировались его функции и полномочия, права министра и иных руководителей.
После ряда разочаровавших их организаторов кампаний по нелегальной заброске на территорию СССР и его союзников листовок и иных пропагандистских материалов, ЦРУ нашло устойчивый канал идейного и политического проникновения в эти страны: «неправительственное» радиовещание радиостанций «Свобода»/«Свободная Европа» (РСЕ/РС).
Достижение МГБ отдельных действительно положительных результатов в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб иностранных государств, наверное, породили у Абакумова чувство чрезмерной самоуверенности, своеобразное, так хорошо знакомое Сталину, «головокружение от успехов».
Причиной падения казавшегося всемогущим министра госбезопасности стал банальный донос на него одного из подчиненных, подполковника М.Д. Рюмина[12].
2 июля 1951 г. он писал Г.М. Маленкову: «тов. Абакумов, по моим наблюдениям, имеет наклонности обманывать правительственные органы путем замалчивания серьезных недочетов в работе органов МГБ»[13]. Позднее к этим обвинениям присоединилось еще и «участие в сионистском заговоре в МГБ». Однако уместно подчеркнуть, что по своему служебному положению Рюмин не располагал доступом к документам, которые могли бы дать основания для подобных выводов и обвинений в адрес министра.
Согласно указаниям некоторых историков, письмо о «неправильном поведении» Абакумова было написано Рюминым непосредственно в кабинете секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова[14], курировавшего руководящие кадры госслужбы.
Для рассмотрения заявления М.Д. Рюмина Политбюро ЦК ВКП(б) 4 июля 1951 г. назначило специальную комиссию в составе Г.М. Маленкова, Л.П. Берии, М.Ф. Шкирятова и С.Д. Игнатьева[15] (именно он станет министром после ареста Абакумова, а также непосредственным «куратором» первого этапа следствия по его делу).
По итогам «проверки» заявления Рюмина 11 июля Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «О неблагополучном положении в МГБ», в котором Абакумову инкриминировались «обман партии», затягивание следственных дел, злоупотребления властью. Этим же постановлением исполняющим обязанности министра был назначен Семен Денисович Игнатьев, 9 августа 1951 г. утвержденный в этой должности.
12 июля Абакумов был арестован. За этим последовал также арест ряда его «выдвиженцев». Позднее к обвинениям в адрес бывшего министра присоединилось еще и «участие в сионистском заговоре в МГБ», что вызвало новые аресты действовавших и отставных сотрудников органов госбезопасности.
Необходимо подчеркнуть, что и от нового министра госбезопасности Игнатьева И.В. Сталиным требовалось добиваться «полного раскаяния» обвиняемых, в связи с чем практика нарушения социалистической законности, применения недопустимых методов ведения следствия не была преодолена полностью[16].
В подготовленной для И.В. Сталина в ноябре 1952 г. первым заместителем министра госбезопасности С.А. Гоглидзе[17] докладной записке «О положении дел в МГБ» констатировалось: «требуемого улучшения работы органов государственной безопасности не произошло», и подчеркивалась необходимость «коренной перестройки агентурно-оперативной работы». При этом Гоглидзе сообщал, что с 1 июля 1951 по 1 июля 1952 г. были освобождены от занимаемых должностей «как не справлявшиеся с работой», 1583 сотрудника, а также уволены из органов МГБ «за нарушение дисциплины», «советской законности», «злоупотребление служебным положением» и «морально-бытовое разложение» еще свыше 3 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников центрального аппарата министерства[18].
Однако впереди еще были новые волны не вполне объективной критики в адрес органов безопасности и их дискредитации[19].
Для повышения эффективности противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств 9 ноября 1952 г. бюро Президиума ЦК КПСС образовало Комиссию по реорганизации разведывательной и контрразведывательной служб МГБ СССР. В течение ноября – декабря 1952 г. Комиссией был подготовлен проект постановления ЦК КПСС «О Главном разведывательном управлении МГБ СССР». (Он был утвержден Президиумом ЦК КПСС 30 декабря 1952 г. Однако впоследствии не был реализован в связи со смертью И.В. Сталина.) В ходе подготовки проекта на одном из заседаний Комиссии свои соображения по организации разведывательной работы высказал И.В. Сталин.
Сохранившийся в архивах КГБ краткий конспект этого его выступления гласит: «В разведке никогда не строить работу таким образом, чтобы направлять атаку в лоб. Разведка должна действовать обходом. Иначе будут провалы, и тяжёлые провалы. Идти в лоб – это близорукая тактика. Никогда не вербовать иностранца таким образом, чтобы были ущемлены его патриотические чувства. Не надо вербовать иностранца против своего отечества. Если агент будет завербован с ущемлением патриотических чувств, – это будет ненадёжный агент.
Полностью изжить трафарет из разведки. Всё время менять тактику, методы. Всё время приспосабливаться к мировой обстановке. Использовать мировую обстановку. Вести атаку маневренную, разумную. Использовать то, что бог нам предоставляет.
Самое главное, чтобы в разведке научились признавать свои ошибки. Человек сначала признаёт свои провалы и ошибки, а уже потом поправляется. Брать там, где слабо, где плохо охраняется. Исправлять разведку надо прежде всего с изжития лобовой атаки.
Главный наш враг – Америка. Но основной упор надо делать не собственно на Америку. Нелегальные резидентуры надо создавать прежде всего в приграничных государствах.
Первая база, где нужно иметь своих людей, – Западная Германия. Нельзя быть наивным в политике, но особенно нельзя быть наивным в разведке. Агенту нельзя давать такие поручения, к которым он не подготовлен, которые его дезориентируют морально. В разведке иметь агентов с большим культурным кругозором – профессоров (привёл пример, когда во времена подполья послали человека во Францию, чтобы разобраться с положением дел в меньшевистских организациях, и он один сделал больше, чем десяток других).
Разведка – святое, идеальное для нас дело. Надо приобретать авторитет. В разведке должно быть несколько сот человек – друзей (это больше, чем агенты), готовых выполнить любое наше задание. Коммунистов, косо смотрящих на разведку, на работу ЧК, боящихся запачкаться, надо бросать головой в колодец. Агентов иметь не замухрышек, а друзей – высший класс разведки. Филерская служба, по-моему, должна быть разбита по различным управлениям»[20].
Вопрос «о положении дел в МГБ СССР» также рассматривался на заседании Президиума ЦК Коммунистической партии Советского Союза[21] 1 декабря 1952 г., и в качестве «важнейшей и неотложной задачи» было сформулировано требование об усилении контроля республиканских, краевых и областных партийных комитетов за работой органов госбезопасности.
В направленном в республиканские, краевые и областные партийные комитеты КПСС совершенно секретном постановлении ЦК «О положении в МГБ» от 4 декабря 1952 г. подчеркивалось: «Считать важнейшей и неотложной задачей партии, руководящих партийных органов, партийных организаций осуществление контроля за работой органов Министерства государственной безопасности. Необходимо решительно покончить с бесконтрольностью в деятельности органов МГБ и поставить их работу в центре и на местах под систематический и постоянный контроль партии, ее руководящих партийных органов, партийных организаций…» В этом постановлении также подчеркивалось, что «первые секретари обкомов, крайкомов партии и ЦК компартий союзных республик обязаны интересоваться агентурной работой органов МГБ…», а Бюро Президиума ЦК поручалось «провести мероприятия по обеспечению постоянного контроля со стороны ЦК КПСС за работой Министерства государственной безопасности СССР и по значительному укреплению [его] центрального аппарата»[22].
Несмотря на серьезные изменения политических условий в стране – В.С. Абакумов находился под следствием 41 месяц, и за это время сменилось 4 министра – «кураторы» его дела: С.Д. Игнатьев, Л.П. Берия, С.Н. Круглов, И.А. Серов.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на применявшиеся к нему жесткие и изощренные методы «выбивания показаний» (с июля 1951 по март 1953 г. при министре С.Д. Игнатьеве) – была арестована его жена и их трехмесячный сын Игорь[23], Виктор Семенович не оговорил на допросах никого из своих арестованных подчиненных. Не будет преувеличением сказать, что своим мужественным поведением он сохранил им не только свободу, но и жизнь (почти все из них были освобождены, со снятием обвинений, в марте – апреле 1953 г.).
19 декабря 1954 г. В.С. Абакумов был осужден на выездном заседании Военной коллегией Верховного суда СССР в Ленинграде к высшей мере наказания. Приговор в отношении В.А. Абакумова, а также осужденных по его «делу» А.Г. Леонова, В.И. Комарова, М.Т. Лихачева в тот же день приведен в исполнение в Ленинградской области (начальник секретариата МГБ СССР И.А. Чернов был осужден на 15 лет лишения свободы, его заместитель Я.М. Броверман – на 25 лет).
В июле 1994 г. определением Военной коллегии Верховного суда России приговор от 19 декабря 1954 г. участникам группы Абакумова был переквалифицирован на злоупотребление властью при наличии особо отягчающих обстоятельств.
17 декабря 1997 г. постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации В.С. Абакумов был реабилитирован по части инкриминировавшихся ему деяний: измена Родине, участие «в сионистском заговоре», затягивании следственных дел. Но в то же время он не был реабилитирован по обвинениям в нарушениях социалистической законности, в частности – фальсификации т. н. дел «авиаторов» (1946), «Еврейского антифашистского комитета» (1948), «Ленинградского дела» (1949).
В постановлении Президиума Верховного суда Российской Федерации по делу Абакумова, в частности, отмечается: «Как видно из материалов уголовного дела, Абакумов, Леонов, Лихачёв, Комаров и Броверман признаны виновными в том, что, будучи ответственными должностными лицами Министерства государственной безопасности СССР, в течение длительного времени систематически злоупотребляли властью, что выразилось в фальсификации уголовных дел и применении незаконных мер физического воздействия при производстве предварительного следствия. Указанные нарушения повлекли за собой особо тяжкие последствия – привлечение к уголовной ответственности многих невиновных граждан. В частности, Абакумов, находясь на руководящей работе в органах государственной безопасности, выискивал малозначительные материалы на отдельных ответственных работников партийного и советского аппарата, арестовывал их, а затем применял недопустимые и строжайше запрещённые действующим законодательством методы следствия, вместе со своими подчинёнными добивался от арестованных вымышленных показаний о якобы совершённых ими особо опасных контрреволюционных преступлениях».
Однако большинство современных исследователей придерживаются мнения, что инициатива появления этих «дел» принадлежала «Инстанции», то есть высшему советскому руководству, в руках которого Абакумов оказался и послушным исполнителем, и заложником одновременно.
И, как писал И.А. Серов[24], дело «банды Абакумова» проходило под его контролем, в отличие от «дела Берии». В результате организованной Серовым «чистки» военной контрразведки, не скомпрометированными остались лишь трое из числа тридцати двух начальников фронтовых управлений контрразведки Смерш: Н.И. Железников, Д.И. Мельников и П.И. Ивашутин.
Понятно, что подобная дискредитация руководящих кадров ГУКР «Смерш» не могла не повлиять на восприятие в обществе не только образа военной контрразведки, но и органов госбезопасности в целом. С чем приходится сталкиваться и поныне.
Бывший руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России А.Г. Безверхний, говоря о В.С. Абакумове, отмечал, что было бы неправильным писать его портрет только одной краской, белой или черной. Это сложная, противоречивая личность, которую невозможно оценить одномерно.
Как бы ни показалось это парадоксальным, но борьбу с нарушениями сотрудниками МГБ СССР социалистической законности в марте 1953 г. начал сам Л.П. Берия.
При реформировании 5 марта 1953 г. Министерства внутренних дел СССР, в состав которого были включены и подразделения упраздненного МГБ, заместителями министра Л.П. Берии были назначены С.Н. Круглов[25], Б.З. Кобулов, И.А. Серов. Одновременно, помимо этого министерского поста, Берия был назначен заместителем председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова и избран членом Президиума ЦК КПСС.
Как известно, 27 марта 1953 г. был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии, принятый по инициативе Л.П. Берии.
Всего же по этому указу по амнистии были освобождены 1 201 738 человек (около 45 % осужденных), вследствие чего лагерное «население» ГУЛАГа на 1 апреля 1954 г. составляло 1 360 303 заключенных[26]. Однако эта амнистия не затронула осужденных за «контрреволюционные преступления», т. е. по статье 58 УК РСФСР 1926 г.
Кстати сказать, это были не первая амнистия и реабилитации, проведенные по его инициативе: сменив на посту наркома внутренних дел Н.И. Ежова 8 декабря 1938 г., Берия выступил с инициативой освобождения репрессированных в годы «большого террора». Всего в 1939–1940 гг. из лагерей были освобождены 223 800 осужденных, и еще из колоний-поселений – 103 800 ссыльных (то есть более 327 тысяч человек)[27].
Всего, как отмечал доктор юридических наук В.В. Лунеев, основываясь на официальных статистических материалах КГБ СССР – МБ РФ – ФСК – ФСБ России, только до 1954 г. было реабилитировано 827 692 человека, осужденных в 1917–1953 годах. Однако реабилитация почти не касалась тяжких обвинений. Из числа всех реабилитированных лиц только 1128 человек, или 0,14 %, были приговорены к смертной казни[28].
11 марта 1953 г. Берия направил на имя председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова и первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева письмо, в котором дал удручающую характеристику происходившего в последние годы в МГБ, где в том числе указывалось: «Значительная часть чекистских кадров, имеющих опыт – разгромлена… Необходимо будет рассмотреть материал на арестованных чекистов и в зависимости от результатов принять решение об использовании их на работе в МГБ»[29].
Была образована следственная группа для пересмотра ряда особо важных дел: «дела врачей», «арестованных сотрудников МГБ», «арестованных МГБ Грузинской ССР группы местных работников» (т. н. «мингрельское дело»).
И действительно, из-под ареста были освобождены и возвращены на работу многие чекисты, арестованные при В.С. Абакумове и С.Д. Игнатьеве, что, впрочем, пагубно сказалось на судьбе некоторых из них после «разоблачения банды Берия» в июле того же года.
И уже 3 апреля 1953 г. Берия докладывал Президиуму ЦК КПСС о результатах проведенной проверки. На основе его доклада было принято решение о полной реабилитации и освобождении обвиняемых «по делу врачей» и членов их семей (всего 37 человек). Несколько позже последовали и другие освобождения из-под ареста и от обвинений.
Берия заверил Президиум ЦК о том, что в МВД «…проводятся меры, исключающие возможность повторения впредь подобных извращений в работе». Позднее Президиум ЦК постановил, что «ввиду допущенных серьезных ошибок в руководстве бывшим МГБ» невозможно оставить на посту секретаря ЦК КПСС С.Д. Игнатьева[30].
Пункт IX постановления Президиума ЦК КПСС от 10 апреля 1953 г. гласил: «Одобрить проводимые т. Берией Л.П. мероприятия по вскрытию преступных действий, совершавшихся на протяжении ряда лет бывшим МГБ СССР, выражавшихся в фабрикации и фальсификации дел на честных людей, а также мероприятия по исправлению последствий нарушения советских законов, имея в виду, что эти меры направлены на укрепление Советского государства и социалистической законности»[31].
Мы привели эти факты для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что пересмотр следственных дел бывшего НКГБ – МГБ начался задолго до XX съезда КПСС.
Однако положение в органах госбезопасности в свете приводимых документов по-прежнему продолжало оставаться непростым.
А 26 июня 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС в Кремле последовал арест заместителя председателя Совета министров и министра внутренних дел СССР Л.П. Берии.
Одновременно с арестом Берии был проведен арест ряда его заместителей и группы руководящих работников МВД, суд над которыми состоялся в декабре 1953 г., причем большинство обвиняемых были приговорены к «высшей мере социальной защиты» (расстрелу) («приспешников» Абакумова та же участь ждала через год).
Официальное же сообщение об аресте Берии и назначении новым министром МВД СССР Сергея Никифоровича Круглова было опубликовано только 29 июня.
Следует отметить, что МВД в 1953 г. неоднократно информировало территориальные управления о планировавшихся ЦРУ США и СИС Великобритании забросках в СССР агентов-парашютистов, причем несколько этих агентов были действительно арестованы в разных городах.
В указании начальника УМВД по гор. Москве и Московской области № 4 от 9 апреля 1953 г. сообщалось, что «за последнее время усилилась засылка антисоветской литературы шпионско-террористической организации НТС. Листовки, газеты и другие антисоветские издания НТС засылаются из Германии и Бельгии с различными импортными грузами, почтой в адреса учреждений и частных лиц, а также при помощи воздушных шаров. 27 марта листовки НТС были обнаружены в большом количестве на территории Калининградской, Новгородской и Псковской областей. В грузе из Бельгии на станции Перово Московской области также было обнаружено свыше 100 листовок НТС…». В этой связи районным и городским отделам УМВД предписывалось «принимать активные меры к розыску эмиссаров и агентов НТС и к их задержанию».
Позднее, в одном из официальных документов КГБ СССР, отмечалось:
«В 1951–1954 гг. органами госбезопасности было захвачено несколько английских и американских агентов-парашютистов из числа участников НТС, заброшенных со шпионскими и диверсионными заданиями.
Главари НТС периодически засылают своих эмиссаров и связников из числа иностранцев с целью установления контактов, их изучения и вербовки, а также распространения через них клеветнической информации о внутренней политике, нелегального вывоза антисоветских идейно-ущербных пасквилей…»
Следует особо подчеркнуть, что сразу после сообщения об аресте Л.П. Берии как «врага народа» в органы прокуратуры и ЦК КПСС стали поступать многочисленные жалобы и заявления осужденных и их родственников по поводу пересмотра уголовных дел, и применения незаконных методов в процессе ведения следствия.
Образование КГБ при СМ СССР
И ты познаешь правду, и правда сделает тебя свободным[32].
Политическое решение о выделении структур органов госбезопасности из МВД СССР в самостоятельное ведомство было принято 8 февраля 1954 г. на основании записки министра внутренних дел С.Н. Круглова в Президиум ЦК КПСС. В ней, в частности, подчеркивалось: «Существующее организационное построение Министерства внутренних дел СССР и его органов громоздко и не в состоянии обеспечить должного уровня агентурно-оперативной работы в свете задач, поставленных перед советской разведкой Центральным комитетом КПСС и Советским Правительством.
В целях создания необходимых условий для улучшения разведывательной и контрразведывательной работы считаем целесообразным выделить из Министерства внутренних дел СССР оперативно-чекистские управления и отделы и на их базе создать Комитет по делам государственной безопасности при Совете министров СССР»[33].
Современному читателю целесообразно напомнить, что начало 1950-х годов было периодом активизации политики холодной войны, когда Соединенные Штаты Америки небезосновательно видели в Советском Союзе главного геополитического оппонента на международной арене, выдвигавшего и последовательно отстаивавшего альтернативную американской концепцию цивилизационного развития. А в области внешней политики откровенно руководствовались доктриной «отбрасывания коммунизма» (провозглашена президентом США Д. Эйзенхауэром 14 февраля 1953 г.). Однако далеко не всегда разработанные КГБ при СМ СССР предложения по отстаиванию национальных интересов страны находили поддержку у членов Президиума ЦК КПСС.
Далее в записке С.Н. Круглова приводились соображения о структуре центрального аппарата предлагаемого ведомства, о его управлениях и отделах в республиках, краях и областях, а также крупных промышленных центрах «для проведения на местах мероприятий, связанных с обеспечением государственной безопасности», а также особых отделов в военных округах, соединениях и частях, а также аппаратов уполномоченных Комитета на железных дорогах и водных бассейнах.
В процессе реформирования органов госбезопасности Кругловым также предлагалось сократить численность их оперативного состава на 20 %, что должно было составить 15 956 штатных единиц и что должно было дать годовую экономию в 346 млн рублей. А всего, с учетом сокращения численности МВД (на 8839 штатных единиц), реформа обещала экономию в сумме 860 млн рублей. Сразу отметим, что в результате проведенных преобразований в МВД осталось 20 управлений и самостоятельных отделов.
По результатам обсуждения этого письма и с учетом высказанных в ходе него предложений и замечаний 13 марта 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ об образовании КГБ при Совете министров СССР (утвержден Верховным Советом СССР 26 апреля того же года). Сам текст указа был предельно лаконичен:
«Образовать Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР».
Первым председателем КГБ был назначен генерал-полковник Иван Александрович Серов. Определяющую роль в этом назначении сыграла его совместная работа на Украине в 1939–1941 гг. и в последующие годы с секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым[34].
В принципе в подобном весьма распространенном «протекционизме» нет ничего однозначно отрицательного: руководитель хочет, и небезосновательно, опираться на хорошо известные ему по предыдущей совместной работе кадры. Проблема лишь в том, чтобы кандидат на высокий пост по своим профессиональным, деловым и личным качествам соответствовал предполагаемой должности. В этой связи представляется целесообразным кратко познакомить читателей с личностью первого председателя КГБ СССР[35].
Серов, бесспорно, обладавший некоторыми как организационными, так и административно-аппаратными способностями, быть может, даже талантами, исполнительностью, дисциплинированностью, не был обделен и чрезмерным самолюбием и самомнением.
При этом в действительности И.А. Серов был весьма далек от того образа «крутого профессионала», который пытался вызвать у читателей публикатор его дневников А.Е. Хинштейн. Подчеркнем, что, за исключением двух периодов – с 2 сентября 1939 г. по 17 апреля 1941 г. (нарком внутренних дел Украинской ССР), и с сентября 1944 г. по 22 апреля 1945 г. (уполномоченный НКВД СССР по 1-му Белорусскому фронту), он не имел непосредственного отношения к руководству оперативной деятельностью органов госбезопасности. В то же время, фактически выполняя с июля 1941 г. функции «генерала для особых поручений при наркоме внутренних дел», он приобрел значительный опыт командно-штабной работы и организации проведения «массовых операций».
В дальнейшем, оставаясь заместителем, а с 24 февраля 1947 г. – первым заместителем министра внутренних дел СССР Круглова, Серов до 11 марта 1953 г. не имел никакого отношения ни к органам госбезопасности, ни к оперативной работе.
Не касаясь личных качеств Серова, о грубости, резкости и своеволии которого имеется немало свидетельств, отметим только, что по формально-кадровым основаниям и соображениям он вполне подходил на эту должность. И в принципе не обманул ожиданий Хрущева по «перестройке» работы органов госбезопасности.
Отметим и еще одну деталь, которую и не скрывает в своих мемуарах И.А. Серов и которая имела самое непосредственное отношение к становлению КГБ при СМ СССР, судьбам некоторых его руководящих сотрудников, а также к рождению многочисленных мифов о Смерше, по сей день кочующих по страницам многих российских периодических изданий.
Может быть, вследствие пережитых унижений от В.С. Абакумова Серов крайне негативно и необъективно относился к военным контрразведчикам. На особые отделы фронтов, писал он, «были Абакумовым назначены малограмотные особисты, как в общеобразовательном плане… так и в военном ничего не знают… Раз они не могут организовать как следует работу по выявлению шпионов и диверсантов в частях и в тылу войск, то все это должны чем-то восполнить, чтобы «показать» видимость и работы и «свои успехи»[36]. Однако столь субъективное мнение опровергается архивными документами НКВД – КГБ СССР – ФСБ России.
Таким образом, сам Серов является автором первой послеправды[37] о Смерше. Этот неологизм означает стремление к формированию общественных настроений посредством распространения информации, оперирующей не фактами, а эмоциями человека, знакомящегося с ней. Сущность феномена послеправды заключается в том, что источнику (распространителю) информации «объективные факты менее важны, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям ее получателей»[38]. Особенно широкое распространение механизм формирования послеправды получил в сфере массовой информации. То есть речь идет о целенаправленном манипулировании общественным мнением и настроениями различных социальных групп населения.
По сути дела мы имеем дело с известной ситуацией «двух правд», когда имеются две или большее количество версий исторического процесса, но для распространителя важно, чтобы была признана, усвоена его версия вне зависимости от того, насколько правдиво она отражает и трактует реальные факты, события. И в геополитическом соперничестве, и в информационном противоборстве каждая из участвующих в нем сторон стремится утвердить подлинность именно своего взгляда, своей трактовки исторического прошлого. Американский политолог Джозеф Най так охарактеризовал эту ситуацию: «В информационный век побеждает тот, чья история убедительнее, чья история способна привлечь людей».
В результате инициированной Серовым новой «чистки» кадров не скомпрометированными остались лишь три начальника фронтовых управлений контрразведки Смерш: Н.И. Железников, Д.И. Мельников[39] и П.И. Ивашутин.
Необъективность Серова по многим вопросам подтверждает и следующий пассаж из его мемуаров: «[По оперативной] работе взял заместителем Ивашутина, бывшего следователя по особо опасным делам округа с неоконченным высшим образованием. В оперативной работе не силен, в разведке совсем не кумекает»[40]. Генерал-лейтенант Петр Иванович Ивашутин был назначен заместителем председателя КГБ 7 июня 1954 г. Отметим, однако, что назначение заместителей и первых заместителей председателя КГБ являлось исключительной прерогативой ЦК КПСС. К тому же Ивашутин, как и Серов, был призван в органы НКВД в январе 1939 г., никогда не был «следователем по особо опасным делам», находясь на руководящих должностях в военной контрразведке. В частности, он возглавлял Управление контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта (апрель 1943 – июнь 1945 гг.), управления контрразведки Южной группы войск (июль 1945 – август 1947 г.) и Группы советских оккупационных войск в Германии (ноябрь 1947 – ноябрь 1949 гг.), управление контрразведки Ленинградского военного округа, был министром госбезопасности Украинской ССР (сентябрь 1952 – июнь 1953 гг.), имел несравненно больший опыт контрразведывательной и разведывательной работы, нежели сам Серов. Также сразу отметим, что, будучи с января 1956 г. первым заместителем председателя КГБ при СМ СССР, П.И. Ивашутин курировал многие оперативные вопросы, включая и ПГУ, а нередко и исполнял обязанности председателя КГБ.
На приводимую характеристику, безусловно, повлияла личная неприязнь Серова к Ивашутину, который не только был в феврале 1963 г. представителем КГБ в комиссии ЦК КПСС по расследованию предательства сотрудника ГРУ О. Пеньковского, но и тот факт, что Петр Иванович сменил Серова на посту начальника ГРУ, став при этом не только самым многолетним (до июля 1987 г.), но и легендарным руководителем военной разведки СССР.
И именно П.И. Ивашутин в 1954–1955 гг. провел комплексный анализ сообщений советской разведки об агрессивных приготовлениях Германии к войне против СССР, с тем чтобы на основе полученных выводов совершенствовать информирование политического руководства СССР по военно-стратегическим вопросам[41].
А мемуары И.А. Серова свидетельствуют о том, что он, будучи председателем КГБ, не интересовался докладами разведки НКВД – НКГБ 1940–1941 гг. о военных приготовлениях Германии к нападению на Советский Союз, и причинами игнорирования этой информации высшим военно-политическим руководством СССР[42]. Что, собственно, являлось одним из основных вопросов обеспечения безопасности страны. Хотя в известных ему «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К. Жукова, опубликованных еще в 1968 г., разъяснениям причин «внезапности нападения» было посвящено немало страниц.
Также в мемуарах Серова нет ни малейшего упоминания о стратегии «тайной войны», то есть о стратегии разведывательно-подрывных действия США и их союзников против СССР, что свидетельствует как о его личной недооценке этого обстоятельства, так и о неспособности привлечь внимание политического руководства страны к этой проблеме. Даже несмотря на явные успехи и достижения КГБ при СМ СССР в противоборстве с ней.
Следует отметить, что под обеспечением государственной безопасности понималась широкая система мероприятий, осуществляемых различными органами Советского государства, их должностными лицами и гражданами, включавшая охрану государственных границ, государственных тайн и другие, в том числе чрезвычайные, меры по охране государственной безопасности и общественного порядка.
В соответствии с Конституцией СССР обеспечение государственной безопасности относилось к ведению Союза ССР, в этой связи его высший законодательный орган издавал законы в области государственной безопасности, а Совет министров был уполномочен направлять и координировать работу министерств и ведомств союзных республик, призванных участвовать в обеспечении госбезопасности в соответствии со своей компетенцией. Определенная компетенция в сфере обеспечения госбезопасности Советского Союза была установлена для Министерств иностранных дел, обороны, здравоохранения, транспорта, связи, МВД и ряда других министерств и ведомств СССР.
КГБ при СМ СССР являлся, на правах союзно-республиканского министерства, центральным звеном системы государственного управления в сфере обеспечения государственной безопасности Советского Союза.
Следует подчеркнуть, что де-факто получив статус союзно-республиканского ведомства, КГБ им не являлся, как не имел он и более высокого статуса государственного комитета, который он приобрел только 5 июля 1978 г., лишившись в своем официальном наименовании приставки «при СМ СССР». С учетом этого обстоятельства мы и будем в дальнейшем использовать обобщающий акроним КГБ СССР.
Столь существенное понижение государственно-правового статуса по сравнению с существовавшим с марта 1946 г. Министерством госбезопасности, связано с недоверием и подозрительностью Н.С. Хрущева и других руководителей страны в отношении органов госбезопасности и их руководителей. Последние обстоятельства сказались как на обстановке в самом КГБ СССР, так и на судьбе страны в целом, о чем мы еще скажем далее.
Данный урок истории показывает, что вопрос о состоянии и системе мер по обеспечению безопасности требует беспристрастного, всестороннего и взвешенного подхода и рассмотрения. Что допускаемые при его решении перекосы и ошибки способны принести существенный и непоправимый ущерб интересам граждан, общества и государства.
Думается, что Серов не мог не испытывать определенного легкого дискомфорта от осознания того факта, что четверо его непосредственных предшественников – Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, В.Н. Меркулов – были расстреляны как «враги народа», а пятый – В.С. Абакумов – еще находился под следствием. То есть во власти подчиненных ему следователей. Что, по-видимому, доставляло Серову, немало ранее лично натерпевшемуся от высокомерного «наркома Смерша»[43], чувство тайного удовлетворения.
Согласно решению Президиума ЦК КПСС на Комитет государственной безопасности при СМ СССР возлагалось решение следующих задач:
а) ведение разведывательной работы в капиталистических странах;
б) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок внутри СССР;
в) борьба с вражеской деятельностью разного рода антисоветских элементов внутри СССР;
г) контрразведывательная работа в Советской армии и Военно-морском флоте;
д) организация шифровального и дешифровального дела в стране;
е) охрана руководителей партии и правительства.
Помимо этого, в решении Президиума ЦК КПСС от 8 февраля 1954 г. была сформулирована и главная для КГБ задача: «В кратчайший срок ликвидировать последствия вражеской деятельности Берия в органах государственной безопасности и добиться превращения органов госбезопасности в острое оружие нашей партии, направленное против действительных врагов нашего социалистического государства, а не против честных людей»[44].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г. председателем КГБ при СМ СССР был назначен И.А. Серов, а его заместителями – К.Ф. Лунев (первый заместитель), И.Т. Савченко, П.И. Григорьев, В.А. Лукшин.
Приказом председателя КГБ при СМ СССР от 18 марта была определена структура нового ведомства, в котором, не считая вспомогательных и обеспечивающих подразделений, были образованы:
Первое главное управление (ПГУ, разведка за границей – начальник А.С. Панюшкин);
Второе главное управление (ВГУ, контрразведка – П.В. Федотов);
Третье главное управление (военная контрразведка – Д.С. Леонов);
Четвертое управление (борьба с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными элементами – Ф.П. Харитонов);
Пятое управление (контрразведывательная работа на особо важных промышленных объектах – П.И. Ивашутин);
Шестое управление (контрразведывательная работа на транспорте – М.И. Егоров);
Седьмое управление (наружное наблюдение – Г.П. Добрынин);
Восьмое главное управление (шифровально-дешифровальное – В.А. Лукшин);
Девятое управление (охрана руководителей партии и правительства – В.И. Устинов);
Десятое управление (Управление коменданта Московского Кремля – А.Я. Веденин);
Следственное управление (вакансия).
В целом эта структура раскрывает функции и задачи нового союзно-республиканского ведомства.
Из дальнейших изменений в структуре КГБ при СМ СССР следует отметить, вследствие передачи из состава МВД СССР, образование 27 сентября 1954 г. Отдела войск правительственной ВЧ связи (начальник П.Ф. Угловский).
После передачи из структуры МВД в КГБ пограничных войск для управления ими 2 апреля 1957 г. было образовано Главное управление пограничных войск (ГУПВ – начальник П.И. Зырянов).
Задачи внешней разведки КГБ при СМ СССР были конкретизированы в решении ЦК КПСС от 30 июня 1954 г. «О мерах по усилению разведывательной работы органов государственной безопасности за границей». Оно требовало сосредоточить усилия на организации работы в ведущих западных странах США и Великобритании, являвшейся давним геополитическим соперником России, а также на «используемых ими для борьбы против Советского Союза странах, – в первую очередь Западной Германии, Франции, Австрии, Турции, Иране, Пакистане и Японии».
В том же году Совет министров СССР утвердил «Положение о Первом главном управлении КГБ», которое определяло его функции, задачи, структуру, штаты.
Хотя о разведке написаны многие тысячи книг и статей, как гласит народная мудрость, в делах разведки никто не скажет последнего слова.
Руководивший германской разведкой в годы Первой мировой войны полковник Вальтер Николаи уже в 1923 г. писал: «Государства, которые не имеют собственной разведки, не имея о ней достаточного представления, не подозревают поэтому, какой опасности подвергаются их политическая свобода и национальная независимость со стороны тех могущественных государств, которые обладают развитыми и опытными спецслужбами»[45].
А вот что писал о роли разведки и контрразведки в мире полковник КГБ, Герой Российской Федерации, бывший резидентом в Израиле Ю.А. Колесников: «Пока большинство государств стремится во что бы то ни стало позаботиться о собственных интересах – нередко в ущерб интересам других стран, – будут существовать разведка и контрразведка, и дела их не всегда будут соответствовать идеалам гуманизма и истинной демократии»[46].
Основной задачей разведки любого государства является обеспечение руководителей страны объективной информацией о том, что происходит в мире для того, чтобы могли быть приняты оптимальные и адекватные политические решения.
А для качественного решения задачи информационного обеспечения выработки государственной политики разведке необходимо добывание объективной, по возможности – упреждающей, информации, а также наличие компетентных аналитико-прогностических структур.
Хорошо понятно, что добиться получения именно упреждающей информации бывало не всегда возможным. Поскольку КГБ, как и любая другая спецслужба мира, действовал в условиях противоборства с реальным и потенциальным противником, стремящимся как скрыть, замаскировать свои подлинные цели и намерения, так и проводящим специальные дезинформационные и отвлекающие кампании и мероприятия, этими обстоятельствами и объясняются бывающие неудачи и провалы в деятельности спецслужб, в том числе и КГБ СССР.
Разведка выступала лишь как инструмент добывания политической, военной, научно-технической и дипломатической информации, главными пользователями которой являлись другие государственные органы – ЦК КПСС, МИД, Министерства обороны, внешней торговли и т. д.
Единственной сферой «внутреннего потребления» добывавшейся КГБ информации была так называемая «внешняя контрразведка», призванная выявлять, вскрывать и пресекать разведывательные, провокационные, контрразведывательные и иные акции спецслужб зарубежных государств в отношении советских представительств и граждан как за рубежом, так и в СССР.
Второе важнейшее направление деятельности органов КГБ – контрразведка, задачей которой является прежде всего выявление конкретных разведывательно-подрывных акций сотрудников, эмиссаров и агентов спецслужб иностранных государств, каким бы «прикрытием» для выполнения своих заданий они бы ни пользовались.
Обратим внимание на два крайне важный вывода, которые еще в 1921 г. были сделаны одним из создателей советской разведки А.И. Куком. Первый: агентурная разведка не разграничивает понятий мирного и военного времени. И второй: к числу важнейших политических задач разведки относится оказание целенаправленного воздействия на население враждебного государства посредством прессы, пропаганды, распространения слухов, распространения определенных идей и взглядов, подрывающих веру во власти собственной страны. Идея о достижении всеобщего, «всесветного» мира, писал А.И. Кук, по-прежнему кажется далекой от осуществления, а поэтому, «…учитывая неизбежность войны, каждое государство… всемерно стремится и должно стремиться к созданию выгоднейшей для себя обстановки для разрешения возникающих конфликтов».
В июне 1954 г. для «постановки первоочередных задач» было проведено Всесоюзное совещание руководящих работников КГБ, на котором И.А. Серов выступил с разъяснением установок Президиума ЦК КПСС для деятельности органов госбезопасности, их роли и места в системе советского государственного управления.
Подчеркнем, что образование КГБ при СМ СССР знаменовало собой действительно серьезный шаг по утверждению законности в нашей стране, хотя сам принцип законности неотделим от существующей системы права, имеющегося законодательства. А последнее, и прежде всего уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, также претерпело существенные изменения в конце 50-х годов, на чем мы подробнее остановимся далее.
На момент образования КГБ его органы должны были руководствоваться уголовные кодексами Союзных республик СССР 1920-х годов. Так, например, Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) был принят еще 5 марта 1926 г. Непосредственно органы госбезопасности должны были руководствоваться диспозициями составов «контрреволюционных преступлений», предусмотренных печально известной статьей 58, имевшей 18 частей – различных составов преступлений: от измены Родине, шпионажа, диверсий, вредительства, террора (терроризма) до антисоветской агитации и пропаганды (статья 58.10).
Представляется также необходимым отметить, что и поныне многие публицисты и исследователи ошибочно или сознательно, отождествляют КГБ с его оставившими по себе недобрую память историческими предшественниками – НКВД – НКГБ и МГБ.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему укреплению социалистической законности и усилению прокурорского надзора» от 19 января 1955 г. было разработано Положение о прокурорском надзоре в СССР (утверждено указом Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г.). Для осуществления надзора за следствием в органах КГБ в Прокуратуре СССР был создан специальный отдел.
С момента образования КГБ при СМ СССР контроль за его деятельностью осуществлялся также ЦК КПСС, в частности, отделом административных органов. Именно в него поступали все жалобы и заявления граждан в отношении действий сотрудников КГБ, адресованные в партийные инстанции, и который организовывал их проверку и рассмотрение; Советом министров и Генеральной прокуратурой СССР, а также некоторыми другими государственными органами, например Министерством финансов.
В этой связи однозначно недопустимо отождествлять КГБ СССР с его историческими предшественниками НКВД – НКГБ и МГБ. В то же время деятельность органов КГБ в 1950—1960-е годы не была свободна от волюнтаризма их руководства, хотя именно в этот период утверждается в полной мере партийно-государственный и прокурорский контроль за их работой.
Следует подчеркнуть, что одним из подлинных создателей КГБ при СМ СССР был Петр Иванович Ивашутин, хотя отдельные его предложения и наработки не встречали немедленной поддержки и реализации, поскольку они опережали свое время, уровень постижения руководством КГБ СССР и страны в целом подлинной сути разворачивавшихся в мире глобальных процессов геополитического соперничества.
Принципиально новым направлением деятельности КГБ СССР явилось налаживание сотрудничества с органами госбезопасности социалистических государств, которое, естественно, шло в общем русле внешней политики СССР.
Исполнявший с мая 1955 г. обязанности начальника ПГУ КГБ генерал-майор А.М. Сахаровский отмечал, что представительская работа командированных в социалистические страны сотрудников разведки – сложное специфическое направление деятельности, требующее такта, выдержки, политической зрелости и оперативного чутья.
В 1950–1954 гг. западные спецслужбы предпринимали активные попытки заброски в СССР своих агентов морским, воздушным и сухопутным путями. Так, только на территорию Краснодарского края в мае 1950 г., 2 мая 1952 г., 4 сентября 1953 г. и 9 мая 1954 г. было заброшено 5 групп агентов (10 человек). Иностранные агенты также арестовывались на Украине[47], в Хабаровском крае и Мурманской области. А всего к 1958 г. органами госбезопасности СССР были арестованы 158 агентов иностранных спецслужб, заброшенных различными способами из-за рубежа.
Разумеется, сказывались на эффективности деятельности органов государственной безопасности и отдельные трудности объективного и субъективного порядка, ошибки, трагедии и даже предательства.
Следует подчеркнуть, что образование КГБ при СМ СССР сопровождалось тяжелой «родовой травмой» – раскрытием многочисленных нарушений законности, вершившихся его историческими предшественниками – НКВД, НКГБ и МГБ в 1930-е – начале 1950-х годов. Отметить эти обстоятельства необходимо еще и потому, что П.И. Ивашутину приходилось непосредственно организовывать работу вверенных ему подразделений, в том числе – военной контрразведки по пересмотру уголовных дел еще задолго до известного «секретного» доклада Н.С. Хрущева делегатам ХХ съезда КПСС.
Известно, что Н.С. Хрущев неоднократно официально заявлял, что «органы госбезопасности вышли из-под контроля партии и поставили себя над партией», что не в полной мере соответствует исторической правде. Эти его заявления сначала использовались для очередной мифологизации истории органов госбезопасности, а впоследствии – также и для демонизации всей советской истории.
Воспоминания Серова подтверждают хорошо известный историкам факт, что органы КГБ постоянно информировали ЦК КПСС о своей работе. В частности, Серов нередко докладывал лично Хрущеву по различным вопросам, хотя нередко получал в ответ «Не суйтесь не в свои дела!»[48].
Следует особо подчеркнуть, что КГБ учреждался в годы холодной войны, когда Соединенные Штаты Америки небезосновательно видели в лице Советского Союза главного геополитического конкурента, выдвигавшего альтернативную концепцию цивилизационного развития. А в области внешней политики США откровенно руководствовались доктриной «отбрасывания коммунизма» (официально она была провозглашена президентом Д. Эйзенхауэром 14 февраля 1953 г.).
Понятно, что «тон» в международном разведывательном сообществе, противостоявшем СССР, задавали спецслужбы ведущей западной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки, имевшие как собственную агрессивно-наступательную внешнеполитическую и разведывательную доктрину, так и астрономические государственные ассигнования на проведение тайных зарубежных операций.
Разведывательные возможности США в 1952 г. были значительно увеличены за счет создания Агентства национальной безопасности (АНБ), ответственного за ведение радиотехнической разведки. США развернули сеть военных баз у границ Советского Союза, с позиций которых проводилась непрерывная техническая, авиационная и агентурная разведка территории СССР и его союзников.
В конце 1950-х годов в посольстве США в Москве создается полноценная разведывательная резидентура ЦРУ. Американское справочно-информационное издание «Центральное разведывательное управление» (1986 г.) так раскрывало содержание и назначение деятельности этих подразделений разведки: «Резидентура – это подразделение ЦРУ в столице иностранного государства. Резидент – глава резидентуры, кадровый сотрудник ЦРУ, работает под прикрытием в американском посольстве. Он руководит работой оперативных работников, аналитиков и оперативно-технического персонала. Кроме того, резидент осуществляет контроль за выполнением заданий Центра и за своевременной отчетностью.
Главная задача его руководства состоит в том, чтобы уметь вдохновить людей на выполнение опасных и трудных задач, требующих от каждого нечеловеческих усилий, другими словами, возглавить работу по выявлению наиболее засекреченных и тщательно охраняемых государственных тайн страны пребывания, а также сведений, которые нельзя получить с помощью подслушивающей аппаратуры или во время официальных дипломатических приемов, в библиотеке или с помощью прессы и которые можно добыть только через завербованных, идейно преданных источников или посредством различных технических методов получения информации.
Основная деятельность резидента ЦРУ заключается в сборе и анализе информации, свидетельствующей о намерениях той или иной страны причинить ущерб либо каким-либо другим образом отрицательно сказаться на наших интересах в важных районах, либо даже угрожать безопасности США.
Доступ к такой информации имеет ограниченный круг лиц, и, следовательно, если секретные сведения и фиксируются на бумаге или на магнитной ленте, то они хранятся в наиболее скрытых и тщательно охраняемых тайниках противника. Поэтому резидент должен всегда идти на риск. Это требует постоянной, иногда сверхчеловеческой бдительности…
Лучшие резиденты ЦРУ имеют многолетний опыт оперативной работы».
Для сотрудников ЦРУ работа в резидентуре в Москве считалась не только наиболее ответственной, требовавшей самого высокого уровня подготовки и оперативного мастерства, но и наиболее сложной и опасной вследствие эффективной работы советской контрразведки.
Следует отметить, что еще в 1955 г. авторы Большой советской энциклопедии в статье «Агентурная разведка» подчеркивали: «Наряду со шпионажем А[гентурная]р[азведка] капиталистических государств занимается также экономической, политической и идеологической диверсией» (Т. 1. С. 291–292).
Только за 1954 год и первую половину 1956 года среди американских, английских и французских граждан, посещавших СССР в качестве туристов и участников разного рода делегаций, было выявлено более 40 представителей разведывательных служб указанных государств[49].
Подчеркнем в этой связи, что если в 1959 г. СССР посетили 34 тысячи иностранных туристов, то в 1967 г. – 130 тысяч, в 1969 г. – 273, в 1971 г. – 471 тысяча. А в 1970-е годы ежегодное количество иностранных туристов, посещавших нашу страну, превышало 500 тысяч человек.
Возвращаясь непосредственно к предмету нашего рассмотрения, следует сказать, что, конечно, были в работе КГБ, и прежде всего разведки, наряду с очевидными, но не афишировавшимися достижениями, также и провалы. К их числу относятся и побеги на Запад разведчиков.
Ведь резкое изменение общественно-политической ситуации в Советском Союзе после смерти И.В. Сталина не могло не сказаться и на морально-психологическом состоянии лиц, работавших за рубежом.
Да и утвержденный Сенатом 26 февраля 1953 г. директором ЦРУ Аллен Даллес ответил на сообщение о смерти председателя Совета министров СССР 13 марта представлением Совету по психологической стратегии[50] согласованного с Государственным департаментом и Министерством обороны «Плана психологической эксплуатации смерти Сталина»[51].
Так, в феврале 1954 г. в посольстве США в Вене попросил политического убежища сотрудник резидентруры МВД СССР П. Дерябин[52].
В апреле 1954 г. на Запад дезертировали Н.В. Хохлов[53] в Германии, супруги Петровы в Австралии. Эти побеги привели как к усложнению условий деятельности советских разведчиков за рубежом, так и к раскрытию ряда ценных советских источников информации в этих странах.
Некоторые перебежчики из СССР в последующие годы – А. Голицын, О. Гордиевский, В. Резун, О. Калугин – активно использовались спецсужбами зарубежных государств для попыток дискредитации органов госбезопасности СССР.
О них и им подобных Аллен Даллес писал: «Я не утверждаю, что все так называемые дезертиры (dezerters) бежали на Запад по идеологическим мотивам. Некоторые стали на этот путь потому, что их постигла неудача в работе, другие поступили так из опасения, что при очередной перетряске государственного аппарата они могут быть понижены или могут иметь еще худшие неприятности; были и такие, кого привлекли физические соблазны жизни на Западе – как моральные, так и материальные… Часть дезертиров со стороны коммунистов оказывается совсем не тем, за кого их можно принять.
Некоторые, например, в течение долгого времени работали за железным занавесом в качестве наших агентов «на месте» и перебежали на Запад лишь после того, как они (или мы) пришли к выводу, что дальше оставаться им в стране стало слишком опасно… США всегда будут приветствовать тех, кто не хочет больше работать на Кремль».
Поясним, что неудачи и провалы в деятельности разведки и контрразведки – это следствие того объективного обстоятельства, что они действуют в условиях непрерывного конфликтного противоборства с реальным противником, стремящимся как скрыть, замаскировать свои подлинные цели и намерения, так и проводящим специальные дезинформационные и отвлекающие кампании, активные мероприятия.
Сопутствуют этому и те субъективные обстоятельства, что в последние годы получили наименование «человеческого фактора». При этом речь идет как о неосознаваемых просчетах и ошибках, так и о целенаправленном предательстве.
О масштабах урона, наносимого предательством интересов безопасности государства, органов госбезопасности, свидетельствует тот лишь факт, что измена только одного В. Ветрова привела в 1981 г. к раскрытию имен около 70 информаторов в 15 странах и 450 действующих сотрудников советской разведки[54].
Предательство не может иметь никакого оправдания. И поэтому вполне уместно недоумение по поводу того факта, что некоторые отечественные СМИ пытаются «ваять благородные» образы дезертиров-перебежчиков типа В. Резуна, укрывшегося под псевдонимом «Виктор Суворов», и подобных ему других предателей из числа советских и российских граждан.
Но «подлинные мотивы предательства раскрываются постепенно. Их никогда нельзя услышать от самого изменника. Ведь даже самому подлому существу хочется выглядеть в чужих, да и в своих глазах благородным и страдающим человеком», – писал о них Л.В. Шебаршин[55].
Автор ряда книг по истории отечественной разведки Д.П. Прохоров приводит фамилии 155 человек, предавших советскую разведку с 1920-х годов[56]. Для получения более объективного представления об этом явлении применительно к органам КГБ СССР (1954–1991 гг.), следует учитывать следующие обстоятельства.
Во-первых, из представленного Д.П. Прохоровым списка, а он является наиболее полным на настоящее время, следует исключить перебежчиков в противоположный лагерь из числа агентов органов госбезопасности СССР.
Во-вторых, из него следует также исключить сотрудников военной разведки (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
С учетом этих поправок получается, что за время существования КГБ, с марта 1954 по октябрь 1991 г., совершили измену 52 его сотрудника, в том числе 37 сотрудников внешней разведки.
В отличие от разведки, стремящейся к проникновению в секреты разведываемых государств и объектов, деятельность контрразведывательных подразделений направлена на борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб иностранных государств. Главными целями любой контрразведки являются обнаружение действий противника, его идентификация и обезвреживание, нейтрализация его разведывательно-подрывных мероприятий.
Хотя в Отчетном докладе ЦК КПСС Внеочередному ХХI съезду партии (27 января – 5 февраля 1959 г.) указывалось, что «надо укреплять органы госбезопасности, острие которых, прежде всего, направлено против агентуры, замыслов империалистических государств»[57].
Однако вряд ли сегодня можно говорить о том, что степень масштабности и реальности угрозы разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб были адекватно восприняты и оценены тогдашним руководством Советского Союза и его органов госбезопасности. Объективности ради нельзя, однако, также не сказать и о том, что нечто похожее в нашей стране повторилось и на рубеже 90-х годов прошлого века, горькие плоды чего мы пожинаем и поныне.
Разведывательно-подрывная деятельность иностранных государств включает в себя проведение их специально-уполномоченными государственными органами гласных и негласных операций и акций как по добыче информации о других государствах, так и по оказанию скрытого воздействия на их позиции и политику по тем или иным вопросам, в тех или иных географических зонах и регионах планеты.
В целом система разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств, с которой призваны бороться органы контрразведки, включает в себя: внешнеполитические установки правительств иностранных государств, структуру их специальных служб (разведывательных, контрразведывательных, диверсионно-террористических и т. д.), их силы и средства, формы и методы, приемы и «фирменный стиль» их деятельности, конкретные операции и мероприятия, их исполнителей.
С середины 50-х годов, вследствие официально принятой администрацией Д. Эйзенхауэра «доктрины освобождения», роль и значение разведки в реализации внешней политики США последовательно возрастали, что не могло не сказываться на масштабах и интенсивности ее деятельности в отношении СССР и что не могло не влиять на деятельность советских органов безопасности.
Следует также коснуться и деятельности 4-го управления КГБ, призванного вести борьбу с антисоветским подпольем, националистическими бандитско-повстанческими формированиями и попытками иностранных спецслужб использовать их в своих целях.
Как известно, в ряде западных регионов СССР – на Украине, в Белоруссии и прибалтийских республиках в послевоенные годы продолжали существовать вооруженные антисоветские сепаратистские группирования, подчас достаточно многочисленные, борьба с которыми носила жестокий, бескомпромиссный, а подчас и кровавый характер. Произошедшая в марте 1954 г. широкомасштабная реорганизация работы органов безопасности, однако, не повлияла на эффективность повседневной оперативной работы чекистов.
Так, уже 11 мая 1954 г. на территории Эстонской ССР были задержаны сброшенные на парашютах с целью создания нелегальной резидентуры агенты ЦРУ Тоомма и Кукк, а на территории Латвии был арестован десантировавшийся с того же самолета бывший преподаватель американской разведшколы в г. Кемптен (ФРГ) Бромбергс (оперативный псевдоним Энди).
Чуть позже, в ходе завязавшейся после ареста указанных агентов оперативной игры, у берегов Литвы был захвачен быстроходный катер, доставивший очередную партию военного груза для «лесных братьев» – отдельные бандитско-повстанческие группы продолжали существовать до конца 50-х годов[58].
На Украине 23 мая 1954 г. был задержан «главнокомандующий» Украинской повстанческой армией (УПА) В. Кук, что явилось завершением одной из масштабных операций по ликвидации националистического подполья на Украине[59].
Важнейшими политическими вехами руководства Серовым органами госбезопасности, бесспорно, являются начало процессов их очищения от лиц, виновных в нарушениях законности, а также реабилитация необоснованно репрессированных граждан.
На этих направлениях деятельности органов КГБ мы остановимся подробнее, учитывая как то, что они до сей поры мало известны нашим согражданам, и, с другой стороны, представляют далеко не только исторический интерес.
Отягощенное наследие госбезопасности
Процесс образования КГБ при СМ СССР сопровождался тяжелой «родовой травмой» – вскрытием в 1951–1954 гг. многочисленных фактов нарушений социалистической законности, вершившихся в НКВД, НКГБ и МГБ в 1930-е – начале 1950-х годов, задолго до известного «секретного» доклада Н.С. Хрущева делегатам ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 г.
После сообщения в печать об аресте Л.П. Берии как «врага народа» в органы прокуратуры и ЦК КПСС стали поступать многочисленные заявления и жалобы осужденных и их родственников о пересмотре уголовных дел, а также сообщавшие о применении незаконных методов в процессе ведения следствия.
В записке в Президиум ЦК КПСС Прокурора СССР Р.А. Руденко и министра внутренних дел С.Н. Круглова от 19 марта 1954 г. отмечалось, что с августа 1953 г. по 1 марта 1954 г. в органы прокуратуры поступило 78 982 обращения граждан с ходатайствами о пересмотре их уголовных дел, в связи с чем предлагалось создать специальную комиссию по пересмотру дел осужденных, в том числе и за «контрреволюционные» преступления.
В этой записке также сообщалось, что в лагерях, колониях и тюрьмах содержалось 467 946 осужденных за «контрреволюционные преступления», немалую долю среди которых составляли предатели, каратели и пособники немецко-фашистских оккупантов, выявленные агенты иностранных спецслужб. И, помимо этого, еще находятся в ссылке после отбытия основного наказания за контрреволюционные преступления 62 462 человека.
По делам органов ВЧК – ОГПУ за 1921–1929 годы
ЦК КПСС информировался и о том, что в «особом порядке» – Особым совещанием (ОСО) при наркоме/министре внутренних дел и госбезопасности в 1934–1953 гг. было осуждено 442 531 человек, большинство из которых были осуждены по «политическим обвинениям» за контрреволюционные преступления. (Эти лица были включены в ранее указанное общее число осужденных, но данное обстоятельство специально выделяется нами именно в связи с особыми условиями вынесения «приговоров» в «несудебном порядке», в нарушение Конституции СССР 1936 г.) В 1941–1944 гг. ОСО рассматривались также дела на разоблаченных агентов германских спецслужб, фашистских карателей и пособников оккупантов. Из этого общего числа осужденных ОСО за 19 лет его существования (оно было ликвидировано 1 сентября 1953 г.) к высшей мере наказания были приговорены 10 101 человек, к лишению свободы на различные сроки – 360 921, к ссылке и высылке – 67 539 человек[60].
По запросу Президиума ЦК КПСС Министерством внутренних дел были представлены полные статистические сведения об общем количестве лиц, осужденных по материалам органов госбезопасности СССР в 1921–1953 годах.
Статистические данные о количестве арестованных и осужденных по материалам органов ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ СССР в 1921–1953 гг.
По делам органов ОГПУ – НКВД за 1930–1936 годы
По делам органов НКВД за 1937–1938 годы
По делам органов НКВД – НКГБ – МГБ за 1939–1953 годы
** Имеются в виду «контрреволюционные преступления» – ст. 58 УК РСФСР 1926 г. и аналогичные статьи уголовных кодексов союзных республик. Антисоветская агитация и пропаганда – статья 58–10 УК РСФСР.
** ВМН – высшая мера наказания (расстрел).
Всего же, согласно записке «Об антиконституционной практике 30—40-х и начала 50-х гг. было подвергнуто репрессиям 3 778 234 человека, в том числе 786 098 человек были приговорены к расстрелу. При этом в отношении некоторых из осужденных лиц подобные судебные и несудебные[61] решения принимались неоднократно, в связи с чем реальное число осужденных несколько меньше суммы вынесенных приговоров.
Из общего числа 1 115 427 осужденных за контрреволюционные преступления в период 1939-й – первая половина 1953 г. на годы Великой Отечественной войны приходятся 476 617 осужденных[62].
Помимо этого, по постановлениям Государственного комитета обороны (ГКО) в 1941–1944 гг. были депортированы из мест постоянного проживания поляки, украинцы, немцы Поволжья, ингуши, чеченцы, карачаевцы, турки-месхитинцы, калмыки и представители некоторых иных национальностей – около 2300 тысяч человек[63].
19 апреля 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об освобождении из ссылки на поселение ранее осужденных за антисоветскую деятельность» лиц, осужденных на срок до 5 лет.
3 августа 1954 г. постановлением Совета министров СССР были сняты административные ограничения со спецпоселенцев-кулаков. Президиумом Верховного Совета СССР принимались и иные указы, отменявшие различного рода репрессивно-дискриминационные меры в отношении отдельных категорий советских граждан[64].
В ознаменование десятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 17 сентября 1955 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны», в соответствии с которым подлежали освобождению от наказания военнослужащие РККА и ВМФ, осужденные за сдачу в плен.
29 октября 1955 г., через месяц после установления дипломатических отношений с Федеративной Республикой Германией, в порядке «жеста доброй воли» Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных, осужденных за военные преступления».
На основании предложения Прокурора СССР Р.А. Руденко и министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова Президиум ЦК КПСС в мае 1954 г. принимает решение об образовании центральной и республиканских, областных комиссий по рассмотрению жалоб и ходатайств граждан, осужденных за «контрреволюционные» преступления (статья 58 УК РСФСР 1926 г. и аналогичные статьи уголовных кодексов других союзных республик). Эти комиссии были наделены правом пересмотра «приговоров» Коллегии ОГПУ, «троек», а также Особого совещания НКВД – МГБ СССР.
Помимо этого были образованы выездные комиссии Президиума Верховного Совета СССР (всего их было образовано 97), наделенные правом объявления амнистии в отношении осужденных рядовых граждан и коммунистов, но не номенклатурных партийных работников.
На основании выявленных Центральной комиссией многочисленных фактов нарушения принципов и норм ведения следствия в КГБ СССР, КГБ союзных и автономных республик, управлениях КГБ по краям и областям были образованы аналогичные комиссии с участием работников Прокуратуры СССР для пересмотра следственных и уголовных дел, наделенные правом пересмотра решений несудебных «двоек» и «троек», действовавших в 1937–1938 гг. В результате работы этих комиссий вскрывались многочисленные факты нарушения законности в ходе следствия и необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан, что влекло пересмотр их дел, снятие обвинений либо смягчение формулировок обвинения с досрочным освобождением осужденных.
В Москве такая комиссия для пересмотра уголовных дел в отношении лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и содержащихся в лагерях, тюрьмах и колониях МВД СССР, находящихся в ссылке и на поселении, под председательством и.о. прокурора области П.И. Маркова была образована 29 мая 1954 г. Рабочий аппарат комиссии насчитывал 120 сотрудников: 98 человек – работники судов, следователи прокуратуры, в том числе 40 следователей и оперативных сотрудников УКГБ по гор. Москве и Московской области; и 22 технических работника, в том числе 10 из них от УКГБ.
Как сообщалось 28 декабря 1955 г. секретарю Московского областного комитета КПСС И.В. Капитонову в итоговом докладе о результатах работы комиссии, с июня предыдущего года было рассмотрено 4365 следственных дел на 5039 осужденных. По итогам их пересмотра по 1767 делам на 1960 человек были приняты решения об изменении ранее вынесенных приговоров: в связи с амнистией, уголовно-правовой переквалификацией составов преступлений, сокращением сроков наказания, частичной или полной реабилитацией. При этом 352 бывших осужденных были реабилитированы полностью.
Однако работа по пересмотру архивных следственных дел сотрудниками УКГБ по Москве и Московской области продолжалась и в последующие годы. Например, в отчете в МГК КПСС о результатах работы управления № 11/67 от 31 января 1958 г. сообщалось, что «закончена проверка по 1332 делам на 1887 человек», по итогам которой было принято решение о прекращении дел на 803 обвиняемых, находились в стадии проверки на 1 января еще 90 архивных следственных дел на 136 человек.
Как докладывал Президиуму ЦК КПСС 29 апреля 1955 г. Прокурор СССР Р.А. Руденко, по результатам проведенной комиссиями работы были пересмотрены уголовные дела на 237 412 осужденных (более половины из них), при этом было отказано в смягчении наказания 125 202 осужденным.
В то же время были отменены приговоры или прекращены уголовные дела в отношении 8973 человек, что означало их реабилитацию, были освобождены из мест лишения свободы 21 797 человек, отменена ссылка 1371 осужденному. Помимо этого были сокращены сроки наказания 76 344 осужденным и в отношении 2891 из них были переквалифицированы обвинения на менее тяжкие составы преступлений[65].
Подчеркнем и следующие важные обстоятельства: по вскрывавшимся в процессе пересмотра уголовных дел фактам, а также по результатам следствия в отношении высокопоставленных работников органов госбезопасности, началось выявление и привлечение к ответственности лиц, непосредственно виновных в грубых нарушениях социалистической законности[66].
В связи с выявленными в процессе пересмотра уголовных дел многочисленными фактами нарушений социалистической законности, в конце 1955 г. была образована Комиссия Президиума ЦК КПСС во главе с секретарями ЦК П.Н. Поспеловым и А.Б. Аристовым для изучения и оценки деятельности органов НКВД – НКГБ – МГБ – МВД СССР в 1930—1950-е годы[67]. Результаты работы и выводы доклада этой комиссии и стали основой для подготовки Н.С. Хрущевым доклада о культе личности Сталина и его последствиях делегатам ХХ съезда КПСС.
В этой связи не следует воспринимать на веру утверждение А.Е. Хинштейна о том, что «доклад Хрущева (о последствиях культа личности И.В. Сталина делегатам ХХ съезда КПСС. – О.Х.) в действительности готовился на Лубянке», поскольку его текст действительно писался первым секретарем ЦК КПСС[68].
Необходимо подчеркнуть, что критика деятельности органов госбезопасности в 1930—1950-е годы, начатая в июне 1953 г. и продолженная в феврале 1956 г. на ХХ съезде КПСС, оказала самое непосредственное воздействие на формирование, комплектование и деятельность органов КГБ в последующие годы.
События всемирно-исторического масштаба
На период руководства КГБ И.А. Серовым приходится целый ряд значимых событий не только отечественной, но и всемирной истории.
Одним из таких событий стал взрыв 29 октября 1955 г. на Севастопольском рейде линкора «Новороссийск». Ранее корабль назывался «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь») и был передан СССР Италией по репарации за участие двух корабельных групп итальянского флота в боевых действиях на Ладожском озере и Черном море в 1942–1944 гг.
Гибель «Новороссийска» унесла жизни 617 моряков-черноморцев, включая команды спасателей с других кораблей эскадры. Расследование трагедии параллельно с командованием Черноморского флота вели и сотрудники военной контрразведки. Одной из приоритетных версий катастрофы являлась возможная диверсия со стороны итальянских боевых пловцов. Но подтверждения ее получено не было. Окончательная причина гибели линкора не установлена до сих пор[69].
А в ночь на 22 апреля 1956 г. военными контрразведчиками Группы советских войск в Германии на границе советского и американского секторов Берлина был обнаружен тоннель, тайно сооруженный ЦРУ и СИС для перехвата сообщений советских закрытых линий связи (операция «Золото»). Однако начатая в 1955 г. операция изначально проходила под контролем советских агентов Кима Филби (оперативный псевдоним «Том») и Джорджа Блейка[70].
Пикантность этой операции придает тот факт, что в этот момент И.А. Серов в составе советской партийно-правительственной делегации находился в Лондоне, а заранее запланированная операция была проведена под руководством П.И. Ивашутина.
ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза, начавший работу в Большом Кремлевском дворце 14 февраля 1956 г., стал еще одним эпохальным событием мирового уровня.
В отчетном докладе ЦК КПСС съезду были обнародованы новые принципы внешней политики СССР. Принцип мирного сосуществования государств с различным социально-политическим устройством был конкретизирован констатацией возможности отказа от войн, их предотвращения.
В то же время была отмечена неизбежность острой идеологической борьбы между двумя социальными системами – миром социализма и миром капитализма. Напомним, что Соединенные Штаты Америки в тот период во внешнеполитической сфере официально руководствовались доктриной «отбрасывания коммунизма».
Следует особо подчеркнуть, что одобренные съездом основы внешней политики СССР не остались лишь политическими декларациями, а последовательно реализовывались в дипломатических, политических и даже военно-мобилизационных акциях советского правительства.
Например, уже 27 марта 1956 г. советский представитель внес для рассмотрения подкомитетом Комиссии ООН по разоружению предложения об ограничении и сокращении вооружений обычного типа и вооруженных сил всех государств. Они, в частности, предусматривали сокращение под международным контролем армий СССР, США и КНР до 1–1,5 млн человек, Англии и Франции – до 650 тысяч военнослужащих, армий остальных стран – до 150 тысяч, а также прекращение испытаний ядерного оружия, уменьшение военных бюджетов. Но эта и иные мирные инициативы СССР, включая масштабное сокращение вооруженных сил в 1955–1960 годах, не были адекватно восприняты и оценены ведущими западными державами.
Нисколько не умаляя значения внешнеполитических инициатив Советского Союза, следует отметить, что наибольший интерес, а также оживленные, порой жесткие дискуссии и полярные оценки, как в нашей стране, так и за рубежом, все же вызвали и вызывают поныне вопросы внутренней политики.
В Отчетном докладе ЦК КПСС съезду критика культа личности Сталина и породивших его ошибок в государственном строительстве и управлении прозвучала лишь в третьей части доклада, да и то достаточно обтекаемо. В частности, Н.С. Хрущев подчеркивал:
«Опыт показывает, что малейшее ослабление социалистической законности враги Советского государства пытаются использовать для своей подлой, подрывной работы. Так действовала разоблаченная партией банда Берия, которая пыталась вывести органы государственной безопасности из-под контроля партии и Советской власти, поставить их над Партией и Правительством, создать в этих органах обстановку беззакония и произвола. Во враждебных целях эта шайка фабриковала лживые обвинительные материалы на честных руководящих работниках и рядовых советских граждан…
Центральный Комитет принял меры к тому, чтобы восстановить справедливость. По предложению Центрального Комитета невинно осужденные люди были реабилитированы. Из всего этого ЦК сделал серьезные выводы. Установлен надлежащий контроль Партии и Правительства за работой органов госбезопасности. Проведена значительная работа по укреплению проверенными кадрами органов госбезопасности, суда и прокуратуры. Полностью восстановлен в своих правах и усилен прокурорский надзор.
Необходимо, чтобы наши партийные, государственные, профсоюзные организации бдительно стояли на страже советских законов, разоблачали и выводили на чистую воду всякого, кто посягнет на социалистический правопорядок и права советских граждан, сурово пресекать малейшее проявление беззакония и произвола.
Следует сказать, что в связи с пересмотром и отменой ряда дел у некоторых товарищей стало проявляться известное недоверие к работникам органов государственной безопасности. Это, конечно, неправильно и очень вредно. Мы знаем, что кадры наших чекистов в подавляющем своем большинстве состоят из честных, преданных нашему общему делу работников, и доверяем этим кадрам.
Нельзя забывать, что враги всегда пытались и будут пытаться впредь мешать великому делу построения коммунизма. Капиталистическое окружение засылало к нам немало шпионов и диверсантов. Наивным было бы полагать, что теперь враги оставят свои попытки всячески вредить нам. Всем известно, что подрывная деятельность против нашей страны открыто поддерживается и афишируется реакционными кругами ряда капиталистических государств. Достаточно сказать, что США выделяют, начиная с 1951 года, 100 миллионов долларов ежегодно для подрывной деятельности против социалистических стран[71]. Поэтому мы должны всемерно поднимать в советском народе революционную бдительность, укреплять органы государственной безопасности»[72].
В числе важнейших задач, сформулированных в докладе Н.С. Хрущева, требовалось: «Бдительно следить за происками тех кругов, которые не заинтересованы в смягчении международной напряженности, своевременно разоблачать подрывные действия противников мира и безопасности народов.
Принимать необходимые меры для дальнейшего укрепления оборонной мощи нашего государства, держать нашу оборону на уровне современной военной техники и науки, обеспечивающем безопасность нашего социалистического государства».
А не объявленный заранее в плане работы съезда и неожиданный для его делегатов доклад Н.С. Хрущева «О культе личности И.В. Сталина и его последствиях» 25 февраля расколол советское общество, а затем – и международное коммунистическое движение.
Следует сразу пояснить, что, несмотря на его закрытый – «Не для печати!» – характер, текст доклада Хрущева в начале марта в качестве закрытого письма ЦК КПСС был разослан во все партийные организации и зачитывался на собраниях партийно-советского актива. Таким образом с его содержанием познакомились несколько десятков миллионов советских граждан. В несколько сокращенном варианте текст доклада «О культе личности И.В. Сталина и его последствиях» был также отправлен для ознакомления и руководству зарубежных коммунистических партий.
И именно по этой причине вскоре стал достоянием всего мира: в Варшаве его фотокопия, как стало впоследствии известно, обозревателем Польского информационного агентства ПАП Виктором Граевским (1925–2007) была передана сотруднику посольства Израиля, оказавшемуся сотрудником «Шабак» («Службы общей безопасности», т. е. контрразведки). А последняя – вскоре поделилась ей с ЦРУ США, вследствие чего авторитет израильской разведки значительно вырос в глазах Аллена Даллеса.
Для Государственного департамента и ЦРУ США это был, безусловно, весьма своевременный и ценный подарок: 4 июня 1956 г. полученный от израильтян текст доклада Н.С. Хрущева был одновременно опубликован в США Госдепом и газетой «Нью-Йорк таймс». А через неделю он начал зачитываться в передачах радиостанций «Освобождение» и «Свободная Европа».
Позднее, в книге «Искусство разведки» (1963 г.), Аллен Даллес писал: «Я всегда рассматривал это дело как одну из самых крупных разведывательных операций за время моей службы в разведке. Поскольку доклад был полностью опубликован Госдепартаментом, добывание его текста было также одним из тех немногих подвигов, о которых можно было сказать открыто, лишь бы источники и методы приобретения документа продолжали оставаться тайной». (При этом он скромно умолчал, что текст доклада Хрущева был добыт не ЦРУ[73]).
Как вспоминал впоследствии бывший заместитель директора ЦРУ Рей Клайн, «выступление Хрущева стало событием исторического значения, ибо документированно обличив сталинизм как невиданных размеров политическое зло, он был вынужден перейти к более мягким формам тоталитарного управления страной»[74].
Естественно, что многие положения доклада или их интерпретации начали активно использоваться в антисоветской и антикоммунистической пропаганде как за рубежом, так и в самом СССР, других социалистических странах, что привело к серьезным политическим кризисам осени 1956 г. в Польской Народной Республике и Венгерской Народной Республике[75].
А 25 февраля 1956 г., обращаясь к делегатам съезда, Н.С. Хрущев пророчески предрек: «Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии».
Первый секретарь ЦК КПСС подчеркнул необходимость «серьезно разобраться и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но казалось ему… противоречащим его установкам».
В период 1935–1938 годов, неслось с трибуны съезда, «сложилась практика массовых репрессий по государственной линии сначала против противников ленинизма, а затем и против многих честных коммунистов, против тех кадров партии, которые вынесли на своих плечах гражданскую войну, первые самые трудные годы индустриализации и коллективизации… Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности, к тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, которые в прошлом выступали за линию партии».
Хрущев информировал делегатов съезда, что рассмотрение ЦК КПСС в 1953–1955 годах ряда уголовных дел в отношении репрессированных лиц «обнаружило неприглядную картину грубого произвола, связанного с неправильными действиями Сталина». Признававшиеся «враги народа» в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т. п. не являлись… Но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения… Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое количество их прекращается как необоснованные и фальсифицированные.
Достаточно сказать, что с 1954 г. по настоящее время Военная коллегия Верховного суда уже реабилитировала 7679 человек, причем многие из них реабилитированы посмертно».
Репрессии, массовые аресты, – делал вывод докладчик, – «нанесли огромный ущерб нашей стране, делу строительства социализма… Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы».
По докладу Н.С. Хрущева съезд поручил вновь избранному Центральному комитету КПСС «последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективности руководства».
«На делегатов съезда, – вспоминал присутствовавший при его оглашении И.А. Серов, – доклад произвел громадное удручающее впечатление. Многие в кулуарах делились со мной, что не надо было об этом говорить, так как 30 лет Сталин стоял во главе партии и государства, строили социалистическое общество, имеются большие успехи, а получилось, что все делалось на костях»[76].
Доклад Н.С. Хрущева, отмечал другой современник, «произвел прямо-таки ошеломляющее впечатление. Сразу воспринять все сказанное было просто невозможно, настолько тяжелыми и неожиданными оказались впервые обнародованные факты столь масштабных нарушений законности и чудовищных репрессий… Нужно было как следует осмыслить все сказанное, понять, как такое могло произойти в социалистической стране… В стратегическом плане выбранный курс был единственно верным, без него невозможно было здоровое развитие общества. Тактически же мы совершили серьезную ошибку, пойдя на этот шаг без соответствующего пропагандистского обеспечения… Огромные же массы советских людей оказались в положении без вины виноватых, испытывая чувство горького разочарования и опустошенности»[77].
И для многих чекистов, пришедших на службу в органы НКВД в 1938–1941 гг., признания Н.С. Хрущева были трагическими, тяжелыми открытиями, которые не могли не вызывать смятения, тяжких и горестных размышлений.
Трагедия состояла еще и в том, что партийное руководство не продумало того, а что же должно последовать с его стороны за докладом о преступлениях предыдущей эпохи?
Вследствие определенной спонтанности в принятии решения о выступлении Н.С. Хрущева – оно было принято уже во время работы съезда, отсутствия продуманной программы последующих шагов и действий, Президиум ЦК КПСС утратил политическую инициативу – постановление ЦК о преодолении последствий культа личности Сталина появилось только 5 июля 1956 г., то есть через месяц после того, как содержание доклада стало известно за рубежом, и он начал зачитываться на волнах радиостанций, вещавших на СССР на языках населяющих его народов…
Однако слухи о содержании доклада Н.С. Хрущева стали распространяться достаточно быстро, и прежде всего в Москве.
Как вспоминал заместитель председателя КГБ при СМ СССР (1956–1959 гг.) генерал-полковник С.С. Бельченко, чекисты, имевшие пятнадцатилетний стаж службы были ошеломлены не менее других наших сограждан. Они обоснованно полагали, что за этим могли последовать серьезные события в стране. Как это и произошло, в частности, в Тбилиси, где 6 марта 1956 г. начались массовые протестные выступления[78]. 5 марта, накануне годовщины смерти И.В. Сталина, в драматическом театре Тбилиси партийно-советскому активу Грузии было зачитано «закрытое письмо» ЦК КПСС с докладом Н.С. Хрущева. Вечером того же дня слухи о выдвинутых против Сталина обвинениях и оценках его личности заполнили город, вызывая недоумение, несогласие, горечь и обиду. А утром это настроение выплеснулось на улицы города, парализовав его обычный трудовой ритм.
В этой связи в Тбилиси была экстренно направлена группа «ответственных работников», в том числе первый секретарь ЦК комсомола А.Н. Шелепин[79], заместитель председателя КГБ при СМ СССР С.С. Бельченко, заместитель министра внутренних дел СССР С.Н. Переверткин, что показывает, сколь серьезное значение Н.С. Хрущев придавал спровоцированному его же докладом событию. Ситуация осложнялась еще и тем, что в Тбилиси находилась делегация компартии Китая во главе с маршалом Чжу Дэ, принимавшая участие в работе ХХ съезда КПСС.
К утру 8 марта Тбилиси оказался частично парализованным – толпы горожан направлялись на площадь, общественный транспорт блокировался, многие не вышли на работу, вовлеченные в бестолковый водоворот непонятных и непредсказуемых событий. Особенно активно на происходящую «несправедливость» и «попрание чувства национального достоинства» реагировала молодежь, многие годы воспитывавшаяся на примерах жизни «отца народов».
Собравшиеся на центральной площади люди потребовали выступления первого секретаря ЦК Компартии Грузии «по вопросу текущей политики и в связи с решениями ХХ съезда». К чести Василия Павловича Мжаванадзе надо сказать, что, в отличие от других партийных работников, оказывавшихся в подобных непредвиденных чрезвычайных ситуациях, участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн, в 12 часов дня вышел к митингующим и начал с ними диалог с целью предупреждения эскалации напряженности и недопущения массовых беспорядков.
Понятно, что столь неординарная массовая социально-политическая активность привлекает людей с разными целями и настроениями. От любопытствующих и зевак до карманников и авантюристов всех мастей. В том числе – политических, а также людей, считающих себя «обойденными», «пострадавшими», всех недовольных или считающих себя кем-то или чем-то обиженными.
Порой разливающиеся при массовом скоплении граждан волны возбуждения, эйфории и кажущегося единомыслия выносят подобных авантюристов, провокаторов и «правдоискателей»-разоблачителей на самый гребень событий, превращая их в «факиров на час».
А в подогреваемой алкогольными, а ныне – и наркотическими, парами, толпе уже начинают во всю работать чисто психологические механизмы возбуждения, подражания и заражения, ведущие к появлению чувства эйфории и безнаказанности, снижению уровня критичности и самоконтроля, чреватые вовлечением в противоправные и даже преступные действия.
9 марта, вспоминал С.С. Бельченко, отдельные ораторы, окрыленные достигнутыми накануне «уступками», стали выдвигать политические требования – от отставки республиканских и союзных властей до выхода Грузии из состава СССР; – вполне понятно, что последний бредовый призыв никак не мог получить поддержки в то время. Однако раздавались в толпе и призывы от «Бить армян!» до «Вон отсюда русских!».
В ночь на 10 марта группа демонстрантов под влиянием провокационных призывов попыталась захватить здание телеграфа, где для отражения нападения было применено оружие. В ходе этого спровоцированного столкновения, по данным МВД Грузинской ССР, 22 человека погибли (включая семерых раненых, скончавшихся в больницах), и 54 человека были ранены. За участие в массовых беспорядках было задержано 375 человек (39 из них впоследствии были осуждены).
10 марта внутренние войска и войска Северо-Кавказского военного округа восстановили в городе обычный порядок, омраченный произошедшей накануне трагедией.
Принятое только в июле постановление ЦК КПСС «О преодолении последствий культа личности Сталина» (Правда, 5 июля 1956 г.) имело достаточно противоречивый характер, не отвечало в полной мере на многие вопросы, волновавшие современников, что не могло не породить как разного рода слухи, домыслы, так и недоумение, что весьма искусно стимулировалось, инспирировалось и использовалось западной радиопропагандой.
Именно половинчатость принятых партийных решений и породила в интеллектуальных кругах общества дискуссию о сталинизме и путях дальнейшего общественного развития, которая стала лейтмотивом, главной темой социально-политических и духовно-творческих исканий, причиной появления в последующие годы «диссидентского», а также противоправительственного «демократического» и «правозащитного» движений в Советском Союзе.
Начатая докладом Н.С. Хрущева дискуссия о судьбе и путях развития социализма привела, как известно, к возникновению острых политических кризисов в Польше и Венгрии в октябре 1956 г.
Еще одним непосредственным итогом непродуманных, волюнтаристских решений стало то, что под лозунгом «исключить возможность возврата к необоснованным репрессиям», в нарушение конституционного принципа равенства всех граждан перед законом
