Курская битва. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
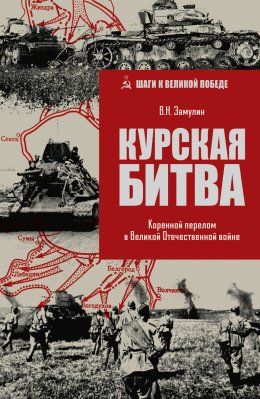
© Замулин В.Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Слово к читателю
Масштабные боевые действия на Курской дуге, развернувшиеся летом 1943 г., стали важнейшим шагом на пути к нашей Великой Победе, на алтарь которой советский народ положил 27 миллионов жизней. Их по праву называют завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне. Однако за весь послевоенный период отечественным ученым, к сожалению, не удалось осуществить глубокий, всесторонний анализ той огромной работы, которая была проведена политическим руководством страны, командованием Красной армии и всем нашим народом при их подготовке и проведении для того, чтобы использовать этот драгоценный опыт в дальнейшем, при обеспечении безопасности государства, в деле сохранения памяти о подвиге военного поколения и воспитания молодежи.
В нашей стране были изданы три многотомных академических труда по истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Тем не менее и сегодня эта тема далеко не исчерпана. «Хрущевский» шеститомник[1] и «брежневский» двенадцатитомник[2] изначально не могли претендовать на объективность и комплексный подход к проблематике. Мир находился в состоянии «холодного» противостояния и события недавнего прошлого играли в нём заметную роль. Идеологическая ангажированность усиливалась стремлением отметить особый вклад в достижении Победу первых лиц Советского государства. Поэтому не удрено, что даже наши выдающиеся полководцы, люди, формировавшие советскую систему и сами сформированные в ней, признавали, что история, представленная в многотомниках, далёкая от реальной действительности потому, что придуманная, грубо подогнанная под идеологические лекала[3].
Авторскому коллективу двенадцатитомного издания «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.»[4], на мой взгляд, тоже, к сожалению, не удалось в полной мере решить ту колоссальную задачу, которую он поставил перед собой, приступая к его подготовке. По крайней мере в части освещения событий битвы под Курском летом 1943 г.
Главных причин этому две. Во-первых, острый дефицит квалифицированных кадров исследователей для разработки сложных военных и военно-политических проблем. Советская школа военных историков, как бы мы сегодня её ни критиковали за догматизм и мифотворчество, давала специалистов с достаточно высоким уровнем профессионального мастерства, которое, накладываясь на собственный жизненный и боевой опыт (как правило, фронтовиков), позволял им, даже в условиях жёсткой цензуры и дефицита документальных источников, готовить довольно добротные труды по истории крупных операций, битв и сражений. К началу 1990-х гг. большинство историков «военного призыва» отошло от активной работы, а вместе с ними канули в небытие их нереализованные замыслы и проекты. А заменить эту когорту поколение, пришедшее им на смену, к сожалению, пока не смогло. Наработанный опыт и традиции подготовки кадров оказались в то смутное время невостребованными и к началу нынешнего столетия фактически были утрачены. Свидетельством плачевного состояния дел в военно-исторической науке являются книги по этой тематике, издающиеся сегодня под эгидой официальных военных научно-исследовательских учреждений, которые за редким исключением представляют собой жалкую пародию на работы советских ученых.
Во-вторых, такие крупные труды – это квинтэссенция многолетних исследований сотен ученых и научных коллективов. У нас же за десятилетия, минувшие после распада СССР, к сожалению, не возникла даже «научная микросреда», в которой проходило бы продуктивное обсуждение исторических проблем, выкристаллизовывались идеи и замыслы. Сегодня, хотя и очень редко, но появляющиеся на прилавках книжных магазинов качественные монографии, в том числе и военных историков, а также отдельные статьи в научных журналах свидетельствуют о том, что отдельными авторами и в научных институтах, университетах и самостоятельно ведётся глубокая научно-исследовательская работа по изучению некоторых крупных событий минувшей войны, в том числе Курской битвы. Однако для достижения высоких результатов этим ученым явно не хватает «взгляда со стороны», т. е. заинтересованного обсуждения результатов их трудов широким кругом профессионалов, доброжелательного совета, товарищеской помощи и поддержки «коллег по цеху». Важную роль в решении перечисленных проблем могли бы сыграть научные конференции и семинары, а также профильные периодические издания, но пока их существенного положительного влияния не чувствуется. Каждый «варится в своём котле». Всё это в комплексе, помноженное на существенное падение общего образовательного и культурного уровня подрастающего поколения, тормозит развитие нашей исторической науки, снижает интерес аспирантов и молодых ученых к событиям Великой Отечественной войны.
На излёте 1990-х гг., будучи научным руководителем музея-заповедника «Прохоровское поле», я не раз беседовал и даже некоторое время находился в дружеских отношениях с некоторыми советскими военными учёными-фронтовиками, стоявшими у истоков истории Курской битвы. Наше общение, к сожалению, продолжавшееся не так долго, как хотелось бы, было содержательным и для меня очень полезным. Благодаря их откровенным, порой самокритичным рассказам о прошлом мне удалось не только взглянуть «за кулисы» советской исторической науки 1940—1980-х гг., но и познакомиться с «повесткой дня в курилках», т. е. перечнем проблем, разработка которых официально не поддерживалась, но в частном порядке в научных коллективах активно обсуждалась, а некоторые историки на свой страх и риск самостоятельно («для себя») прорабатывали их на документальном материале. Возраст моих собеседников, а также гнетущая обстановка в стране того времени влияли на содержание обсуждавшихся нами тем. Поэтому разговор часто заходил о том, что «не удалось реализовать из задуманного» и «что надо было бы сделать, если бы были силы». В такие минуты у меня невольно возникало ощущение, что, делясь своими переживаниями и нереализованными замыслами, возможно, неосознанно, они передавали мне эстафету своей работы, а главное – ответственность за неё. Трудно сказать, было ли это действительно желание умудренных опытом людей, всю жизнь отдавших своему делу, увидеть в молодом сотруднике музея, стремящемся узнать то страшное время, продолжателя их труда или это просто плод моего воображения. Но в конце одной из наших последних встреч Георгий Автономович Колтунов, полковник, ведущий советский специалист по Курской битве, передавая мне часть своего архива, сказал: «Мы, я и мои товарищи, всю жизнь были «в окопах». В годы Великой Отечественной – с трехлинейкой, в период холодной войны – с пером в руках. Хочется верить, что вам, молодым российским историкам, повезёт больше. Вы напишите настоящую, без вранья и бахвальства историю того, как наше поколение колоссальными усилиям и огромной кровью сломало хребет этой нечестии, спасло всех от истребления. Дай бог Вам сил и совести сделать это большое дело». Тогда эти слова я воспринял, прежде всего, как наказ представителя того, героического поколения нашего народа, твердо отстаивать историческую правду и работать честно, на результат.
В Ваших руках, читатель, третье издание книги «Курская битва. Событие, изменившее ход истории», которой я стараюсь внести свой скромный вклад в изменение ситуации, сложившейся в нашей исторической науке. Первые два вышли в 2016 и 2017 гг. и получили высокую оценку специалистов и широкой читательской аудитории. Настоящий вариант существенно переработан, он исправлен и дополнен новыми материалами. Книга состоит из двенадцати частей, в которых на основе недавно рассекреченных документов из российских архивов, а также трофейных источников, хранящихся в Национальном архиве США (NARA USA) и Федеральном архиве ФРГ (ВА-МА), я предлагаю решение проблем, наиболее часто поднимавшихся в отечественной историографии Курской битвы за весь ее период. Кроме того, в книге я касаюсь и ряда вопросов, никогда официально не рассматривавшихся советской исторической наукой, хотя длительное время активно обсуждавшихся в ветеранской среде и исследователями в частном порядке. Главная задача этой работы – представить специалистам в области военной истории и всем, кому не безразлично героическое прошлое нашей страны, результаты своих исследований за последние несколько лет, тем самым подтолкнуть интерес, прежде всего, молодых людей к событиям на Огненной дуге и стимулировать обсуждение малоизученных аспектов её истории.
Как и в прежних изданиях, наряду с другими методами исследования при подготовке сборника я наиболее активно использовал, показавший высокую эффективность сравнительный анализ двух баз документов, собранных в ЦАМО РФ и NARA USA и дополненных данными из открытых источников. Он помогает не только анализируемую проблему и её отдельные элементы представить читатель объемно, но и, надеюсь, в определённой мере снизить степень субъективизма при оценке рассматриваемого события.
Все статьи с учетом содержания выстроены в хронологической последовательности. Первая, обобщающая, призвана ввести читателя в тему Курской битвы, т. е. кратко изложить процесс формирования её историографии в нашей стране за минувшие восемь десятилетий и осветить основные проблемы, влиявшие на эффективность и качество работы историков в этот период. В остальных разделах рассматриваются военно-политические аспекты планирования операций в районе Курской дуги, подготовки войск для их проведения, а также проблемы, возникшие в ходе боевых действий на важнейших участках обороны Воронежского фронта, армии которого удерживали ее южную часть, в том числе и в ходе знаменитого Прохоровского сражения.
Как известно, битва под Курском проходила в два этапа, первый начался с наступления вермахта в рамках операции «Цитадель» и, соответственно, отражения его двумя советскими фронтами по плану Курской оборонительной операции. В связи с этим понимание факторов, оказывавших существенное влияние на разработку замысла этих операций, их истинных целей, внутренней логики процесса стратегического планирования противоборствующих сторон весной 1943 г., а также степени эффективности спецслужб по обеспечению развединформацией этой работы, являются важнейшими для формирования и у современных историков, и у всего нашего общества объективного взгляда на это важнейшее событие минувшей войны. Поэтому большая часть книги посвящена вопросам разработки Москвой и Берлином замысла начального этапа летней кампании на 1943 г., проблемам, связанным с подготовкой плана его реализации, которая велась в период так называемой «весенней оперативной паузы», а также анализу мотивов ряда ключевых решений военно-политического руководства Германии и СССР в этот период. Поэтому особую ценность для понимания этой темы имеют протоколы совещания Гитлера с руководящим составом сухопутных войск и действующей армии, проведённых в феврале – марте 1943 г. в штабе группы армий «Юг» в Запорожье, по стратегическому планированию, которые приведены в статье «Мы не можем в этом году проводить больших операций». Цели Германии в летней кампании 1943 г. в документах группа армий «Центр» и «Юг».
Очень интересными, на мой взгляд, получились два раздела о деятельности советских спецслужб в период подготовки к Курской битве. Обе они основаны на недавно рассекреченном архивном материале. Первая, «Замысел летней кампании 1943 года германских вооружённых сил в докладе начальника войсковой разведки Красной армии», посвящена качеству информации, собранной разведструктурами Генерального штаба Красной армии и их прогнозу о замысле военно-политического руководства Германии при разработке плана летней кампании 1943 г. Во второй, «В канун Курской битвы», приведены тексты протоколов допросов военнопленных вермахта, захваченных разведкой 13-й армии Центрального фронта 4 июля 1943 г., и анализируется влияние информации, полученной из этого источника, на решения советского командования в преддверии начала боёв.
Важные проблемы для темы лета 1943 г. рассматриваются и в статье «Надо рассчитывать на намерение русских удерживать район Курска». Планы Москвы на лето 1943 года в документах разведывательных структур Германии», которая посвящена оценке степени эффективности работы спецслужб противника по сбору данных о состоянии Красной армии и планах ее командования на лето 1943 г. Она основана на документах аналитического подразделения штаба Сухопутных сил Германии – 12-го отдела «Иностранные армии Восток», обнаруженных мною в ходе работы в Федеральном архиве ФРГ.
Существенное место в книге занимает сравнительный анализ боевого пути двух бывших командующих танковыми армиями однородного состава маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова и Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. Их имена прочно связаны с событиями под Курском. Впервые этой темой я занялся во время работы над монографией «Курский излом»[5], чтобы понять роль каждого из них, и их армий при отражении наступления группировки Манштейна на белгородском направлении. За прошедшее время удалось собрать внушительный архивный материал, который позволил уточнить ряд запутанных эпизодов с их участием в боях не только летом 1943 г., но и в другие периоды Великой Отечественной. Хочется верить, что документальный рассказ об этих выдающихся военачальниках, прошедших вместе с нашим народом тяжелейшие испытания минувшего века, поможет читателю не только глубже разобраться в истории отдельных сражений на Огненной дуге, но и расширить представление о других важных событиях истории нашего Отечества.
Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность всем, кто оказывал мне помощь в ходе моей работы над этим изданием, прежде всего, Сергею Геннадьевичу Емельянову, доктору технических наук, профессору, ректору Юго-Западного государственного университета, талантливому организатору науки, человеку, увлечённому историей России. Неоценимую товарищескую помощь в обработке собранного материала оказал прекрасный учёный, доктор наук, профессор Алексей Борисович Шевелёв. Его вклад в это издание трудно переоценить. Благодаря неуёмной энергии, настойчивости и кропотливому труду этого прекрасного человека удалось перевести и обработать основную часть трофейного материала, который использован в книге. Считаю, что благодаря именно этим двум замечательным людям книга и состоялась. Выражаю им свою искреннюю благодарность.
Спасибо моим рецензентам доктору исторических наук, профессору Владимиру Викторовичу Коровину и доктору исторических наук, профессору Константину Владимировичу Яценко за ценные советы, рекомендации и существенную товарищескую поддержку моих исследований.
Важной составляющей сборника являются фотографии, которые были собраны в фондах ряда российских и зарубежных государственных архивов, музеев и в частных коллекциях. Часть из них публикуется впервые. Весомую практическую помощь в изучении и поиске фотоматериала мне оказали сотрудники Российского государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск), и прежде всего, Галина Викторовна Королёва. Хочу поблагодарить этого удивительного человека и ее коллег за внимание к моим просьбам и бескорыстный кропотливый труд.
Всем огромное СПАСИБО!
Кто хочет поделиться впечатлениями о книге или задать вопросы, предлагаю писать по адресу в Интернете: [email protected]. Буду рад неравнодушным, думающим собеседникам, стремящимся узнать настоящую историю нашей страны.
Валерий Замулин, март 2024 года
Правду не спрячешь, и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсификации ее – главным образом при помощи умолчаний.
Константин Симонов[6]
Историография курской битвы: 80 лет мифов и легенд
История Курской битвы, несмотря на минувшие более чем семь десятилетий, продолжает привлекать пристальное внимание ученых и общества. Об этом наглядно свидетельствуют и огромная библиография, накопленная в прошедшие годы, и продолжающие выходить сегодня с завидной регулярностью труды историков во многих странах мира. Однако за весь послевоенный период в нашей стране так и не был проведён её комплексный, а главное, объективный анализ. Одна из крупнейших стратегических операций Красной армии (как, впрочем, и вся Великая Отечественная война) стала важнейшим элементом коммунистической пропаганды, её события плотно окутали мифы и легенды. Некоторые из них не удаётся окончательно развеять даже сегодня.
Начиная с первых чисел июля 1943 г., когда развернулось это грандиозное событие, вся информация о нём сосредотачивалась в двух главных центрах: Генеральном штабе Красной армии (наиболее достоверная и полная, с целью использования для нужд армии) и средствах массовой информации (для пропагандистской работы). При этом гражданские историки от обоих каналов были далеки. Поэтому вплоть до 1960-х гг. «локомотивом» в исследовании Курской битвы выступали военные учёные. И хотя результаты их деятельности в это время носили закрытый характер, тем не менее именно офицерами Генштаба была проведена главная работа по анализу событий под Курском, выводы которой легли в основу первых публикаций в нашей стране и позволили в дальнейшем начать работу гражданским научным коллективам и исследователям.
В отечественной историографии Курской битвы, на мой взгляд, выделяются четыре основных периода. Первый, начальный, продлившийся с 1943 по 1956 г., носил характер обобщения и осмысления тех событий (прежде всего военными). Второй (1957–1970) стал наиболее продуктивным. За эти четырнадцать лет учёным и участникам войны, хотя и с большим трудом, но удалось заложить основу для написания истории битвы. Третий (1971–1993), хотя и был самым продолжительным за время существования СССР, оказался безликим и малосодержательным в силу начавшейся «управляемой деградации» военно-исторических исследований, из-за бездумной и безудержной идеологизации этой сферы научной деятельности. Началом отсчёта четвертого этапа, который продолжается и сегодня, можно считать 1993 г. В это время исполнился полувековой юбилей битвы и, согласно архивному законодательству, начался процесс рассекречивания фондов Центрального архива Министерства обороны РФ за 1943 г. Исследователи получили доступ к главному источнику информации – оперативным, отчётным и трофейным документам действующей армии, без которых невозможен достоверный и комплексный анализ тех событий.
В начальном периоде историографии чётко выделяется её «военный» этап, продлившийся с 1943 по 1947 г. В это время изучение Курской битвы шло по восходящей линии – от газетных и журнальных публикаций к статьям в сборниках Генерального штаба по обобщению опыта войны и книгам по отдельным сражениям. Завершился этот этап успешным написанием военными специалистами двухтомной монографии, которая, хотя и не была рекомендован для издания, имела существенное влияние на дальнейшую научно-исследовательскую работу.
Первыми историографами битвы под Курском следует считать советских военных журналистов. Уже в первой половине июля 1943 г., в ходе отражения наступления германской армии по плану «Цитадель», в центральных газетах появились большие очерки и статьи на эту тему. Их авторы описывали в основном отдельные сражения и бои, героизм советских воинов, а в некоторых даже были попытки обобщить опыт, полученный Красной армией во время успешной операции, проведённой летом, так как до этого момента весомых результатов именно в летний период советским войскам добиваться не удавалось. Тогда же у журналистов в оборот вошло и название, которое впоследствии стало своеобразным «брендовым», – Курская дуга. Сегодня этим словосочетанием называют и конфигурацию линии фронта западнее Курска, сложившуюся к концу марта 1943 г., и битву, происшедшую здесь летом того же года. Впервые же в открытой печати оно было использовано в заглавии статьи журналиста главной армейской газеты «Красная звезда» Б.А. Галина[7] «На курской дуге»[8], которая была напечатана 15 июля 1943 г. И лишь потом его подхватили другие авторы. А до её выхода этот район в печати именовался орловско-курским и белгородским направлениями. Осенью 1943 г. к освещению событий на Огненной дуге подключились журналы для пропагандистов и армейские специализированные издания «Большевик», «Вестник воздушного флота», «Журнал автобронетанковых войск», «Военный вестник» и т. д.
Следует особо подчеркнуть, что в этих публикациях (и газетных, и журнальных), как правило, они носили строго пропагандистскую направленность, поверхностный, повествовательный характер, который отличал все военные публикации открытой печати Советского Союза той поры. Кроме того, нельзя не отметить, что их авторы, журналисты всех уровней (армейских, фронтовых и центральных изданий), являясь, как они именовались в документах советских партийных органов, «бойцами идеологического фронта», не только в силу цензурных ограничений, но и нередко по личным соображениям допускали искажения фактов и даже придумывали целые боевые эпизоды. Эта пагубная тенденция возникла с первых дней войны и уже через полгода набрала настолько большую силу, что даже некоторые трезвомыслящие руководители военно-политической работы в вооруженных силах были вынуждены отмечать её крайне отрицательное влияние на эффективность пропаганды, т. е. уровень доверия к ней со стороны войск. Из директивы заместителя народного комиссара ВМФ начальника Главного политуправления ВМФ армейского комиссара 2-го ранга Рогова № 1с от 22 января 1942 г.: «На кораблях и частях флота за последнее время имеет большое распространение всякого рода вранья и ложь….Случаи вранья, всякого рода выдумки, подчас неправильные и политически вредные измышления отдельных политработников, имеют место в агитационно-пропагандистской работе и флотской печати. Некоторые политработники вместо решительной борьбы с враньём и вредной отсебятиной в пропаганде и агитации сами иногда допускают в своих выступлениях, высказываниях и даже в печати ложные сообщения и выдуманные факты.
…В газете «Красный Черноморец» в одной из статей было сказано, что на крейсер «Коминтерн» было сброшено больше 1000 бомб, в другой статье той же газеты, помещенной на 2 дня позже, уже говорилось «около 2000 бомб» и оба эти сообщения были неверными. Враньё и ложь в пропаганде, агитации и печати дискредитируют партийно-политическую работу, флотскую печать и наносят исключительный вред делу большевистского воспитания масс.
Эти позорные и вредные явления вранья, в каких бы формах они ни проявлялись, не могут быть терпимы на кораблях и частях Военно-Морского флота и должны быть беспощадно искоренены»[9].
Однако подобные документы коренным образом изменить ситуацию не могли. Легенды и мифы продолжили занимать значительное место в советской периодической печати военной поры, а затем значительная их часть плавно перекочевала в брошюры, книги и даже диссертации, посвященные истории Великой Отечественной. Причин этому несколько, назову лишь две наиболее очевидных, на мой взгляд. Во-первых, значительная часть крупных руководителей, отвечавших за эту отрасль военно-политической работы, считала, что для создания «потемкинских деревень», которым в основном и занималась пропаганда, подобный метод в определенной мере был вполне допустим. Во-вторых, советская военная журналистика испытывала острый дефицит квалифицированых кадров, да и просто хорошо образованных людей. Поэтому с первых дней войны в действующую армию был направлен не только цвет советской литературы, но и значительное число обычных журналистов из сугубо гражданских газет и журналов, которые, естественно, не могли знать всей армейской специфики, да и не горели желанием изучать её в войсках на передовой, под свист пуль. Поэтому часто именно в тиши кабинетов и рождались статьи со сказочными героическими сюжетами, описывавшие «беспримерные подвиги» воинов Красной армии.
Но вернёмся непосредственно к историографии событий под Курском. К их изучению на документальном материале и доведению первых результатов этой работы до относительно широкой аудитории (старшего командного состава) Генеральный штаба Красной армии приступил осенью 1943 г. Первые серьёзные обобщающие материалы публикуются в № 1 (за ноябрь) 1943 г. нового издания – «Информационного бюллетеня отдела по обобщению опыта войны» и «Сборника материалов по изучению опыта войны» (далее «Сборник…»), которые выходили в конце 1943 г. и начале 1944 г. «Сборник…» издавался с 1942 по 1948 г., и по объему, и по диапазону затрагиваемых тем в нем он значительно превосходил «Бюллетень…», хотя целевая аудитория обоих изданий была одна – старший командный состав армии и преподаватели военно-учебных заведений. В № 9—11 «Сборника…» впервые были опубликованы материалы, посвященные как частным операциям в период весенней оперативной паузы (описанию боя подразделений 148 сд 13 А по захвату опорного пункта Глазуновка в мае 1943 г.), так и важным эпизодам самой битвы (оборонительным боям 19 тк 2 ТА 7—10 июля 1943 г. на рубеже Самодуровка – Молотычи, контрудару войск Воронежского фронта 12 июля 1943 г.).
Сборник № 11 был тематическим, полностью посвящённым «Курской битве». Благодаря обобщению значительного боевого опыта на богатом документальном материале для того времени, это был крупный, глубокий труд, состоявший из 10 глав и 27 схем общим объёмом 216 страниц. Изначально его авторы преследовали лишь практическую цель «ознакомить широкие читательские круги генералов и лиц офицерского состава с некоторыми материалами и предварительными выводами из этой важнейшей и весьма поучительной операции»[10]. Однако, по сути, явилась первой попыткой офицеров Генштаба заложить прочный фундамент для дальнейшего научного анализа этого крупнейшего события войны. В «Сборнике…» довольно обстоятельно изложен ход событий, показана их внутренняя взаимосвязь, дана в основном правильная оценка принимавшимся решениям. Прикладной характер исследования в значительной мере избавил авторов от перекосов и натяжек в описании боевых действий на всех участках Курской дуги, в том числе и тех, что в скором времени будут мифологизированы и включены в систему пропаганды достижений советской власти. Например, в описании контрудара 12 июля 1943 г. на Воронежском фронте откровенно указано на ряд существенных неудач и просчётов, допущенных советской стороной. Во-первых, на то, что 5 гв. ТА генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова в этот день задачу не выполнила. Во-вторых, что «по решению командующего, 5-я гвардейская танковая армия наносила фронтальный удар по отборным танковым дивизиям немцев, не имея существенного превосходства в силах, что могло привести в лучшем случае к выталкиванию противника»[11]. И хотя это решение было принято не командармом, а руководством Воронежского фронта и Генштабом (именно они утвердили боевое построение армии и место её развертывания), а перевес в силах над противником в действительности был (и значительный), но использовать его оказалось невозможно из-за условий местности, тем не менее одна из главных ошибок, изначально заложенная в плане подготовки контрудара, в «Сборнике…» указана чётко.
В-третьих, авторы обошли молчанием уже тогда существовавшее мнение о грандиозном танковом сражении под Прохоровкой, в котором участвовали якобы 1500 танков и сау. Они не стали преувеличивать и без того высокие цифры, приведенные в отчёте 5 гв. ТА, и честно указали, что враг за пять суток боёв (а не за 12 июля 1943 г., как потом будет утверждать П.А. Ротмистров) потерял около 300 танков[12]. Хотя и эти данные явно спорные.
В-четвертых, в «Сборнике…» была высказана обоснованная критика и других решений командования Воронежского фронта, связанных с использованием крупных танковых объединений в обороне[13], и приведён большой массив статистического материала. К сожалению, эти и другие объективные оценки не найдут своего отражения в послевоенных работах советских ученых, их место займут победная риторика и дутые цифры.
Вместе с тем это издание стало родоначальником ряда легенд. Например, о якобы использовании немцами противотанковых самоходных орудий «Фердинанд» в полосе Воронежского фронта, в том числе и под Прохоровкой, или о локализации прорыва полосы 5 гв. А в излучине р. Псёл[14] двумя бригадами армии Ротмистрова вечером 12 июля 1943 г. Кроме того, в нём не совсем ясно определена причина несвоевременного перехода 19 тк в контрудар 6 июля 1943 г. в полосе Центрального фронта. В одном месте авторы отмечают, что корпус был не готов к выполнению задачи не только утром, но и к полудню из-за отсутствия карт своих минных полей на участке ввода[15], а чуть ниже – из-за того, что комкор, якобы получив сведения о неудаче соседнего 16 тк, решил воздержаться от атаки[16].
На основе разработок, включённых в «Сборник…» № 11, который имел гриф «Для служебного пользования»[17], в середине 1944 г. офицером Генштаба подполковником И.В. Паротькиным[18] была подготовлена и опубликована в двух номерах «Исторического журнала» работа «Битва под Курском»[19], ставшая первой научной статьёй об этом грандиозном событии в открытой печати СССР[20]. В ней довольно подробно были описаны боевые действия и сделана попытка дать ряд важных оперативно-стратегических выводов. Кроме того, благодаря этой публикации в отечественной историографии за боями на Огненной дуге закрепилось название – «Курская битва».
В 1943–1945 гг. для доведения успехов Красной армии до широкой армейской и гражданской аудитории военными историками был выпущен ряд небольших книг в мягком переплете, фактически брошюр, о крупных операциях советских войск и флота. «Курская битва. Краткий очерк»[21] (далее – «Краткий очерк»), увидевшая свет в 1945 г., как и все издания этой серии, имела строго пропагандистскую направленность. Поэтому хотя она и стала первой отдельной работой о битве, заметного влияния на осмысление учёными и обществом переломного этапа Великой Отечественной войны не оказала. В ней давалось лишь поверхностное представление о его сражениях, приводился ряд ошибочных оценок, толкований и фактов, которые, к сожалению, до сегодняшнего дня кочуют по страницам книг и периодических изданий. Так, её авторы безосновательно утверждали, что, по мнению германского командования, после успеха «Цитадели» «возникнет выгодная предпосылки для дальнейшего развития наступления немцев в глубь Советского Союза – на Москву»[22]. Хотя в известном оперативном приказе Гитлера № 6 отмечалось, что если обстановка будет развиваться по намеченному плану, то вермахту наступать следует на юго-восток, то есть в тыл Юго-Западному фронту (операция «Пантера»). В брошюре впервые для широкой аудитории был представлен и миф о грандиозном Прохоровском сражении, в котором «с обеих сторон одновременно участвовало свыше 1500 танков»[23]. Новым, важным моментом этого издания явилось то, что его авторы впервые в отечественной литературе дали периодизацию Курской битвы. Это событие разбивалось на два этапа: оборонительный период, длившийся с 5 по 23 июля, и контрнаступление – 12 июля – 23 августа, целью которого стал разгром орловской и белгородско-харьковской группировок неприятеля. Тем не менее, несмотря на невысокое качество и откровенно пропагандистский характер, по оценке некоторых советских исследователей, «Краткий очерк» «довольно длительное время оказывал влияние на разработку истории Курской битвы»[24].
В этот же период с целью распространения в войсках успешного опыта решения конкретных боевых задач частями и подразделениями всех родов войск большими тиражами печатались различные брошюры с описание тактических примеров и удачных боев, в том числе и в период Курской битвы. Нацеленность на армейскую аудиторию придавала их материалам две важные особенности. Положительным являлось то, что они готовились только на основе боевых документов, это позволяло авторам описывать события и делать выводы с высокой долей достоверности. В них обязательно включались и положительные, и отрицательные примеры деятельности войск, удачные решения командиров с точной привязкой к местности и упоминались полные названия населенных пунктов и высот. В условиях войны и повышенных мер секретности это было необычно, информация из этих изданий явилась ценной для дальнейшего изучения содержания событий под Курском. К сожалению, на тот момент эта литература относилась к категории секретной, поэтому не была доступна для гражданских историков, а те, кто получал пропуск в военные библиотеки, давали подписку о неразглашении данных. Поэтому ни о публикациях с привлечением этих источников, ни об обмене информацией между исследователями речи быть не могло, что существенно осложняло начало комплексного анализа событий лета 1943 г. и отсрочило научную разработку истории Курской битвы. Тем не менее проводившаяся до конца войны военно-историческими подразделениями Красной армии большая работа по накоплению и систематизации материала имела важное значение для дальнейшего изучения битвы на Огненной дуге в силу её прямой связи с практической боевой деятельностью войск. Именно в это время был создан серьёзный задел и для разработки истории Великой Отечественной войны в целом.
Вместе с тем нельзя не отметить и ряд отрицательных факторов, которые в это время серьёзно влияли и на качество, и на масштаб исследований военных историков. Во-первых, узость базы источников. Работа велась в основном с отчётными материалами, поступившими из войск сразу после операций. Во-вторых, малочисленность военно-исторических органов, по сути, он был один, работающий на реальный результат (публикации, лекции и т. д.), – это отдел Генштаба, в котором числилось лишь 15 старших офицеров. Невысокий уровень квалификации его сотрудников (в большинстве своем это были обычные строевые офицеры, имевшие определенный уровень образования и боевой опыт) и отсутствие у них необходимых навыков для обобщения информации о крупных (стратегических) операциях. В документах первого Всеармейского совещания сотрудников военно-исторических отделов в Москве осенью 1943 г. отмечалось: «Вопросу подбора и выращивания кадров не везде уделяется достаточно внимания. Нередко к изучению опыта войны привлекаются офицеры со слабой оперативно-тактической подготовкой. Конечно, в условиях военного времени исключается возможность полностью обеспечить изучение опыта войны подготовленными к исследовательской работе офицерами. Поэтому предназначенным к этой работе молодым офицерам нужно оказать на первых порах повседневную практическую помощь. Между тем старшие начальники, к сожалению, делают это не везде.
Типичным является некомплект офицеров групп по изучению и использованию опыта войны в штабах фронтов и армий в пределах 25 %.
Обращает также на себя внимание и тот факт, что инициативная, творческая работа офицеров-опытников[25] не всегда находит должную оценку и поддержку со стороны старших начальников»[26].
В-третьих, закрытость военной науки и невозможность привлечения квалифицированных гражданских кадров для разработки военных тем. Кроме того, крайне негативное влияние оказывал культ личности. Например, авторы книги «В боях за Орёл» главной и основной причиной победы в битве под Курском называли «глубоко продуманные, до предела точные и реальные планы нашего Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина»[27]. Этот тезис красной нитью проходит практически через все публикации конца 1940-х – начала 1950-х гг. Он лишал историков возможности реально оценивать планы советского командования не только на стратегическом, но и на оперативном уровне, результаты боевой работы Красной армии в ходе битвы, а тем более высказывать критические замечания. «В целом же, – писал ведущий советский специалист по Курской битве полковник Г.А. Колтунов, – для всей вышедшей в годы войны литературы по истории Курской битвы характерно было то, что в ней эта битва показывалась как один из важнейших этапов на пути полного разгрома немецко-фашистских захватчиков. События рассматривались в самых общих чертах… во всех работах опускалось соотношение сил и содержание боевых приказов. Мало уделялось внимания и вопросам военного искусства»[28].
Сразу после разгрома нацистской Германии обобщение опыта войны продолжилось, но уже на более высоком уровне. Руководство Вооруженных сил СССР считало его важным средством по совершенствованию форм и методов управления войсками. Заметно увеличилось число военно-исторических отделов в штабах родов войск. К этому процессу активно подключились военно-учебные заведения. Так, например, только в одной из ведущих военных академий им. М.В. Фрунзе в 1947–1950 гг. предмету «История военного искусства» в программе подготовки строевых офицеров отводилось 550 академических часов. Для сравнения: в учебном плане Академии Генерального штаба РФ на 2010 г. – только 124 часа[29]. Специально для подготовки военных историков и повышения их квалификации в этой академии был создан военно-исторический факультет, на котором в первые 5–6 лет после окончания войны прошли подготовку ряд офицеров-фронтовиков, впоследствии сформировавших небольшую когорту ученых, которым будет суждено начать масштабную работу по разработке истории Курской битвы. Среди них в первую очередь следует назвать генерал-майора И.В. Паротькина, полковников Г.В. Колтунова, И.И. Маркина, Д.М. Палевича, Б.Г. Соловьева.
Главным координирующим центром военно-исторических исследований по-прежнему являлся Генеральный штаб. В 1946–1947 гг. его сотрудниками была предпринята первая попытка подготовить фундаментальный научный труд по истории событий под Курском. Для этого были использованы наработки отдела по обобщению и использованию опыта Отечественной войны Генштаба под руководством генерал-майора П.П. Вечного за 1943–1945 гг. Рукопись будущей книги готовилась на обширной документальной базе, отличалась большой степенью детализации боевых действий на уровне полк – дивизия и насыщенностью статистическим материалом. В ней впервые была дана периодизация некоторых сражений, в частности Прохоровского, которая довольно точно отражает суть происходившего летом 1943 г. Однако авторы не использовали материалы по стратегическому планированию (документы Генштаба и Ставки ВГК) и мало привлекали трофейные источники. Это не позволило им достоверно и детально раскрыть суть плана «Цитадель», определить дальнейший замысел Берлина в случае успеха операции, дать точную оценку численности и качества привлекавшихся частей и соединений вермахта для её реализации и их потери как на отдельных этапах, так и в ходе битвы в целом, провести всесторонний стратегический анализ решений и действий противоборствующих сторон. Но главное в исследовании – не был найден приемлемый баланс между материалом описательного и аналитического характера.
Некритичный подход к имевшимся в распоряжении авторов источникам (главным образом отчёты корпусов, армий и фронтов) привёл к тому, что в исследовании были допущены ряд ошибок, преувеличение сил сторон в некоторых сражениях (например, 12 июля 1943 г. под Прохоровкой), недостаточно тщательно проработаны отдельные аспекты важных событий битвы (неверно изложены действия 5-й гв. ТА 10 июля 1943 г.), отсутствовали развернутые выводы и оценки по результатам ряда ключевых боёв и важных мероприятий командования армий и фронтов. Вместе с тем, как справедливо отметил на совещании в Генштабе в мае 1948 г. при обсуждении этого труда полковник В.А. Савин, авторы попытались сгладить отрицательные стороны и ошибки, допущенные советской стороной на всех стадиях этого грандиозного события[30].
Эта работа стала первым и, к сожалению, единственным фундаментальным исследованием на документальном материале по данной проблематике в нашей стране за весь послевоенный период, да к тому же с минимальной идеологической составляющей. Первоначально предполагалось, что она станет основой для многотомного издания, и материал, подготовленный авторским коллективом, имел все основания после доработки претендовать на это. Однако руководство Генерального штаба и ЦК ВКП(б) не видело смысла в переработке рукописи из-за того, что авторы представили Курскую битву не как грандиозное военно-историческое событие Второй мировой войны и мировой военной истории, в котором Советский Союз играл ключевую роль, а лишь как успешную боевую операцию Красной армии. Именно это не позволило реализовать первоначальный замысел. Хотя материалы из неё (выводы, факты, статистические данные) широко использовались в трудах советских военных историков вплоть до начала 1990-х гг., но по причине секретности ссылка в открытой печати не давалась.
Прекращение деятельности группы и передача уже почти готового труда в архив негативно повлияли на разработку, как истории переломного этапа войны, так и на всю деятельность советских ученых по изучению Великой Отечественной. В это время изучение Курской битвы фактически было закрыто для гражданских историков и отдано на откуп органам пропаганды, а наработки военных скрыты под грифом секретности. Широкая общественность получала информацию о ней лишь из куцых публикаций сомнительного качества в таких специфических изданиях, как «Пропагандист и агитатор Министерства обороны СССР», «Блокнот агитатора Советской армии», «Красный воин» и т. п. Поэтому вплоть до второй половины 1950-х гг. добротного научного исследования по данной тематике в нашей стране подготовлено не было. Вся открытая литература о битве носила поверхностный характер и была призвана доносить до советских людей лишь определенный ещё в 1945 г. в «Кратком очерке» объём строго дозированной информации.
Причин этому несколько, главными, оказывавшими наиболее существенное влияние на протяжении всего послевоенного периода, были две: идеологическая целесообразность и личные пристрастия первых лиц СССР, их оценки событий минувшего. До начала 1953 г. изучение Великой Отечественной находилось в «замороженном состоянии», анализом её отдельных аспектов в прикладных целях занимались лишь военные. Сразу после Победы И.В. Сталин запретил издание любых сборников воспоминаний и исследований о войне для широкой аудитории, аргументируя это тем, что прошло мало времени и объективно оценить столь грандиозное событие пока невозможно[31]. В действительности же вождь хотел как можно быстрее забыть, «сдать в архив» всё, что было связано с периодом 1941–1945 гг., когда им лично было допущено столько крупных ошибок и просчётов. Напомню, именно в это время 9 мая перестаёт быть «красным днем календаря». Тем не менее на излёте сталинской эпохи некоторые сражения под Курском все-таки нашли своё отражение даже в научных трудах военных историков. Например, в конце 1952 г. полковник Д.Я. Палевич[32] успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме: «Контрудар 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой в июле 1943»[33]. Однако, как и все военные разработки этого времени, она имела гриф «для служебного пользования», т. е. доступ к ней был крайне ограничен, поэтому не могла появиться в открытой печати. Этим долгое время успешно пользовались идеологические органы и недобросовестные авторы, штампуя, развивая и совершенствуя всякого рода мифы и легенды о событиях на Огненной дуге».
С середины 1950-х гг. интерес нашего общества к недавнему прошлому стал заметно усиливаться. Важным «индикатором» этого стало появление мемуарной литературы и резкий рост её тиражей в последующие годы. Однако государственными органами, имевшими отношение к исторической науке и пропаганде её результатов, основное внимание уделялось первому периоду войны, Московской и особенно Сталинградской битвам. Этому способствовало и колоссальное влияние тех событий на исход борьбы с фашизмом, и их трагический окрас, а главное – многие из крупных фигур тогдашнего руководства СССР и армии имели к ним прямое отношение и считали участие в тех событиях существенной вехой своей карьеры.
Завершая обзор первого периода историографии, нельзя не упомянуть важную тенденцию, возникшую в первой половине 1950-х гг. Сразу после смерти И.В. Сталина в СССР начинают печататься книги генералов и фельдмаршалов гитлеровской Германии. Причем первыми увидели свет работы тех, кто по долгу службы в вермахте имел отношение к Курской битве. Так, в 1954 г. печатаются мемуары творца германских бронетанковых войск, участника планирования и подготовки операции «Цитадель» Г. Гудериана «Воспоминания немецкого генерала»[34], а через три года «Воениздат» выпускает сразу две книги воспоминаний бывших: командующего ГА «Юг» Э. фон Манштейна «Утерянные победы»[35] и начальника штаба 48 тк генерала Ф. фон Меллентина «Танковые сражения 1939–1945»[36]. Несмотря на то что эти книги (на русском языке) имели гриф «Для служебного пользования»[37], их появление сыграло положительную роль в расширении представления советских учёных о событиях лета 1943 г. Благодаря им впервые был приоткрыт занавес над процессом подготовки «Цитадели», а также стали известны мнения и оценки ключевых фигур вермахта по ряду важных проблем планирования и проведения летней кампании 1943 г. Интересны были и оценки уровня подготовки личного состава Красной армии, прежде всего её командования, сильных и слабых сторон советских войск нашим бывшим противником. И хотя советские историки в то время были обязаны только «искать соринки во вражеском глазу», тем не менее это был ценный материал как для научного анализа всего, что было связано с Курской битвой, так и для конструктивной критики «идеологических противников». Эта положительная тенденция сохранялась и в последующие годы, но в 1960–1980 гг. у нас издавались, к сожалению, лишь мемуары, авторы которых не участвовали в сражениях под Курском. Тем не менее в условиях крайнего дефицита информации о военной организации нацистской Германии эти труды стали важным источником для наших ученых, в том числе и по исследуемой нами тематике.
Подводя некоторые итоги за 14 лет, прошедших с момента Курской битвы, следует отметить две важные разнонаправленные тенденции, возникшие в это время. Во-первых, военными историками была проделана, безусловно, большая работа по обобщению документального материала (в том числе и трофейных источников) и первичному анализу событий. Наиболее существенным результатом этого, бесспорно, явился двухтомник, подготовленный офицерами Генштаба. Созданная основа позволяла, даже в условиях жёстких идеологических рамок изоляции советских учёных от западных исследований и основной массы трофейных источников, перейти на новый качественный уровень – к изучению темы в широком стратегическом плане и подготовки фундаментального научного труда не только в интересах армии, но и для широкого круга читателей.
Во-вторых, в связи со смертью И.В. Сталина и последовавшими за этим событиями в руководстве армией изменилось отношение к военно-исторической науке вообще и к работе по анализу опыта Великой Отечественной войны в частности. Она была признана неактуальной. В конце 1953 – в первой половине 1954 г. произошло существенное сокращение военно-исторических структур и кафедр истории войны и военного искусства в военных учебных заведениях. Значительная часть квалифицированных кадров уволена или направлена в другие сферы деятельности. Учитывая, что настоящие научные исследования в это время проводились исключительно военными, изучение Курской битвы также было в основном свёрнуто, а авторы работ, вышедших из печати между 1954 и 1958 гг., использовали уже имевшиеся наработки. В этой связи как пример можно отметить успешную деятельность Академии им. Фрунзе по изданию многотомного труда – «Курс лекций по военному искусству», в котором были отражены в том числе и крупные вопросы битвы под Курском. Так, например, в его шестом томе (опубликован в 1957 г.) приведён анализ контрудара войск Центрального фронта 6 июля 1943 г.
Новый, второй, период изучения Курской битвы начался в 1957 г. и был связан с ХХ съездом КПСС, который открыл недолгий, но динамичный и интересный отрезок в общественной жизни СССР, получивший название «хрущёвская оттепель»[38]. В исторической науке это время характеризовалось разнонаправленностью тенденций в изучении как всей войны, так и отдельных её битв и сражений. С одной стороны, заметно увеличился масштаб и качество военно-исторических исследований, начали формироваться новые подходы к анализу событий 1941–1945 гг. Расширились направления работы советских учёных, увеличилась проблематика их публикаций, в научный оборот начали вводиться новые документальные источники, в том числе и трофейные материалы, что способствовало накоплению значительного объема знаний о переломном этапе войны. Важной чертой этого периода стал некоторый отход отечественных историков от одностороннего показа событий, анализ боевых действий в их развитии с привлечением западных источников, изучение проблем и просчётов, допущенных при планировании и проведении крупномасштабных операций как политическим руководством страны, так и армейским командованием на всех уровнях. Вместе с тем к завершению этого этапа чётко обозначилась тенденция отхода от принципов, выработанных в период «оттепели». Вместо вскрытия проблем, анализа их причин и того, как они исправлялись (или нет), историки перейдут к «сглаживанию острых углов» и наведению «победного лоска». Эти тенденции найдут отражение и в противоречивых выводах по крупным проблемам событий лета 1943 г. под Курском.
Изменения в жизни страны сразу после съезда, несмотря на широкий резонанс и довольно существенную поддержку в широких слоях общества, которые получили его решения, шли робко, с оглядкой, под жёстким неусыпным контролем Коммунистической партии и её идеологических органов. Все серьезные проблемы, в том числе и в области общественных наук, как и раньше, решались только директивным путём. Поэтому и ключевую роль в активизации исследований о Курской битве сыграло заявление первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва, сделанное им на партийном пленуме в октябре 1957 г. В выступлении на этом представительном форуме, где глава государства наглядно продемонстрировал свою силу в борьбе за абсолютную власть, отправив в отставку обладавшего большим авторитетом Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, он коснулся и проблем исторической науки. Никита Сергеевич, сам участник войны, в том числе и битвы на Огненной дуге, тогда счёл необходимым высказать своё мнение и о том, «в каком ключе» теперь следует рассматривать крупные вопросы истории Великой Отечественной, которые по-прежнему оставались важным фактором общественно-политической жизни СССР, а значит, и идеологической работы партии. «После Сталинграда началось наступление наших войск, по-другому протекала битва по окончательному разгрому врага, – подчеркнул он. – Но мне кажется, что окончательное превосходство и перелом в войне были достигнуты в 1943 году в сражении на Курской дуге»[39] (выделено мной. – В.З.).
Если сравнивать Н.С. Хрущёва с его преемником Л.И. Брежневым, то Никита Сергеевич был человеком довольно скромным: полководческими орденами «Победа» себя не награждал, как получил в 1943 г. персональное воинское звание генерал-лейтенанта, так в этом звании и ушёл на заслуженный отдых. Однако к своему боевому прошлому и участию в битвах минувшей войны тоже относился с большим трепетом. Ревностно следил за тем, как оно освещается в печати, даже в закрытых брошюрках, изданных крохотными тиражами. И если считал, что его вклад в Победу недостойно отмечен, разносы устраивал нешуточные, на уровне правительства[40]. Зная эту особенность, не только его «ближний круг», но и вся бюрократическая система после октябрьского пленума 1957 г. уже без дополнительных напоминаний активно заработала в указанном направлении. С учётом мнения первого секретаря в 1958 г. было оперативно подготовлено постановление ЦК КПСС об издании шеститомной истории Великой Отечественной войны, в которой теме Курской битвы будет придано подобающее значение. Кроме того, было принято решение об усилении освещения её событий в печати, издании ряда научно-популярных книг на эту тему и сборников воспоминаний участников боёв.
Что касается развития военно-исторической науки в целом, то в это время, как и в прежние годы, оно шло по двум направлениям в военной и гражданской сфере, которые между собой соприкасались редко. Военные ученые, безусловно, лидировали, но широкой общественности результаты их труда были недоступны. В условиях секретности в подчиненных Министерству обороны СССР научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях для нужд армии анализировался и обобщался богатый опыт войны, хотя и не в таких масштабах, как в конце 1940 г. При рациональном подходе к делу часть разработок военных без ущерба обороноспособности государства могла быть передана гражданским историкам. Это, несомненно, дало бы положительный толчок для исторической науки в целом. Однако ещё в годы войны всё, что касалось действующей армии, засекречивалось, и в первую очередь то, что было связано с решениями её командования. Осознавая масштаб катастрофы первого периода Великой Отечественной и понимая свою ответственность за колоссальные потери, высшее политическое и военное руководство СССР делало всё, чтобы скрыть от народа её реальные события. Эта тенденция сохранялась вплоть до развала СССР, так как организаторы и творцы провальных операций и сражений долгие годы после Победы продолжали находиться на важных партийных и государственных постах. Тотальная секретность считалась простым и надёжным средством сокрытия правды о неудобном прошлом и стирания из памяти народа целых десятилетий, которые не вписывались в идеологическую концепцию власти.
Понимая, что дальнейшее развитие военно-исторической науки в закрытом режиме малоэффективно, стремясь привлечь для активной творческой работы по военной тематике более широкий круг офицеров и генералов, а главное, создать официальный (значит, подконтрольный) канал распространения военно-исторических знаний, руководство СССР учреждает (восстанавливает) периодическое издание – «Военно-исторический журнал». Его первый номер вышел в свет в январе 1959 г.[41] Как вспоминали некоторые члены редколлегии, они пришли на работу с большим желанием создать интересное, подлинно научное издание. И уже в первые годы он действительно стал лидером в борьбе за правдивое и всестороннее освещение истории Великой Отечественной войны, распространение военно-исторических знаний, его публикации способствовали повышению общего методологического уровня советской исторической науки. Именно в этом журнале впервые начали печататься статьи, в которых авторы освещали Курскую битву по-новому, используя более широкую, чем раньше, источниковую базу для рассмотрения её ключевых сражений и проблем. Уже в шестом номере были опубликованы воспоминания бывшего командующего Центральным фронтом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского о боях на Огненной дуге. Их ценность заключалась в том, что непосредственный участник тех событий рассказал, как вырабатывалось и принималось советским командованием решение на переход к преднамеренной обороне, какие факторы на это влияли и какие цели ставила Ставка ВГК на первом этапе битвы.
Через три года после восстановления журнала редакция, стремясь уйти от одностороннего освещения темы коренного перелома и ввести в научный оборот значимые источники германской армии, публикует впервые в СССР основополагающий документ по операции «Цитадель» – оперативный приказ Гитлера № 6 от 15 апреля 1943 г. Он сопровождался комментарием полковника Б.Г. Соловьева[42], в котором детально излагались общий замысел наступления, цели и задачи привлекавшихся для его реализации войск ГА «Центр» и «Юг» и их варианты действий в случае успеха.
Эта идея нашла живой отклик у читателей и специалистов, поэтому получила своё дальнейшее развитие. В 1966 г. журнал напечатал стенограмму совещания в Ставке Гитлера 26 июля 1943 г.[43], которая наглядно свидетельствовала о тяжёлом положении вермахта после срыва «Цитадели». А через два года в нём публикуются ещё пять документов, перепечатанных из книги западногерманского исследователя Э. Клинка[44], которые относились непосредственно к планированию удара на Курск с комментарием полковников Г. Заставенко и Б. Соловьева: «Проект операции «Цитадель» группы армий «Центр» от 12 апреля 1943 г.», «Оценка обстановки для проведения операции «Цитадель» и ее продолжения» командованием 4 ТА, приказы на операцию «Цитадель» 4 ТА и АГ «Кемпф», а также обращение Гитлера к офицерам перед началом наступления[45].
Все трофейные материалы, вышедшие в «Военно-историческом журнале» с 1961 по 1968 г., стали для отечественных историков ценнейшим источником, заметно расширившим их представление об истинных замыслах гитлеровского командования. Они позволили переосмыслить ряд устоявшихся представлений, в частности на планы Берлина в случае успешного завершения первой фазы наступления, и оказали положительное влияние на разработку истории Курской битвы в целом. Следует отметить, что и сегодня эти материалы не потеряли своего значения.
Эту серию документов существенно дополнил сборник «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы»[46], вышедший в 1967 г. В нём были сведены воедино все ранее опубликованные в СССР трофейные материалы, в том числе и о летней кампании 1943 г., и, что очень важно, к ним был дан развернутый научный комментарий. Статья о документальных источниках по Курской битве содержала на редкость глубокий, всесторонний анализ плана германского командования на лето 1943 г. и процесс подготовки войск к удару на Курск, который был впервые проведён на широкой базе трофейных источников. Вплоть до распада Советского Союза эта работа была наиболее полной и достоверной по данной проблематике. Она оказала серьёзное влияние на дальнейшие работы отечественных историков.
Содержательными, наполненными новыми данными явились публикации ведущего советского военного специалиста по Курской битве полковника Г.А. Колтунова[47], печатавшиеся в это время в «Военно-историческом журнале». Одной из особенностей работ Г.А. Колтунова был критический подход к обсуждавшимся проблемам, например в оценке уровня изученности ключевых проблем лета 1943 г. Так, в статье «Военно-историческая литература о битве под Курском» он впервые провёл довольно подробный анализ историографии Курской битвы с 1943 по середину 1960-х гг. и очертил круг вопросов, не решённых отечественной наукой на тот момент. Как наиболее значимые им были отмечены следующие проблемы: отсутствие описания рубежа обороны Степного военного округа, планирование операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев», их увязка с оборонительной фазой Курской битвы (Курской оборонительной операцией), оценка советской глубоко эшелонированной обороны и применение опыта её использования войсками Красной армии в операциях 1944–1945 гг. Например, именно он первым из советских учёных в открытой печати высказал важную мысль о том, что оборона под Курском не была типичной для Великой Отечественной войны: «Здесь была сосредоточена крупная наступательная группировка советских войск. Это один из редчайших случаев в истории военного искусства, когда обороняющаяся сторона имела превосходство в силах и средствах…Всё это не дает никакого основания считать эту оборону, прежде всего группировку сил и средств, инженерное обеспечение и др., образцом, достойным для подражания»[48].
Особо хочу остановиться на статье Г.А. Колтунова «Курская битва в цифрах (Период обороны)»[49], напечатанной в «Военно-историческом журнале» № 6 за 1968 г. Она стала одной из наиболее важных публикаций по данной тематике за весь второй период историографии. В ней был приведён ранее не вводившийся в научный оборот большой массив статистического материала по численному составу, количеству вооружения и техники советских (Центрального и Воронежского фронтов) и германских войск, развернутых в начале июля 1943 г. в районе Курской дуги. Кроме того, были представлены сводные данные по оперативной плотности войск Центрального и Воронежского фронтов перед битвой, дана тактическая плотность и соотношение противоборствующих сил на участках прорыва советской обороны, а также приводились цифры темпа (среднего) продвижения германских войск в ходе операции «Цитадель» по дням. Вся информация была сведена в 14 таблиц и сопровождалась комментарием. В тот момент эта информация имела важное значение. Однако сразу следует отметить, что автором был допущен и ряд грубых ошибок, прежде всего в отношении войск противника, т. к. почти все они были расчётными и, как сегодня стало понятно, далёкими от реальности. Вместе с тем внимательный анализ немецких данных наводит на мысль, что цифры составлены таким образом, чтобы скрыть ошибку, которая была допущена советской стороной при подготовке Курской оборонительной операции. Как известно, тогда Москва сосредоточила значительно большие силы в полосе Центрального фронта, где вражеская группировка (9 А) была заметно слабее, чем перед Воронежским. Таблицы же Г.А. Колтунова говорят о другом, что якобы 9 А была более многочисленна, чем её соседи 4 ТА и АГ «Кемпф» ГА «Юг». Не понятно, на каком основании, но в своих расчётах автор использовал также и данные по 2 ТА, которая, как известно, не участвовала в операции «Цитадель». Кроме того, и при подсчёте, например, оперативной плотности войск в полосе АГ «Кемпф» на 5 июля 1943 г. автор допустил ошибку, два её участвовавших в наступлении корпуса (3 тк и 11 ак) были развернуты не на участке в 170 км, как он указал, а всего на 32 км[50]. Сегодня трудно понять, специально это было сделано (под давлением цензурных органов) или из-за отсутствия другой информации автор был вынужден пользоваться цифрами, которые готовились задолго до него на основе ошибочных разведданных. Но в любом случае в этой части его статья работала не в пользу научного подхода к проблематике, а на обоснование одного из мифов, сформированных советской пропагандой.
Тем не менее это был первый, появившийся в открытой советской печати столь значительный массив статистического материала об этом событии. Он, безусловно, расширял кругозор гражданских историков, позволял, опираясь не на слова, как это было в значительной мере ранее, а на сухие цифры, представить реальный масштаб оборонительной фазы Курской битвы, оценить силы и средства Красной армии, которые были развернуты на севере и юге Курского выступа. К сожалению, статья стала не только первой, но и единственной подобного рода в советской историографии Курской битвы, поэтому часть отечественных исследователей используют данные из неё даже сегодня. Причём часто без критического анализа[51].
И тем не менее происходившие в СССР перемены не оказывали заметного влияния на фундаментальные исследования в исторической науке. Примером этому может служить начавший выходить с 1958 г. четырехтомник «Операции советских Вооружённых сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», подготовленный сотрудниками Генерального штаба. В нём не только излагались прежние, в том числе и ошибочные, взгляды и представления о битвах и сражениях (например, об участии 1500 бронеединиц в сражении под Прохоровкой), но и была допущена недооценка действий некоторых армий в крупных операциях, неверно указаны причины ряда неудач Красной армии. Так, например, его авторы утверждали, что невыполнение задач войсками 5 гв. ТА 12 июля 1943 г. было связано с «отсутствием достаточного времени для подготовки контрудара» и «пассивностью действий 1-й танковой, 5, 6 и 7-й гвардейских армий, участвовавших в контрударе»[52], хотя это не соответствовало действительности. Войска Ротмистрова начали сосредотачиваться в районе Прохоровки во второй половине дня 9 июля 1943 г., следовательно, для приведения себя в порядок после марша и подготовки боевых действий армия имела в запасе двое суток. По фронтовым меркам этого было вполне достаточно. Что же касается упрёка в адрес других армий, якобы не участвовавших в контрударе, то и это утверждение далеко от исторической правды. Во-первых, именно активные действия 10 тк 1 ТА 12 июля сорвали разворот под Прохоровку на помощь 2 тк СС моторизованной дивизии «Великая Германия», одного из самых сильных соединений 48 тк 4 ТА. Во-вторых, 5 гв. А генерал-лейтенанта А.С. Жадова, действовавшая правее армии Ротмистрова, хотя и не выполнила задачу контрудара, а её стрелковые дивизии в излучине Псела по объективным причинам были вынуждены несколько отойти на восток, тем не менее не допустила прорыва своего рубежа, а мд СС «Мёртвая голова», по признанию самих немцев, потеряла здесь больше бронетехники, чем войска СС на направлении главного удара 5 гв. ТА.
Важной особенностью военно-исторических изданий начала 1960-х гг. было описание общего хода боевых действий в полосе Центрального фронта летом 1943 г. и отдельных сражений его войск без особых перекосов и откровенных преувеличений, как это наблюдалось в отношении событий на юге Курской дуги. Например, оборонительные бои у ст. Поныри, которые в 1970-е гг. станут сравнивать по масштабу с Прохоровским сражением, в книге «Операции советских Вооружённых сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» оценивались лишь как «поучительный пример упорства в обороне»[53] 307-й стрелковой дивизии, а победа в них справедливо была отнесена за счёт высокой плотности наших сил, правильного использования частей и соединений различных родов войск и умело налаженного взаимодействия.
Одной из существенных негативных особенностей историографии Курской битвы этого периода, да и последующих лет, было выпячивание заслуг отдельных армий, корпусов и даже дивизий в её победе. Эта тенденция зародилась ещё в 1943 г. и была связана с желанием высокопоставленных генералов Красной армии поучаствовать в «наградном марафоне» и с определенной косностью в работе военно-исторических подразделений Генштаба. После войны она продолжила развиваться, но на неё влияли уже иные факторы. Во-первых, военно-педагогическая и военно-научная деятельность П.А. Ротмистрова[54]. Во-вторых, участие Н.С. Хрущёва в Курской битве в качестве члена Военного совета Воронежского фронта. Безудержным восхвалением деятельности Н.С. Хрущёва в годы Великой Отечественной войны были переполнены практически все публикации с конца 1950-х – начала 1960-х гг. В угоду активно формировавшемуся культу главы государства искажались важнейшие события, вымарывались целые пласты из истории минувшей войны, вычёркивалась многомесячная, кропотливая, творческая работа больших коллективов армейских и фронтовых штабов по планированию и подготовке битв и сражений. Стремясь «идти в ногу со временем», некоторые авторы включали в свои труды целые абзацы, в которых описывалось, как Никита Сергеевич фактически выполняет функции командующего фронтом, без прямого на то распоряжения или хотя бы рекомендации последнего. Ярким примером подобного «творческого осмысления прошлого» могут служить статьи и брошюры П.А. Ротмистрова и книга бывшего члена Военного совета 1 гв. ТА Н.К. Попеля[55] «Танки повернули на запад»[56], опубликованные в этот период.
Для раздувания значения деятельности Н.С. Хрущёва в годы войны идеологические органы уже в начале 1960-х гг. стали использовать и мемуары полководцев. Хотя в их узком кругу он, как военный специалист, мягко говоря, авторитетом никогда не пользовался. Тем не менее все чаще в статьях и воспоминаниях бывших командующих фронтами, а затем и армиями стали появляться хвалебные оды о его масштабной и кипучей работе. Так, например, К.К. Рокоссовский в сборнике «На Огненной дуге. Воспоминания и очерки о Курской битве» «рассказал» о том, как в период подготовки к летним боям 1943 г. в штаб Центрального фронта, которым он командовал, несколько раз приезжал член Военного совета (соседнего!) Воронежского фронта Н.С. Хрущёв, чтобы проинформировать «о сложившемся к тому времени вокруг Советского Союза положении»[57]. Как правило, полководцы и военачальники обладали непростыми характерами. Поэтому во избежание скандалов, которые они могли учинить, такие вставки обязательно согласовывались с ними «под роспись». Г.К. Жуков, не один год боровшийся против подобных «вкраплений» в рукопись своей книги мемуаров (не понимая, как это можно маршалу и коммунисту так врать и пресмыкаться), в личном письме К.К. Рокоссовскому очень жёстко указывал по этому конкретному эпизоду: «Я внимательно слежу за Вашими выступлениями в печати. И всегда жду от Вас правдивого описания истории операций. Но, увы! И Вы, Константин Константинович, оказывается, не лишены желания пококетничать перед зеркалом истории, некоего украшательства своей личности и искажения фактов. Напомню лишь некоторые. Описывая подготовку войск Центрального фронта к Курской битве. Вы писали о выдающейся роли Хрущева Н.С. в этой величайшей операции. Вы писали, что он приезжал к Вам на фронт и якобы давал мудрые советы, «далеко выходящие за рамки фронтов». Вы представили в печати его персону в таком виде, что Хрущев вроде играл какую-то особо выдающуюся роль в войне. А этого-то, как известно, не было, и Вы это знали. Как Вам известно, с Хрущевым приезжал и я. Напомню, что было на самом деле: был хороший обед, за которым Хрущев и Булганин крепко подвыпили. Было рассказано Хрущевым и Булганиным много шуток, анекдотов, а затем Хрущев уехал в штаб Воронежского фронта, а я остался во вверенном Вам фронте, где отрабатывались вопросы предстоящей операции с выездом в войска. Надеюсь этого Вы еще не забыли?»[58]
Но наиболее масштабно и зримо эта пагубная тенденция проявилась в шеститомнике «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Вот как оценивал это издание бывший начальник Генерального штаба Красной армии Маршал Советского Союза А.М. Василевский: «…Читаешь многотомную Историю Великой Отечественной войны… и иногда удивляешься. В период подготовки Сталинградской операции и в период самой операции, в том числе в период самых ожесточенных боев с Котельнической группировкой немцев, я ездил из одной армии в другую, из одних частей в другие буквально все время в одной машине с Хрущевым. Он не вылезал из моей машины, всегда, где был я, был и он. Но вот читаешь эту историю, и в ней написано: «Товарищ Хрущев приехал туда-то», «Товарищ Хрущёв прибыл на командный пункт в такой-то корпус», «Товарищ Хрущев говорил там-то и с тем-то» и так далее, и так далее. А где начальник Генерального штаба, так и остается неизвестным.
Ещё более странно описано в этой Истории планирование операции на Курской дуге. Из этого описания может создаться ощущение, что эта операция была в основном спланирована на Воронежском фронте, тогда как на самом деле для планирования этой операции съехались и участвовали в ней Жуков, Рокоссовский, я, Ватутин подъехал туда во время этой работы и Хрущев. Это действительно так, но не сверх того»[59].
Ему вторил Г.К. Жуков: «…Лакированная эта история. Я считаю, что в этом отношении описание истории, хотя тоже извращенное, но всё-таки более честное у немецких генералов, они правдивее пишут. А вот «История Великой Отечественной войны» абсолютно неправдивая. Это не история, которая была, а история, которая написана. Она отвечает духу современности. Кого надо прославить, о ком надо умолчать»[60].
В словах ключевых фигур Красной армии минимум личного и обид за забвение. Действительно, издание получилось откровенно ангажированным, в нём были упущены или задвинуты в историческое небытие ряд важных событий, крупных персонажей и существенных факторов, в том числе и те, что реально влияли на решение советского и германского командования при планировании летней кампании 1943 г.
Так, в третьем томе при изложении событий на Украине в феврале—марте 1943 г. был сделан упор на срыв советскими войсками планов противника. Однако умалчивалось о поражении Воронежского и Юго-Западного фронтов, больших потерях их войск, оставлении значительной части, 150 км, уже освобожденной территории, в том числе и о сдаче врагу крупного индустриального и административного центра Харькова. «Забыли» авторы упомянуть и о том, что не получили развития и начавшиеся в это время ряд наступательных операций Центрального и Брянского фронтов. Были обойдены молчанием не только эти крупные неудачи в районе Курской дуги, но, что самое важное, до конца не были вскрыты их причины. Хотя, как известно, верные выводы из уже проведенных масштабных операций, даже неудачных, весьма продуктивны, т. к. не теоретически, а в ходе боевой работы выявляют наиболее слабые места в планировании и подготовке войск.
А ведь весной 1943 г. Ставка ВГК и Генеральный штаб анализировали и итоги трёхмесячного контрнаступления на юге советско-германского фронта, и обстановку, сложившуюся после отхода двух фронтов с Украины. Выводы оказались неутешительными: результаты боевых действий после Сталинграда могли быть более весомыми. По крайней мере, при правильном расчёте своих сил, трезвой оценке противника и складывавшейся ситуации была реальная возможность удержать уже освобожденные Харьков и Белгород. В то же время контрудар Манштейна продемонстрировал, что вооруженные силы Германии ещё сохраняли высокий боевой потенциал. В ходе тех сражений Красная армия не только лишилась значительной части живой силы, вооружения и техники, но удар был нанесён и по её престижу, что в тот момент имело немаловажное значение для имиджа СССР в мире. Этот трагический опыт заметно повлиял на настроение политического и военного руководства Советского Союза. Оно начало более осторожно и взвешенно оценивать собственные возможности и потенциал неприятеля. Это особенно ярко продемонстрировал процесс планирования обороны под Курском. Обладая численным превосходством во всех основных родах войск, накопив значительные оперативные и стратегические резервы, Москва сознательно передала инициативу противнику с тем, чтобы измотать его в оборонительных боях и лишь потом перейти к решительным действиям по окончательному освобождению страны от оккупантов. Гитлер же из трагедии на Волге и последовавшего затем отступления не извлёк должных уроков. Успех Манштейна в какой-то мере снял остроту «Сталинградской катастрофы», благодаря чему, несмотря на серьёзный риск, он все-таки решился на проведение авантюрной, по сути, операции «Цитадель».
Ещё один существенный урок, который был извлечён советским командованием, касался средств и форм борьбы с бронетехникой противника. Танки по-прежнему определяли успех и при ведении обороны, и в ходе наступления. А операции «Скачок», «Звезда» и особенно оборонительные бои в марте 1943 г. под Харьковом и Белгородом ярко продемонстрировали, что бронетанковые войска вермахта сохранили высокую боеспособность. Поэтому в период стратегической паузы огромные усилия Москвы были направлены на создание новых образцов вооружения, совершенствование организационных форм артиллерии, ликвидацию «танкобоязни» личного состава действующей армии, на его обучение методам борьбы с новыми немецкими танками. И самое главное – вся оборона под Курском строилась как противотанковая и организовывалась на всю глубину армейской обороны. Это явилось одним из определяющих факторов успеха летом 1943 г., особенно на Воронежском фронте. К сожалению, все эти вопросы не нашли отражения в книге.
Кроме того, в шеститомнике не были освещены должным образом важные, но неудобные для советской стороны проблемы, возникшие уже в ходе Курской битвы. Например, причины прорыва главной армейской полосы Центрального фронта на всю глубину уже 5 июля 1943 г., хотя в этот момент его 13 А обладала колоссальными силами, невыполнение замысла контрудара 12 июля 1943 г. на Воронежском фронте, ошибки в использовании танковых армий однородного состава на обоянском и прохоровском направлениях, низкий темп продвижения войск Центрального и Брянского фронтов в Орловской наступательной операции. Также не были вскрыты и проанализированы сложности, возникшие в первые дни оборонительной операции, с управлением войсками в 2 ТА, которая действовала на направлении главного удара ГА «Центр».
Вместе с тем авторы этого фундаментального труда допустили и ряд фактических ошибок. Например, утверждалось, что командование ГА «Юг» к 10 июля 1943 г. отказалось от наступления через Обоянь и начало сосредотачивать большую часть соединений 4 ТА под ст. Прохоровка, благодаря чему здесь к 11 июля 1943 г. была создана якобы небывалая за годы войны плотность бронетехники – 100 танков и сау на 1 км фронта[61]. В действительности же от наступления из района Белгорода строго на север руководство группы Манштейна отказалось ещё в мае 1943 г., и в указанное время никакой перегруппировки в район Прохоровки не проводилось. На дальних подступах к станции по-прежнему продолжали действовать только дивизии 2 тк СС, которые не являлись основными силами танковой армии Гота, а их численность авторы явно завысили, поэтому указанная плотность бронетехники не соответствовала действительности. В шеститомнике также безосновательно утверждалось, что при проведении контрудара 12 июля 1943 г. 1-я танковая, 6-я гв., 7-я гв. и 5-я гв. армии участвовать в нём «в той мере, в которой ранее предполагало командование Воронежским фронтом… не могли», поэтому якобы «основная тяжесть сражения пала на 5-ю гвардейскую танковую армию»[62]. Это не только искажало суть одного из самых значимых оборонительных мероприятий командования Воронежского фронта при отражении удара ГА «Юг» на Курск, но и умаляло роль воинов остальных пяти армий, задействованных в контрударе. Редакционая коллегия книги явно попала под влияние П.А. Ротмистрова, который выдвинул этот далекий от исторических реалий тезис ещё в 1960 г. в своей первой работе о Прохоровке. Чем-то иным объяснить совпадение точки зрения, изложенной в его мемуарах, и авторского коллектива книги трудно». «Во время подготовки советских войск к контрудару, – писал Павел Алексеевич, – противник неожиданно нанёс сильный танковый и авиационный удар по этим армиям и теснил 1-ю гвардейскую танковую и 6-ю гвардейскую общевойсковую армии в направлении Обояни, а часть левофланговых соединений 5 гвардейской общевойсковой армии отбросил к Прохоровке. В результате эти армии не успели подготовиться к проведению контрудара 12 июля и в нём в этот день не участвовали. Противник не преминул этим воспользоваться»[63].
Это откровенная выдумка вновь повторяется через несколько страниц, свидетельствуя о том, что бывший командарм не просто заблуждался, а целенаправленно принижал роль соседей в контрударе. Подобные утверждения, часто встречавшиеся и в других публикациях П.А. Ротмистрова, стали причиной острого конфликта, вспыхнувшего в середине 1960-х гг. в среде ветеранов Курской битвы. Откровенное игнорирование подвига сотен тысяч воинов этих армий и непомерное выпячивание своих заслуг надолго поссорили не только Павла Алексеевича, но и Советы ветеранов 5 гв. ТА, с товарищами по оружию – ветеранской организацией 1 гв. ТА. Хотя впоследствии в работах, опубликованных в начале 1970-х гг., маршал пытался скорректировать свою точку зрения об участии в контрударе 5 гв. А.
К сожалению, не обошлось в шеститомнике без ошибок при изложении хода боевых действий и в северной части Курской дуги. Так, в нём утверждалось, что 18-й гв. стрелковый корпус к 5 июля 1943 г. находился в резерве Центрального фронта[64]. В действительности же он был передан командованию 13 А ещё 29 марта[65] и к началу боёв составлял её второй эшелон. Подобные ошибки, безусловно, досадны, хотя и простительны для монографий или новых исследований, но ни для таких фундаментальных изданий, каким была «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», которую готовили лучшие в то время научные силы страны.
Ещё одной существенной негативной особенностью этого труда стало нивелирование индивидуальности (особенностей характера, стиля работы, полководческого почерка и т. д.) всех более или менее заметных и значимых фигур минувшей войны. Как точно подметил американский журналист А. Верт, работавший в 1941–1945 гг. в СССР, издание «страдает тем недостатком, общим для многих, хотя и не для всех советских книг о Второй мировой войне, – что он показывает, по существу, всех русских в точности похожими один на другого»[66]. Подобный подход свидетельствовал не только о непонимании авторским коллективом значения индивидуальности личностей, находившихся в системе стратегического и оперативного планирования боевых действий, управления войсками, но прежде всего указывал на стремление тогдашнего руководства Советского Союза всеми средствами выделить особую роль Коммунистической партии и советской системы, лишить отдельного человека (советского солдата, полководца или рабочего на оборонном заводе) права на способность самостоятельно, по велению собственной совести совершать подвиг или выдающийся поступок при защите своего Отечества.
Подвергнутые справедливой критике сразу же после выхода из печати отдельные тома редколлегия была вынуждена срочно дорабатывать[67]. Однако государственная система, выстроенная под «одного человека», была неспособна к трансформации. Поэтому никаких принципиальных изменений в переизданных книгах не произошло, удалили лишь технические ошибки и несколько расширили отдельные разделы. Глава о событиях на Огненной дуге тоже претерпела лишь «косметические» изменения.
Следует подчеркнуть, что в первой половине 1960-х гг. тема Курской битвы была одной из самых обсуждаемых в советских СМИ. И причина этого крылась не только в личной заинтересованности Н.С. Хрущёва и его ближайшего окружения, хотя, безусловно, она имела существенное влияние. Но, на мой взгляд, определяющим все-таки был идеологический фактор. Дело в том, что в период «хрущевской оттепели» советскому народу впервые было рассказано о трагических событиях 1941–1942 гг., хотя и в очень урезанном виде. Тем не менее для большей части общества эффект был ошеломляющий. Целью этого было желание окружения Н.С. Хрущёва усилить процесс развенчания культа личности, закрепления в общественном сознании тезиса, будто бы «И.В. Сталин командовал войсками по глобусу», тем самым усилить свою власть и влияние. Когда же результат был достигнут, то потребовался «антидот», т. е. мощный противовес первому периоду войны, чтобы негативные последствия поднятой информационной волны, нацеленной на имя Верховного главнокомандующего, в общественном сознании не были перенесены на КПСС и государство в целом. Для этого как нельзя лучше подходила Курская битва. Во-первых, она была и масштабной, и победоносной. Во-вторых, проходила летом, которое до этого считалось неудачным временем года для ведения боевых действий Красной армии. В-третьих, многие из её участников (генералов, крупных политработников и партийных функционеров) не только ещё находились «в строю», но и занимали высокие посты в государстве и армии. Поэтому появилась возможность решить идеологическую задачу и себя не забыть. В результате три месяца до начала июля и 49 огненных суток июля и августа 1943 г. стали «дежурной» темой не только в преддверии юбилеев, но в той или иной форме годами присутствовали на страницах советской прессы и в радиоэфире.
Нельзя не признать, что, помимо отсутствия у руководства СССР заинтересованности в глубоком научном изучении Великой Отечественной войны, на качество исторических исследований в это время оказывали влияние и ряд объективных факторов. Во-первых, недостаточные знания советских историков о военной стратегии Советского Союза в годы войны и их неподготовленность к работе по данной проблематике. Во-вторых, база доступных архивных источников была крайне скудной. Как и в прежние годы, вся оперативная и значительная часть отчётной документации фронтов и армий за 1941–1945 гг. по-прежнему находилась на секретном хранении и не была доступна исследователям. Вместе с тем много архивных дел периода войны находилось в беспорядке, документы были не систематизированы и разбросаны по различным военным учреждениям и ведомствам. А.М. Василевский свидетельствовал: «Удивительное дело, как мы мало пользуемся документами. Прошло 20 лет со времени окончания войны, люди вспоминают, спорят, но спорят часто без документов, без проверки, которую легко можно провести. Совсем недавно, разыскивая некоторые документы, я обнаружил в одном из отделов Генерального штаба огромное количество документов. Донесения, переговоры по важнейшим операциям войны, которые с абсолютной точностью свидетельствуют о том, как в действительности происходило дело. Но с самой войны и по сегодняшний день как эти документы были положены, так они и лежат. В них никто не заглядывал»[68].
Следует назвать и ещё одну важную проблему, касавшуюся источников. Бывший член редакции «Военно-исторического журнала» полковник В.М. Кулиш писал: «Ставка ВГК и ГКО в области стратегического управления войсками оставили мало документов. И.В. Сталин, озабоченный соблюдением секретности, а, может быть, и по другим соображениям запрещал участникам совещаний вести записи без его указания. Они, как вспоминал Жуков, Василевский и другие, должны были запоминать принятые решения и указания, а затем, возвратившись в свои кабинеты, по памяти записывать их в секретные тетради. А такие тетради, согласно правилам о секретном делопроизводстве, периодически уничтожались специальной комиссией. Так эта группа источников исчезла, другие важные оперативные документы были просто потеряны»[69].
Сложности с документальными источниками стратегического характера были известны не только военным историкам, но и руководству ЦК КПСС и МО СССР, как и то, что они создавали существенную проблему в их работе. Поэтому в середине 1960-х гг. было принято решение издать специальный многотомный труд «Сборник документов Верховного главнокомандования за период Великой Отечественной войны»[70]. Такой шаг, безусловно, мог бы повысить уровень знаний ученых и положительно повлиять на качество их исследований. Однако этого не случилось, первые книги начали печататься в тот момент, когда стрелка барометра общественно-политической жизни страны отошла от значения «оттепель» и чётко указывала на «заморозки». Настоящие научные исторические труды не только перестали интересовать власть, но, более того, она сочла их вредными. Однако вышедший в 1969 г. третий том этого издания, посвященный в том числе и Курской битве, все-таки сыграет свою положительную роль. Ровно через 30 лет собранные в нём материалы войдут в тематический сборник, который будет опубликован издательством «Терра» в 1999 г. и станет событием в научной жизни нашей страны.
И тем не менее, несмотря на перечисленные проблемы, оценивая достижения советской исторической науки в части изучения событий лета 1943 г., как, впрочем, и минувшей войны в целом за весь послевоенный период, следует признать, что 1960-е годы были наиболее продуктивными. Большой по объёму и довольно результативный труд военных и гражданских историков, безусловно, способствовал воспитанию советских людей в духе преданности не столько КПСС, а прежде всего своей Родине и народу. Вместе с тем лучшие представители научного сообщества не без основания считали, что обобщенный опыт прошлого не только важен для защиты государства, повышения боеспособности его военной организации и формирования идеологии. «Знание истории, – писал А.Г. Грылёв, – в том числе и военной, духовно обогащает человека, расширяет его кругозор, способствует широте мышления»[71]. Можно с уверенностью утверждать, что ряд работ, опубликованных в это время, в полной мере отвечали этим целям. Некоторые из них даже сегодня не потеряли свою актуальность, потому что их авторы с большим уважением относились к славным делам военного поколения советского народа, насколько это было возможным, старались не заниматься демагогией и пустым славословиям, а честно анализировать достижения и промахи, собирая по крупицам бесценный опыт и знания о минувшем нашей страны.
Активно в это время развивалась и мемуарная литература. Из всех авторов воспоминаний наиболее откровенным в изложении и оценке событий под Курском (учитывая исторические реалии того времени), последовательным в отстаивании своих взглядов на отдельные ключевые моменты битвы был Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. В его книге «Воспоминания и размышления», опубликованной в 1969 г., как и в трудах почти всех советских военачальников и полководцев, чётко прослеживается желание задвинуть в тень неудавшиеся операции, в которых он выступал как ключевая фигура, например «Марс» и «Полярная звезда». Что же касается летней кампании 1943 г., то о ней Георгий Константинович пишет настолько откровенно, насколько это тогда было возможно, учитывая, с каким трудом шло согласование с властными структурами вопроса издания его мемуаров[72]. Во-первых, он откровенно признал, что при планировании обороны под Курском Ставка ВГК (в том числе и он лично) допустила серьезный просчёт в определении направления главного удара вермахта. Ожидалось, что основные силы германское командование бросит против Центрального фронта (ГА «Центр»), в действительности же наиболее мощная группировка вермахта была сосредоточена перед Воронежским фронтом (ГА «Юг»). Эта ошибка имела существенное негативное влияние на ход первого этапа битвы. По сути, все, что делали первые две недели июля 1943 г. фронт Ватутина и Ставка, было нацелено на исправление этого просчёта.
Во-вторых, маршал довольно самокритично отметил, что проведённая вечером 4 июля и в ночь на 5 июля 1943 г. контрартиллерийская подготовка, ранее официально признававшаяся как успешная[73], ожидаемого результата не принесла. Раскритиковал он и попытки авиации Воронежского и Юго-Западного фронтов нанести удары по немецким аэродромам на рассвете 5 июля, отметив, что они «полностью не достигли своей цели»[74].
В-третьих, Г.К. Жуков открыто выступил против самовосхваления П.А. Ротмистрова и созданного им мифа, будто его армия в ходе боев под Прохоровкой сыграла решающую роль в срыве наступления всей ГА «Юг». Хотя впервые об этом читатель узнал лишь в 1990 г. из опубликованного, уже без купюр, десятого издания его мемуаров[75].
В-четвёртых, он объективно оценил результаты оборонительной фазы Курской битвы в полосе Воронежского фронта и отмёл необоснованное утверждение будто бы его руководство не верно спланировало оборону и действия своих войск, поэтому немцы прорвали его рубеж на глубину до 35 км, в то время как силы ГА «Центр» увязли в обороне Центрального фронта на первых 12–15 км[76]. Эта точка зрения впервые была изложена маршалом в статье, опубликованной в сентябрьском номере за 1967 г. «Военно-исторического журнала»[77], а затем развита в книге воспоминаний.
С приходом к власти в СССР в октябре 1964 г. нового руководства в общественно-политической жизни начался отход от принципов, которые пытались во время «оттепели» внедрить в науку передовые советские учёные. Брежневское руководство взяло курс на сворачивание возникшей в научной среде и в печати (на страницах «толстых» журналов, «Военно-исторического журнала») относительно свободной дискуссии по важным проблемам истории минувшей войны. Переломным в этом отношении стал 1967 год. В постановлении ЦК КПСС от 14 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» перед советскими историками была поставлена главная задача: сосредоточить усилия на разработке проблем, раскрывающих решающую роль КПСС и народных масс в разгроме нацизма в годы Великой Отечественной войны[78]. Для достижения этой цели партийными и государственными органами был принят ещё ряд руководящих документов, детализировавших их дальнейшую деятельность. На первом этапе главные усилия были нацелены на ликвидацию начатого ХХ съездом КПСС процесса десталинизации. Правящая элита стремилась полностью сохранить государственную систему управления, созданную И.В. Сталиным. Поэтому она не была заинтересована в том, чтобы преступления власти того периода, колоссальные людские и материальные потери Красной армии, ошибки, допущенные по вине политического и военного руководства СССР, стали достоянием гласности. Наоборот, имя Верховного главнокомандующего стало всё чаще извлекаться из исторического небытия, а всё, что было связано с трагическими страницами истории, замалчиваться или активно «ретушироваться». О том, какие настроения в отношении этой важной проблемы доминировали в руководстве страны, свидетельствует высказывание министра обороны СССР Д.Ф. Устинова[79] на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 июля 1984 г., когда бывшие соратники Н.С. Хрущёва пошли на беспрецедентный шаг, восстановив в партии В.М. Молотова, одного из главных организаторов политических репрессий в стране. «Ни один враг не принёс столько бед, – заявил тогда Дмитрий Федорович, – сколько принёс нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также в отношении Сталина»[80].
Идеологическим и цензурным органам была дана установка: усилия средств массовой информации, издательств и редколлегий сосредоточить на освещении выдающейся роли КПСС в организации отпора гитлеровским захватчикам, массового героизма советских людей в годы войны и описании победоносных операций Красной армии. Коллективам учёных, занимающимся общественными науками, было «рекомендовано», опираясь на метод исторического материализма и принцип партийности в исторической науке, сделать упор на раскрытие передового характера советской военной науки, выдающейся организаторской роли Коммунистической партии в борьбе за победу и т. д. «Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? – задавал вопрос в своей книге фронтовик, автор пронзительных воспоминаний о Великой Отечественной профессор Н.Н. Никулин. – У меня на этот счёт нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счёт. Те же из них, кто ещё жив, молчат, сломленные. Остались у власти, сохранили силы другие – те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!» Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Всё это накипь…»[81]
Ситуацию с изучением событий 1941–1945 гг. усугубили и решения, принятые ещё в период нахождения у власти Н.С. Хрущёва. В начале 1960-х гг. в руководстве СССР возобладала точка зрения о том, что будущая война, если она разразится, будет носить характер ракетно-ядерной дуэли. Поэтому традиционная структура военной организации страны с опорой на обычные виды вооружения будет якобы постепенно себя изживать. Следовательно, опыт прежних войн (в первую очередь Великой Отечественной), который изучался военными историками и воплощался в новые уставы, наставления и другие регламентирующие документы, должен был остаться в прошлом. После оглашения в 1963 г. новой военной доктрины тенденция на сворачивание Генштабом научных военно-исторических исследований Великой Отечественной и передача этой функции гражданским учёным начала усиливаться. Её кульминацией стало создание в августе 1966 г. Института военной истории, который должен был стать в стране головным научно-исследовательским учреждением в области военной истории. По форме он был военным (относился к Министерству обороны СССР), но по содержанию работы стал придатком Главного политуправления Советской армии, читай – ЦК КПСС. Раньше для военных историков при изучении битв и сражений главным критерием оценки были новые знания. Поэтому в ходе исследований и побед, и поражений должен был быть извлечён в первую очередь полезный опыт, который помогал бы командирам выработать методы рационального мышления, находить в трудных условиях боя правильные решения и т. д. Теперь во главу угла ставилась политическая целесообразность. В научную жизнь активно внедрялся тезис: «История в первую очередь мощное средство политической борьбы и в прошлом десятилетии её недооценили». Поэтому ИВИ стал главным инструментом по наведению «должного порядка в этой запущенной за время правления Хрущева отрасли пропагандистской работы».
На многие значимые издания и публикации по военной проблематике в период пребывания у власти Н.С. Хрущёва было наложено клеймо «субъективизма». Поэтому в 1966 г. ЦК КПСС принял постановление об издании двенадцатитомной «Истории Второй мировой войны». Параллельно с этим при Главпуре СА формируется специальная группа для редактирования рукописей и контроля за издаваемой военно-исторической литературой, в первую очередь воспоминаниями полководцев и военачальников Великой Отечественной войны. Из мемуаров, готовившихся к печати, начали вымарываться целые абзацы и даже разделы как не соответствующие современным подходам, и дописывались новые, далёкие от исторической правды, но «нужные» для пропагандистской работы.
Однако деятельность «брежневского» руководства по переписыванию истории войны сразу же вызвала резкое неприятие ещё находившихся «в строю» фронтовиков, в том числе генералов и маршалов. Далеко не все, но многие из них справедливо оценили эти шаги власти не как возвращение к исторической правде, а как попытку создать «новую историю под нового генерального секретаря ЦК КПСС». В письме, направленном в 1967 г. начальнику ИВИ генерал-майору П.А. Жилину[82], маршал артиллерии Н.Д. Яковлев писал: «Лично мне кажется, что пытливые читатели ожидают от ученых-историков не только описание хода боевых действий с нашей стороны. Их уже немало опубликовано и публикуется. К сожалению, большинство их, т. е. статей, бесед, воспоминаний, мемуаров, как-то схожи между собой. Они во многих случаях носят налёт некоторой приедающейся хвалебности в адрес ряда военачальников, описания подвига отдельных бойцов, политработников, командиров, партизан… Нужны ведь не только хвалебные реляции, но и кропотливое исследование малого, на чём покоится большое и где присутствует наука»[83].
Своё нежелание мириться с расширявшимся процессом мифологизации некоторые военачальники выражали в попытках написать и опубликовать честные мемуары. Однако в тех условиях добиться этого было практически невозможно. Большинство же фронтовиков, кому было что сказать о той войне, уже не верили в возможность донести правду до советского человека через печатное слово. «Я лично крайне сомневаюсь в том, что возможно восстановить истинный ход событий (Курской битвы. – В.З.), – писал в 1969 г. директору музея Курской битвы при Доме офицеров г. Курска М.П. Бельдиеву участник боев на Огненной дуге подполковник Е.И. Шапиро[84]. – Процесс фальсификации истории принял такие страшные размеры, что восстановить истинный ход событий не только не по силам одному человеку, но и любому Обществу (имеется в виду военно-историческое общество, которое в это время существовало в Курске. – В.З.), какими бы добрыми намерениями оно ни было преисполнено. В извращении исторических событий заинтересовано большое количество людей, поэтому я не верю, что Ваши благие намерения увенчаются сколь-нибудь серьёзным успехом»[85].
К сожалению, это мнение человека, прошедшего горнило Великой Отечественной, точно отражало ситуацию, сложившуюся к тому времени в Советском Союзе. Об этом же свидетельствует и бывший член редколлегии «Военно-исторического журнала» В.М. Кулиш, которому по долгу службы приходилось получать указания от людей, проводивших политику КПСС в Советской армии. «В беседе с генералом Н.Г. Павленко (главный редактор журнала – В.З.) и мной, – пишет бывший журналист, – начальник Главпура СА генерал А.А. Епишев сам принцип партийности перевёл на более доступный язык. Он сказал: «Там, в «Новом мире»[86], говорят: подавай им чёрный хлеб правды. На кой чёрт она нужна, если она нам невыгодна». Идея деления исторической правды на выгодную и невыгодную нашла широкое распространение в партийно-пропагандистской и исторической литературе. Истолкование партийности в науке, таким образом, было сведено к тому, что принцип научности исследования стал противопоставляться принципу политической целесообразности»[87]. А.А. Епишеву принадлежит и ещё один «бессмертный» тезис, определявший цель тогдашней власти и практически закрывший путь к поступательному развитию советской военной истории. Вот как он прозвучал из уст начальника Главпура СА в ходе беседы с генералами и маршалами 17 января 1966 г.: «Мы не можем допустить, чтобы в открытой печати критиковали военачальников»[88].
И тем не менее в это время некоторые военные историки ещё пытались достучаться до мыслящей части партии и общества. Осознавая, что поколение победителей уходит, а важные проблемы войны не только не находят отражения в трудах отечественных учёных, но и начался активный процесс свёртывания научных разработок, составители сборника материалов военно-практической конференции, посвящённой 25-й годовщине победы на Огненной дуге, под редакцией генерал-майора И.В. Паротькина высказали смелое и вместе с тем актуальное для того времени пожелание: «При изучении Курской битвы необходимо обращать внимание не только на положительный, но и отрицательный опыт, поскольку последний бывает не менее ценным для изучения практических вопросов… При исследовании… крайне желательно подвергнуть специальному рассмотрению вопрос о потерях, показав при этом соответствие затрат достигнутым результатам. Всестороннее раскрытие этого важного вопроса позволило бы сравнить вклад фронтов и армий в общее дело разгрома врага под Курском, дало бы возможность более объективно оценить роль отдельных объединений и военачальников в достижении победы в Курской битве»[89]. К сожалению, этот призыв историков-фронтовиков так и остался не реализован вплоть до конца минувшего столетия.
Помимо официальной цензуры, существенное влияние на правдивость, информативность и степень детализации событий в книгах высокопоставленных участников войны, в том числе и Курской битвы, оказывал ещё один важный фактор, о котором редко пишут историки, – самоцензура, т. е. «нежелание выносить сор из избы». Это качество характера у многих авторов сформировалось не только под воздействием общественной атмосферы, но и суровых условий долгих лет службы в армии. Из воспоминаний генерала армии Г.И. Обатурова: «В 1986 г. мне пришлось на эту тему (о неудачных боевых действиях под Никополем в 1944 г. – В.З.) беседовать с Д.Д. Лелюшенко.
– Почему Вы, Дмитрий Данилович, в своей книге ничтожно мало написали об ожесточенных боях 3-й гвардейской армии на никопольском направлении? – просил я.
– А кому интересно писать о неудачных боях? Описывая неудачи, я должен был сказать, как расплачивался за грехи соседей и начальников повыше.
– Неудачи часто учат больше, чем удачи, что и нужно нашей офицерской молодежи, – упорствовал я.
– Если тебе, Обатуров, нравится копаться в дерьме, то ты и пиши, а я этим заниматься не намерен.
Жаль, что во многих воспоминаниях описание проигранных боёв и операций не делаются»[90].
Дискуссия, развернувшаяся после ХХ съезда КПСС, издание большими тиражами разнообразной военно-исторической и мемуарной литературы, публикация подлинных документов, выход в свет третьего тома «Истории Великой Отечественной войны» не только расширили знания нашего общества о событиях коренного перелома в борьбе с фашизмом, но и подготовили почву для появления в 1970 г. наиболее известной и долгие годы широко использовавшейся как учёными, так и публицистами книги военных историков Г.А. Колтунова и Б.Г. Соловьёва «Курская битва»[91]. Она была написана на основе ранее не использовавшихся в открытой печати отчётов офицеров Генштаба при штабах фронтов и армий. В беседе со мной полковник Г.А. Колтунов вспоминал, что изначально она задумывалась как упрощенный вариант исследования офицеров Генштаба, подготовленного в конце 1940-х гг. с расчётом на более широкую аудиторию, в помощь гражданским историкам и идеологическим работникам. Именно это обстоятельство и предопределило её направленность. Наряду с довольно подробным рассмотрением ряда проблем планирования Курской оборонительной операции и летней кампании в целом, подготовки войск к обороне, строительства рубежей, хода боевых действий её авторы значительное внимание уделили критике западных исследований и мемуарной литературе, а также партийно-политической работе в войсках.
Вместе с тем в этом издании была предпринята попытка научно обосновать ряд уже устоявшихся в общественном сознании и историографии мифов о событиях на Огненной дуге. В частности, подробно рассматривалась проблема численности бронетехники, участвовавшей в бою 12 июля 1943 г. под Прохоровкой, и анализировалось то, из чего складывалась огромная цифра 1500 танков. Кроме того, в книге Г.А. Колтунова и Б.Г. Соловьёва была продублирована легенда, сформированная ещё в 1943 г. в отчёте Военного совета Воронежского фронта, о том, что окружения 5-го гв. Сталинградского танкового корпуса, выдвинутого в ночь на 6 июля 1943 г. на прохоровское направление, не было. Кроме того, в их труд были включены и ещё ряд незначительных, но, как показало время, очень живучих мифов. Например, об огненном таране, который якобы совершил командир взвода средних танков 1-й гвардейской танковой бригады 1 ТА лейтенант В.С. Шаландин. «Героически сражался экипаж комсомольца москвича гвардии лейтенанта В.С. Шаландина… в составе механика-водителя гвардии старшего сержанта В.Г. Кустова, заряжающего гвардии сержанта П.Е. Зеленина и стрелка-радиста гвардии старшего сержанта В.Ф. Лекомцева, – читаем мы в книге. – Экипаж подбил два немецких танка «тигр» и один средний танк. Вскоре от вторичного прямого попадания загорелась машина наших танкистов. Задыхаясь в дыму, Шаландин еще пытался стрелять прямой наводкой, но поврежденная пушка плохо повиновалась раненому командиру. Тогда он решил таранить вражеский «тигр». Объятая пламенем тридцатьчетверка пришла в движение и врезалась всей своей массой в борт «тигра». Вражеский танк загорелся, его бензобаки взорвались. Объятый пламенем, погиб и экипаж гвардейцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР В.С. Шаландину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза»[92].
В 1970-е г. таран экипажа Шаландина советской пропагандой был превращён в символ стойкости наших солдат в Курской битве. О нём публиковали очерки, снимали фильмы и слагали стихи. Вот лишь один пример: широко известны строки из произведения белгородского поэта В. Татьянина «После боя»: «…Здесь Шаландин в грозном сорок третьем/ вёл свой танк, горящий на врага…/Ты спроси – и скажут даже дети,/что такое Курская дуга»[93]. Но если обратиться к документам, например к наградному листу В.С. Шаландина, который подписал его прямой начальник – командир 2 тб 1 гв. тбр майор С.И. Вовченко (в таких материалах командиры не упускали возможности поярче описать подвиг представляемого к награде), то мы из него действительно узнаем о примере настоящего героизма и стойкости танкистов, отдавших жизнь в борьбе с врагом. Однако в нём нет даже упоминания о таране. «Несмотря на беспрерывную бомбёжку и артиллерийский огонь противника, тов. Шаландин в течение 10 часов героически вёл бой, – отмечается в документе. – …Тов. Шаландин сгорел в танке на том самом месте, где было приказано держать оборону его взводу»[94].
Если следовать логике авторов книги, то погибнуть в танке, до конца выполнив приказ, ещё не подвиг, а погибнуть, совершая таран, – это пример для потомков. Подобный подход к оценке героических дел, по сути, девальвировал тяжелый каждодневный солдатский труд. Поэтому после войны фронтовики недобрым словом поминали подобного рода выдумки и их творцов, политработников. Чему я не раз был свидетелем.
И тем не менее нельзя не согласиться с профессором К.В. Яценко, который подчёркивал, что «появление этой книги (Г.А. Колтунова и Б.С. Соловьёва. – В.З.) знаменовало собой важную веху в развитии исследований истории Курской битвы»[95]. Вместе со сборником статей под редакцией И.В. Паротькина она явилась существенным успехом советских ученых, который дал импульс для развития нашей военной исторической науки. Эти издания стали добротным фундаментом, они во многом определили вектор развития исследований Курской битвы вплоть до начала 1990-х гг. Несмотря на значительную идеологическую составляющую и ошибочное толкование отдельных событий, их авторы уже в новых общественно-политических реалиях сумели чётко закрепить достигнутый к тому времени уровень научных знаний по данной проблеме. Тем самым был поставлен некий барьер на пути процесса переписывания истории войны брежневским руководством, начавшегося в середине 1960-х гг.
В последние двадцать лет существования СССР научный подход к изучению Курской битвы практически полностью был вытеснен. Как точно заметил В.А. Золотарёв, историография войны «…постоянно находилась под контролем ЦК КПСС и во многом превратилась в отрасль партийной пропаганды»[96]. Для иллюстрации приведу несколько цифр. В это время головной организацией по изучению военной истории страны окончательно становится Институт военной истории. По сути, он стал монополистом при подготовке всех значимых изданий о Великой Отечественной. В плане работы его «Научного совета по координации исследований в области военной истории» на 1976–1980 гг. значилось 211 тем (в том числе в форме монографий – 47, докторских – 26 и кандидатских диссертаций – 138). Из них свыше 100 тем должно было быть «посвящено исследованию опыта идейно-политической работы партии в армии и на флоте, её военно-организаторской деятельности на фронте и тылу, а также на территории, временно оккупированной противником»[97], 54 – связаны с исследованием военной теории и практики (оперативного искусства и тактики), в том числе 26 – по военному искусству Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Объяснение такому подходу в 1975 г. дал тогдашний начальник института генерал-лейтенант П.А. Жилин. Он заявил, что «фактическая и историческая часть Великой Отечественной войны у нас изучена и в основном описана… Сейчас в СССР главным направлением исторической науки является исследование Второй мировой войны. Глубокая марксистская разработка этой темы имеет актуальное значение для науки, политики, идеологии»[98]. Вот так, не больше и не меньше! Поэтому советским учёным надо глубже анализировать роль партии в военном строительстве и бороться с фальсификацией истории на Западе. А свою историю мы отдадим на откуп проверенным советским писателям и кинематографистам, чтобы они ярче представили примеры единения партии и народа в то суровое время. Это утрированная, но, по сути, точная оценка партийного подхода к изучению истории войны, которая доминировала в 1970—1980-е гг.
В это время любая публикация рассматривалась с точки зрения идеологической целесообразности и не более. Во всех крупных научных и научно-популярных изданиях чётко прослеживается тенденция перехода от анализа «факта и цифры» к поверхностному изложению событий, сосредоточению внимания не на сути проблем и их причинах, а на военно-политической составляющей победы, «раздуванию» роли отдельных сражений и подвигов, причём нередко «подправленных» или просто выдуманных от начала до конца.
Научные публикации потеряли глубину и конкретность, а важные направления исследований отодвигались на второй план. В работах подавляющего большинства авторов по тематике Курской битвы уровень подготовки и успехи советских войск, профессиональные качества советских генералов, стойкость и мужество красноармейцев при описании любых, даже трагических для Красной армии эпизодов, обязательно были выше, чем у противника. Монографии военных учёных не только перестают печатать, но и те, что уже были опубликованы, при переиздании цензура и идеологические органы стремились выхолостить до предела, не останавливаясь перед «сжиманием в объеме» в несколько раз. Наглядным примером может служить новый вариант книги Г.А. Колтунова и Б.С. Соловьёва «Курская битва»[99], которая вышла в свет в 1983 г. Она заметно отличалась от предыдущего варианта, опубликованного в 1970 г., и существенно меньшим объёмом (было 400 страниц, стало 127), и характером изложения материала. Из научного труда она превратилась в популярную брошюру. И всё это происходило на фоне пустых рассуждений высокопоставленных военных и политических деятелей СССР о том, что «приобретенный Вооружёнными силами СССР боевой опыт в этой тяжёлой и длительной войне (Великой Отечественной. – В.З.) является нашим бесценными достоянием, нашей гордостью, одним из источников дальнейшего развития советской военной науки»[100].
Основными изданиями этого периода, в которых была представлена уже новая версия официальной истории, в том числе и событий под Курском, стали двенадцатитомник «История Второй мировой войны 1939–1945»[101] и «Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк»[102]. Главный редактор многотомника министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко писал, что «это фундаментальное обобщение с позиции марксизма-ленинизма Второй мировой войны не только в советской, но и в мировой историографии. Подготовка капитального труда по истории Второй мировой войны – это не только опыт коллективного творчества, но и опыт разработки единой концепции советской исторической науки по важнейшим проблемам мировой войны». В действительности же, кроме внешнего оформления и выдержек из докладов Л.И. Брежнева, издания не несли ничего принципиально нового, да и не ставилась перед ними такая цель. Интересны в этой связи воспоминания уже цитировавшегося выше полковника В.М. Кулиша, который был лично знаком со многими авторами этого труда: «Издание новой 12-томной истории Второй мировой войны было поручено специально созданному для этой цели Институту военной истории. Но рабата затягивалась, недоставало соответствующих источников и материалов. Чтобы ускорить процесс, не нашли ничего лучше, чем воспользоваться изданными или готовившимися к печати мемуарами Г.К. Жукова, А.М. Василевского, А.А. Гречко, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, К.К. Рокоссовского и других. Но так как они готовились вскоре после ХХ съезда КПСС, потому по своему содержанию не во всем подходили в качестве источника для нового издания, при Главпуре СА и ВМФ учредили специальную группу. Перед ней поставили задачу соответствующей доработки и редактирования отобранных произведений»[103]. То есть сначала писали источники, как это требовалось «сверху» (проще говоря – фальсифицировали источниковую базу), а потом на их основе готовили двенадцатитомник. Вот так создавался этот «фундаментальный труд», да и в общем-то вся история Великой Отечественной.
Но на этом процесс «сотворения истории» минувшей войны не завершался. Ведь многие ветераны были ещё живы и занимались литературным трудом. Поэтому эти сфальсифицированные академические издания были превращены в эталон для оценки всех военно-исторических работ и мемуаров по Великой Отечественной войне. «По указанию ЦК КПСС, – вспоминает бывший сотрудник ИВИ МО РФ В.О. Дайнес, – все мемуары проходили строгую проверку на предмет соответствия их 12-томной «Истории Второй мировой войны» и 8-томной Советской военной энциклопедии. В институте был создан отдел военно-мемуарной литературы, который вносил правки в воспоминания участников войны. Приходилось этим заниматься и автору данной книги
