По грехам нашим
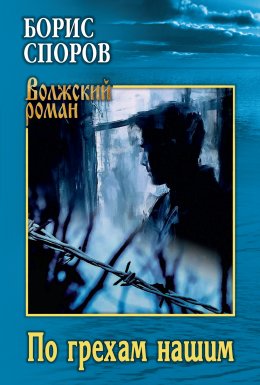
Волжский роман
© Споров Б.Ф., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
В полуподвале свет
Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.
Пословица
Итак, всё ясно определено: операцию делать поздно, умирать рано… Было непросто оказаться без выбора.
Щербатов, Петр Константинович, крупный чиновник Городской управы, внешне крепкий и моложавый в свои «пятьдесят с гаком», медленно сошёл по ступенькам центрального входа спецбольницы в отгороженный больничный скверик со скамьями с изогнутыми спинками. Сел, невольно вздохнул, достал из кармана дорогие сигареты и зажигалку, и уже потому, как он прикуривал, было понятно – курильщик без опыта… А ведь так было всё ладно и складно: и служба, и достаток, и жена-умница, и единственная дочь окончила вуз, удачно вышла замуж – отделилась. И они вдвоём с женой, Валентиной Львовной, вновь остались молодыми в просторной трехкомнатной квартире. Живи и радуйся, занимайся службой и своим делом, если оно имеется. Почему же так: в лучший, может быть, период жизни – последний год?!
Близилось Бабье лето. Но и теперь небо было ясное, солнечное, воздух тёплый с бодрящим дуновением прохлады – даже в городе ощутима эта свежесть. Щербатов курил, но не затягивался и думал неопределённо, как-то обо всём сразу. «Приговор» не стал для него неожиданностью. Давно уже он почувствовал, что болен, но отмахивался от предчувствий: много работал, во время отпуска ездил на курорты, купался в море, загорал, но предчувствие не покидало. А в минувшем году выяснилось, что и загорать ему во вред.
И здесь, на скамейке, казалось, он глубоко задумался, на самом же деле мысли его были рассеянными и непоследовательными: то Щербатов вспоминал свое детство и невольно улыбался – счастливая пора: единственный сын в семье, баловень, сынок папенькин, второго секретаря горкома партии… И тотчас общеобразовательная школа: учился на медаль и даже сочинял стихи и слыл школьным поэтом. Он и публиковал стихотворения, но лишь в школьной стенгазете – и все читали… В Политехническом увлёкся изобретениями – что-то удавалось, но до серьёзного не дошло. А на заводе оказался в отделе технического контроля, работа серьёзная, но не творческая. Пять лет отработал, с тех пор двадцать лет неизменно в управе. Начал с малого, поднялся до предела. И всюду на хорошем счету, так что считал себя Петр Константинович заслуженным в городе человеком – и даже старался слово держать. И верно: плохо о нём вслух не говорили. И когда Щербатов пытался определить свои человеческие недостатки, он не находил таковых… Жизнь протекала достойно.
«Держись, Петр Константинович, впереди ещё год, – пошутил над собой Щербатов и даже улыбнулся, но тотчас и посуровел. Не верил он этим предсказаниям, не хотел верить. Обвёл взглядом тихий скверик: деревья стояли в летнем уборе, но с кленов уже упали первые пожелтевшие листья. И даже под ногами лежал, как ладошка, опавший лист. Щербатов поднял его и, покручивая, пристрастно разглядывал зеленоватые прожилки. «А если это последняя осень? – И в голове размеренно отозвался гулкий пульс. – И последний осенний лист в руке, а затем уже ночь и тьма? Через год? А может быть и ближе… – И тотчас захотелось убежать, скрыться. – Но от кого? От всех? От себя не убежишь, не скроешься».
Щербатов покачал головой, поднялся на ноги, вспомнив, что ждёт его служебная машина с шофером. И по мере возможности он быстро пошёл к стоянке за воротами. Удивительно, лишь одна мысль оседала в его сознании: «Сесть в машину и ехать, ехать бесцельно, не зная куда – сбежать».
Сергей, шофёр лет тридцати, откинувшись на сиденье, читал книгу… А зачем и что он читает? Чтобы не уснуть? Чтобы развлечься? Или чтобы поумнеть?..
Щербатов сел поудобнее, пристегнулся и только тогда спросил:
– А Сергей что читает?
– Читает? Да вот «Гаргантюа и Пантагрюэль».
– Забавная штука, – весомо отметил Щербатов, подумав: «Ни строчки никогда не прочёл…»
– Забавная… Сатира ещё та, вроде нашего Салтыкова-Щедрина… Куда? – спросил Сергей, сунул книгу в карман сиденья, уже поворачивая ключ зажигания.
– Отвези-ка меня домой, – просительно отозвался хозяин.
Бесшумно и мягко машина поплыла по асфальту.
Щербатов смотрел в лобовое стекло и ничего не видел, наверно не хотел видеть. А когда увидел, половину пути уже миновали. И в тот же момент боковым зрением впереди он заметил женщину на костылях. Она скакала и останавливалась, обвисая на костылях и роняя на грудь голову. И что-то заставило дрогнуть сердце Щербатова. В обычное время он этого и не заметил бы – весь мир на костылях гремит! А тут заметил и даже содрогнулся.
– Тормозни, – и указал рукой в сторону женщины с костылями.
Шофер притерся к тротуару, чуточку опередил, и машина с трепетом остановилась.
Это, оказалось, молодая женщина – до тридцати. Щербатов отстегнул ремень безопасности, открыл дверцу салона и негромко окликнул:
– Девушка, идите в машину – подвезём.
Она подняла взгляд, видимо, недоумевая.
– Это меня?
– Вас, вас, идите – подвезём…
– Да ну, что вы! Допрыгаю…
– А что, далеко прыгать?
– Да семь верст без привязки. – И пожаловалась: – Транспорт общественный по пути не ходит…
А между тем Щербатов уже выбрался из машины, обращаясь к ней:
– Как вас зовут?
– Меня? Наташей…
– Вот и хорошо, Наташа, я вам помогу – и в машину…
– Да вот, гипс сняли, а идти непривычно, – пожаловалась она в оправдание.
Шофер открыл дверцу на заднее сиденье – просторно. Помогли, и Наташа с трудом угнездилась. Костыли разместили через другую дверцу.
– Можно не пристёгиваться, – улыбаясь предупредил Сергей. – Я аккуратно…
Угнездились и впереди – поехали. Наташа назвала улицу и номер дома. Оба такой улицы не знали, и она руководила проездом. И всего-то на десять минут езды, но столько поворотов и улочек, что невольно с усмешкой Щербатов определил:
– Как в лабиринте.
Приняв это за укор, Наташа разочарованно сказала:
– Я же говорила… доскакала бы.
Щербатов косился в зеркальце, видел ее лицо и оценивал, как вещь перед покупкой: лицо без внешней красоты, однако таилось в нем что-то такое, что не мог он через зеркало оценить и понять. Лицо доброе и тревожное, обаятельное и вдумчивое, и склад лица и его выражение как будто неповторимые, так что Щербатов не без интереса косился в зеркальце. Но заглянуть за отражение не мог. Не мог понять он и того, зачем ему понадобилось везти эту женщину на костылях – могла бы и сама взять такси и доехать.
Наконец машина остановилась – Щербатов очнулся: привёз, так уж будь любезен – высади и проводи. Он вышел из салона, помог ей встать на костыли, и только теперь обратил внимание, что она не в брюках, на ней аккуратный по сезону женский костюм, под которым виднелся свитерок. И в душе засмеялся от восторга – очень уж он не любил женщин в брюках, особенно которые в годах. Заметил и другое: на подбородке от губы вниз еле приметная ниточка шрама. И это придавало лицу неуловимо особое выражение. Но Щербатов не мог разглядеть её глаза – она тотчас отводила взгляд.
– Спасибо вам большое, – сказала Наташа, выставила костыли, чтобы скокнуть, и, обратившись в сторону машины, с улыбкой поблагодарила шофера.
– Я вас провожу, – сказал Щербатов.
– Нет, нет, что вы, что вы! – в страхе едва не воскликнула она.
– Почему вы так испугались? Или я на разбойника похож?
– Не похож, не похож – только не надо меня…
Но Щербатов неумолим. Он настойчиво оставался рядом, затем открыл подъездную дверь, помог пройти.
– У вас нет лифта… Вам какой этаж?
Уже содрогаясь, сквозь слёзы Наташа ответила с негодованием:
– Да не на какой! Мне вниз…
«Понятно, – рассудил мельком Щербатов, – полуподвал». И после этого уже диктовало профессиональное упрямство: он должен посмотреть, как в наше время живут люди – никакие возражения теперь он не воспринимал. Пораженная этим, Наташа безмолвствовала, лишь постукивала по бетону костылями.
Единственная комната средних размеров начиналась с порога, с одним полуподвальным окном она была разгорожена занавеской по центру окна. Слева на кровати поверх одеяла лежала женщина средних лет; справа еще кровать, застеленная, Наташи. Рядом с изголовьем не то широкая тумбочка, не то столик с настольной лампой и книгами на нём. С обеих сторон при входе вешалки для верхнего платья. Здесь же впереди стол для обеда и три стула. Справа вплотную к кровати Наташи видавший виды платяной шкаф. Своей широкой спиной он отгораживал угол с кроватью от прямого взгляда с порога.
– А как вас называть? – тихо спросила Наташа.
– Петром Константиновичем, или, просто, Петром, – тоже тихо ответил Щербатов.
– Мама, – позвала Наташа. – Завари чайку. Петра Константиновича угостить…
– Нет, нет, я спешу, я завтра заеду к вам на чай, – отговорился Щербатов и смущенно, даже суетно поспешил проститься, вовсе не думая о завтрашнем дне и не поинтересовавшись, в какое время удобнее. В тот момент он желал одного – уйти. И ушёл.
Ни слова не произнёс Щербатов в машине; и шофёр знал, что это значило – прямиком домой, что он и сделал.
Переодевшись в домашнее, Щербатов закрылся в кабинете и не выходил до ужина. Садился ли к столу, ложился на диван или ходил по кабинету, он пытался, но не мог понять простенькую историю с этой женщиной. С какой бы стати остановил машину и завёл разговор с незнакомкой на костылях, которую и увидел-то впервые?!
И ведь спустился в это подземелье…
«Но не она же меня туда затащила – сам пожаловал!» – возмутился Щербатов.
Зазвонил телефон – жена: она извещала, что задержится на одну лекцию, так что при желании он может поужинать один, но лучше, если вместе. Щербатов что-то невнятное проворчал в ответ и положил трубку. Жена поняла, в каком состоянии муж, а он и понимать ничего не хотел. Точно в клетке ходил по комнате, тщетно пытаясь ответить на нелепые вопросы.
«Где она работает, что живёт в этом подземелье? Я полагал, у нас в городе не осталось такого жилья… Купить квартиру – нет денег. Значит, ждёт очерёдности… (Однако этим он отвлекал себя от главного – от своей безысходности.) И почему же так помнится эта женщина, ведь не любовница, в душу влезла… лицо и даже тоненький шрам на подбородке – наверное, с детства. А сколько ей лет… Нелепый последний роман? Только ведь у меня на всё про всё остался год жизни – и месяца два-три работы в управе. Какое-то наваждение – и только…
К тому времени, когда пришла жена, Щербатов успокоился. И ужинать сели, как обычно, мирно.
С женой они знали друг друга со школьных лет. Все знакомые и родные считали, что семья Щербатовых сложилась удачно. Они и сами так считали. А что заимели на двоих одну дочку – иначе не получилось.
Обычно сходились они к ужину уставшие, с «опухшими языками» от многословия, так что и говорить за столом не было желания. А если и завязывался разговор, то каждый докладывал о своей работе. Однажды Щербатов, усмехнувшись, определил так:
– У нас производственная летучка…
Так и звала жена мужа к столу:
– Петр Константинович, иди на летучку.
Теперь же к этому прибавилось здоровье – состояние, самочувствие. Но, в общем, разговор не выходил из заданных шаблонов.
– И вновь пришлось читать дополнительную лекцию. «Окно» по болезни – все болеют. А куда денешься?
– И деваться не надо – живые люди.
– Кстати, а каковы твои результаты, определились?
– Решали по миграции…
– Да твои, личные.
– И то личное, и своё – личное… Если ты о здоровье, то ничего нового, Через некоторое время придётся повторить.
– Что-то ты в лице изменился…
– Устал.
– Вся наша жизнь: устаём и отдыхаем – жить некогда.
– Дочь не звонила?
– Как не звонила – звонила.
– И что?
– Ничего. Собрались на бархатное море.
– А как ваш ректор поживает?
– Лютует. Ничего нового.
– Вот и у меня: лишь повестка дня меняется.
– И это уже хорошо. Значит, живы.
– Живы…
Петр Константинович поднялся из-за стола и молча вышел из столовой. Провожая его взглядом, Валентина Львовна подумала: «Что-то он кислый, молчит, что ли?»
Вот и весь разговор за ужином и на текущий вечер. Они разойдутся по своим кабинетам, где отдохнут и будут заняты до сна: ей необходимо подготовиться к лекциям; у него каждый вечер иные заботы – доклады, совещания, визиты, проверки. И такой распорядок обоих устраивал – они не мешали друг другу жить.
Не будем заглядывать в кабинет Натальи Львовны – неприлично…
В кабинете Петра Константиновича следовало продолжение. Из головы не выходил гарантированный – год. Кто гарантировал – и вспомнить не мог… А ещё вмешивалась женщина на костылях. У него в жизни был не единственный роман – с женой. И теперь краем сознания он недоумевал: что это?! И как только он спрашивал: «Что это?» – тотчас начинались наплывы: её костыли, её голос, её лицо с тонким шрамом на подбородке – и конечно же полуподвальная жилплощадь…
Щербатов выхаживал по кабинету, хмурился, понимая, что ему стыдно за быт этих двух несчастных женщин. Он даже и не догадывался, что надо бы помочь, а это он мог сделать, но привык к потоку, к массе, которая еженедельно идет на приём за помощью по различным вопросам – и понимал Щербатов: их бесконечно много, а это значит – такова жизнь, которую не изменить ни словом, ни росчерком пера… Но теперь ему казалось, что в полуподвале особый случай… Ведь зачем-то обещал он заехать на чаепитие – это уж совсем глупо.
«Никаких заездов – и точка, – наконец пресёк Щербатов намерение и сел за письменный стол просмотреть дневную почту. Но и тогда перед ним оставалось лицо уличной знакомой. – Зачем же обещал – лукавый! А чем отличается моя жизнь от её жизни? Благополучием. Но ведь мне – год, а для неё неопределённость. И кто из нас более счастливый? Ведь и у неё будет – год… – Именно тогда вот так прямо Щербатов и подумал: – Если это и всё, то зачем?»
И этот вопрос как будто потряс его. Впервые Щербатов подумал о безысходности собственной жизни. Но это был не страх перед смертью вообще – он схоронил своих родителей, схоронил десяток родных и сослуживцев, но всегда при этом чувствовал, даже был уверен, что такая участь пройдёт мимо него. А тут вдруг и гарантированный год представился ему мгновением – завтра утром и не проснёшься… И это «вдруг» вновь возвратило его к женщине на костылях…
Уже в двадцать два часа Щербатов решил спать – уйти от себя, но и этого сделать не удалось. Всю ночь ворочался с бока на бок, ему казалось, что задыхается. В конце концов, он поднимался с постели, то прохаживался по кабинету в уличном свете, то шел в туалет – без необходимости, снова ложился в постель, закрывал глаза, но сна не было – были гарантированный год и женщина на костылях.
Уснул Щербатов, когда уже пора было вставать.
– Валентина Львовна! – приоткрыв дверь, окликнул он. Тишиной отозвалась квартира. Значит, ушла в институт, не разбудив перед уходом.
Вызвал машину к десяти часам и взялся за приведение себя в порядок. Он даже приложился к приготовленному для него завтраку. А когда глянул на себя в зеркало, то изумился своему болезненному виду. «Наверно, и он за работу взялся», – подумал Щербатов перед выходом к машине.
В управе то суета, то тишина, в управе работа, в управе не отвлечься. Но как только Щербатов оставался один в кабинете, тотчас мысли переключались на себя: когда объявить об уходе, или болтаться на больничном, или работать весь гарантированный год, впрочем, время подскажет… И тоска, тоска начинала точить. И он пытался переключиться на что-то другое, и переключался автоматически – на Наташу с костылями. При этом он даже усмехался в негодовании.
Настроение было тяжелое не только от дум о близком будущем, но и потому, что не отдохнул, не спал, заниматься казёнными делами не было желания. Пригласил помощника, сказал, что отлучится в больницу, совещание просил провести без него, определил, какое следует принять решение, других срочных дел не было.
Оставшись один, собрал в портфель некоторые бумаги – посмотреть дома – и позвонил, чтобы подали машину…
– Куда? – как обычно, спросил шофёр. Щербатов неопределённо махнул рукой, и это значило: домой. И уже совсем неожиданно, наверное, посреди пути он сказал:
– Давай проведаем эту женщину с костылями – запомнил ли улицу?
– Делать нечего, – с усмешкой отозвался Сергей, и на первом же перекрёстке свернул направо.
По-хозяйски спустился в полуподвал, на долю времени прикрыв глаза, помедлил перед дверью: электрического звонка не было, и он согнутыми перстами стукнул в дверь.
– Входите! Открыто! – отозвалась Наташа.
И он вошёл.
На этот раз комната ярко была освещена электрическим светом, так что Щербатов невольно на мгновенье прикрыл глаза, на что Наташа коротко засмеялась:
– Это, Пётр Константинович, вместо солнца: светит, но не греет!.. Здравствуйте… – И тотчас смутилась: костыли стояли возле двери, без них же она передвигалась по комнате со стулом.
– Здравствуйте, Наташа… Я же говорил вам: приеду пить чай.
– Не подумала, что вы такой обязательный человек… Плащик и шляпу можно на вешалку.
И пока отвернувшись Щербатов общался с вешалкой, она кое-как допрыгала до костылей, говоря что-то несвязное.
При ярком освещении он лучше рассмотрел «подземелье» – обе стороны комнаты, и был удивлён приспосабливаемостью человека к нечеловеческим условиям. В комнате всё необходимое было компактно – он так и подумал: «компактно»! – размещено. Окно занавешено, понятно, мало удовольствия смотреть на ноги прохожих. Разделяющая занавеска – не просто занавеска – их две: с одной стороны прикрыт стеллажек с книгами, с другой – несколько полок для нужд пожилой матери, которая, впрочем, и вела домашнее хозяйство.
Столик возле изголовья Наташи ломберный – разложен. Книги, бумага на столике – чем-то занята. Возле кроватей с обеих сторон под ногами коврики, на стенах тоже дешёвенькие ковры. Но наиболее поразили в углах и справа, и слева иконы над изголовьем с лампадами.
«Закономерная дремучесть», – подумал Щербатов, переводя взгляд на хозяйку.
Наташа уже налила в чайник воды, включила его. Поставила на стол темно-синие чайные чашки на блюдцах с азиатской расцветкой, засыпала чай в заварной чайник, выставила банку меда, сухое печенье, карамель, сахар. Столик с левой стороны оказался небольшим бесшумным холодильником, из которого Наташа и достала нераспечатанную брынзу и нарезанный белый батон под скрепкой.
– А вы что стоите, присаживайтесь к столу…
– Смотрю вот: помочь бы надо, но ведь только мешать стану.
– Какая тут помощь! Не пельмени же лепить, а воду жарить.
Шумно прокипел чайник. Щёлкнул выключатель. Заварили чай.
– Ну вот, минуту-две повременим – чай готов, – без смущенья доложила Наташа, присаживаясь к столу напротив.
– Неприлично тотчас и с вопросами, но скажите, что с вашей ногой?
– Что тут неприличного!.. Сбил лихач на машине. Ладно хоть ногу переломил, а не позвоночник.
– Задержали?
– Куда там! Никто и не попытался – укатил. Скорую вызвали – и то хорошо. Ничего, как-нибудь. Только вот болит, спать не даёт. Обезболивающих не выписывают, а в аптеке не дают без рецепта…
– Безобразие, надо поднять вопрос…
– Да перед кем же я могу поднять?
Щербатов смутился за свою оплошность.
– Ну хотя бы в профсоюзном комитете… Вы где работаете?
– Да я, помнится, говорила: в библиотеке, в отделе редкой книги.
– Пожалуй, вы правы – направят к медикам.
– Господи, заговорились! – Наташа и рукой всплеснула. – Чай-то ведь остынет! – Она тотчас включила для подогрева, сняла с заварного чайника матрёшку, предложила Щербатову налить по вкусу заварки, сама же открыла баночку с мёдом. И поплыл по комнате неповторимо-тонкий запах чистого мёда. – О, это мёд как мёд – без сахарной подкормки, без шельмования! У дедушки моего пасека небольшая – это вот летний, свежий мёд… Берите, Пётр Константинович, с горкой столовую ложку на блюдечко, а больше нельзя – ненароком горло заболит от простуды. Так и дедушка Фёдор говорит, а он у нас мудрый.
– Где же дедушка с пчелами живёт, что такой у них мёд душистый?
– Дедушка далеко – на Алтайской земле.
– Вот как! – восхитился Щербатов. – А мой предок по отцу там побывал – давно, лет уж сто пятьдесят тому…
Его подмывало спросить: как же это они влезли в это подземелье? Но что-то останавливало от вопроса, потому что, наверно, этот вопрос дотянулся бы и до него. И чтобы уйти от навязчивой мысли, Щербатов сказал:
– Я вижу на вашем «письменном столе» работа. Чем же вы заняты?
– Да так. – Наташа смущённо улыбнулась. – Доклад надо будет сделать, докладом и занята… По древнерусской литературе.
– А я и помешал – вторгся в светлицу, – как будто подумал вслух Щербатов, говоря: – Удобства у вас на все сто.
– А что делать? Жить надо в любых условиях…
Вот так за чаем и продолжалась беседа.
Наташа не могла ни понять, ни догадаться, откуда взялся этот человек – и кто он? Если его возят в машине, значит, из начальства, хотя и это не обязательно – калита плотная, вот и возят… И зачем он вновь объявился?.. Прямо она даже не задумывалась об этом: воспринимала его просто, как доброго человека, который сжалился над ней – на костылях, а теперь заехал проведать… И ладно, и хорошо, что не перевелись добрые люди.
Щербатов понимал, что следующим должен быть вопрос: давно ли они живут в этом подземелье, и если давно, то почему не получили благоустроенное жильё? Но в вопрос невольно пришлось бы входить… И чтобы этого не случилось, он спросил:
– А мама на пенсии или работает?
– На пенсии… у неё сердце больное, не до работы. Ходит в одну семью, с детьми малыми остаётся. – Наташа хитровато прищурилась: – А вы, Пётр Константинович, где работаете?
– Я? – На мгновенье он даже задумался. – Я, Наташа, чиновник… – И почувствовал, что ещё вопрос по работе – и ему нечего будет ответить, только соврать. Молча поднялся он из-за стола, достал из плаща упаковку с таблетками. – А это тебе, Наташа, обезболивающие: принимать при необходимости, в сутки по четвертинке таблетки. Запомни: тебе по четвертинке, не больше…
Наташа ожидала, что странный гость или знакомый вновь подсядет к столу, но Щербатов неожиданно сказал:
– Назовите номер вашего телефона. – И она назвала. – Спасибо, Наташа, за чай-мёд, я спешу…
Уже через минуту он вышел из комнаты, а Наташа перекрестилась – и к кровати, чтобы лечь – устала. Казалось, она тотчас впала в дремотное состояние, когда и спишь и в то же время думаешь, продолжая жить в реальном времени.
«Что за человек и что ему от меня?.. Чиновник – их много. Узнать бы фамилию. Но ведь и тогда ничего не прояснится… А если он вдовец – и приглядывается? Нет, этого быть не может. Тогда что же?.. Проявил жалость, сострадание, увидел на костылях – и это в наше время общего безразличия? – Чаепитие с медом продолжалось и в дрёме. – А почему у него в кармане обезболивающие – больной или волшебник? Посмотреть, использована ли хоть одна таблетка… Болен, поэтому и ко мне проявил сострадание. Господи, значит, не перевелись и чиновники добродушные… Зачем ему телефон? Звонить, чтобы ещё приехать?..»
В следующее мгновение она начала проваливаться – окончательно засыпать, и в то же мгновение грудь её как будто сдавило, жаркий трепет прошёл по всему телу, от груди вниз, и она как будто задохнулась, резко вздрогнула – и открыла глаза.
– Господи, только не это, – подумала вслух, а про себя: «Замуж, Наташенька, давно пора. Или чаще в храм ходи, на исповедь».
И Щербатов в это время, откинувшись и прикрыв глаза, как будто дремал в машине. Он настолько привык к этому виду транспорта, что, бывало, и дремал, не сознавая того, что находится в пути.
«А ведь я и ещё, наверно, заеду к ней – только вот зачем? Цели нет… Не только же для того, чтобы узнать, давно ли они живут в этом подвале и когда выберутся… Впрочем, все мы обреченные – больные, а она и одинокая, и лет под тридцать… Думает, наверно, что вознамерился старик соблазнить её. Не знает, что на меня и гарантия заканчивается через год, в сентябре… И всё-таки… нет, не пойму никогда, чем меня зацепило к женщине на костылях». – И усмехнулся Щербатов, и открыл глаза, очнулся: машина стояла на стоянке перед обкомовским домом, так его и называли по привычке. Шофер рядом читал книгу.
Ночью Щербатов вновь не мог уснуть, а вторая упаковка обезболивающих осталась на работе, в столе. В каком только положении он не лежал, как ни гнулся – тщетно. Легче было ходить по комнате, перевязав полотенцем низ живота… Так и ходил в пижаме, невольно думая о всякой всячине и, кстати, о том, что он вовсе не знает этот полуподвальный мир: докладывают, говорят, и он подписывает предложенные решения, но и только. А что там за люди – как они, что они? – Щербатов понятия не имел. Тем более, когда по углам иконы, стало быть, дремучесть… А тут на тебе – и неожиданность: под иконами на коленке доклад пишет. Приди на этот доклад – чему-то, возможно, и научишься, поумнеешь. Всегда-то ведь представлялось, что в подобных условиях живут алкоголики, бомжи, а теперь ещё вот мигранты из Средней Азии… По докладам, теоретически, он знал, казалось бы, всё, а вот людей не знал… Все женщины, казалось, были похожи на его жену, дочь, на кратковременных любовниц; мужчины – на сослуживцев… А тут человек из полуподвала и чаем с душистым мёдом угощает…
Вспомнив о чае, Щербатов вышел на кухню, включил чайник, долго не мог найти чай, гремел банками-склянками – нашёл! Заварил, а когда было наладился пить, вошла сонная жена с накрученными волосами, поднявшаяся непонятно по какой причине.
– Ты что не спишь?..
– Доклад пишу…
– А что подвязался?
– Да так, для поддержания «грудной клетки».
– Со своими докладами мы совсем и друг о друге забыли, за докладами и жизнь проглядим! – И гневная развернулась и даже хлопнула дверью.
«И всё-таки я ей ничего не открою, не скажу», – подумал Щербатов – он так и стоял возле стола с чайной чашкой в руке.
Глянул на часы – четверть третьего. Ещё успел бы выспаться, да не уснуть.
С того часа и до ухода жены в институт думал Щербатов опять же – о собственной смерти… И не мог понять, то ли он до крика боится её, то ли до онемения не может понять. Как снег на голову летом – не верилось: один год! Но и этого времени он не мог освоить. «Если такие боли, если ночи не спать – зачем это? Проглотить пяток таблеток – и достаточно», – горестно размышлял Щербатов.
На этот раз Щербатов позвонил, оповестил Наташу, что намерен заехать на чай с пяти до шести. Приехал на такси, отказавшись от служебной машины. Был он приятно удивлен: заметно припадая на ногу, Наташа свободно ходила без костылей. И внешне она как будто преобразилась: волосы её были аккуратно уложены и скреплены; в платье не было ничего дорогого или яркого, но всё облегало так, что видна была её статность. И лицо представилось настолько милым, что Щербатов невольно подумал: «Да она красивая! – И смутился. – Для меня, что ли, так приготовилась?»
– Наташа, ты сегодня неузнаваемо мила! – искренне отметил он.
– Да нет, такая же – наконец-то выспалась… Четвертинка-то – хо-хо! Никакой боли…
В ответ Щербатов промолчал. Поставил на стул портфель, повесил плащ и шляпу на вешалку, и только тогда увидел лежащую на кровати мать Наташи, Анну Ивановну. Без смущения поздоровался с поклоном головы и тотчас, отстегнув портфель, извлек на стол пачку чая, кусок восточных сладостей с орехами, печенье и упакованный кусок сёмги.
Уже заварили чай, не менее душистый, чем дедушкин мёд, долили чайник и вновь включили, уже завязался было разговор, когда, что-то непонятное гукнув, поднялась с постели и Анна Ивановна.
– А чаёк-то у вас запашистый, – сказала она, присаживаясь на третий стул к столу. – Ежели и мёд открыть, то и угореть можно.
– Вот и открой, – с усмешкой сказала дочь.
– Нетушки, сами и открывайте… А мне на воздух идти, к детям до полуночи. – И уже не говоря ни слова, налила себе чая, перекрестилась, выпила чашку с аппетитом из блюдечка и поспешила одеваться для улицы.
Не успели достать мёд и приложиться к чаю, а Анна Ивановна уже стукнула дверью, напомнив дочери:
– Да не забудь личину освободить…
– А что значит: личину?
– Так у нас замочную скважину называют, – пояснила Наташа.
И остались они вдвоём с цейлонским чаем и цветочным мёдом – и оба без надсадной боли.
Первой вновь заговорила Наташа:
– Пётр Константинович, и где вы такой не ширпотребовский чай купили? Чудо – не чай!
– Да в нашем буфете… – Щербатов запнулся, понимая, что не то сказал, и поспешил защититься: – В нашем, чиновничьем…
– А таблетки? Сильное средство…
Щербатов, прикрыв глаза, кивнул головой.
– В любой фирменной аптеке – были бы деньги…
– Сколько же я должна вам?
И горестно покачал головой Щербатов:
– Не обижай меня, Наташа, я не спекулирую лекарствами… и вообще. Я понимаю боль, поэтому сочувствую… Впрочем, ты уже всё знаешь – и не допрашивай меня для утверждения.
– Да это и неприлично – допрашивать. Вы правы, Петр Константинович… Щербатов. Будем откровенны: почему да зачем?
Щербатов с облегчением засмеялся:
– Ты конечно же понимаешь, что корысти с моей стороны нет и покушения нет даже в мыслях. – И вздохнул сокрушённо: – А вот ответить на вопросы: почему да зачем? – я и сам не в состоянии… Бессонной ночью я, казалось бы, всё передумал, и наиболее откровенный вывод прост: мне хотелось просто бабьего сострадания… А жена моя, Валентина Львовна, может проявить сострадание лишь по-профессорски, согласно с физматом. Вас упросил в машину тоже из сострадания – к тебе… И всё, почему я здесь.
– Понятно… Только ведь я не баба, слава богу, девушка – сострадания не получится.
– Это, Наташа, сказано фигурально, когда старуха, женщина, девушка и даже ребёнок – всё равно: «баба». Простонародное определение пола.
– Но ведь вы не из простонародья… Хорошо, что так… – Наташа разлила по чашкам остатки заварки, включила для подогрева чайник. А была она на удивление спокойна и, право же, мила. Пока чайник шумел, распечатала сёмгу и тонко нарезала на чистое блюдце, затем дополнила кипятком чашки, и всё ещё держа чайник в руке, раздумчиво сказала: – Знаете, Пётр Константинович, в подобных нашему стечению обстоятельствах ничего случайного не бывает. Надо бы только понять.
Щербатов, казалось, пропустил мимо слуха последние слова, но внутренне даже насторожился.
– А ещё я подумал в бессонную ночь: давно ли вы живёте в этой комнате и надеетесь ли из неё выбраться?
– Живём мы здесь лет… лет… очень много. Стою на очереди в библиотеке, только какие там квартиры! Да в наше время, когда квартиру – даже в крайней необходимости! – можно только купить… Первое время я ещё бегала по кабинетам, надеялась… – Изогнув губы, она как будто усмехнулась. – Теперь не бегаю… Так Богу угодно.
– Что значит – Богу?! Какому Богу? Где он?..
– Всюду, – вздохнув, тихо ответила Наташа. – Вы будете чай?
– Да какой чай… вы меня, Наташа, расстроили… прости, но это же пережитки…
Наташа засмеялась:
– Вы, Пётр Константинович, наверно, и теперь голосуете за коммунистов в Думу?
– А за кого ещё-то?! Не за Жириновского же!
– Хрен редьки не слаще… Впрочем, оставим этот разговор…
– Почему же?! – удивленно воскликнул Щербатов. Сидел он красиво, размашисто, положив локоть левой руки на спинку стула, и никакой боли или болезненности не отражалось на его лице.
– Это потому, Пётр Константинович, что вы даже представить не можете человека в разуме и верующим. Вы так и живёте идеей разрушения. Империю разрушили и разграбили до основания, а затем и переворот-перестройку вы же сделали и разграбили Отечество. А теперь Зюганушка, эй, ухнем, вновь рвётся к власти, чтобы разрушать – и вы, Пётр Константинович, в этой компашке. И дорвись вы до власти, вновь начнёте… храмы взрывать!
Наташа побледнела, и даже напряженный Щербатов понимал, что такую полемику продолжать нельзя.
«Видимо, фанатичка», – подумал он и легко взял себя в руки.
– Прости, Наташа, полемика идеологическая, а нам это ни к чему.
– Почему же, я верующая – мне это дорого, и я готова на любую полемику.
Щербатов совсем обмяк – способность подчинять своё настроение или состояние была отработана у него с юности, да и унаследована от родителей.
– Наташа, давайте ещё по полчашечки, – и добродушно улыбнулся. – Ведь всё равно вы мне не докажете, что Бог есть…
В ответ и она усмехнулась:
– Я-то докажу, а вот вы не докажете, что Бога нет.
– Какая же формула на этот счёт имеется?
– Евангелие вы и в руки не брали – это очевидно. Я назову современный пример, по-вашему «формулу»: схождение Благодатного огня на Гроб Господний в Иерусалиме, в субботу, накануне православной Пасхи. Что это, если не Бог?
– Знаю, знаю этот «огонь», в 1988 году появился для успокоения. Электроника работает: инопланетяне в «тарелках» летают, причем прилетают только в необходимое время – месяц, полгода покрутятся, надобность пропадёт – пропадают и «тарелки»; надо устрашить или отвлечь людей – вновь прилетят… Так и с «огнём», кампанию организовали, а для людей утеха. – И замолчал Щербатов, вполне довольный своим ответом.
– А ещё, ещё! – с усмешкой предложила Наташа.
– Достаточно этого! – Щербатов усмехнулся, в то же время лицо его болезненно перекосилось. – Который же час?.. – Оказалось четверть одиннадцатого. – С ума сойти! Наташа, мне четвертинку…
И пока Наташа делила таблетку, Щербатов вызвал срочное такси. Моросил дождь, Наташа надела плащ и вышла проводить Петра Константиновича.
Такси уже ожидало у подъезда.
Более недели Щербатов не появлялся и не звонил. Наталья Сергеевна успокоенно решила, что странный «роман» завершен, и вспоминала о Петре Константиновиче лишь в те дни, когда принимала обезболивающие четвертинки.
Больничный продлили ещё на десять дней, и она радовалась Бабьему лету. А выдалось оно на редкость солнечное, с холодными ночами, так что листья на деревьях скоро окрашивало яркой акварелью.
Утром, после завтрака, если не в храм, то шла она на старое городское кладбище, давно закрытое и теперь ожидавшее исхода определённого срока, чтобы его и вовсе ликвидировали для городских нужд. Здесь на одной половине возвышались вековые липы, на второй же половине – берёзы и клёны. Именно под клёном и была могила отца. Лишь по рассказам матери Наташа помнила его. Она и шла сюда не плакать, не благообразить могилу – всё это делала мать. Наташа шла, чтобы на коленях прочесть короткую молитву, а затем сидеть на скамеечке перед холмиком с крестом, слушать тишину и тревожный шелест деревьев, думать о жизни и смерти, любоваться красотой осени. О, эти бордовые листья, как ладони с разъятыми пальцами на длинных листоножках! Каждую осень они стоят у неё на столике, утешая в воспоминаниях. А здесь на вечном покое в окружении дорог и машин она думала о жизни, о Боге и созерцала осеннюю красоту – это летнее умирание.
«Господи, как всё скоротечно и необратимо. Отца нет, я и не помню его, мать больна – не через год, так через десять уйдёт… А я одинокая и мне тридцать – прервётся наша хилая ниточка… Одно утешает: по весне клён выпустит новые, молодые листья – и всё повторится… А как иначе и представить непознаваемую жизнь? Да никак… Родился иной, помаялся – и ушёл беспамятно и бесславно? Такой развязки не пережить… Сколько сегодня самоубийств, даже дети кончают жизнь сами… Люди спиваются, впадают в наркоманию. И коллективно отыскивают причину всему этому, принуждают, запрещают спиртное – и не скажут, что людям не нужна такая жизнь, без Бога, без вечности… Господи, как всё просто и сложно, – подумала и внезапно переключилась мысленно: – А этот человек, зачем он появился и вошёл в наше жилище? Ведь он в благополучии, у него благополучная семья – что он ищет? Не покорных же любовниц на костылях… Не понять – «бабье сострадание», но это так, на поверхности. Что теснит и гонит его? Тяжелая болезнь и страх перед смертью, но ведь не могу я от этого избавить… Непонимание в семье? Но у него дочь почти моего возраста, замужем и внук… Так просто не понять и этого человека, как, впрочем, и себя… Земля рассудит, земля поймёт… Бога для него не существует, так чем же можно его утешить? Ничем… И что за болезнь у него?.. Господи, это не мой человек, это чужой, так зачем он вошёл в наш полуподвал… Он семейный, без Бога и на двадцать лет старше… Отведи от меня его, Господи… Все мы грешные, несчастные в грехе люди…» – И Наташа вошла в дремотное раздумье. Она слышала шелест деревьев, гудящий шум далёкого транспорта на дорогах – и это как будто дыхание вечности… Хорошо.
Так она сидела пять, десять минут, когда вдруг услышала шаги… С центральной пешеходной дорожки Щербатов узнал её и теперь с цветами в руках решительно шел на встречу, обходя одну за другой могилы.
– Как вы здесь оказались?! – ещё не подойдя, требовательно спросил он.
– Здравствуйте, Петр Константинович. А вы что, на свидание пришли с цветами?
– Кощунственная реплика, – строго определил Щербатов. – Я пришел к отцу, ему сегодня исполнилось бы сто лет.
– Вот и я к отцу. – Наташа кивнула в сторону могилы.
– Неужели? Странное совпадение… – Щербатов развернул голову и нахмурился. Только теперь Наташа увидела и поняла, что лицо его болезненно изменилось, даже исказилось – он похудел и как будто постарел за эту неделю с небольшим. И глаза под тяжелым наплывом бровей померкли. Она увидела это, но решила не замечать, чтобы лишний раз не напоминать человеку о недуге.
– И почему же вы здесь сидите?
– Отдыхаю. Где ещё в городе найдёшь такую тишину, воистину покой. И хорошо общаться мыслями с могилой родного человека, да и вообще на кладбище бывать надо.
– Странно, – повторил Щербатов, что-то своё подразумевая под этим «странно»… – А я схожу туда, к отцу, – и указал рукой в сторону вековых лип, и, вздёрнув норовисто голову, пошёл, огибая могилы.
Под липами старые захоронения. По краю в рядок пристроились могилы почетных граждан города. С десяток их в ряд под тяжелыми надгробными плитами с козырьками для фотоснимков и подписей, причем указывался и прижизненный чин со званиями и наградами. Вслед за фамилией Щербатов значилось: «Первый секретарь Горкома КПСС».
И здесь было много опавших листьев. Щербатов не стал сметать их, положил под именем цветы, разогнулся, прижав подбородок к груди, вытянулся и на некоторое время замер. Здесь, перед могилой отца, он старался ни о чём не думать – и не задерживаться, иначе воображение начинало рисовать могильное подземелье. А такое созерцание могло довести его до исступления. Здесь, на кладбище, куда и девалась его обходительность и внешняя наигранная обаятельность. Необъяснимый гнев порабощал его, делал раздражительным и резким. Когда же он замыкался в себе и поспешно уходил от родного захоронения, раздражение не получало крайнего развития. И уже отойдя на два десятка шагов, с безразличием и даже с усмешкой смотрел Щербатов на кресты справа и слева, многие из которых пришли в упадок, а некоторые, подгнившие, обрушились.
Щербатов хотел пройти мимо, но не прошёл, свернул к Наташе.
– Вы всё сидите? И как выдерживаете так продолжительно?
– А я, Пётр Константинович, не напрягаюсь, я отдыхаю. Вы посмотрите, какая красота вокруг, упокоение какое.
– И это? – осклабившись, Щербатов указывал вытянутым пальцем на могилу.
– А что? Сказано же: из земли сотворён, в землю и уйдёшь… А вы присядьте, в ногах, говорят, правды нет. Или спешите? Скажите хоть, как вы себя чувствуете в последнее время?
– Меня машина ждёт… – И всё-таки сел – старенькая скамья качнулась и скрипнула. Положив руки на колени, он как будто придерживал своё вдруг отяжелевшее тело, хотя излишнего веса в нём не было. – А чувствую я себя отвратительно. Мой неоперабельный рак взялся за своё дело…
Теперь Наташа в испуге смотрела на него, не зная даже, что на это сказать. Новость сковала её.
– Даже жена Валентина Львовна не знает об этом… Кроме врачей, ты – первая узнала.
– Благодарю за доверие… Вы крепкий и ещё молодой мужчина – надо бы попытаться иными средствами…
– Какими иными?! – вопрошая, выкрикнул Щербатов и даже ощерился.
– Мало ли средств… Крайнее лечение – голоданием.
– Да это же шарлатанство!
– И другие средства… Солженицын до операции лечился чагой…
– Предатель… А чагу вместо чая бабы деревенские заваривают, а от рака мрут. Лучше уж лунным светом лечиться! Необходим такой меч, чтобы мгновенно отсечь – и вон!.. Только нет такого меча. Да и человеку жить некогда – работа и забота. Это же издевательство! – и на этот раз воскликнул Щербатов.
– Пётр Константинович, – раскрыв широко глаза и радостно улыбаясь, возразила Наташа, – да впереди вечная жизнь!
Заметно было, Щербатов пытается взять себя в руки и даже улыбнуться наивности собеседницы.
– Наташа, вы добрый человек, но не говорите мне про эти болотные бредни. Какая вечная жизнь?! – И вновь сорвался: – Вот она, вот – вечная жизнь! – и даже склонился вперёд, тыча рукой в могилу. Загляните туда – там вечная жизнь, копошение червей!
Наташа промолчала, невольно вспомнив: не мечи бисера… А он гневно торжествующе смотрел на неё, полагая, что вот так-то – и сказать нечего. Он выжидал, может быть долгую минуту, и всё это время повторял мысленно: «Вот сейчас поднимусь и уйду – навсегда». Однако не уходил. Наконец Наташа воздела на него взгляд и снисходительно улыбнулась:
– Мне с вами, Петр Константинович, трудно вести разговор, тем более – полемизировать. Вы солидный человек и по службе, и по возрасту, я многое не могу вам сказать, потому что обижу. Не могу же, к примеру, сказать, что вы духовно неподготовленный, невежественный человек. Вы оскорбитесь и будете правы. Но ведь в последний раз в моём «подземелье», как вы разок справедливо заметили, мы так и не завершили разговора о Благодатном огне – тогда вам стало плохо. Вы всё отнесли к проделкам энергетики и электроники, но вы не посмели бы так сказать, если бы знали, что Благодатный огонь сходит ежегодно после воскресения Иисуса Христа. И это отмечено исторически. И даже наш русский паломник игумен Даниил в двенадцатом веке описал схождения Огня на гроб Господний, а тогда не было никакой электроники, никаких космических достижений и летающих тарелок. А издана эта книга не в восемнадцатом или девятнадцатом веках, а в двадцатом веке, в восьмидесятом году – были и другие издания, но эта книга хранится не где-то, а отсыревает в моём «подземелье».
– И что, всё это так и описано? Не верю.
– Вот видите, вы даже факту не верите, не только мне. Потому что у вас на первом месте не истина, но идеология. А идеология ваша, коммунистическая, никогда не согласится с Богом. Дай вам в руки эту книгу, да и десятки других, вы и тогда не поверите, заявите: враги напечатали, чтобы навредить марксизму-ленинизму.
– Не верю, – хмурясь, повторил Щербатов, – и не поверю, по крайней мере, до тех пор, пока хотя бы не прочту.
– Да хоть сегодня…
– Машина ждёт!
Наташа перекрестилась трижды, поклонилась могиле отца – и они пошли к выходу. Наташа припадала на ногу, шла осторожно, и Щербатов взял её под руку.
И на этот раз более двух недель не звонил и не появлялся Щербатов. В тот день, когда от старого кладбища они уехали на машине, он пробыл у Наташи считанные минуты. Получил из рук в руки книгу «Памятники литературы древней Руси. XII век» и уехал. Расстались мирно. Щербатов даже сказал:
– А мне любопытно с вами, Наташа. Обогащаюсь, – в то же время подумав: «Не поздновато ли, Петр Константинович, обогащаться? Следовало бы подумать о продлении жизни».
А Наташа тогда иное подумала: «Мучается человек, ему страшно, но он пока и не верит ни себе, ни происходящему с ним – надеется, что это сон… Но как же его страшит могила».
Побывала Наташа на приёме у хирурга, грубого и циничного старика, в очередной раз он нахамил, отправил на рентгеновский снимок, посмотрел, сказал:
– Срослось не совсем удачно. Я думал, будет хуже. Хромай. И пора работать. – Закрыл больничный лист. Наташа промолчала, считая, что с таким врачом легче молчать.
Вышла на работу – вновь стала Натальей Сергеевной. Уже на ближайшую субботу был намечен её доклад на тему «Жития святых в древнерусской литературе».
Именно в субботу до обеда Щербатов без предупреждения и решил навестить, чтобы возвратить книгу и выслушать некоторые объяснения по тексту.
Дверь была не заперта – в полуподвале свет… Легонько дважды стукнув, Щербатов вошел в комнату, не дожидаясь разрешения. Он и без света, в полутьме, увидел бы, что слева на кровати лежит Анна Ивановна – Наташи нет. Щербатов было уже развернулся, чтобы уйти, когда Анна Ивановна сказала:
– Что, Петр Константинович, или заплутался, или полагаешь – я сплю? Никак. – И весьма проворно села на грядку кровати. – Тебе Наташу? Так она в библиотеке, доклад у нее, чаю, в шестнадцать часов. Коли не спешишь, дак и со мною чайку попьём. Я и слово сказать хотела бы…
Она уже поднялась на ноги, ополоснула руки, включила чайник, а Щербатов так и стоял молча, не в состоянии принять решения. Он пребывал в весьма тяжелом унынии, потому что уже несколько дней чувствовал себя скверно. И конечно же Анна Ивановна не могла и не смогла бы развеять такое наваждение, тем более повлиять на состояние. Но развернуться и уйти – значило бы, ещё сюда не заходить. А Щербатов сердцем чувствовал, что он уже в чем-то зависим, они очень много о нём знают, к тому же иные по сравнению с ним – этим и Наташа привлекательна, отнюдь не как женщина… Но о чем он станет говорить с этой женщиной его поколения? Что она может ему сказать, он не знал, как и того, что сам он ей скажет. Наконец решился:
– У меня, Анна Ивановна, полчаса свободного времени, если управимся, не откажусь от чашки чая.
– А что не успеть – успеем. Ставь сумку, сымай плащ, а чайник уже шумит – момент и щёлкнет.
Щербатов сел к столу. Чай был заварен, настаивался под «матрёшкой», на столе уже стояли чайные чашки с блюдцами, сладости и печенье, мёд нельзя – на улице осенняя простуда прихватит.
Внешне мать даже не напоминала облика дочери – всё иное, и ростом Наташа на голову выше, но обе энергичные и за словом в карман не лезли; обе сокровенны – сами в себе. Так что Анна Ивановна не заставила себя ждать, да и времени отведено – полчаса.
– За дочь я спокойна – мы ведь сроду православные… И что ты квелый, простым глазом видать, а уж что внутрях болит, то одному Богу дано знать. Да только теперь чаще чернобыльская болезнь пошла. Ну, да то ли еще учинят… А что ты ищешь от неё – не ведаю. Может, просветишь?
Помолчали. Налили в чашки чай – горячий, минутку повременить. Этой минуткой и воспользовался Щербатов:
– За дочь, Анна, не беспокойся – факт… Болезнь во мне действительно чернобыльская – вот я и бегу от неё, да только убегать некуда и не успеваю.
И сник Щербатов, нахмурился. И она конечно же заметила это…
– А что я ищу от неё, понятия не имею. Наверно, откровенного человеческого отношения.
– У нас в таком разе говаривали: погреться возле доброй души. Такое не возбраняется, напротив, отказать страждущему в таком разе нельзя никак…
– Сейчас, может, и поеду в библиотеку послушать её доклад. – Это уже была заявка для побега. Анна Ивановна добродушно усмехнулась:
– Чаю, и свои-то доклады надоели до не могу!
– Это уж точно так…
– А я ведь у тебя, Пётр Константинович, однакожды на приёме была – из безвыходности. Лет уж пять или боле. Инфаркт я тогда одолела. Туточки вот и задыхалась зимой… Записалась, отстояла, вошла, ты лютый почему-то, по кабинету как тигра… Говорю, вдова я, с дочерью, в полуподвале живём – помоги, ежели хочешь. Нет фонда, – говоришь из-за стола, – по месту работы вставайте на очередь… Давно встали, да так до сих пор и стоим, не сдвинулись, – заключила Анна.
Для него всё это было понятно, так вечно – до третейского. Только тогда и может сдвинуться.
– Я, мил человек, не прошу помощи, но подскажи – как быть? Или уж и не шевелиться.
– При капитализме иначе и не получится… Что посоветовать – не знаю. Если выйду на службу – тогда можно подумать…
– Ну и так ладно. Давай-ка ещё по чашечке. Чаёк-то скусный…
Пили чай молча. Щербатов расслабился. Как будто и напоминания о болезни отступили. Пощупал карман – здесь ли таблетки. Вот и хорошо – не забыл. И вновь вспомнилось кладбище – и Наташа на шаткой скамеечке… И он спросил:
– А мужа давно ли схоронила?
– Давно, до без памяти давно…
– Болел?
– Сначала-то не болел. А тут такая ли оказия накатилась. Не дай-то бог кому другому.
– Что так? – с механическим безразличием спросил Щербатов.
– Не бай-ка, Пётр Константинович, как хошь поверни, одно беда – порешил человека.
– Как это?! – В изумлении Щербатов и голову вздёрнул.
– Так. Пошли мы с Серёжей ночью на Пасхальную службу. В храме битком – давмя. А тут уж пошли и крестным ходом вокруг храма – это на площади Свободы, тогда только там и служили. Серёжа-то мой ни дать ни взять – богатырь, одной рукой хоругвь нёс… Вокруг те, кто не смог в храм вместиться – и молодняк, комсомольцы. Уж не знаю, сами ли они или кто их наставлял, только фулюганили! И кричали, и музыку включали. А тут какой-то шнырь и бросил что-то под ноги. Ужас как грохнуло! Женщина в годах впереди шла, так ничком и упала в обморок. Мой Серёжа и схватил этого шныря за шиворот, приподнял, да и отшвырнул в сторону. А он, сердешный, как кутёк головешкой-то обо что-то и тюкнулся. Милиция тут как тут, крики, скорая помощь. Крестный ход не сорвали, а моего Сережу в машину – и увезли. Убил человека…
Помнил Щербатов этот случай, помнил хорошо. И не только помнил, но имел прямое отношение к этому делу. Нет, он не орал возле храма, не бросал под ноги верующих петарды, но горком комсомола рассылал указания и на этот счёт: все массовые сборища церковных кликуш искоренять, создавать препятствия, дезорганизовывать сборища, чтобы знали и помнили, что их меньшинство, что они в прошлом и нет у них будущего… Как не помнить, когда сам и организовывал. И обсуждали на собраниях смерть комсомольца, требуя достойного суда над убийцей… Как не помнить, когда на похоронах комсомольца торжественно обещали-клялись бороться с религиозным мракобесием всегда, всюду, до полного искоренения… Как не помнить, когда это памятный эпизод из его личной жизни.
А тогда как-то скоро и забыли о случившемся: знали, что убийцу судили, дали срок, а что потом, как потом – и узнать не пытались. Помнилось одно: убит комсомолец и за него надо воздать активной пропагандой.
В воспоминаниях Щербатов настолько ушел в себя, что и не слышал, о чем продолжала говорить Анна, а она говорила и говорила о своём незабвенном Серёже.
– Всё-то в нутриях у него отшибли и на десять годков в каталажку отправили. Да только скоро и актировали, домой отпустили. Так что, слава богу, дома три месяца и умирал, дома и отпели и схоронили честь по чести. Всё хоть рядом на могилку сходить, а теперича и в церкви панихиду заказать, и на Пасху, и в любой день побывать на могилочке… Только говорят, ликвидировать кладбище будут – перезахороним. А как же иначе…
– Как же иначе, – повторил Щербатов, – иначе и нельзя. На этом месте промышленное предприятие возведём…
– На костях, – тихо подвела итог Анна. – Не оставлять же на поругание.
– Да… При капитализме всё возможно. Только жизнь, она идёт вперед безостановочно, не поспеваем за ней…
Анна печально усмехнулась:
– Бежим, только штаны спадают…
– А ведь я засиделся! – спохватился Щербатов. – Мне ведь пора…
– Пора, так пора. С богом… Да, бишь, ни тогда, ни теперь Наташе об этом я не говорила.
– О чём?!
– Да что к тебе на приём ходила и что помню тебя. Зря-то ведь болтать – чирей на языке вскочит.
– Оно, конечно, может и вскочить, – приговаривая, Щербатов быстро оделся, рассеянно простился и ушёл.
«Страдает человек», – провожая его взглядом, подумала Анна Ивановна.
Щербатов не страдал, Щербатов думал, а вот о чем – однозначно он не ответил бы. Задумался он о себе, о своём завтрашнем дне и о муже Анны, отце Наташи, и о том, к чему и зачем этот весь жизненный базар – и многое ещё плутало в его мыслях, в чем он и не пытался разобраться. И всё-таки, прежде всего ни о жене, ни о дочери, но о себе, как будто они вечны, а он – нет. Ведь что-то надо предпринимать, не ждать же в служебном кабинете своего безвременного конца – ну хотя бы ещё лет двадцать!..
И вот в таком состоянии произошло с ним затмение: все, казалось бы, думал, всё, казалось бы, шёл, а очнулся на том же кладбище – стоял он перед могилой отца Наташи… Щербатов вздрогнул, тихо выругался матом и поспешно оглянулся по сторонам – не видит ли кто? Нет, на кладбище никого не было, а тишину нарушал лишь скрипучий говор оголенных деревьев с ветром; и где-то как будто хлябала доска. Мокрые опавшие листья припали к могилам.
Щербатов прикрыл глаза, скрипнул зубами, мельком вспомнив, как берёг он свои зубы – нет вставных, и тихо простонал. Он даже не пытался объяснить, почему он здесь оказался – какая разница, почему и где?
Стоял одиноко человек перед чужой могилой и решал подсознательно вопрос продления собственной жизни: оставаться в служебном кабинете или уйти раз и навсегда? Даже в его положении, оказалось, принять такое решение непросто.
Всем разумом своим он воспринял и понял, что осталось совсем мало до последней черты, меньше года – и будет отправлен на пиршество… подземелья. И перед осознанием этого всё блекло: и семья, и работа, и политические забрала, и всё-всё на этой живой земле. Одна оставалась ценность – он сам. И эта ценность перед крахом. Именно тогда Щербатов прочно уяснил: скоро умрёт – до этого не верил.
Быстро выйдя за ворота кладбища, он по случайности тотчас остановил такси, сел рядом с таксистом, сказав единственное слово:
– В управу…
Не докладываясь, он прямиком прошёл к своему шефу, Градоначальнику. Спустя час разошлись. Договорились так: Щербатов по состоянию здоровья оформит отпуск для начала на три месяца. Пришлось во всём открыться. А уже на следующий день весь чиновничий аппарат знал, что Щербатов неизлечимо болен. В тот же вечер состоялся разговор с женой, Валентиной Львовной. Она на редкость была резкой и требовала полного отчёта.
– Ты что же это, Петр Константинович, болеешь и молчишь. И я даже не знаю, что у тебя за болезнь! Посторонние люди спрашивают, а мне и ответить нечего! Что же ты меня в дурацкое положение ставишь?!
– Видишь ли, Валентина Львовна, я в более дурацком положении: хочу сделать лучше, а получается как всегда.
– Если о себе не хочешь думать, обо мне, о дочери с внуком подумай! Ты хоть освидетельствование прошёл?
– Обращался, прошёл. Хватит.
– Не хватит! Почему же молчишь?
– Потому и молчу, что говорить нечего.
– Слушай, Пётр, не валяй дурака. Здесь не могут ничего сделать, оформи направление в Москву!
– Я уже был в Москве…
Валентина Львовна и ладонями по бёдрам хлопнула.
– Ну и что?!
– Ничего нового.
– Да что у тебя, черт возьми!
– Не возьмёт, я и ему не нужен.
Разговор завязался в столовой, после последних сказанных слов Щербатов повернулся и ушёл к себе. Но Валентина Львовна настигла его и там:
– Ты что же, голубь, бежишь?! В конце концов, я должна знать, что происходит с моим мужем! Я требую!
И Щербатов усмехнулся – действительно, смешно: душа его обмякла. Он ясно понял, что по-человечески жена права. Пусть знает всё – прятаться мне не по регламенту.
– Валентина Львовна, – на удивление спокойно сказал он, – не требуй, не надо. Ради тебя и молчу. У меня неоперабельная раковая опухоль… Тебе легче стало?
Какое-то время Валентина Львовна завороженно смотрела на мужа и в этот момент ненавидела его. Как можно в 50 лет оставлять жену на произвол времени. «Я ведь живая!» – в душе своей выкрикнула она, закрыла лицо ладонями и, казалось, в слезах устремилась к себе.
«Итак, товарищ Щербатов, начинается новая укороченная жизнь!» – мысленно он произнёс и захохотал гневно и вызывающе. Порывисто выдвинул ящик стола, извлек из-под папок две сберкнижки и сертификаты, сунул в скрытый карманчик портфеля: денег хватит и в рублях, и в долларах – и в Москву, и за границу.
Сел к столу, но ни думать, ни делать ничего он не хотел и не мог. Не помня ни числа, ни дня недели, Щербатов собрался и вышел из квартиры.
– Вот видите, Наташа, какой я необязательный человек: получал книгу на день, а возвращаю через… да, три недели.
В верхнем платье, с портфелем в руке от порога говорил Щербатов, говорил то ли просяще, то ли дружески.
– Обязательный, обязательный, если бы совсем зачитали, тогда необязательный. – Она поднялась со стула, просто, но не по-домашнему одетая – он, кстати, никогда не видел её в халате или в брюках, и оценивал это как её достоинство! – улыбнулась, взяла из его рук книгу, положила на свой столик, и пока Щербатов возился возле вешалки, уже налила в чайник воды и щёлкнула включателем. – Вы, Петр Константинович, очень голодный? А то я колбаски с яйцом поджарю, с салатиком, а?
– А что, пожалуй. Говорят же: вода мельницу ломает… А вы, Наташа, всё чем-то увлечены – читаете, пишите.
– Не в домино же играть! – И она добродушно усмехнулась. Щербатов уловил её добродушие: теплой волной омыло его грудь. – У нас в отделе редкие книги! – приходится даже прочитывать, не только просматривать, на какие-то издания писать развернутые аннотации.
Она говорила, но в то же время по комнате уже растекался запах заваренного чая, шипели и потрескивали колбаски с яйцом, и полуподвал уже не воспринимался гробовым подземельем.
«А ведь я обещал Анне Ивановне по выходе на работу дать ей деловой совет по их переселению. – И тотчас в голову как обух вломился: «А у Серёжи-то всё нутро отшибли». – Значит, били на убой».
И Щербатов помрачнел, и грудь как будто простудой сковало. Качнувшись, он прошел к Наташиному столику, минуту-две бессмысленно смотрел на книги и бумаги, а когда очнулся, отошёл от морока, то не нашел ничего лучшего, как взять принесённую им книгу и раскрыть наугад, но раскрылась она – на Благодатном огне. И чтобы справиться с нахлынувшими переживаниями, усмирить совесть, Щербатов повернулся к Наташе и сказал искренне:
– А ведь, правда, здесь, наверно, без дураков.
– Это вы о чём?
Щербатов прошёл и сел к столу:
– Да всё об этом, об огне… Раньше следовало бы знакомиться. Только ведь давать в общеобразовательной школе «истины» на предположениях, не проверенные, не доказанные – никак нельзя.
– Марксисты на этом и строят отрицания… Впрочем, давайте, Петр Константинович, перекусывать, иначе и аппетит не ко времени расстроим.
– Вы, Наташа, молодец, упредительны… А как ваш доклад прошёл?
– Доклад, что доклад – сколько их было. Всё ладно. – Не садясь, возле стола она трижды перекрестилась, и только после этого села, продолжая разговор: – Вы из записок игумена главное не воспринимаете. Это подробный документ образованного русского человека, побывавшего на Святой земле. Тогда ведь пешими шли – не прогулка при луне! А игумен Даниил на русскую землю впервые принёс Благодатный огонь. Это ещё и просветительский подвиг… Простите, я заговорилась. Остынут колбаски…
Однако и во время еды и чая они продолжали беседу, обмениваясь мнениями, всё больше отвлекаясь от личных дум, воспоминаний и забот.
– Что меня смущало при чтении, да и теперь смущает? – Щербатов снял пиджак, спросив разрешение, повесил на вешалку и только тогда попытался ответить на свой же вопрос, но сбился: – А что, Анна Ивановна вновь на дежурстве?
– Да. Это у нее на постоянной основе, знакомые, и работа у них такая…
– Что я хотел? Смущало, что… Люди есть люди и сегодня, и тысячью годами раньше. Могли же и тогда пыль в глаза пустить, что угодно придумать.
– Оставьте идеологию, нельзя же так жить, с постоянным подозрением! – смеясь, возмутилась Наташа. – Ко всему вы ни во что ставите иудеев. Этот народ не позволит себя за нос провести. Они всё проведали бы, до всего докопались бы правдами и неправдами, доказали бы и выставили бы у позорного столпа: «Ложь христианская!» А сегодня! В один день любую ложь раскрыли бы напоказ… Есть исторические факты, которые опровергнуть невозможно, их можно лишь умалчивать. Советская власть утверждала, что Иисуса Христа вовсе не было! Но ведь Он был – Он есть, и не опровергнуть этого…
– А вы, Наташа, можете меня заклевать, особенно в связи с этим огнём…
И в один момент застолье вдруг угасло, как если бы вдруг утрачен был общий интерес или распались взаимосвязь и понимание. Даже плечи Щербатова обвисли – напомнила о себе болезнь или сам он и вспомнил о ней. Наташа, видя перемены в его лице, так и поняла: о чем-то вспомнил – о семье, о болезни… И сама она вспомнила: вот так он выглядел тогда, при встрече на кладбище.
Прошла минута-две общего молчания – и смутная завеса как будто рассеялась. И голос его изменился до отчужденности, когда он заговорил:
– Я с детства, Наташа, всегда был атеистом, воинствующим атеистом, и меня до сих пор смущают иконы, церкви, люди, идущие молиться в церковь, – всё, что связано со словами Бог, вера… Это же самообман перед страхом смерти. Массового мужества не хватает. Так и надо бы воспитывать смолоду.
– Это вы говорите. А я говорю: веры мало, в этом главное… Да и не только веры в Господа, всему древнему веры нет. Ложью оплело целые народы и поколения.
– Я к чему это говорю? А к тому, что конечно же необходимо знать человеческие противоречия, разно-мнения…
– А кто же мешает этому, особенно в наше время: иди и смотри.
– Куда идти, если цель не достойна человека, идеала нет? Где свет – нет света.
– Без Бога тьма… При социализме было видно – светлое будущее коммунизма, – с досадой и состраданием ответила Наташа. – И ведь редко кто очнётся и скажет: хочу знать – научи, Господи, подскажи, в чем наука жизни…
– И в чем же?
– В Евангелии, в Завете жизни…
Наташа попыталась подняться со стула, чтобы взять Евангелие, но Щербатов остановил её:
– Не надо, Наташа, я не верю этому… Где-то там Библии, Торы, Кораны – ничему не верю. Только научная идея может вдохновить и увлечь меня.
– Вольному воля, – прикрыв глаза, Наташа улыбнулась. – А я на любые вопросы и сомнения нахожу ответы в Новом Завете. Там и Бог, и человек… А вообще, Петр Константинович, нельзя отрицать того, чего не знаешь. Наберись мужества, прочти, познай, подумай, а уж затем по уму делай выводы. А как же иначе?.. Коммунизм для вас был котом в мешке – вы никогда его не видели и не знали. Это называется утопией. В конце концов, сами же и взорвали, разрушили, чтобы вновь на разрухе извлечь личную выгоду…
– Не смей так говорить – кощунственно! – и нахмурился, как если бы в своём кабинете во время приёма посетителей.
Они уже давно съели колбаски с яйцом, выпили по чашке чая, и лишь тогда только Щербатов спохватился:
– А ведь я, беспамятная голова, что-то принёс к чаю – и забыл. – И он извлёк из портфеля какие-то сладости, какие-то ядрышки орехов, какую-то красную рыбу и ещё что-то. Но пока оба ничего не хотели. Они смотрели друг на друга, понимая, что оба намерены что-то сказать, о чём-то спросить, но не говорят и не спрашивают, как люди, кои и без того всё знают друг о друге.
«Почему, зачем он оказался здесь и что он от меня ждет?» – нередко задавалась Наташа безответным вопросом.
«Зачем я здесь, в этом подземелье – и что от неё хочу?» – в свою очередь спрашивал себя Щербатов и тоже не находил ответа.
– Наташа, ты для меня как дочь, – спокойно и даже взвешенно заговорил Щербатов. – Но я не могу понять, что нас свело вот так… случайно? Ведь что-то свело. И я понимаю, что должен сказать о себе… Ты, наверно, ждёшь, а я молчу… Ты знаешь о моей болезни, неизлечимой болезни. А вот о сроках не говорил – у меня мало осталось, меньше года. Даже язык не поворачивается говорить. – Щербатов распрямился, вздохнул, слегка откинул голову и, тихо постукивая пальцами по столу, молчал, как будто обдумывал это оставшееся «меньше года» время. – Дни мои предопределены…
И тихое молчание – о чем они думали?
– Я одно могу сказать, – очевидно, в напряжении заговорила Наташа и вновь на какое-то время замолчала. – Предопределять может только Бог… Издавна на Руси говорили: человек предполагает, а Бог располагает. Сама жизнь – свидетель: сколько сроков было отменено. – Она интонацией голоса выделила это «отменено». И тотчас как будто спохватилась: – Мне вот книгу недавно привезли: исцеления по молитвам святой праведной Матронушки. Я и сама еще прочесть не успела…
Она поспешно прошла в свой угол.
«Хромает», – впервые отметил Щербатов.
И всё так же поспешно возвратилась к столу.
– Значит, Матрёна и с того света лечит? – Щербатов усмехнулся.
– Во-первых, не Матрёна – это простонародное, а Матрона, по латыни почётная женщина. Во-вторых, и все-то исцеления с того света идут.
Она полистала книжицу, видимо, отыскивая подходящий пример – и нашла: женщина страдала раковой опухолью, дважды приезжала к раке, молилась и прикладывалась, а когда через какое-то время обратилась к врачу, опухоли прежней не обнаружили…
– А кто она такая, Матрёна? – и невольно потянулся за книжкой. Перелистнул одну страницу, другую и вздохнул сокрушенно: – Нет, не верю я этому, и всю жизнь не верил – и теперь не поверю. Это дело Матрён.
Лицо Наташи даже исказилось:
– Да что вы в самом деле, Петр Константинович!.. Сами лгали семьдесят лет, потому и считаете, что все лгут!
– А это когда же мы лгали? – с недоброй усмешкой попытал Щербатов.
– Строили коммунизм – рай на земле! А людей морили голодом, истребляли. Это что, не ложь?
– Это не ложь. В капиталистическом окружении, следовательно, недостижимо…
– И вы решили сами стать капиталистами – опять ложь!
– Не к месту, не к месту такой разговор, оставим его…
И вновь Щербатов почувствовал себя больным. Он замечал, что такая перемена нередко в нём повторяется. Однако продолжали мирно беседовать, подогревали чай, закусывали бутербродами с красной рыбой – примирение полное.
И долго еще они могли бы беседовать, но Щербатов чувствовал себя всё хуже. Принял четвертинку, вызвал такси и неожиданно сказал:
– Наташа, разрешите мне взять для ознакомления Евангелие или Новый Завет – не знаю, как правильнее… И вот эту Матрёну.
– Нет, Петр Константинович, Евангелие я вам не дам – у нас с мамой одно на двоих. А Матронушку – пожалуй, возьмите с возвратом…
И вновь Наташа проводила его до такси и даже сказала по-своему напутье:
– Берегите себя, Петр Константинович.
За последующие две недели Щербатов стал замечать странное явление. Он как будто раздваивался, или уже раздвоился. Оставаясь наедине с собой, он обычно бывал сосредоточен и хмур, перебирал или перекладывал с места на место свои служебные бумаги, доклады, отчеты, хранимые выступления; просматривал книги, как если бы готовился к предстоящему рабочему дню. И в то же время он сознавал, что ничего ему уже не понадобится, но собрать всё это и спустить в мусоропровод было бы неловко – почти на каждой бумажке значилось его имя. И он смирялся: пусть что хотят, то и делают – и начинал нервничать внутренне. Иногда даже закуривал сигарету. И хотя из головы не выходило приближение предопределённого, он звонил сослуживцам, знакомым, спокойно обсуждал второстепенные вопросы, давал советы, которые, впрочем, он догадывался, никому не нужны. И ему звонили – советовались, просили подсказать, и он давал советы и делал подсказки. И никому он не жаловался на свою судьбу, не говорил о своей роковой болезни и состоянии.
В одиночестве Щербатов чувствовал себя не то чтобы крепким и здоровым, но всегда мужественным, человеком с достоинством.
Но стоило появиться рядом кому угодно – будь то жена или сослуживец, как Щербатов тотчас менялся и внешне, и внутренне. И сам он сознавал это и даже чувствовал: подошвы вдруг мякли, колени слабели, и на ходу он пошаркивал ногами; руки обвисали, голова клонилась, его пошатывало, и лицо становилось требующим сострадания. И особенно менялся голос, от чиновничьего тона ничего не оставалось. Говорить он начинал как будто заискивающе, с печалованьем.
Валентина Львовна в таких случаях обычно говорила:
– Да ты что, Пётр Константинович, при смерти, что ли? На тебе и пижама висит как на вешалке!
– А каким я должен быть? – нередко спрашивал Щербатов и, пошаркивая домашними туфлями, проходил к своему стулу.
– Скажи, что у тебя болит, чем помочь тебе, а то ведь у тебя вид – только неотложку вызывать.
– Вызовешь, успеешь, а пока обойдусь…
– Возьми ты себя в руки, ведь ты же волевой человек.
– Волевой, – отвечал он и погружался в тарелку. Ел мало и медленно – некуда спешить.
Зато Валентина Львовна всегда спешила. О таких говорят: энергичная женщина… Всего лишь на три года моложе мужа, но крепость, осанка, уверенность в себе, внешняя холодная обаятельность с властолюбием делали её в любом положении, в любых обстоятельствах неодолимой. Ещё в тридцать лет Щербатов в шутку не раз говорил: «Тебе, Валентина, надо бы министром внутренних дел быть, а не преподавать в институте». При этом оба смеялись. Валентина Львовна не злоупотребляла властностью в отношениях с мужем, потому что и он был не менее властным.
И вот теперь всё расстроилось буквально за полгода, пошатнулось – вместе они уже не смеялись. Она требовала доклада, отчета, давила на него, а он прогибался, понимая, что спорить с женой в его положении бесполезно. Он и утаивал подробности своей болезни лишь потому, чтобы его не допрашивали, чтобы мог он сосредоточиться хотя бы внутри себя. А в присутствии посторонних или жены Щербатову, как ни странно, хотелось, чтобы ему посочувствовали, пожалели его – не прямо так, а в душе, в голосе – обласкали, сказали тёплое слово, чтобы он по-бабьи просто мог бы пожалиться. А этого не получалось – его знали волевым и повелительным…
И только в полуподвале, у Наташи с Анной Ивановной, на некоторое время он становился самим собой. Хотя и здесь ему хотелось ласки, доброго слова, хотелось стать беспомощным – покачиваться и пошаркивать ногами, но здесь он одолевал свои желания.
В очередное посещение полуподвала нервы его вдруг сдали: сначала он почувствовал, что и здесь ему хочется умалиться, расслабиться и доверчиво прильнуть щекой к руке Наташи. И она почувствовала его боль, поняла: обняла его поникшую голову и привлекла к себе.
– Не надо, Петр Константинович, не надо бояться – смерти нет… У вас и имя-то какое – Петр, Камень.
– Чего нет… какой камень? – хрипя в горле, повторил он с досадой. Но и это его как будто взбодрило.
– Христос так назвал своего ученика – Пётр, в переводе камень, на котором тоже церковь держится.
«Что-то не то сказала», – подумала Наташа.
Щербатова отрезвило негодование: он легонько оттолкнул Наташу со словами:
– Только этого не надо… я хочу живое, я хочу жизни ещё, ну, три-четыре года…
– Боже мой, зачем? Это же всё равно дым, туман… Как один день и вся-то жизнь на земле.
– Не говорите ерунды, Наташа, вы же умный человек! Не надо верить в пустоту, в надуманную вечность! Условно вечен лишь безумный мир летающих планет. И откуда только вы всё берёте – из еврейских басен, из фольклора!.. И эта Матрёна лишь слепая гадалка на кофейной гуще. Ничему не верю! Какая ведь нелепость: приложился ко гробу с останками – и жив-здоров, как новый пятиалтынный!
– Вы, Петр Константинович, успокойтесь – это ведь, как говорят коммунисты, буря в стакане воды… Заварим свеженького чайку и почитаем Евангелие от Матфея, оно более толковое, легче для восприятия…
– Я ведь не из дураков – пойму наверно.
– Не в этом дело…
Уже через несколько минут Наташа принесла Евангелие и начала чтение.
«Щербатов, до чего ты дошел», – с горечью подумал он и, встряхнувшись, укрепил себя и уже клял за проявленную слабость… Через каждые два-три стиха он останавливал чтение, и Наташа объясняла и отдельные слова, и смысл подтекста. Так и двигались: она читала, а он пил чаёк со сладостями. Когда же зашли за пятую главу, Щербатов, разведя на стороны руки, сказал с долей торжества:
– Хватит, голова кругом… А в общем, правильно, как и у коммунистов. Многое так и у нас, лишь вместо Бога Человек!
Наташа и глаза округлила в недоумении.
– Нет, Пётр Константинович, это провокационные подтасовки, обман доверчивых. На практике вы руководствуетесь основами научного атеизма – самое пакостное враньё, возведенное в науку, слава богу, теперь не вспоминают… Вы извините меня за такую резкость, но иных слов не подобрать. – Она помолчала, но и он молчал. – Если взять ветхозаветные заповеди или вот эти три главы, пятую – седьмую, из Нового Завета, а рядом положить коммунистические слова и дела, то всё окажется наоборот…
– Ну а если с примерами? – в очевидном раздражении предложил он.
Казалось, что Щербатов внимательно слушал, но плохо понимал, потому что думал о собственной жизни и смерти. И это настолько возмущало его воображение, что ни о чем другом думать он уже не мог, не мог и воспринимать собеседника. А между тем Наташа не отмалчивалась, она продолжала доказывать, убеждать, спасая человека вовсе не из любви и сострадания, но лишь потому, что поступить иначе не могла.
– Например, не убий. А вы весь век только то и делали, что убивали… Заповедано: не прелюбодействуй, а вы весь век развратничали и народ развращали. Вам по идее надо было семью разрушить, как пережиток. Вы и разрушали… Заповедано: не укради, а вы даже не понимаете, что значит «не укради», потому что жулик на жулике ехал и жуликом погонял; сказано: не сотвори кумира, а ваш кумир до сих пор с Красной площади голосит: «…опиум для народа!»…
Щербатов откровенно засмеялся:
– Но ведь это только площадная брань вдогонку… Это же не доказательства, а брань… То, что партия противостояла царскому и поповскому режиму – согласен, иная идеология, была кровь – иначе не получится. Революцию в белых перчатках не сделаешь. Но каковы идеалы, какова заложена идея – равенство, братство! В конце концов, если к власти пришли жулики, убийцы и развратники, почему вы не перебили такую власть, не установили новый порядок?
И замолчал Щербатов, полагая, что нанёс сокрушительный удар, после которого и сказать нечего. И верно, Наташа молчала. Подогрела чайник, достала с невидимой полки нераспечатанный батон с отрубями, наслоила ножом на блюдечко красной рыбы, села и только тогда спокойно сказала:
– Конечно же – верно: всё это уже вслед. А по части того, чтобы свергнуть неугодную власть, перебив насильников и жуликов, а кто на смену придёт? Обычно – худшие… А православный народ даже в искалеченном состоянии без ярой пропаганды этого не сделает: учение Божие ведь в душе остаётся. Сказано, любая власть от Бога, стало быть, не противься, терпи, осознавай, за какие твои грехи послана на тебя разбойная власть. Поймёшь, исправишь – и неугодная власть отпадёт. А когда миллионы лучших положены на жертвенник коммунизма, то оставшиеся уже и не думают о свержении власти, но впадают в уныние, в пьянство, в разврат – продолжают внедрять коммунистические идеалы. Ведь не случайно революция в лице Троцкого истребляла мирное населении – для будущего. Будущее и пришло… Да и не нужна человеку жизнь без Бога, вот и проматывают такую жизнь русаки, прогуливают…
– Наташа, а вы страшный человек – пропагандист, Жанна д̓Арк. И кто только вас этой науке обучал?
– Жизнь и обучила, вера… Давайте чай пить, иначе вновь придётся кипятить…
Они не замечали и не заметили, как день за днём привыкали и, в конце концов, привыкли друг к другу. Хотели они того или не хотели, но уже тянулись, ждали встречи, хотя и не признавались в этом даже себе. А время шло. Гарантийный год укорачивался с каждым днём. И состояние Щербатова погружалось в хмурость. Сначала обезболивающие принимал по четвертинке, затем по половинке, а уже к Новому году – по половинке два раза в день. Лицо его заметно осунулось, по телу завязывались непонятные узелки из кожи, всё чаще ловил он себя на том, что – от природы статный – теперь ему легче становилось, когда он сутулился.
При встречах в полуподвале Щербатов чаще стал жаловаться на общее состояние, на головные боли, на жену, на погоду и на жизнь вообще. А погода держалась действительно скверная: температура поднималась до трех-четырёх градусов, нередко шли зимние дожди, смывая снег; вслед за мухами исчезли в городе воробьи – говорили, виной тому повышенная радиация; дули штормовые ветры… Но жизнь была, как никогда, достойная – без страха молились прихожане во всех открытых храмах, и приход заметно менялся – больше стало мужчин и молодёжи… На Украине безумствовал майдан, в Сирии растекались кровью последствия от разрушения Америкой государства Ирак. Гонимые сторонники Саддама Хусейна преобразовывались в армию Игил. Ведь бесследно ничего не проходит: зло порождает наибольшее зло, как и добро …
И Щербатов, и Наташа, по фамилии, кстати, Осипова, осознанно не раз каждый сам по себе впадали в искушения.
Уже не раз в постели, перед тем как уснуть, рассуждала Наташа в дремоте: «А что, могла бы я полюбить такого «старика»? Если бы одной веры, одних убеждений, а почему бы и нет. Мужчина в пятьдесят лет – муж! Если бы добр и неизменен, и я всей душой прильнула, и было бы уже не двое, но один…» Мысли начинали путаться, тело ещё напрягалось, и она вздрагивала, прежде чем погрузиться в сон.
И Щербатов бессонной ночью, слоняясь по кабинету, вспоминал её, такую молодую и случайную: «Моя Валентина в сравнении – фюрер. Характер отца – был он секретарём Обкома партии, несгибаемый и, казалось, вечный, но, воспитывая райкомовских секретарей на конференции, в одночасье и скончался, не дожив до пятидесяти пяти… А у этой отца убили… эта добрая, невозмутимая, теплотой обнимает тотчас. Молода, а я в своём состоянии ни на что не пригоден… А может быть и потому Валентина Львовна – канцлер?! А молодую вера смутила… удила… му… – и засыпал на ходу. Вздрагивал, открывал глаза и в какой-то момент дивился, что находится в своём кабинете обкомовского дома, а не в полуподвале у Анны с Наташей. И вновь блуждали подобные мысли, и Щербатов привыкал к ним, считая своими, неотвратимыми. – А что, я, наверно, любил бы её. – И тотчас навязчиво: – А смог бы жить с ней в полуподвале?.. Всё забываю, надо же позвонить, чтобы переселили… Но ведь она на двадцать лет моложе, на два года старше дочери моей…»
Когда Щербатов думал так, он забывал о себе, о том, что год с каждым днём короче… И всё-таки однажды не выдержал – прорвалось: он засуетился, заспешил, а куда – сразу не мог понять. Обхватил голову ладонями и закричал от страха внутри себя: «Всё! Конец! Какое безумие: родиться, понять – и умереть!»
Щербатов поспешно начал переодеваться, по рассеянности надел домашние брюки с потёртыми у стоп штанинами, на домашнюю рубаху надел костюмный пиджак, подхватил портфель, в прихожей оделся без шарфа, защелкнул входную дверь и ринулся к лифту – а шел уже последний час к полуночи.
И ведь всё складывалось путём: по первому взмаху руки такси остановилось… И лишь перед дверью в полуподвале он очнулся: «Это куда же я в полночь? Они же спят…» Чтобы уйти, развернулся небрежно – стукнул портфелем в дверь и замер. А дверь щелкнула замком и открылась. На пороге стояла Наташа – впервые Щербатов увидел её в халате, но не понял этого.
– Я так и подумала, – с придыханием сказала она. – Что случилось, Пётр Константинович, что с вами? Проходите же – дует…
И он прошёл, до сих пор не проронив ни слова. Наташа включила верхний свет – Щербатов вскинул руку, взывая:
– Не надо, не надо света!
– Да успокойтесь, что с вами? – Она сняла с него шапку. – Что же вы шарф не надели, можно простудиться. – И начала расстёгивать пуговицы на пальто. Щербатов воспротивился, сел на стул и со стоном уронил голову в руки на столе:
– Не могу я, не могу! Что делать?!
Наташа понимала, в чем дело, но ответа не находила, невольно продолжая вопрошать:
– Что с вами, скажите ради Бога?!
– Спаси меня, Наташа, спаси меня… я на всё соглашусь – помоги, продли дни мои… Что делать? О-о-о… – И он испустил стон.
Наташа побледнела, поджала губы, но уже в следующий момент её как будто прорвало – и она вскрикнула:
– Да веровать! Господу верить – ехать к Матронушке! – Она вряд ли сознавала в тот момент, что выкрикивает. Щербатов, похоже, очнулся: воздел голову и медленно повёл взгляд в сторону Наташи.
– И что для того?
– Креститься! Исповедаться! Молиться и молить на мощах Матронушки, чтобы она помолилась Господу Богу о вас! – возбуждённо чеканя, возвестила Наташа.
– Ты что говоришь – подумай? – тихо изумился Щербатов.
– Иного нет…
В это время пришла Анна Ивановна со своего дежурства.
Воскресный день. Наташа побывала на ранней Литургии, причастилась, теперь же отдыхала на кровати. Хотелось помолчать и ни о чём не думать. Но в голове так и бродила память о Петре Константиновиче – очень уж круто закручивались отношения: уже договорились, что она возьмёт отпуск за свой счёт и они вместе отправятся в Москву, чтобы там, где его мало кто знает, принять крещение, приготовиться и побывать в Покровском монастыре, у Матронушки. И если понадобится, еще на неделю задержаться в столице. Все расходы Щербатов возлагал на себя. Теперь уже видно было, что он тяжело болен. Наташа понимала, человек он сложный, живёт в настоящее время под давлением болезни, но ведь в любой день или час может сорваться, впасть в отчаянье, отказаться от каких бы то ни было поездок. Ведь предстояло перекраивать всю жизнь, а в пятьдесят лет это не просто. Она посоветовалась со священником – батюшка сказал, что теперь уже отступать нельзя, быть готовой к любой развязке или неожиданности, и всегда уповать на Господа… Наташа вздремнула, когда позвонил Щербатов, сообщив, что он будет после трёх: тогда они и определят точное время задуманного… И только начала успокаиваться после разговора, в дверь постучали – в комнату вошла Валентина Львовна, одетая с претензией на демонстрацию. Наташа не знала её и никогда не видела. Но гостья с порога объявила:
– Не пугайтесь: Петр Константинович Щербатов – мой муж.
– И что вы хотели бы? – поправляя волосы, спросила Наташа.
Валентина Львовна нервно усмехнулась:
– Мы вроде бы как соперницы, и я хотела бы познакомиться и поговорить за одним столом.
– Садитесь, – Наташа указала на стул, – отдельной комнаты у нас нет.
– Где уж там… У вас душно, я сниму дошку…
Наташа между тем, внешне спокойная, приготовила заварной чайник, включила вскипятить воду – на всякий случай.
И они сели к столу, наверно, разглядывая друг друга.
– Ну и что? – спросила Наташа, мысленно твердя Иисусову молитву.
– Да вот, смотрю на тебя – изучаю, чем муж соблазнился, к кому это он всё бегает.
– Давайте только без фамильярностей, иначе наш разговор не состоится… Зовут меня Натальей Сергеевной, и обращайтесь на «вы».
Валентина Львовна хмыкнула:
– И давно вы соизволили с моим мужем свиданьиться?
– Ровно с того дня, когда он узнал, каким путём – не знаю, что болезнь его неизлечима.
– Это кто же сказал? Вы что, знахарка? Ерунда какая!
– Тогда почему он оставил службу?
– Устал, взял отпуск…
– Вы жена – или не желает вас расстраивать, или вы не хотите знать. Так, наверно?
– Я догадывалась… И вам не следует со мной так разговаривать, хотя бы потому, что я по возрасту в матери гожусь… Что-то вы замышляете с ним?
– Я ничего не замышляю. И он, по-моему, ничего… Пётр Константинович попросту ищет моральной поддержки…
– И находит? – поспешно опередила Валентина Львовна.
– Об этом вы у него спросите… Но когда у человека из-под ног жизнь уходит, он пытается найти хотя бы надежду…
– Но находит Наташу… – Валентина Львовна глянула на иконы: – Неужели вы опутываете его религией? Это же Средневековье…
– Опутывают сплетнями и ложью, сектантством опутывают, а православием просвещают.
– Впрочем, мы не о том говорим. – Валентина Львовна посуровела: – Давайте напрямую, чтобы хоть понять, как далее жить… Вы живёте с ним?
– Живёте вы с ним. Сожительствую ли я? Нет, и этого никогда не будет.
– Но ведь он к вам ночью бегает.
– Был однажды… но не за этим. Он страдает от болезни…
– И вы утешаете?
– Иногда пытаюсь.
– Может, на медэкспертизу направить?
– Пожалуйста. Но после этого в суд…
– Тогда будем пить чай?
Наташа поднялась к чайнику, и только теперь Валентина Львовна заметила, что эта «девка», так в сердце своём она называла её, припадает на ногу.
– Да вы и хроменькая! – то ли удивилась, то ли обрадовалась она.
– Машиной на переходе… теперь вот так.
– И всё-таки не понимаю, зачем он к вам ходит, тем более, здесь и ваша мама.
– Я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Я всё сказала. Впрочем, об этом его надо спрашивать.
И они замолчали – налили в чашки чай.
«Плеснуть ей кипятком в бесстыжую морду?! Не вычисляй глупости, не интегрируй – никакой в этом трагедии нет, только поздновато», – размышляла с раздражением Щербатова.
«Вот и ещё несчастная женщина… Только я-то при чем?.. Мама придёт – что сказать? – в то же время думала Наташа. – Какие мы все заблудшие, грешные и ослеплённые, Господи, ну как быть, что говорить, что делать? Не выгонять же…»
Позвонила Анна Ивановна. Слышно было из трубки, как она говорит: «Пригласила Прасковья Алексеевна, так что я задержусь. Коли что, обедай сама, не жди».
– Хорошо, мама, пообедаю, – ответила Наташа, и кто бы подумал: легче на душе стало – не будет же «гостья» сидеть весь день.
Конечно же Валентина Львовна не намеревалась засиживаться, но она никак не могла придумать, как бы этой «девке» защемить хвост, чтобы она его не распускала.
– А какая ваша фамилия? – спросила она.
Наташа, прикрыв глаза, усмехнулась:
– Что же это вы меня всё допрашиваете? Я ведь тоже могу начать допрашивать. Но если угодно: мы Осиповы.
«А фамилия-то, фамилия вроде бы знакомая… на слуху». – И она быстро начала вспоминать имена и лица. Память у неё хорошая, и, наверно, вспомнила бы она убийцу Осипова, но мысли были прерваны. Постучав в дверь, вошел Щербатов.
И диво дивное: он не то чтобы не удивился, он как будто и не заметил свою жену, или воспринял её, как в своей квартире.
– А вот и я, здравствуйте, приятного аппетита! О, чаёк, чаёк – и мне тоже чайку, что-то я озяб.
На него смотрели, его выслушивали с недоумением, а он опустил на пол портфель, снял с себя и повесил пальто и шапку, сел было к столу, но спохватился: достал из портфеля пачку чая и конфеты в бумажном пакете, положил на стол и лишь после этого сел со словами:
– Наташа, и мне чайку…
– А меня ты узнаёшь, Петр Константинович? – напомнила о себе жена.
– Ты так сияешь, что за блеском лица твоего не узнать, но по голосу узнаю – это ты, мой милый друг.
– Это хорошо, что хотя бы по голосу…
Он вздернул плечи и головой повертел на стороны.
– Вы с ней что затеваете? – повелительно спросила Валентина Львовна, и нижняя челюсть её заметно вздрагивала.
– Затеваем? Затеваем то, чего мы с тобой не затеваем, – и даже руки на стороны развёл.
– Ты что, действительно безнадёжно болен? – Валентина Львовна даже голову потянула к его лицу, пытаясь, видимо, в глазах прочесть правду.
– Болен, болен, – Щербатов хихикнул, – но надежда есть…
– Ты что, паясничаешь или это у тебя от болезни?
– Трудно сказать, я ведь не медик.
– Может быть, нам пора подать заявление на расторжение брака?
Щербатов помолчал, задумчиво подёргал себя за мочку уха, говоря:
– Успеем… а может быть, не успеем… действительно, не успеем. Так что не будем подавать, погодим…
– Великолепный жаргон: погодим!
– Это простонародное… А ты знаешь, Валентина Львовна… – Щербатов не договорил, сморщился, и его лицо до неузнаваемости перекосилось.
– Ты что? – в недоумении спросила жена. – Ты что кривляешься?
А Наташа быстро поднялась со стула, налила в чашку холодной воды, достала из кармана пиджака Щербатова лекарства в коробке, выщелкнула в ладонь таблетку.
– Примите, примите, Петр Константинович…
Щербатов беспомощно взял таблетку и отвалился на спинку стула. Наташа поднесла чашку с водой на запивку.
– И часто так? – как будто не веря своим глазам, ни к кому не обращаясь, спросила Валентина Львовна.
– Да что вы меня всё спрашиваете, я ведь ни жена ему, ни любовница! – коротко возмутилась Наташа. – Значит, бережёт вас от волнений…
Спустя несколько минут, бледный, Щербатов вызвал такси. Сел на стул и тихо сказал:
– Домой…
Дома, уже в прихожей, Валентина Львовна так и взорвалась:
– И как не стыдно ходить в этот подвал с иконами!.. Любовь на фоне ног прохожих… Хотя бы переселил в однокомнатную. Что стоит – или ума не хватает?!
Щербатов промолчал.
Спустя два дня Щербатов и Наташа исчезли из города. Их никто не разыскивал.
Москва поглотила бесшумно и бесследно. Уже в короткое время их нельзя было ни найти, ни узнать среди двенадцати миллионов – затерялись.
У Наташи имелся номер телефона, по которому от церковных людей можно было узнать, у кого снять изолированное жильё хоть на день, хоть на месяц. Позвонила, договорилась и уже через полчаса подъехали на такси и вселились в двухкомнатную квартиру на неделю с возможным продлением срока по сносной цене – тысячу рублей за сутки с человека.
В квартире с изолированными комнатами было всё необходимое для проживания – и даже чистое постельное бельё. Необходимо было лишь загрузить холодильник продовольствием, что и сделано было в следующий час. Перекусили, заварили чай, договорились, чем заниматься каждому уже с ближайшего вечера.
Щербатову предстояло оставаться в квартире: читать Евангелие и заучивать самые необходимые молитвы – «Верую…», «Отче наш…», «Царю Небесный…», две Богородичных молитвы, словом, те азы, без которых к церкви и подступать неловко.
А Наташа до начала вечерней службы поехала в храм, где не раз бывала и причащалась, к пожилому настоятелю, чтобы посоветоваться, где удобнее крестить человека в возрасте пятидесяти лет.
Настоятель внимательно выслушал и предложил крестить у себя в храме, но прежде обязательно побеседовав с этим человеком, чтобы понять, кого предстоит крестить, исповедовать и причащать. Наметили встречу на семнадцать часов следующего дня.
Благословив Наташу, батюшка сказал:
– За тяжелое дело ты взялась, но даст Бог – обойдёмся без вмешательства лукавого. Не оставляй Иисусову молитву…
И пошел батюшка начинать вечернюю службу. Наташа помолилась в храме до елеопомазания – и поспешила на квартиру, чтобы решить о завтрашнем дне.
Уже не первый раз, оставаясь наедине с Евангелием и Молитвословом, Щербатова охватывала растерянность. Он не мог признать достоверными эти книги – тексты и молитвы. Однако в голове постоянно отстукивало: жить, жить, во что бы то ни стало жить; любым способом избавиться от болезни и продлить жизнь, хотя бы на несколько лет – и эта идея властвовала над ним. И как только он переставал помнить об этом, его тотчас охватывал могильный страх, он, казалось, всем телом своим, всем естеством своим ощущал и переживал, как его источает подземелье. И невольно стонал, стараясь поскорее возвратиться к постановлению: жить, во что бы ни стало жить.
Щербатов открывал Евангелие, но текст для него был настолько коряв, а порой и недоступен, что с трудом прочитывая главу, он как будто пьянел, невольно повторяя для поддержания: во что бы то ни стало… И всё-таки сознавал, что ему необходимо постичь, что от него потребуют не только сказать, но в связи с этим и сделать. Опыт работы с людьми у Щербатова был солидный, теперь же ему предстояло оставить в душе одно – жить. Всё остальное – вторично, и он мысленно переводил вторичное в голову и на язык.
Но это лишь предполагаемая теория, а настоящая практика – Евангелие и Молитвослов. Необходимые на первый случай молитвы он до поездки в Москву выучил. Теперь же пытался осмыслить их для практического применения… В Евангелии же он выбрал и перечитывал чудеса Иисуса Христа и с пятой по восьмую главы от Матфея.
На вопросы возможные: «Почему решил креститься?» или «Веруешь ли в личное бессмертие?» – он как будто и отвечал, и ловко уходил от ответа…
И когда, приехав, Наташа сказала, что для крещения церковь определена – и завтра надо ехать на предварительную беседу со священником, Щербатов спокойно ответил:
– Вот и хорошо – и поедем. А сейчас, Наташа, организуй нам ужин, и чайку заварим, это будет даже очень неплохо после дороги и беготни-обустройства. – Он сидел в чужой комнате, за чужим письменным столом, но настолько самоуверенный, с таким достоинством – узкоплечий, но рослый и подтянутый – что трудно было бы угадать в нём больного человека, если бы не выдавало лицо: измученное болезнью, неопределённостью и ожиданием развязки.
«И всё-таки он молодец, держится», – подумала Наташа, мельком глянув в комнату Щербатова.
После ужина за чаем Щербатов спросил:
– А какого возраста будет мой собеседник?
– Я не спрашивала о возрасте, – Наташа усмехнулась, – но на вид он несколько старше вас.
– Это хорошо… И ещё вопрос: при необходимости, как обращаться к нему?
– По-разному можно обращаться: батюшка, например, отец Михаил, в крайнем случае – Михаил Николаевич…
Наташа говорила, легко представляя, с каким недоумением он произнёс бы обращение «батюшка».
– А я полагал, что попа называть следует: святой отец. – Щербатов явно демонстрировал свою независимость и даже своё превосходство.
Наташа вновь усмехнулась:
– Во-первых, он не святой, во-вторых, в православной церкви такого обращения нет.
– А я, Наташа, знаете, что подумал: вот если бы не болезнь, взять бы нам и убежать куда-нибудь в чужие края вдвоём… Как у Горького: «Кабы не было мне жалко лаптей, убежал бы от жены и от детей». И жили бы как птицы вольные…
Наташа головой покачала:
– Нет, не получилось бы: надоели бы друг другу, слишком… разные мы люди. Да и возраст не тот…
– Что возраст! При царе дворяне так и женились…
– Но ведь вы не дворянин, и я не дворянка. А простые смертные и тогда одновозрастными сходились – и не убегали сами от себя, как вы фантазируете.
– Нет, всё-таки любопытно представить: убежали – и нет нас, а мы где-то живём… вдвоём, в неизвестности.
– У нас на курсе был студент – нередко говорил: «Вот представьте: я – академик. Какая свобода для деятельности на всю жизнь!»
– Кстати, Наташа, а вы где учились?
– Я? В Московском университете имени Ломоносова, на историко-филологическом…
– Из университета, с верой в Бога – и в библиотеку?! – с невольным удивлением воскликнул Щербатов.
– Чему же вы так удивились? От учебного заведения вера не зависит.
– Да, конечно, – уступчиво согласился он. – Ведь вот даже и я решаюсь креститься… А заварку нам не подогреть? – таким скачком Щербатов решил уйти от темы разговора. И Наташа угадала этот незамысловатый приём:
– А вы как думаете, креститься без веры можно?
– Можно, а что же нельзя, – нервная усмешка сорвалась с губ его, – да только нужно ли, ведь необходимости никакой.
– Это верно, колхоз – дело добровольное, но подневольное.
– Так уж и подневольное?!
– Из песни слова не выкинешь, но всю песню – можно… А вы почему надумали принять крещение?
– Но вы же знаете – почему?
– Я-то знаю, но священник не будет знать, а поинтересоваться может.
– Думаю, найду что ответить…
– Найти-то можно, но не будет ли это ложно?.. Вы веруете в Бога, творца Неба и Земли?
– Хочу поверить, но не получается… – Щербатов стеснительно усмехнулся.
– А в бессмертие своей души веруете?
– Я, Наташа, душу свою не могу представить реально, поэтому мне трудно поверить в бессмертие ирреального.
– Завтра могут возникнуть такие вопросы в той или иной форме… После ужина садитесь за Евангелие и постарайтесь воспринимать, как есть – не иначе… Священник может на некоторое время и отложить крещение.
– А он что, имеет право откладывать?
– Имеет. – Наташа вздохнула и поднялась из-за стола, чтобы убрать и вымыть посуду.
После ужина Щербатов умылся и, закрывшись в своей комнате, сел за Евангелие. Пытался читать, но не мог: зачем, когда всё известно – и ничего нового не вычитать. И отодвигал чтение, пытаясь понять: чему он верит, а чему никак не может поверить, потому что это фантазия, выдумка, если не ложь. И как только он произносил мысленно «ложь», так тотчас невольно вздрагивал: «Но ведь время, но ведь жить, во что бы то ни стало. Уже истекло половина года, так мимо ушей и просвистело, и состояние с каждым днём ухудшается… Надо поверить, что девица родила Бога… но ведь Бог сотворил всё в мире, мог бы он сойти на землю в образе человека и без этой выдумки рождества… Или взял бы и обратил камни в хлеб – поневоле поверили бы… Христос воскрес, но ведь воскрес всем телом, одни тряпки остались, а у простого смертного воскреснет душа, а тело сгниёт. Как же понять воскресение?! Или сойди он с Креста – и все упали бы ему в ноги. Почему он не сделал так – значит, не мог! Вот ведь…» – И чем больше он вспоминал недостоверного или не настольно правильного, как представлялось ему, тем яснее осознавал он, что всего этого не может принять. И чем протяжённее бывали его отрицания и сомнения, тем неожиданней он вздрагивал, вспоминая, что от гарантированного года больше половины пролетело, и то ли в страхе, то ли в негодовании повторял: «Нет-нет, во что бы то ни стало». И тогда Щербатов приказывал себе: «Ты же, как сталь закалённая – до срока всё будет хорошо, а это на всякий случай…»
В конце концов, болезнь напомнила о себе – он почувствовал себя плохо, и тогда принял таблетку, рано лёг в постель и скоро уснул.
В то же время за стеной – после дороги, к тому же находившись по Москве, Наташа легла отдохнуть поверх одеяла. Она вздыхала, хмурила брови, потому что, казалось ей, взялась за непосильное дело: можно ли так наскоком некрещеного коммуниста обратить в православие?! А ведь она взялась вроде бы подготовить его к спасению. Ясно, он несчастный, тяжелобольной человек, может в этом году и умереть… И так получилось, что, кроме неё, помочь ему никто не согласился бы. А он уже и обрёк себя, в таких случаях может помочь только Господь. И свой батюшка-духовник благословил не оставлять человека, но и сопровождать к святой праведной Матронушке.
«Но ведь он может в любую минуту от всего отказаться, и в то же время в душу к нему не заглянешь – что там творится?! А может быть, душа его давно уже во Христе, может быть, надлежит исполнить формальности, только и всего, и тогда если и скончается скоро, то с покаянием во спасение. Господи, помоги ему воспринять веру в покаянии… а я что? Я могу только помолиться о нем вот здесь, в чужой квартире, и завтра в храме… – Наташе казалось, что она только прикрыла глаза, но уже дремала глубоко и чутко. И сладкие в дремоте были мысли её: «Конечно, отец Михаил опытный протоиерей – он-то сумеет заглянуть в душу, что-то и скажет такое, что человека преобразит! И тогда Петр Константинович будет улыбаться и благодарить за подсказанный путь к спасению. – И Наташа очнулась: устала, уснула, не разобрав постели и не раздевшись. Но даже в таком положении подняться, казалось бы, нет сил. Всё еще пребывая в благостном состоянии, она тайком подумала: – А что он имел в виду, когда фантазировал убежать вдвоём? А может быть, он делает виды, если Матронушка поможет. Только ведь он на девятнадцать лет старше, хотя и моложав и до болезни, наверно, был крепок и статен. Вот ведь как может быть – увидел на костылях, подвёз в машине – и всё… И он любил бы меня… а я – я его полюбила бы? – Она трепетно вздохнула, по телу пробежал озноб. – Наверно, могла бы. И мы вместе ходили бы в церковь, и у нас были бы дети – мальчик Серёжа и девочка Аня, и все мы были бы счастливы». – И вновь озноб прошёл по телу, она даже неслышно застонала – и совсем очнулась, быстро поднялась.
Комната рябила от уличного освещения, и Наташа быстро подошла к двери, прислушалась – тихо, и задвинула в гнездо дверной запор.
– Господи, что только в голову не войдёт, – тихо изумилась она, зажгла лампадку перед иконой и, перекрестившись, опустилась на колени.
Молилась о матери, о Петре Константиновиче и о себе, чтобы ушли из неё эти приблудные мысли.
Протоиерей Михаил с Петром Константиновичем уединились в домике причта, а Наташа осталась в безлюдном до вечерней службы храме. Поначалу она намеревалась идти погулять, но на улице было и сыро, и холодно, так что выходить из церковного тепла не хотелось. Она посидела на скамье возле ящика, затем обошла изнутри храм, остановилась перед иконой Божией Матери «Нечаянная радость» и невольно начала молиться. Наташа знала эту икону и всегда удивлялась естественной её композиции.
И забылась на какое-то время, стояла молча, и лёгкая грусть охватывала её… Кающийся перед Божией Матерью грешник на коленях – неоднократно каялся он и вновь грешил, и вновь каялся… И так до тех пор, доколе не увидел, что Матерь Божия плачет, сострадая грешнику, ведь он не в силах не грешить…
«Вот и все мы так: без конца грешим, и хорошо, если каемся, осознаём свой грех», – сокрушённо подумала Наташа.
В единственной комнате церковного дома посредине стол под клеёнкой, стулья. Справа глухой фанерный шкаф для белья, рядом топчан с подушкой под старым тканьёвым одеялом; слева отгородка из тёмной ткани.
Протоиерей Михаил невысокого роста, грузный, в простеньком сером подряснике, по-светски пострижен, и борода с усами светские, совсем походил бы он на магазинного рабочего в халате, если бы не серебряный крест на груди; и лицо – умное с пронизывающим взглядом. В обращении он был прост и услужлив: предложил присесть к столу, и сам сел напротив, просительно окликнув:
– Мария Петровна, принесите нам чайку и сухариков. – И тотчас обратился к Щербатову: – Как, после дороги-то отдохнули?
– С избытком…
– Это хорошо… Дети-то есть?
– Внучка… Клара.
– Калерия?
– Какая Калерия! Клара, ну, Цеткин – в честь неё.
– И это хорошо.
Тем временем молчаливая женщина средних лет принесла на подносе и молча составила на стол заварной чайник на подставке, две чайных чашки на блюдцах и пиалу с мелкими квадратными сухариками из черного хлеба.
– А вы угощайтесь, – предложил протоиерей Михаил, наливая в чашку густой заварки.
У Щербатова возникла брезгливость, казалось, в рот ничего не пойдёт. Но сухарики оказались солёными и вкусными, так что не без удовольствия грыз он их с чаем.
– Как я вижу и понимаю, – мягко и доброжелательно сказал протоиерей, – веры у вас пока ещё нет, следовательно, и каких-либо духовных навыков тоже нет.
– Это почему же?! – изумился Щербатов, но отец Михаил пропустил изумление мимо ушей, пристально приглядываясь к собеседнику.
– Вам прежде почитать бы «Закон Божий», побывать на службах, чтобы понять, отзывается ли ваша душа.
Щербатов, видимо, возмутился, он побледнел, говоря:
– Мне, Михаил Николаевич, постигать уже некогда – жить остались считаные месяцы.
– У всех у нас дни сочтены… Вера ведь не с крещением приходит у взрослых, к вере крещение – как покаяние, освобождение от греха. Можно ведь и в таком положении оказаться: принять крещение, а веры как не было, так и не будет… Вечером постойте службу, а дома подготовьтесь к покаянию в жизненных грехах, а затем при́мите крещение. Иметь при себе необходимо нательный крестик и чистое нательное бельё. Опекать вас поначалу, видимо, станет Наталья Сергеевна – она подскажет… Я вам памятку дам «Покаяния взрослых перед принятием крещения». Это на машинке размноженный текст, завтра и возвратите его… А если что-то помешает быть завтра, то сообщите – номер телефона у Наталии Сергеевны имеется.
Щербатов молчал, чувствовал он себя униженным и оскорбленным, однако и тогда из сознания не уходило – во что бы то ни стало.
Поднялись ни свет ни заря – в пять! Наташа, как обычно, помолилась; Щербатов, хмурясь и негодуя, в очередной раз наизусть продекламировал молитвы, кои отметила для него Наташа – никак он не мог чётко запомнить «Верую», но одолевал.
Хмурился Щербатов ещё и потому, что идти надо было на голодный желудок, даже не выпив глотка воды. Глоток, и не один, он всё-таки сделал, когда, почистив зубы, полоскал во рту.
«Ну и фанатизм», – возмущался он.
И в автобусе, и в метро было уже многолюдно – столица не дремлет.
Щербатову предстояло покаяться в своих многолетних грехах. Но ведь жизнь есть жизнь, от неё не спасёшься – на кого-то топнешь, на кого-то крикнешь, кого-то заставишь или принудишь; соблазнишься – от жены к другой сбегаешь; кого-то не примешь с нуждой, кому-то обещанное не сделаешь; случайно прихватишь двойную премию, да и мало ли чего можно наковырять за всю жизнь! Но какой это грех?! Никого не убил, не ограбил, мирно жил в родительской семье, мирно в своей. И нечего выдумывать! Преступления – это иное дело. Но преступников судят.
– А у меня судимостей нет, – вслух доложил Щербатов.
– Что нет? – спросила Наташа, они уже шли от метро к храму.
– Судимостей, говорю, у меня нет… Всё грехи выискиваю, – напрягая на шее жилы, Щербатов усмехнулся.
– Святые считали, что они грешные из грешных, а вы и греха своего не видите.
– Потому и не вижу, что нет, – проворчал он.
Желудок его бунтовал – требовал пищи. И Щербатов готов был заглянуть в любую закусочную.
И вновь они с протоиереем Михаилом уединились там, где накануне пили чай с сухариками. Но теперь отец Михаил был в полном облачении. Оба они стояли рядом с аналоем. И лицо священника и его облачение даже не напоминали минувший день; и голос как будто изменился:
– Я уже говорил: для принятия крещения необходимы вера и покаяние. Считаешь ли ты себя готовым к принятию таинства крещения?
– Не знаю, не мне судить, – спокойно ответил Щербатов и повёл бровями.
– Как плод из чрева матери, так человек родится духовно во время крещения. И в это следует веровать, как и в то, что Христос воскрес из мертвых, даровав и нам жизнь вечную. Веруешь ли?
– Христос Бог, а я человек – пытаюсь и стараюсь…
Перешли к покаянию, но и тогда Щербатов не повёл первым речь, но упрямо ждал вопросов отца Михаила, и отвечал на них неопределённо и косвенно, искусно прикрываясь необязательными словами и фразами. Казалось, он не дрогнул, не смутился, и душа его пребывала в состоянии откровения. Протоиерей понимал и видел это и удивлялся, насколько же «человек ложь». Он не знал о его партийной принадлежности в прошлом, однако уверенно сказал:
– Вот вы были и комсомольцем, и членом партии, следовательно, воинственным атеистом – боролись с православием, как с пережитком прошлого. Не так ли?
И на этот раз Щербатов не смутился:
– Да, жил по уставу и по совести. Читал лекции по научному атеизму. Таковы были условия жизни.
– И как вы думаете: после крещения и принятия православия в образе Святой, Соборной и апостольской церкви сможете и способны ли выступать с лекциями против коммунистического атеизма?
– Я до сих пор член КПРФ, так что, согласовав вопрос с секретарём парторганизации, смог бы, наверно, и против атеизма читать лекции, естественно, подготовившись. Сейчас партия не выступает против религии.
– Но ведь основное положение идеологии коммунизма – война с Богом.
– Я так не считаю – всё зависит от обстоятельств… Да и поздно мне говорить о возможности и невозможности, когда времени отведено до сентября.
– Это так, но вы веруете, что при духовном обновлении вы можете избавиться от своего недуга?
И на мгновение задумался Щербатов…
– Это уже от меня не зависит. Я могу только надеяться.
«Единственно искренний ответ», – подумал отец Михаил.
И крестили Щербатова с погружением – во Имя Отца и Сына и Святого Духа. И отстоял он позднюю Литургию, и причастился Христовых Таинств, но когда вышли из храма, идти он буквально не мог и попросил такси.
В Покровский женский монастырь к Матронушке собрались лишь на третий день после крещения. Всё это время Щербатов недомогал, его преследовали характерные боли, и к целой таблетке он начал прибавлять ещё четвертинку. Наташа уходила в монастырь одна. А он вновь как будто раздваивался: оставаясь один в комнате или в квартире, бодрствовал, но только появлялась Наташа или надо было идти на люди, кукожился, как будто обвисал, пришаркивал ногами, не замечая того, и в таком состоянии ему становилось легче, хотя и безнадёжнее – Щербатов как будто прощался с миром… Был он доволен собой, как вёл себя во время крещения, не ударил в грязь лицом, потому что в душе своей считал это формальностью – главное впереди. И теперь, обдумывая, какие слова, какие заклинания произнесёт перед гробом или над гробом праведной целительницы, он запомнил, что обращаться к ней следует – Святая праведная Матрона. А потом уж говори, что на сердце ляжет – выдумывать не надо, помни, зачем пришёл.
В то же время Наташа наседала на крестника, принуждая читать молитвы перед принятием пищи и после принятия – и вот это Щербатого раздражало, казалось унизительным. Он всякий раз оговаривался:
– Не привык…
Вечером за чаем и в дороге Наташа напоминала, что это за монастырь Покровский и что за храмы в стенах его, чем замечателен и памятен монастырь за свои без малого четыреста лет существования. Щербатов слушал, но не слышал её. Слух прорезался лишь тогда, когда рассказ напоминал о чудесах Матронушки, которая и свои-то годы прожила в тяжёлом недуге и конечно же в печали. Узнал он и легенду, что к ней в годы войны приходил за прорицанием товарищ Сталин – это вдохновляло. А вот святой прорицательницу Щербатов и представить не мог.
И вот от неё чудеса – он и верил и не верил, но очень хотел бы верить ради собственного выздоровления. Мало ли в природе чудес где-то, а это – вот оно! – двадцать минут на общественном транспорте.
За каменной стеной-оградой уже издалека видны купола храмов. Ближе к воротам над куполами возвышается колокольня – этим не удивишь!
Перед входом в открытые ворота входящие крестились, и Щербатов вскинул руку ко лбу. Чувствовал он себя свободно: никто его здесь не знает, и крещения не предстоит – шаркает к Матроне немощный мужик, сердешный. Слева, за воротами, рядом церковь, в глубине территории бо́льший храм – Воскресение Словущего. Почему такое название – Наташа на ходу пыталась объяснить, но Щербатов не слушал. Теперь уже желание было одно, как он это представлял себе: подходит к гробу Матроны один, кладёт на гроб руки и говорит: «Святая праведная Матрона, избавь меня от проклятой болезни», – а дальше, что на сердце ляжет… И хотелось бы сразу почувствовать облегчение.
Выяснилось, что в храме службы не будет, но в глубине тихо пел хор из четырёх монашеских послушниц, и от входа уже выстроилась очередь в левый предел, к Матроне. Наташа предложила сначала идти на Литургию в Покровский храм, потом уже сюда, к Матронушке. Щербатов отказался. И она ушла, сказав: «Посмотрите, как впереди прикладываются к раке, так и вы». Какую молитву при этом повторять, он знал. В ответ в знак согласия он механически кивнул головой.
Но, оставшись без провожатой, он скоро почувствовал себя чужим в этой живой очереди – нахмурился и даже возмутился, что она ушла. Видя, что все стоят со свечками, а многие и с цветами, оглядевшись, увидел прилавок, за которым торговали свечами – купил три самых больших. На время отвлекся, однако и после этого растерянность осталась… «Во что бы то ни стало, – в напряжении подумал Щербатов и как будто обрёл себя: – Праведная Матрёна, помоги, сотвори чудо, избавь от рака, – несколько раз повторил он и как будто взбодрился; его подтолкнули легонько в спину – он продвинулся, повторил уже в сокращении: – Праведная Матрёна, сотвори чудо!.. Праведная Матрёна, избавь меня от рака!.. Праведная Матрёна, исцели меня, Петра Щербатова!» Вот так повторяя, он взвинтил себя до содрогания, и когда вошёл в предел Святой праведной Матроны и увидел развал цветов, а в подсвечнике не менее сотни полыхающих свечей, то забыл и про свои свечи в руке. Догадливая прислужница подошла и взяла из его руки свечи – он и не обратил на это внимания, пораженный красотой гроба (раки) с навесом. И люди тихо шли и шли, шептали молитвы, крестились, опускались на колени, кланялись до подножья, поднимались, целовали гроб – и проходили вперёд… Всё было не так, как представлялось Щербатову. И его на какое-то время охватила досада, что иначе всё происходит, что очень поспешно – и сможет ли одна убогая Матрёна всем тотчас и помочь… И он почувствовал, что дышать ему тяжело, пол под ногами покачивается, а в горле копятся слёзы… И Щербатов уже не мог вспомнить или понять, что ему-то делать, о чём просить и как. Он затормозился – и повёл недоумевающий взгляд по сторонам… А очередь уже быстро в одного продвигалась, заходя направо к раке… И как уже было в полуподвале, у Наташи, Щербатов не вынес напряжения: он припал к раке, обнял её руками и зарыдал звучно: «Матрёнушка, погибаю – спаси!..» Он целовал раку и обливал слезами – и надрывно стонал. После короткой растерянности стоящие рядом очнулись. Его подхватили под руки, но он валился на раку, казалось, теряя сознание или рассудок. Наконец подоспевшие мужчины сменили женщин, подхватили Щербатова и вынесли на свободное место, к скамье. Появилась освящённая вода – появилась и Наташа. На Литургии она пережила тревогу – не случайно! – и поспешила…
– Что с вами, Пётр Константинович?
– Всё, погибаю, – обреченно ответил он. – Хочу к Матрёне…
Подошла посторонняя женщина, объяснила, в чем дело.
«Или нервный срыв, или неугоден», – подумав, Наташа тотчас и решила:
– Вы пока отдохните, Пётр Константинович, а я встану в очередь. Подойдём ещё раз. А вы читайте молитву: «Святая праведная Матронушка, моли Бога о нас».
Щербатов не ответил.
Наташа заняла очередь, обрела две свечки и уже вскоре вернулась.
– Может, выйдем на воздух? – спросила, склонившись.
– Не хочу, – даже упрямо ответил он. – К Матрёне…
– Тогда ждите, я подойду, – и отлучилась, чтобы помолиться перед образом Святой Матроны.
В этот заход всё обошлось без истерики, однако Щербатов всё-таки обнял раку, возгласив: «Спаси меня, Матрёнушка!»
Побывали они у Матронушки и ещё трижды ежедневно. Вёл себя Щербатов спокойнее, лишь напрягался и уже, скорее, требовал молча: «Помоги мне, Матрёна! Продли мою жизнь!»
Всего пробыли они в Москве неделю: Щербатов устал от походов и обрядов и уже отказывался идти, куда бы то ни было. Устала и Наташа, но она устала от Щербатова.
По возвращении Щербатов до копеечки рассчитался с Наташей за десять дней неоплачиваемого отпуска, поблагодарить, правда, не догадался. И на долгое время пропал.
Сначала у Наташи много было скопившейся работы – незаметно накатился май: томление и тоска. К тому же она негодовала на Щербатова. Но негодовала косвенно: ходит ли он в церковь, а может, вообще махнул рукой – она должна знать об этом. Бестактно же молчать!.. Однако скоро спохватилась: а почему же это должна? Да и не ребёнок – в отцы годен… И охватывало уныние – только тогда она понимала, что попросту скучает без него. Странный человек, но ведь человек – какие тут чаи закатывали!.. Почему даже не позвонит?
Порассуждав ещё неделю, она сама позвонила ему домой. Но трубку сняла Валентина Львовна, так что у Наташи и язык к нёбу прилип – не замыкала связь и молчала.
– Это ты, что ли, шлюха, сопишь?! – рыкнула Валентина Львовна. У Наташи и голова закружилась – и так-то гадко стало на душе. Ткнулась в свой угол и заплакала.
Ещё через неделю пошла узнать о графике отпусков, чтобы заявить путёвки в Дом отдыха – для себя и мамы. Так они, случалось, отдыхали от своего полуподвала. Стеснялась, но всё-таки спросила у директорши:
– Как вы считаете, Ида Евгеньевна, долго нам еще жить в полуподвале?
– Милочка, Наталья Сергеевна, неужели я вас не известила?! Да, простите, вас неделю не было! В октябре в старом фонде освобождается квартира, я согласовала с профсоюзом, и мы решили предоставить эту жилплощадь вам. Не подумайте, что коммуналка – двухкомнатная квартира. Отремонтируете – и въезжайте! – и так-то повела голову, с таким достоинством, ну ни дать ни взять – Есфирь! А ей уже под шестьдесят.
Наташа смутилась.
– Как-то уж и не верится, – с короткой усмешкой сказала она.
– Но ведь это я вам говорю, Штромберг! А Штромберги в городе не скомпрометировали свою фамилию! Так что готовьтесь к ремонту.
Зазвонил телефон… Они кивнули друг другу – и Наташа вышла из кабинета. Было и грустно и радостно: столько лет ждать – и старую квартиру. А вдруг кирпичный дом – лучшего и не надо…
Лишь в июне неожиданно позвонил Щербатов. И не чудо ли: щеки Наташи так и опахнуло жаром… Он не просил ни извинения за долгое молчание, ни разрешения на визит – всего лишь известил, что будет после шести.
Вошёл он по-хозяйски, коротко стукнув в дверь.
– Здравствуй, Наташа, – сказал, точно вчера простились. Подал руку и неожиданно приобнял. По-хозяйски же сел и к столу, сказав: – Завари чайку – в горле запылилось.
– Я вот перекусываю после работы…
– Я сыт, мне чая.
– Тогда ждите.
Наташа налила воды в чайник, включила. Сама же села к столу, где у неё была яичница с кубиками хлеба, здесь же на тарелочке лежали разрезанный вдоль огурец и редиска. Она ела молча, он следил за ней – и тоже молчал.
Наташа уже при входе заметила, правда, при электрическом свете: лицо его изменилось, не то чтобы поправилось или посвежело, но изменилось – исчезли излишние морщины, кожа обрела более естественный для его возраста оттенок. В выражении появилась надменная самоуверенность.
Наконец он не выдержал молчания:
– Ну, как ты чувствуешь себя?
Наташа уловила его фамильярность и, продолжая демонстративно жевать, ответила:
– Я-то что, как ты себя чувствуешь после Москвы?
У Щербатова даже голова вздрогнула – не привык он к такому обращению. Хотел было оговорить, но воздержался, подумав: «А может быть, сигнал: мы свои – согласна. Учту».
– Я чувствую себя куда как лучше. Достаточно сказать: вновь принимаю половинку в сутки. И настроение налаживается, и даже, как мужчина, чувствую себя положительно.
Наташа смущенно усмехнулась:
– А мне-то до твоей положительности что? Ты уж жене докладывай об этом.
– Я в смысле самочувствия… А так-то оно конечно… Не знаю, Матрёна ли помогла или что другое, но облегчение очевидное. И это хорошо.
Наташа заварила чай, поставила к чаю сахар и мелкие сушки, чашку в блюдце перед Щербатовым.
– А медку душистого нет?
– Медку нет, мёд кончился – майского не прислали.
– С белой отравой и пить не хочется.
– Не пей… Или с сушками.
– Вот если что так, – согласился Щербатов. – Я вот заехал сказать: не поехать ли нам ещё на недельку к Матрёне? Поторопить…
– Нет, я работаю – не могу.
– Как?! – едва ли не возмутился Щербатов.
– Да так. Работа есть работа. Да и зачем мне-то ехать? И кого поторопить – Матронушку?
– Со мной и ехать! Ты должна мне сопутствовать.
– Во-первых, я ничего не должна, во-вторых, Петр Константинович, ты же не ребёнок.
Щербатов нахмурился:
– Не называй меня на «ты», слух режет.
– Вот и мне слух режет. Мы не в тех отношениях, чтобы меня на ты называть… Теперь вы крещёный, дорога известна – вот и с Богом.
– Но ведь я не приспособлен ни к людям, ни к церковным правилам… Нет уж, вы со мной… извольте.
– А вы здесь в церковь ходите? Хоть раз причастились?
– Вы что? Наташа, как можно?! Меня здесь все знают! – Щербатов как будто ахнул.
– Что же из того, что знают? Или дома – и церковь, и приход?
– Какая церковь? Что говорите? Щербатов идёт к попу, Щербатов молится! Да я в один день стану посмешищем в городе. Это в Москве никто не знает, можно на шею и крест повесить – здесь совсем другое дело, да и вера не в том – вера в себе.
– Я тоже в этом городе родилась. Регулярно хожу в церковь – и никто надо мной не смеётся.
– Что вы сравниваете меня с собой. Я секретарём Горкома комсомола был, я известен.
– Зачем вы в таком случае крестились?
– Вы знаете прекрасно – зачем. И не сожалею… В конце концов, вы поедете со мной в Москву?
– Я же сказала: не могу этого сделать – работаю.
Щербатов резко поднялся со стула, готовый повернуться и уйти, но раздумал, вновь сел:
– Я поеду один, но вы пожалеете, что не поехали со мной… Всё – точка. Пьём чай.
Казалось, они поссорились. Но ничего подобного: в субботу Щербатов приехал с богатыми сладостями, покладистый и мирный. Приехал в то время, когда и Анна Ивановна была дома. Устроили маленькое торжество с вином и фруктами. И даже тогда, когда мать с дочерью обратились к иконам, чтобы прочесть молитву, за спинами их пристроился и Щербатов, он трижды перекрестился молча.
Во время застолья Щербатов много шутил, много славословил Матронушку и благодарил Наташу за преподанную науку и помощь. Но сам не притронулся к вину – стопочка его так и оставалась полной.
И ещё разок приходил он столь же добродушный и уступчивый – «друг семьи», как он однажды назвал себя.
А когда неделю спустя, созвонившись, Щербатов упавшим голосом просил Наташу взять на пятницу отпуск без содержания, чтобы поехать в Москву, к Матронушке, в воскресенье же поздно вечером возвратиться, оба они долго молчали – и она согласилась.
Обошлось без приключений, более того, Щербатов отстоял Литургию, причастился и у раки святой праведной Матроны на коленях крестился, со слезами припадая к подножью – выглядело всё это убедительно, по-христиански. Наташа была довольна – понял человек. И когда он намеревался расплатиться за отпускной день, она отказалась, сказав:
– В другой раз сочтёмся…
В июле разъехались на отдых. Мать с дочерью в Дом отдыха. Щербатовы – в тёплые края.
На этот раз в Доме отдыха повезло, поселили в двухместную комнату – без посторонних. Правда, вдалеке от столовой, но это даже и хорошо – подальше от многолюдья. За оградой тотчас начинался смешанный светлый лес – калитка днём открыта, обходить не надо. После завтрака они и шли на прогулку: мать собирала лекарственные травы, а Наташа на этот раз высматривала чагу для Петра Константиновича. Лес смешанный, дышалось легко и для прогулки удобный – не надо продираться через кусты. Иногда шли рядом, невольно возникал разговор – чаще о неведомой пока квартире, о переезде и предстоящем ремонте. Вздыхали: сколько же денег потребуется и на ремонт, и на обстановку. Сколько-то скопили, но придётся и в долги влезать.
Возникал и такой разговор:
– И что этот Пётр Константинович всё ходит и ходит? – обычно спрашивала мать.
– Понятно что: избавиться от болезни хочется, а как – не знает.
– Дак и никто не знает…
– Как бы то ни было, а крестился; у Матроны Московской побывал. Говорит, легче стало, да и по лицу видно – легче.
– Это хорошо, доброе дело, авось и к церкви припадёт. В таком-то возрасте, знамо дело, не просто… Я о другом: он и на тебя, гляжу, слюнки пускает.
– Не выдумывай, мама, в отцы годен.
– То-то и оно, что в отцы, а ведь всякое бывает… Не доверяю я ему – лукав он. И ты, Наташа, остерегись. А то ведь и насильничать почнёт.
– Он семейный, у него жена, дочь, внук…
– То-то она и прискакала…
Наташа засмеялась:
– Всяк человек во лжи… А ты не страшись по мне – не шестнадцать лет.
– Вот переселимся, да и выходи взамуж.
– А что, крикну – ён и прибежит!
– Не смейся, не смейся, не то ведь так и останешься в вековушках.
– Может и так случиться – уже засиделась.
– Господи, сама всю жизнь одна, без Серёженьки, и дочь, гляди, одна будет.
– Хватит, мама, об этом. Всему своё время.
– Одна и надёга на Господа…
«Одна надёга, – мысленно повторила Наташа, невольно вспоминая тайного, и покачала головой и усмехнулась – по годам, приглядный: аспирант-историк, приходит в отдел работать… Не объясняться же самой, а он без внимания…»
В другой раз мать снова вспомнила Серёженьку в разговоре, и Наташа спросила:
– А что всё-таки с папой случилось: умер и умер, а что-то всё недосказано?
Мать помолчала, видимо, решая, вновь отговориться – умер и всё. Глубоко вздохнула и остановилась – разговор-то не походный.
– Так ведь раньше не хотелось твоё сердце напрягать, теперь-то и власть другая – можно и сказать…
И она впервые рассказала дочери об отце всё, что случилось четверть века назад…
Наташа привалилась спиной к березе, прикрыла глаза и сказала как будто сама себе:
– Я догадывалась об этом… в памяти детской осталось.
Уже через неделю прогулки по лесу стали сокращаться по времени, а дней через десять пропало и желание идти в лес.
Наташа уткнулась в книгу, Анна Ивановна собирала пустырник на территории Дома отдыха, вязала веничками и развешивала в тени сушить. От скуки стала ходить в кино или посмотреть телевизор.
И всё-таки хорошо отдохнули. Возвратились довольные и даже посвежевшие.
Иначе провели отдых Щербатовы.
Валентина Львовна не могла смириться с изменой, не могла простить мужу его предпочтения этой хромой девке. В душе своей она не верила их интимной связи, потому что Петр Константинович вследствие болезни был недееспособным… Но что это за визиты в полуподвал, что это за поездки?! Она и всегда-то была властной женщиной, а теперь – тем более! – подумывала: не оформить ли развод, не выселить ли Щербатова из обкомовской квартиры – в праве же она прожить лет двадцать семейной жизнью или просто в связи с другим человеком. Одно её смиряло: как жить на свою зарплату? Всё-таки основное благополучие поставляет муж… Впрочем, теперь и в управе он не служит, и от фирмы доходной отошел… Рассудив так, она и решила для начала наказать неверного, в тот же день объявила, что на отдых поедет одна, и потребовала завышенную сумму денег.
«Пожалеешь, – в гневе подумал Щербатов, – на курортах в ходу двадцатилетние», – но денег на отдых жене отстегнул по заявке. Сам же он в один день собрался и уехал в Крым.
Позднее Щербатов считал: единственный раз отдыхал в удовольствие, без обузы и без узды.
Поселился он в новом месте – знакомых не было, зато было много молодых женщин; тёплый залив, рядом горы, и даже в пятидесяти шагах от курортных ворот метров на сорок в виде стога сена возвышалась горушка, покрытая мелким колючим кустарником. И только узкая извилистая тропа круто вела на вершину, где была оборудована площадка для отдыха. Молодые, как горные козы, взбегали на это горушку. Пожилые не решались.
Вселился Щербатов в люксовый номер: один, со всеми удобствами, с видом на море – конечно же не на пляж. В первый же день он преобразился: надел кремовые шорты, на ноги светло-зеленые теннисные туфли с кремовыми носками, на плечи «распашонку» светло-голубого цвета; на голову лёгкую ковбойскую шляпу рисовой соломки, и лет ему уже не пятьдесят – сорок! И в первый же день после обеда прогуливался по набережной и улыбался молоденьким встречным щебетухам.
И заплясали денёчки: режим установился энергичный – с утра купание в море, загорать он себе не позволял по указанию врачей, но до коленок, до локтей, лицо и грудь, естественно, загорали; прогулка по берегу моря – поиски камней; восхождение на горушку, не сразу до вершины, но восхождение; поездки на развлекательные экскурсии; вечером – танцы на веранде, здесь он присматривался к свободным «хохотушкам» и нередко провожал их к себе в люкс.
Щербатов и не заметил, когда вовсе прекратил принимать обезболивающие четвертинки… Приходилось с подружками посидеть и в ресторане, где он обычно кроме прочего заказывал сухое красное вино…
Муж даже не знал, куда уехала жена на отдых, и жена не знала – где муж.
Возвратился Щербатов в середине августа. Редко он вспоминал, что его гарантийный год подошёл к концу. Когда же вспоминал, то без раздражения и уныния думал: «Вот и ладно, вовремя отдохнул по-человечески». Без «раздражения и уныния» потому, что в тайнике души своей носил надежду и даже веру – исцелился.
Жена к тому времени, не довольная ни собой, ни отдыхом в Египте, возвратилась и была дома.
Зорким настороженным глазом она скоро отметила, что внешне муж окреп, выглядит вполне здоровым. И она повела примитивную игру в лесть – на эту удочку мужчины частенько клюют.
– А ты, Петр Константинович, выглядишь молодцом! Как ты себя чувствуешь?
– Не жалуюсь… – Щербатов одновременно ел и говорил: – Чувствую, как в сорок лет.
– Завидный возраст, – с обвораживающей усмешкой отметила жена. – Не Крым же тебе так помог. А что?
– Не знаю, Валентина Львовна, но таблетки для обезболивания оставил другим… И был я не в Крыму, а в Сухуми… каждодневно плавал, на крутую «горушку» восходил – пятьдесят метров над уровнем моря.
– И с чего бы так? – Она продолжала улыбаться, как давно не улыбалась, вкрадчиво. – Оказывается, ты сильный человек. С чего бы?
– Не знаю.
– И что, на службу пойдёшь?
– На какую?
– На свою, в управу, да и фирмачи звонили…
– Не знаю.
– Да что ты всё не знаю да не знаю?
– Так и не знаю. Но что-то помогло.
– Надо учесть, – лукаво оповестила она и, поднимаясь со стула, потрепала пальцами руки еще густые волосы мужа.
«Играет, – с ехидством подумал он, – и зубы как будто выпали… Теперь я буду гонять шары», – а вслух отметил:
– И ты, Валентина Львовна, как будто помолодела. – Щербатов тоже перешёл на лесть. Поняв это, оба засмеялись.
Так и продолжалось ощупывание или обследование друг друга. А вращался разговор вокруг внешнего выздоровления Петра Константиновича. Вывод же был таков: не она его, а он её проучил. И Валентина Львовна, наверно, поняла это, но пока не освоила.
Не говоря лишнего, Щербатов после ужина закрылся в ванной, чтобы затем хорошо отдохнуть.
Так и разошлись по своим комнатам ни с чем друг о друге.
Со школьных лет в ней было воспитано качество: прежде всего – дело, а для этого – воля. Так она и жила до настоящего вечера: в школе, в институте, в аспирантуре и теперь в роли профессора читала студентам лекции. На втором месте семья и муж. Если, во-первых, рост, карьера, то, во-вторых, подчинённость верного мужа. Она могла бы понять, если бы соперница была выше во всех отношениях, Но как понять, когда засидевшаяся девка из полуподвала?! Да неужели?.. Она не могла поверить… И новая загадка – внешне он здоров. А так ли?..
Валентина Львовна всё знала, хотя муж и молчал. Она разыскала всех врачей и потребовала доложить законной жене: что с мужем? И ей доложили, даже о сроках – плюс, минус. А он внешне вполне здоров. И этому она не могла поверить, не могла и уснуть ни до двенадцати, ни до двух.
Никогда она не позволяла себе приходить в его комнату ночью – он приходил. Но он не шёл – и пошла она, как тень в ночном халате.
Муж спал, спокойно похрапывая… И скользнул халат по рукам на пол. Валентина Львовна как будто украдкой исчезла под одеялом.
Спустя полчаса успокоились и заговорили свободными голосами, но с придыханием, как будто боялись, что их кто-то услышит. Но глухие «обкомовские» стены не выпускали ни звука из своих надёжных бастионов.
– Ты думаешь, если не информируешь меня, то я так ничего и не знаю?.. Я разыскала всех твоих врачей – и потребовала… И не поверила им.
– Вольному воля, но врачи редко ошибаются…
– Предположим, так, но почему ты потащился к этой девице? Предположим, понравилась, она не дурна, но опускаться до полуподвала – это же унизительно… А ведь мы с тобой прожили почти тридцать лет. – Она ткнулась лбом в плечо мужа и заплакала, этого с ней не случалось. – За что же такое унижение, за что – за дочь Клару, за не рождённого ради науки сына?! – И ей вдруг стало дурно. Щербатов принёс воды, но и тогда она рыдала, а он безуспешно утешал её. – Скажи, скажи, что тебя повлекло к ней – и я всё сделаю, изменю себя, чтобы ты ни к кому не уходил! Ведь я люблю тебя, Петр! Или мне наложить на себя руки?! – И вновь слёзы до истерики.
В конце концов, Щербатов дрогнул. Он даже подумал, что она действительно может покончить с собой. И человек заметался, полагая, что самое правильное – рассказать ей всё об отношениях с Наташей. Валентина Львовна умная, она поймёт и правильно оценит.
И он рассказал до подробностей пребывания в Москве…
Валентина Львовна вдруг засмеялась, причём громко и оскорбительно, как будто и не было слез.
– Ты что? – Щербатов даже вздрогнул, в темноте и лица её не видя.
– Да с ума сошла! – И новый накат смеха. – И ты крестился у попа?! Поклонился останкам какой-то Матрёны?! Избавился от рака! Да это девка из подвала тебя охмурила и направила в обман ради корысти. Да всё это научно доказано – ложь, шарлатанство! И ты, коммунист с двадцатипятилетним стажем, крестишься, ползаешь на коленях!.. Сходи, милый, к своим врачам, пусть обследуют и скажут, если что иначе, а заодно и к психиатру зайди…
Валентина Львовна тешилась, упивалась местью из ревности. И уже светлело окно, когда она ушла в свою комнату – несгибаемая и всемилостивая.
Такой встрёпкой Щербатов был буквально обескуражен. Остаток ночи он не спал. С одной стороны, рассуждал он, действительно, пережитки и шарлатанство – опиум для народа, но с другой – у него нет болей, остались недомогания от переутомления, и от таблеток отказался, и с женщинами не евнух. Это что, просто так? Или врачи ошиблись?
«Сегодня же поеду в клинику», – несколько успокоившись, решил он.
Однако не поехал. Что-то сдерживало его, а может быть, он ждал своего срока, ведь до окончания гарантированного года оставалось и всего-то две-три недели. А возможно, он боялся: чувствуя себя вполне здоровым, не было никакого желания получать новый приговор… Щербатов медлил. И лишь через полмесяца сомнений, когда ему стало казаться, что боли возвращаются, он поехал показаться врачам. За это время ежедневно ему звонил кто-нибудь из родных и даже сослуживцев – и все с вопросом: «Пётр Константинович, ты что – в церковь подался?» – И он не только негодовал и клялся, но ему бывало и стыдно, случалось, он не находил, что ответить. И тогда начинал рассказывать какой-нибудь старый анекдот. Когда же спрашивал: «Кто это вам соврал?», конкретного ответа не бывало. И Щербатов задумывался: «Двое знают об этом всё: Наташа и Валентина Львовна… Но Наташа не знает знакомых и родственников, да ей это, наверно, и ни к чему… А для чего Валентине Львовне? Тоже ведь ни к чему». – На этом и заканчивались гадания.
Когда же он спросил жену:
– Валентина Львовна, ты кому из своих передавала наш ночной разговор?
– Ещё что?! – возмутилась она в ответ. – Чтобы опозориться обоим на весь город?! Нет уж, наверно, другие имеются источники… мне тоже несколько звонков было. Оставьте, говорю, злые толки.
«Неужели эта дура размазывает меня?» – и его сотрясало гневом.
В больнице его встретили доброжелательно и приветливо. Выслушав, главврач немедленно собрал консилиум. Щербатов доложил: чувствует себя удовлетворительно, обезболивающие вовсе не принимает. Раскрыли историю болезни, просмотрели снимки, врачебные заключения, анализы… А ведь уже томография говорила всё. Вот так же собирался консилиум, на котором и поставили диагноз: неоперабельная злокачественная опухоль… И конечно же никаких годичных сроков прямо не определяли.
Тотчас предложили скорое обследование. Обследовали к концу дня – и ничего не нашли. Самолечением не занимался, следовательно, или ошибка врачей, но слишком много при этом сопутствующих ошибок, или же какая-то патология – как пришла, так и ушла. Но в любом случае – всё очевидно.
Лишь после шести Щербатов покинул больницу в полном убеждении, что он здоров и был здоров и что поездки в Москву – прямая ложь или шельмование. И почувствовал себя Щербатов со всех сторон обманутым, посмешищем.
«Это она – ведьма, авантюристка…» – как дятел одно и то же «долбил» он в дороге.
Уже из двери от него пахнуло парами коньяка и сигарет – самолично, в кафе, Щербатов ежедневно отмечал своё выздоровление. После работы Наташа приехала из библиотеки и теперь перекусывала так, чтобы поужинать вместе с матерью – она была на вечерней службе накануне усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Хмурый Щербатов стоял при открытой двери, не проронив ни слова. И смешно и досадно показалось Наташе такое положение, опустив на край тарелки вилку, она сказала:
– Во-первых, здравствуйте… Во вторых, дверь всё-таки надо закрывать… А в-третьих, почему вы, Петр Константинович, считаете возможным в наше подземелье приходить нетрезвым и прокуренным? – Он молчал, и глаза его, казалось, дымились хмелем и гневом. – Что же вы молчите?
– Подбираю слова, с которых начать…
– Какие на ум пришли, с тех и начинайте.
– Как вот назвать человека, который избавляет от того, чего не было вовсе?
– Я, знаете ли, разгадыванием сканвордов никогда не занималась. Подскажите хотя бы: из скольких букв состоит слово?.. И поздоровайтесь, в конце концов, за одно и скажите, с какой нуждой вы пришли?! – с негодованием одёрнула гостя Наташа. Но Щербатов продолжал своё:
– Назвать такого человека можно «фокусник», а если он не один – «фокусники», но так слишком мягко, точнее – проходимцы.
– Это к кому же прилагаются или адресуются такие слова? – холодно спросила Наташа.
– Да к тебе и адресуются, и ко всем таким, как ты.
– Я не позволяю вам говорить так развязно, таким тоном, к тому же на «ты»! Что вам угодно, сударь?
– Ничего не угодно. Зашёл сказать, что я здоров, был здоров, а вы с Матрёной меня вылечили – здорового! – и усмехнулся, коротко, с презрением. – Какую ты цель преследовала?
– А почему же вы в слезах за этим столом умоляли о помощи, о продлении жизни хотя бы на два-три года? Ведь вы были здоровы!
– Это ты меня попутала, охмурила меня – ты во всём виновата, ты опозорила меня на весь город, посмешищем сделала! – приглушенно, с гневом выговорил он, и даже зубами заскрипел.
– Или уходите отсюда, или по-человечески объясните, в чем я перед вами провинилась? И ведите себя прилично, иначе я вызову милицию.
– Нет, это я вызову милицию!.. Ты меня окрутила, ты заставила креститься и обнимать потроха Матрёны. Ты для позора сделала это!
– Да не валяйте дурака. И что вы против рожна прёте?! Отрезвитесь сначала, тогда и выясняйте отношения. Или к врачу обратитесь за помощью…
– Я был у врачей, был! И они сказали: ошиблись в диагнозе…
– Но вы, лукавый человек, ведь не сказали врачу, что были в Москве, молились святой праведной Матронушке об исцелении!
– Что говорить, когда ничего нет, – еврейская мифология! Что говорить, когда такие, как ты, оболванивают людей! Ловите в сети – и обращаете в ложь! И говорить нечего – судить вас надо! Ты думала, я принесу тебе ордер на квартиру – и стану обслуживать тебя. Ошиблась!
Наташа побледнела, захотелось вытолкать в дверь этого человека – но ведь он может быть агрессивным, и просто так с ним не справиться… Разбить всю его болтовню ничего не составляет – лишь бы воспринимал!..
Щербатов не воспринимал.
– Уже, Пётр Константинович, судили. Миллионы расстрелянных. Мало?.. Но как же вы будете судить, если президент Путин под объективом телевидения молится, прикладывается к святым иконам, причащается Христовых Тайн? С него и начинайте судить. Даже не с него, с Политбюро КПСС – они организовали перестройку, под откос пустили государство. Вас, коммунистов, и надо судить, вы разрушили и разграбили Россию, а теперь как щенки повизгиваете…
И только теперь, не снимая плаща, Щербатов, качнувшись, шагнул от двери и тяжело сел на скрипнувший стул. Опустил взгляд, помолчал, а затем, вытягивая шею в сторону Наташи, буквально просипел, вдруг охрипши:
– Зачем ты это сделала? Надо мной смеются… О каком Боге ты плела, когда Его нет?!
– Есть, и вы живой тому свидетель: исцелился от смертельной опухоли!.. Но это не за ваши духовные заслуги, это пробное поощрение за продвижение к вере… Но запомните, Пётр Константинович, поберегитесь: как Бог дал, так и возьмёт. Может случиться, что уже завтра взмолитесь о продлении дней ваших хотя бы на один год.
Щербатов как будто задумался. Казалось бы, человек тотчас и спохватится и воскликнет: «Господи, прости меня!»
Но это только казалось. Не отводя взгляда, вновь он хрипато просипел:
– Ты зачем по городу раззвонила обо мне?! Угроблю…
И Наташа не сразу нашлась:
– А что, и угробишь. Вы для того у сатаны, чтобы гробить…
Щербатов медленно поднялся со стула и медленно пошёл вокруг стола, выставив вперёд руки захватисто.
– Ведьма… угроблю…
Наташа быстро поднялась со стула и, перекрестившись сама, осенила и Щербатова, вздрагивающими губами шепча молитву:
– Да воскреснет Бог, да расточатся враги его… Господи, помилуй.
Дьявольски ощерился Щербатов и, на мгновенье затормозившись, вернулся на своё место.
И долго, долго они молчали…
Май 2017 г.
Кому пропоёт петух…
– И ничего оскорбительного не нахожу, если меня назовут жидом. Сотни лет так и называли еврея: жид – скупой. Действительно, ростовщики за счёт этой неправды и богатели. Но ведь в любом народе свои скупые. Беда не в том, что ты скуп. Но ради чего? Калита – тоже скупой… А жид – и жид: ничего оскорбительного. Представьте, украинец подал бы в суд за то, что его назвали хохлом! В Евангелии прямо сказано: ни эллина, ни иудея. Две тысячи лет правая вера призвана объединять народы по духу. А что до греха в историческом развитии, то если объективно: все мы по-своему жиды, – с улыбкой говорил Илья во время обычной семинаристской полемики в перерыве между лекциями.
Илья Крон – рослый, внешне красивый еврей. Он уже имел университетское образование. Теперь семинария – и всё это в двадцать пять лет. К тому же освоил три иностранных языка. Ничего не скажешь – с достоинством. Удивительно было и то, что, красноречивый, он обладал и незаурядной способностью убеждать, доказывать свою правоту. Однокурсники привыкли друг к другу, и даже прислушивались к мнению любого из братьев. На курсе Илья был единственным евреем, всего же в семинарии их было два или три. И это о чем-то говорило: в былые годы обходились и вовсе без евреев.
Вспомнил об этом Илья и усмехнулся:
– Значит, евреи принимают христианство или православие. Вот и судите сами: смена веры – это не игра в паспортную национальность, это отказ от паспорта… А сколько правоверных христиан отпало от веры, предали Христа! Процесс, дыхание времени! Вот я и говорю: все мы ростовщики, только иудеи положили начало…
И добродушно усмехнулся, вовсе не ожидая возражений.
– Но ведь не все же распинали Спасителя, – спокойно заметил приятель Ильи, продолжая листать старую, наверно библиотечную книгу. – Не все же кричали: «Распни!»…
Илья удивлённо вздернул голову, как если бы впервые услышал о распятии Господа. Он даже потянул на сторону шею, игриво потрепал рукой свою густую шевелюру и, помедлив, сказал:
– Братья, а ведь удивительный вопрос – распятие! История этого известна всем. Можно представить подобное сегодня, можно возвратиться в историческое прошлое. Масса иудеев на площади кричала «распни!», а вот мы, я спрашиваю себя и вас, положа руку на сердце, подумав и взвесив исторические события и нашу осведомлённость, мы – в тех условиях – закричали бы: распни?! И, понятно, надо помнить, что Иисуса объявляли сектантом, обвиняли в присвоении имя Божия. А в их крови жила вера иудейская: Ветхий Завет – это вера тысячелетия. Чудеса Иисуса не всем приходилось видеть прямо, но знали о чудесах, наверно, все; религиозная и светская пропаганда работала и тогда. А ещё давление фарисеев и книжников. И вот, обвинив Иисуса из Галилеи в ереси и самозванстве, от нас и потребовали бы ответа: распять Его или отпустить? Ответить в обязательном порядке там, на площади, перед лицом Спасителя. Что прокричал бы каждый из нас?.. Вопрос всем.
В это время в аудиторию вошёл доктор богословия Троицкий.
– Вот подумайте, не прикрываясь самообманом…
Посмеиваясь и переговариваясь между собой, семинаристы рассаживались по местам, а Троицкий, быстро проходя к кафедре и, видимо, уже уловив, в чём дело, сказал, поджимая губы:
– Думайте, думайте, братья. Крон пустых вопросов не задает… Нашу пару отработаем по плану, а после лекций и я могу принять участие в «вопросах и ответах»…
Семинаристы шушукались, а Илья во весь голос сказал, видимо, для доктора:
– Это интересно: «А что ты крикнул бы на площади пред лицом Спасителя и Пилата – в исторической перспективе – и сегодня?»…
– Я так и понял, – согласился Троицкий, и уже тотчас начал лекцию.
После лекций профессора загрузили вопросами по предмету, так что «распни» отложили до свободного часа…
Ни жизнь в родительской квартире, ни университетская жизнь не были даже похожи на жизнь в семинарии. И если бы спросить любого семинариста, а чем же обособляется здешняя жизнь? Наверно любой ответил бы:
«О, семинария!.. Бытовой аскетизм, послушание, строгий режим – и ни дня своего времени…»
Так зачем же понадобилась семинария после университета, когда уже и в аспирантуре место было обеспечено? И родители наставляли традиционно: ускоренно окончить школу и вуз, хорошо поработать в аспирантуре, чтобы к тридцати годам выйти на докторскую. Но Илье очень уж легко давались науки – никакого напряжения, так что уже в школе желание постичь рассеялось, как туман под солнцем. А в университете и вовсе охолодило – ничего нового. Хотя диплом он получил с отличием, но от аспирантуры наотрез отказался; и профессионально заниматься биологией – желание отпало.
Что же дальше, если ни наука, ни практика? Отец – доктор, мать и сестра – кандидаты наук, а младший, умница из всех, растратил время и от всего отказался. Так ведь и умница может оказаться «дурным жидом». Вот и решено было собрать совет из деловых друзей, чтобы общими силами найти выход из тупика.
Семья доктора биологии Крона проживала в родительской квартире на Ордынке. По нормам советского времени квартира шикарная: на одного члена семьи одна комната; на всех – гостиная, прихожая, кухня и другие коммунальные приставки. Содержалась квартира в творческой небрежности. Мебель пёстрая, паркет в гостиной давно без подновления, при входе почернел, но не потому, что хозяева неряшливы. Гости, которых бывало много, никогда не снимали уличную обувь. Достаточно было в прихожей шаркнуть ногами по циновке – и пошёл в гостиную. Во всех комнатах компьютеры, Интернет. Вполне современная квартира Московской еврейской интеллигенции.
Сам доктор Крон всю жизнь служил и служит биологии. Нельзя сказать, что он любим и уважаем в кругу коллег – отношения рядовые, но никто не мог бы его упрекнуть в несоответствии. Напротив, он числился именно в «спецах», и когда началась так называемая перестройка и науку посадили на голодный паёк, видимо, стимулируя активность, одним из первых проявил эту активность доктор Крон: на год улетел в Америку, где хорошо поощряли залётных, выкачивая из них свои и чужие наработки.
Кроны гостеприимны и любезны при этом. Хозяин рослый, но не широк в плечах, случаями капризен, умён и начитан в своей области. Выкрестом был его отец, но сам он ничего не сделал, чтобы и его семья была воистину православной. Правда, жену, Руту Яковлевну, пришлось по настоянию отца до венчания крестить, что, впрочем, не вызвало осложнений, более того, осталось незамеченным по обе стороны.
Дочь Татьяна, ей уже исполнилось двадцать четыре года, искусствовед. Любит творчество Левитана, но терпеть не может Шагала, как она говорит, за его примитивизм. Таня успешно сдала кандидатский минимум, сделала кандидатскую, защитилась и теперь высиживала пути продвижения. Дочь шла по стопам матери, а сын, ждали, пойдёт по стопам отца.
Семья мирная, и складывалось всё по задуманному.
Сын первым внёс «смуту».
Родители восприняли «тупик» Илюши спокойно и даже равнодушно. Свесили они свои головы, когда остались в комнате Руты Яковлевны одни. Здесь и решили созвать совет, и даже согласовали, кого призвать.
За разложенный в гостиной стол легко разместились все – своих четверо и приглашённые. Гости чувствовали себя по-свойски, свободно, были добродушно улыбчивы. И конечно же в центре внимания хозяйка. Тогда ей уже исполнилось сорок семь, но выглядела она прекрасно, по-прежнему остроумна и обаятельна. Даже профессор-аскет Калюжный определённо отметил: «Элитная женщина…»
– Курильщики – а таковые имеются! – курите здесь. Выпивохи – таковые все! – распечатывайте по содержанию и вкусу. Словом, и всё остальное – сидячий фуршет, – улыбаясь, предварила Рута Яковлевна. А, склонившись, шепнула мужу: – Усади Илюшу рядом.
Что бы она ни говорила, навстречу ей улыбались – и муж, и гости. А ведь была она внешне немощная, вялая, с вечной печалью и тоской в глазах. Но её любили, потому что верили – и она любит всех. Да и люди – свои, у каждого насиженное место за этим гостеприимным столом.
– Вы, Рута Яковлевна, что-то сегодня сникли, – улыбаясь, говорил коллега-искусствовед профессор Особин, – так вот я и думаю: открою покрепче – напою хозяйку, и станем мы весёленькие и довольные.
Был Особин невысокого роста, тучный, выпивоха, добряк и умница.
– Да уж, пожалуй, знаю, Виктор Николаевич, с вами не закиснешь. Вы вот что скажите мне: искусствоведение – дело мужское?
– Скажу, почему же, только для начала горлышко промочу… Пятнадцать лет вместе работаем – пора бы и понять. – И Особин сосредоточился на бутылке с упрямой пробкой.
А тем временем философ Солодин, приютившись к «пятиязычной» Леночке Козловской, так и распускал павлиний хвост, так по-французски и наслаждался, а сорокалетняя Леночка уже организовала закусочку и теперь, щурясь, выбирала по вкусу винцо, зная, что крепкое Солодин не употребляет.
Два доктора, биолог Яровой и химик Ледякин, вольготно устроившись на старомодном резном диване, для начала дегустировали что-то из маленьких баночек. Обоим было за пятьдесят, и на здоровье они не жаловались.
– А что с Илюшкой, уже? – поинтересовался Ледякин. – Или шутки гения?
– Моисей Казбекович, что-нибудь попроще! Хо-хо…
– Одно могу сказать: юноша отменно одарённый. Я вёл его и наблюдал в университете – и говорю с ответственностью: всё для него слишком просто. Но это возрастное…
– Не дать опустить руки, – подвёл черту Яровой, и Ледякин в знак согласия качнул головой.
Илья с улыбкой изучал гостей, хотя все они были давно знакомы.
Сестра Татьяна ушла к себе в комнату от излишней суеты, чтобы сосредоточиться и решить, стоит ли сегодня заводить разговор с Особиным о дальнейшем обогащении кандидатской…
Словом, все шевелились на своих местах, переговаривались, о чём-то думали и рассуждали, не задаваясь делом, ради которого и призваны.
Выпили по рюмочке винца, началась вялая необязательная перекличка, когда вопрошают в неопределённость, но ответ с одной из сторон получают.
– А Танечка, я вам доложу, защитилась очень даже достойно. – Виктор Николаевич причмокнул губами. – Даже, как руководитель, я доволен – главное, без дураков…
– А вьюноша, значит, решил, минуя аспирантуру?.. И так бывает: нет-нет – и доктор! – Яровой вяло посмеивался, он и не надеялся на ответ. Но ответил Борис Аврамович:
– Нет, Михаил Львович, так не бывает. Точнее, может быть и так, но если и подумать не успел, а крыло самолёта или пенициллин уже на столе. А когда ничего, так ничего и не будет.
– А что делать, если слишком… чтобы идти в аспирантуру?
– Заняться тем, чего не достаёт, – спокойно ответил профессор Калюжный. И наверно потому, что так это уверенно было сказано, все обратились в его сторону, помня, что с Калюжным нечто подобное уже давно происходило.
– А что, вполне, вполне, – щурясь сладенько, отозвалась Козловская. – Я всю молодость нацеливалась в юристы, а заблудилась в языках…
– Растрата времени, – сурово не согласился Борис Аврамович.
– Да, время – деньги, – со вздохом и в то же время с усмешкой поддержала мужа Рута Яковлевна.
– А если перепрофилировать аспирантуру? – лениво спросил Солодин. – К нам на философию?
– Ефим Петрович, вы знаете: аспирантура хоть для барабанщиков – лишь бы защититься, – чирикнула Козловская. И каждый понимал, что прочирикала она выверенно и точно.
– А не сварить ли нам кофейку? – предложила Рута Яковлевна, и, освобождая сына из-под опёки, поднялась со своего места.
Борис Аврамович понял жену и тотчас холодно сказал:
– А то мы и не отдохнём, а всё будем решать родительские проблемы, не задумываясь и не зная, а дети – что же они хотят?.. Ты хоть скажи, сын, перед лицом друзей нашей семьи, а ты – что сам ты хочешь?
Как будто смутившись, Илья тихо засмеялся:
– И до меня доехали… А то всё мимо да мимо. Я ведь и не думал, что собрание и для разборки… Я, папа, ничего не хочу. Два искусствоведа в семье – много, а если ещё два биолога, то и вовсе перебор. Ну защищусь, ну буду доктором биологии; какую-нибудь новую классификацию насекомых предложу – ну и что? Что из этого? Вот я и не знаю, в какую сторону бежать…
– Ты сначала защитись, а потом – в любую, – проворчал отец.
– Только гении умирают за своё дело, но прежде это дело необходимо обрести и полюбить, – поучительно заметил Яровой. – Если же нет ни того ни другого, принимают то, что идёт в руки. Или расчетливый выбор – иного нет.
– Лишь бы не принципиальная уравниловка. – Солодин и губы скривил.
Добродушно запосмеивались.
А между тем появился запашистый кофе. Калюжный попросил зелёного чая. Рута Яковлевна предложила брусничной воды – Павел Осипович согласился.
Когда переключились на кофе, естественно, отвлеклись от Крона младшего. Приспело время высказывать практические предложения. Калюжный и подсказал Борису Аврамовичу – увести сына на какое-то время. Сам и вызвался организовать это.
– Подскажите ему, что временем сорить не следует… Вы знаете, что подсказать.
И действительно, Павел Осипович знал, что подсказать, а вот Борис Аврамович об этом даже не догадывался.
Удивительно, но совет принял неожиданное решение: одарённому Илюше следует предоставить время на самостоятельный выбор. Он не сможет долго бездельничать. Следовательно, передышка поможет найти себя. Пусть отдохнёт. Хорошо, если заведёт непродолжительный флирт. В конце концов, университетское образование он уже получил. Не беда, если полгода подумает.
Расчёт был верный. Так и случилось бы, не затворись Калюжный с Ильёй в его комнате.
К тому времени Павел Осипович уже десять лет в духовной семинарии читал курс лекций по Священному Писанию. Был он образован, начитан и сам по себе человек решительный и непредсказуемый. В своём кругу о нём даже ходили всевозможные небылицы. Все знали, что, будучи еще юношей-школьником, он настоял на своём крещении. А в течение года принудил не только родителей и сестру, но и родного дедушку принять православие.
После школы он поступил в педагогический институт и в то же время на заочное отделение духовной семинарии. Затем духовная академия, после чего и начал читать лекции по православной педагогике.
Старания и способности его были замечены, ему предложили читать лекции по Святому Писанию…
Ничего странного друзья в этом не видели – свои люди должны быть всюду. Крайностей за Калюжным не наблюдалось. Он обзавёлся семьёй, и только тогда в нем начало вызревать собственное духовное направление. До этого он был преподаватель, учёный, теперь же определилась и духовная личность.
Когда они уединились в комнате Ильи и прикрыли за собой глухую дверь, то оба вдруг восприняли радость тишины, так что недоумённо улыбнулись.
– А ведь хорошие люди, заботятся друг о друге, помогают, – имея в виду гостиную, одобрительно заметил Калюжный. – Ни у кого такой озабоченности нет.
– За то и брови на нас хмурят, – согласился Илья, выкатывая к столику кресло для гостя.
А гость с усмешкой глянул на хозяина и сказал с нажимом, как, наверное, только он и умел:
– Не за то, но и за это, – и обвёл взглядом кабинет Ильи. – Знаешь ли ты, что в России нет еврея, который бы не имел в квартире личной комнаты. А вот такой кабинет редкий доктор имеет… Впрочем, хмурятся, но и всего.
– А ещё-то что? – Илья искренне удивился.
– Об этом сам подумай и реши…
Они удобно разместились возле журнального столика – в окружении книг и живописи было спокойно и уютно.
– Я понимаю, но нам иначе нельзя. Мы в пути – и всюду необходимы.
– Верно говоришь: иначе и нельзя… А вот скажи, почему тебя от всего отворотило?
– В этом я не силён – не знаю… Понимаете, Павел Осипович, как будто задачи не нахожу. Солодин, Ефим Петрович, сказал бы: идеи не хватает. И я мог бы с ним согласиться, только мне и идея не нужна.
– Ага, вот здесь пусто – вакуум. – Калюжный постучал согнутым пальцем по своему внешнему сердцу, прикрыл глаза, помолчал и пояснил: – Душа отмирает.
– Так уж и отмирает?! – Илья капризно поджал губы.
– Хоть так, хоть иначе… Наша общая трагедия: живём без Бога, в промежутке. От Своего ушли, к Чужому – не пришли. А если и приткнулись, то слишком формально или расчётливо. И в девятнадцатом веке принимали крещение, чтобы освоить территорию, получить место… Взять хотя бы вашу фамилию: третье поколение в православии, но ведь формально! Помнишь ли ты, когда на исповеди был, причащался когда? У тебя даже иконы в кабинете нет. А почему? Потому что в гости приходят друзья иной веры или вовсе без веры. Чтобы их не смутить, самому не смутиться, да и нет нужды. Вот и получается: без Бога… Потому и вакуум, разочарование – зачем и жизнь?! В конце концов, пленит идея золотого тельца, карьера ради этого. Всё и обомнётся, да только вакуум останется. И тогда хоть по барабану лупить, лишь бы доллары выскакивали.
Илья напрягся… Хотелось ответить резко, с достоинством, но сказал он, скорее, примирительно:
– А вы, Павел Осипович, верите в Иисуса, как в Мессию?
– Я верую… А ты сомневаешься во всём, и полагаешь: время рассудит, кто прав, но от своих удаляться нельзя, погибнем в разрозненности… Действительно, так, но надо любить и помнить – ни эллина, ни иудея… Ты получил знания, частично заполнил знаниями голову, а сердце твоё, душа твоя остались нетронутыми. И ничего толкового тебе голова твоя не подскажет; и они, кстати, не подскажут, хотя и умные добрые люди. Естественный выход у тебя один: получить духовное образование – окончить, скажем, духовную семинарию, пережить суровую аскетическую школу, насытить сердце иными знаниями и верой – только после этого и определиться на всю дальнейшую жизнь. Ты в младенчестве крещёный. Тебе Господь указывает путь, а ты не разумеешь. Не воспринимаешь указующего перста.
– Почему же? – тихо возразил Илья. – Что-то и разумею…
Когда они вышли в гостиную, здесь уже никого не было – всё убрано, стол сложен. И показалось странным: уж не мистика ли, да и был ли кто-то здесь?! Тишина.
Они переглянулись в недоумении, Илья невольно потянулся к часам: «Боже мой, два! Это же четыре часа вдвоём!» И наверно испуг отразился на его лице. Калюжный снисходительно улыбнулся:
– Засиделись… У меня мотор. И пробок на улицах нет. Пятнадцать минут – я дома. А тебе и ехать не надо… Значит, договорились: подумай неделю. Звони в любое время – на мобильный надёжнее.
Калюжный подал руку – и холодно глянул ему в глаза:
– Договорились – никому об этом.
Илья попытался улыбнуться, но губы его как будто ссохлись.
Тяжёлой оказалась неделя раздумий. Освоить и решить то, что оставалось нетронутым и неподвижным всю жизнь. Но если до этого жизнь представлялась прозрачной, все вопросы – разрешимы, то теперь ни проблеска, ни решений. А закручивалось всё очень просто: Калюжный – прав… «Человек не скот, поэтому должен быть духовно образованным и зрячим», – сказал – и прав. Если ты разумный человек, если не валяешь дурака, то отвергнуть этот постулат не сможешь. Ты волен – принять, не принять, но не отвергать…
И звон в пустой душе – вакуум.
Поэтому и отворотило от академических обогащений… Наверно и здесь он прав – кризис. Что предпринимать, если в тупике?
Находить незатейливую службу – и заниматься духовным самообразованием; или вместо аспирантуры – духовная семинария… Просто сказать, но ведь это не детский сад. Как расценят такой шаг свои?.. А прежде всего необходимо будет войти в связь с церковью, с Богом, признать, что ожидаемый Мессия был распят предками. И это не всё… Понятно, об этом пока можно не объясняться – семинария не прямое священство, но лишь обогащение духовными знаниями, обретение утраченного опыта. Ведь остаётся же своим Калюжный. Но это – в общем. В частности – быть или не быть. Прежним из семинарии не выйдешь – факт.
И начиналось распутывание узлов: что приемлемо, а что нет.
«Действительно, в третьем поколении Кроны в православии. Родители никогда не вспоминали об этом. Но ведь родной дедушка принял православие не до революции по расчету, а при советской власти, так что мог и слева и справа получить такую заушину, что и память отшибло бы. Следовательно, дедушка был убеждённый христианин: он верил в распятого. Для меня, стало быть, не обретение, а возвращение к деду… Не хочешь к деду, иди в синагогу. Вот и весь выбор. Иначе – вакуум…» – так Илья прежде никогда не думал.
Он целыми днями не выходил из комнаты, неподвижно просиживал за рабочим столом, выхаживал в думах по ковровой дорожке от двери к письменному столу и обратно… За полночь засиживался над Евангелием, причём с удивлением помня сказанные Калюжным слова: «Божия Матерь иудейка – и этим надо гордиться. Мы не предаём веру, но продолжаем её».
И не только Богородица, но и Апостолы – евреи. И все они, за исключением Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину – подвиг, которым тоже можно гордиться… «Так в чём же дело?» – неизбежно задавал себе вопрос Илья, но ответа не находил…
Евангелие смущало, чему надо было верить даже не как себе, а как Богу. Но веры-то и не было. Даже через голову вера не приходила. И случалось, Илья стонал, повторяя: «Господи, вразуми…»
«А он преподаёт в семинарии, у него нет сомнений. Он мирно сосуществует со всеми: читает лекции по Священному Писанию для будущих священников и епископов… У него нет сомнений – он верит, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христа, что Господь в душе его; что смерти нет, что дух вечен. Он согласен, что иудеи утратили своё избранничество и первенство среди народов… Вот этому я и не могу поверить. В таком случае, почему же евреи в России, впрочем, как и в других государствах, где они присутствуют, являются собранием привилегированных. Нет еврея землепашца, нет еврея рабочего – о чём-то и это свидетельствует!»…
В конце концов, Илья запутывался в доводах и противоречиях, и ему представлялось, что такое распутывание узлов – бред. Не надо ничего определять и предопределять… А то вдруг представлялось, что сейчас он стукнет кулаком себе по лбу и очнётся: аспирантура – и никаких семинарий…
Но преследовала тоска пустоты – Илья сознавал, что теперь душа его изнывает без духовной полноты. И вновь уныние, причём уже при ясном понимании: без Бога жить нельзя.
Для родителей страдания сына были очевидны, но они не тревожили его, полагая, что Илья вот так и перестрадает, после чего спокойно пойдёт по верному пути.
Лишь на пятый день поздно вечером Илья позвонил Павлу Осиповичу. Они поздоровались, и Калюжный неожиданно сказал:
– Ты хочешь спросить, с чего начинать?
Илья кашлянул или поперхнулся, помолчал и ответил кротко:
– Да…
– Я ожидал этого… А начинать надо с исповеди в храме – это я организую. И рекомендацию от священника тоже помогу. Собрать документы, а перед подачей объясниться с отцом, а затем с мамой… Если ты не против, при этом я могу присутствовать, потому как причастен к делу… Завтра утром и встретимся…
– Хорошо, – сухо ответил Илья.
Было ясно: первичное – духовное, религиозное пробуждение. А этому никто не поможет. Всё чаще он мысленно повторял: «Бог мой, если это Твоя воля, направь меня по пути верному, помоги». Но как в цыганском таборе – вокруг толпились сомнения. Уже через месяц предстала необходимость объясниться с родителями. Само объяснение не смущало, смущал целенаправленный шаг, за которым должен последовать следующий, не менее ответственный – а это уже дело, духовно, однако, не подкреплённое.
На помощь был призван Павел Осипович.
Какое-то время они оставались в комнате Ильи. Родители ожидали в кабинете Бориса Аврамовича. Нет, Илюша не трепетал, не робел, но ему хотелось бы заранее обдумать и решить, а кто что скажет и как с достоинством ответить на вопросы родителей. Видимо, разгадав его мысли, Павел Осипович усмехнулся и спокойно поднялся на ноги:
– Не надо загадывать, что сказать или что ответить. Господь вразумит, если дело праведное. А нам следует лишь помолиться.
И не дожидаясь ответа или согласия, Калюжный обратился к иконе Божией Матери и перекрестился:
– О Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице Богородице, Царице Небесная!..
Пристроившись за спиной, Илья тоже перекрестился, и, слушая молитву, в душе своей повторял: «Господи, помоги, пусть будет так. Боже, помоги».
Закончив молитву, Калюжный улыбнулся, приобнял Илью за плечо и подбодрил:
– Не сомневайся. Веди…
Родители сидели на диване. Рядом были приготовлены два кресла. На круглом столе чайные чашки на блюдцах, а под колпаком большой фарфоровый чайник, в вазочке сладости к чаю.
Борис Аврамович то шевелил бровями, то как будто усмехался; Рута Яковлевна, болезненно-расслабленная, улыбалась застенчиво – и это был первый признак, что настроена мать решительно.
Меняясь в лице, Илья, еще не присев в кресло, несколько запальчиво сказал:
– Папа и мама, вот я подумал, решил и явился доложить…
– Ты, милый, как персонаж Островского: явился доложить… Ты садись и без докладов скажи, что решил…
Борис Аврамович вздёрнул голову. Калюжный добродушно улыбнулся Руте Яковлевне, как обычно отмечая её прозорливость и деловитость. Илья сел в кресло и неожиданно громко засмеялся:
– Действительно, как приказчик или мелкий чиновник!.. В общем, так: прошу, в обморок не падать и громко не возмущаться. По-прежнему аспирантура отменяется. Взамен аспирантуры – при условии, если так сложится – духовная семинария…
И выждал паузу.
Борис Аврамович тотчас и сник. Казалось, сейчас он и вскрикнет возмущённо, но отец молчал.
Рута Яковлевна капризно сложила губы и манерно закатила глаза.
– Значит, в попы? – с усмешкой спросила она.
А тем временем Калюжный, поднявшись из кресла, налил себе в чашку чая, и теперь с чашкой в руке как будто угрожающе сверху наблюдал за происходящим.
– Пока не в попы, – спокойно, но в то же время твердо ответил Илья. – Для начала выучу хотя бы язык, я имею в виду наш исторический язык.
У отца и челюсть отпала, он наверно подумал вслух:
– Вот и я всё собирался, да так и не собрался, не дошёл…
– Я и решил, чтобы успеть… А ещё надо знать… нельзя без конца промежду болтаться.
– А кто это промежду болтается? – тихо осведомилась мать, и это уже означало: перехожу в атаку. Однако Рута Яковлевна сдержала себя, напротив, беспечно усмехнулась. – А промежду прочим и с чужим языком, коим ты пользуешься, следует обращаться аккуратнее… В целом понятно: вот и Павел Осипович – профессор духовной школы, а ничего: жив, здоров и ум свой не растерял. К какой же службе ты будешь готовить себя?
– Пока не знаю…
Отец подхватил:
– А надо бы знать! Знать надо! Чтобы идти к известному!
– Борис Аврамович, не отведав, трудно говорить о вкусе, – сверху надавил Калюжный. – В общем – вилка: или обретёшь веру и духовные знания – для себя; или будешь иметь право преподавать в семинарии и вузе; или рукополагаться в клирики. Выбор есть, но загодя трудно определиться.
– Наверно так, – как будто прожевал Борис Аврамович, вновь склонился и замолчал.
Зато Рута Яковлевна нанесла, казалось бы, прицельный удар:
– И как же ты сможешь без веры?..
Тихая пауза. Звучно дрогнуло сердце сына – и он резко выпалил:
– А как же вы промежду без веры?!
– А вот так и не следовало бы, сын, грубить, – неожиданно в свою обычную силу непримиримо сказал отец. – Мы ведь можем и обидеться очень и адекватно ответить.
Илья смутился.
– Простите меня, – клоня голову, ответил он. – Дело такое, необычное… Ведь не я же вас крестил, а вы меня. – Помолчал и с горькой усмешкой добавил: – И забыли об этом… Так что, если глубже заглянуть, ничего странного. Да и собрались мы не судить, а чтобы обговорить вопрос…
Какое-то время молчали. Думали, оценивая в целом известие.
Павел Осипович, по-прежнему на ногах, легонько прикладывался к чаю и внимательно следил за Рутой Яковлевной, понимая, что именно эта квёлая на вид женщина является семейным двигателем. Поджав губы, она молчала.
И вновь заговорил отец:
– Если смотреть реально и здраво, глазами крещёных евреев, то никаких отклонений от нормы уже и нет. Даже более чем закономерно: иудею в прострации находиться не по закону. А в частности, родители думали одно, а сын, решив другое, пришел за советом. Только ведь не в мусульманство он нацелился. Так что надо бы серьёзно обдумать перспективу – и только.
– И я думаю, – поднимаясь с дивана, спокойно сказала мать, – всё может быть даже к лучшему: коридоры и приёмные станут шире.
– Пожалуй, – согласился Калюжный. – И возможностей больше – с плюсом.
– Если уж так, то давайте пить чай, иначе подогревать придётся.
Поднялся и Борис Аврамович.
– Илюша, принеси из холодильника тортик, – сказала мать, и когда сын вышел из комнаты, она повела взгляд на Калюжного: – А вы, оказывается, опасный человек. – И погрозила пальчиком, невесело усмехнувшись…
Илья ушёл проводить Калюжного, родители из прихожей возвратились в комнату Бориса Аврамовича.
– Что, Рута, как это ты освоила?
– Совершенно спокойно, – ответила жена. И по лицу её было видно, что она не только спокойна, но и равнодушна к событиям в семье. – Мне куда как труднее было принимать крещение, когда мы сходились. Говорят же, теряя голову, по волосам не плачут. А мы, на сей раз, не теряем ни головы, ни волос.
Они сидели за столом, чистые, гладкие, не по годам молодые, с достоинством в высшей мере, как люди, жизнь которых проходит под надёжным прикрытием, и они заведомо знают, что провалов впереди не может быть, только неожиданности.
– Я согласен с тобой. Но меня беспокоит одно: среда – не уподобили бы. Нажмут коллективно – и куда что денется, не он первый. А ведь мы всё-таки отличаемся. Хотя бы не ленивы и не пьём, да и в способностях отличны. Так вот не растерял бы…
Рута Яковлевна самодовольно усмехнулась:
– Значит, «дурной жид», если растеряет – туда и дорога… Нет, Боря, ничего подобного с Ильёй не случится, лишь бы по научной стезе пошёл… Тебе всё представляется, что он малыш, а он уже взрослый муж с университетским образованием.
– Спасибо, Рута, ты всегда умела рассудить – и поддержать. Действительно, Павел Осипович тому живой пример. Спасибо.
Рута Яковлевна поднялась со стула, обняла мужа за плечи и поцеловала в голову. Слёзы благодарности выкатились из его глаз.
Проводив Калюжного до машины, Илья затворился в своей комнате. Состояние было подавленное, и он не мог понять, отчего так. Намеченный путь открыт: предстояло работать и работать, чтобы там, при зачислении, доказать свою состоятельность. Но по-прежнему обступали сомнения, по-прежнему – страдающий вакуум. Илья хмурился, сжимал кулаки, напрягался, но понять прямых причин своего состояния не мог. Семинария сама по себе даже увлекала инакомыслием, искусственных преград не будет – обещал Павел Осипович. Родители не против – так в чём же дело? В себе. Но в чём? И надвигались сомнения. Хотел ли он того или не хотел: укоренившееся безбожие не уходило из души, истязало и язвило её…
Глаза его вдруг расширились, губы задрожали – он увидел и воспринял собственную смерть, отвратительную и конечную. Вот в неё-то он твёрдо верил, стараясь лишь не вспоминать о ней.
«Тогда зачем всё? Ничего не надо – ни аспирантуры, ни семинарии, ни правды, ни лжи». – Как всегда при этом его охватило дрожью, он умалился до пресмыкающегося. Обычно если и задумывался о смерти, то всегда с учетом, что по любой религии человек неистребимо-вечен, а там – пусть и судят, пусть разбираются, куда и что делать. Так беззаботно и думал. А тут вдруг представилась собственная тленная смерть и, как мотылёк, неведомая абстрактная душа – охватил страх беспомощности и омерзения.
«Ну, умру, умру – так ведь все умирают… все подряд – и президенты, и нищие. Но почему?! Почему и мне доля червя? Я не хочу этого… я протестую! Не могут, не должны быть одинаковыми гений и бомж, талант и пьяница – не могут!»… – «Могут».
Илья вскинул голову, замер, прислушался. Наконец настороженно спросил:
«Кто это?»
«Это я, которому ничего не надо, но который всё может».
«Так зачем ты, если тебе ничего не надо?»
«А ты зачем – и что тебе надо?»
«Мне? Наверно тоже ничего…»
«А что можешь?»
«Я? Наверно ничего не могу…»
«Вот и сравни – я всё могу!»
«А я не хочу умирать…»
«Не умирай – ты волен в этом. Но так не интересно».
«Если я волен, что надо, чтобы не умереть?»
«А ничего, самую малость: не замышляй – и подчинись мне».
«А кто ты?»
«Я? Вечный… Гога».
«Пошёл ты вон, идиот!» – выкрикнул Илья и заплакал…
Сердце его как будто разрывалось от беспомощности. Он задыхался, ему казалось, что он умирает – и тогда, зажав голову руками, он закричал:
«Бог мой! Если Ты на самом деле существуешь, если слышишь меня, ответь мне! Почему я должен умереть?! Или сделай так, чтобы я не умер. Ты слышишь меня?! И веры во мне нет, и пусто в моей душе – помоги! Я не могу так жить!»
И слёзы задушили его, он перестал дышать – и погрузился в тишину без звона, без шороха и сердцебиения. Тогда же вдруг и почувствовал ласковое прикосновение к голове, и уже иной голос тихо произнёс: «Успокойся и верь – смерти нет»…
Илья очнулся: он лежал одетым на диване лицом в подушку – и подушка была мокрая от слёз. Тотчас он не мог понять: реально или во сне? И не было сил поднять голову.
«Что это? Ведь я не спал, я только прилёг… Не знаю, не знаю, ничего не знаю!» – мысленно вскрикнул Илья, резко повернулся на бок и сел на диване.
И в то же время без стука в комнату вошла сестра Тата.
– Ты что без света? – вяло, на манер матери, сказала она и щёлкнула выключателем. – Ты что, братец, спал? – Она прямиком прошла к дивану. – Фи, какой измятый и встрёпанный…
– Лежал…
– Ты что, говорят, в попы нацелился?! – И засмеялась беззаботно. – И молчит! – Она потрепала его за волосы. – А поступишь?
Илья молча пожал плечами.
– А что, может быть и прикольно…
И вновь он пожал плечами.
– А я вот книжку купила – давно собиралась. «Смерти нет!» – это из серии «Жизнь после смерти». Давно нацеливалась прочитать…
Она и ещё что-то говорила, но Илья не слышал, не воспринимал. Он взял из рук сестры книгу и как на красное чудо смотрел на яркий заголовок «Смерти нет!»…
Пройдут годы, но в минуты сомнений или уныния Илья непременно будет вспоминать это маленькое, собственное чудо: и голоса, и сказанные слова, и совпадение – он всё запомнит до мелочей, но так и не ответит на свой же вопрос – во сне или наяву?
С того памятного вечера Илья буквально на глазах менялся не только внешне, но и характером. Он слегка как будто сдвинул брови и окоротил словоохотливость. Если раньше любил посмеяться, пошутить, то теперь и это как будто отпало. Его замкнутость относили на счёт того, что он сосредоточился на подготовке к экзаменам, да и будущее обдумывает.
А он действительно готовился: заучивал молитвы, осваивал Богослужебную литературу, добросовестно просматривал толкования на Евангелие – особенно убеждал Иоанн Златоуст. Английский язык к тому времени он знал, читал со словарём по-немецки. Всё остальное было на уровне университетских знаний. Можно бы и не налегать на подготовку, но Илья хотел быть только первым.
Он вычитывал утренние и вечерние молитвы и даже пытался постичь их сердцем. Бывал на службах в храме…
И вот такая занятость как будто изменила даже походку – задумался человек.
Калюжный продолжал заботиться о подопечном. Они не только созванивались, но в свободные дни встречались для бесед, что оказывалось ценнее прочитанного, потому что давались практические ответы на вопросы.
За неделю до экзаменов, без предупреждения, Павел Осипович заехал в гости. Был он добро расположен, много шутил, улыбался и с удовольствием пил зелёный чай. Говорили больше не об экзаменах, а о порядке и установках в семинарии, в частности, во время экзаменов, о том, как воспринимать всё это.
Илья был скован, больше слушал. Правда, иногда он тоже улыбался, как если бы что-то коротко вдохновляло его.
– Ты, Илья Борисович, главное, не робей и не пытайся кого-либо обойти, что-то утаить, что-то переиначить, представить себя выше, каков ты на самом деле есть. Люди там духовно опытные, иногда простоватые, но насквозь просветят. Лучше что-то не так сказать, но искренне… Помню, перед экзаменами пришёл я к духовнику – это обязательная процедура: чернец в годах, сутулый. Глянул из-под себя и спрашивает: «Молитвы-то вечерние вычитываешь…» «Да, – говорю, – вычитываю». А он посмеивается и головой покачивает. «И ночью, – спрашивает, – читаешь, как Иоанн Златоуст. Не так ли?» И понял я, что смеётся он над моей похвальбой… «Нет, – говорю, – не читаю. И с вечера засиживаюсь за книгами, так что перед сном и голова не соображает. Прочту иной раз «Отче наш…» да «В руце Твои…», – и упаду как в пропасть…» «Так, так», – говорит и посмеивается…
И экзамены сдают от начала и до конца – все. Оценок не объявляют, не отсеивают как в вузах. По окончании список зачисленных вывешивают – и всё. Могут и с двойкой по какому-то предмету зачислить, если сочтут достойным…
Калюжный хрустел вафлями, сам подогревал кипяток, подваривал чай… Красивый, с пронизывающим умным взглядом, он отдыхал и как будто забавлялся во время отдыха… Но иногда лицо его становилось суровым. И тогда у Илья с языка готово было сорваться: «Всяк человек – ложь». Но Калюжный с чашкой чая в руке уже улыбался и вновь говорил то забавные, то поучительные слова.
– И никогда, Илья Борисович, в общежитии не стремись устроиться получше других, съесть повкуснее, от послушания увильнуть – не получится, лишь себе во вред…
Не подумай, что там монастырь – монастырь сам по себе. Семинария, академия – учебные заведения при монастыре, но устав и в учебных заведениях «чёрный». И это хорошо… Одно угнетает – туристы, проходной двор.
С первых дней привыкай к режиму, к традициям. Бытовые условия тяжёлые, «кабинет» один, общий, без перегородок, да и вся жизнь семинариста-бурсака тяжёлая, зато в будущем к любым условиям легко приспособиться…
И скрывать не надо. Знаешь язык – так и говори: знаю… Почему решил в семинарию? Понять, духовно обогатиться. По способностям послужить церкви Христовой…
– Смогу ли я со всем этим справиться? И надо ли мне всё это? – неожиданно с горькой усмешкой спросил Илья. То ли у самого себя спросил, то ли у Павла Осиповича.
– Об этом тебе решать и знать, – после затяжной паузы ответил профессор. – Одно не забывай – это ведь не смена религий, не поклонение Деннице. Скорее уж, поиск утраченного рая, но не в образе коммунизма, которому и наши предки поработали куда как усердно. Так что, если рассудить: намеченный путь – путь к свету… А в общем, Бог даровал человеку свободу выбора, человек волен.
И Калюжный замолчал, внимательно наблюдая за скрытыми эмоциями подопечного.
Илья так и сомневался – до экзаменов, во время экзаменов и после экзаменов в ожидании результата.
Не обошлось и без курьёзов. Так у Лаврского духовника на исповеди-беседе, вздохнув, он даже с желанием признался:
– Знаете, владыка, пришел я сюда учиться по своему желанию. Но, с одной стороны, не верю в правильность решения, с другой – постоянно в сомнениях: родители хотели, чтобы я окончил аспирантуру и защитился, а меня отворотило от всего. Сомневаюсь в способностях своих на духовном поприще, сомневаюсь в полезности своей, сомневаюсь, если поступлю, по праву ли займу чьё-то место. Ведь у меня уже есть университетское образование. Сомневаюсь на каждом шагу, особенно, верно ли я определил свою дорогу в дальнейшую жизнь.
На этот раз духовник был рослый и тяжёлый, лет сорока монах.
– Э, брат, во-первых, я не владыка, не архиерей, а всего лишь грешный иеромонах, – басовито отозвался он. – А во-вторых, не сомневаются только дураки… Ты получил благословение от приходского батюшки?.. Получил. Не сомневаешься ли в том, что Господь наш Иисус Христос ради нашего спасения сошел на Землю, был распят на Кресте, погребён и на третий день воскрес в преображенном теле?.. Не сомневаешься. А не сомневаешься ли ты в своём личном бессмертии?
– В бессмертии души не сомневаюсь…
– Ну а преображенное тело после второго пришествия. А пока земля возвратится в землю… Например, ты поступил уже – в каком обличии тебе представляется будущее?
– Сомневаюсь в выборе… Прежде и поступить надо.
– Ты, наверное, и креста нательного не носил до последних лет. Вот тебя Господь для укрепления веры сюда и направил… Только не пытайся реформаторством заниматься…
– Каким реформаторством?
– Да это я так. Если желание такое появится, то и вспомнишь мои слова. А вспомнишь – беги ко мне…
Во время экзаменов и ещё произошло несколько оплошек, но это так, семинаристские мелочи.
Всё было сказано, заранее известно, но Илья даже представить не мог того, что оказалось в реальности. Общежитие без удобств и уюта, более того, без постоянного места для сна. Проходил определённый срок, и ты со своей скрученной постелью в обнимку тащился в другой конец секции или в другую секцию – и все они, секции, проходные; ни стола, ни полки для книг. После своего «дворянского кабинета», после домашнего уюта, с которым Илюша никогда в жизни не разлучался, семинарский быт воспринимался чем-то несносным и унизительным.
Не лучше дело обстояло и в общепите: излишняя по объёму, пища была малокалорийная и грубая. И опять же, после домашнего стола желудок отказывался переваривать «булыжники». Нередко одолевала изжога.
Лекции пошли регулярным косяком – и всё это новое, не университетское. Библиотека хорошая, но даже без читального зала.
С первых же дней надо было много заучивать наизусть, репетировать и петь в хоре, ежедневно бывать на службе в храме, в академическом или монастырском. И ежедневно обязательные послушания: то на кухне, то дежурить при входе на территорию академии, то заниматься хозяйственными делами. И не посидишь ночью за книгой, утром в постели не поваляешься. Как солдатская служба, только ещё и учиться надо, а удобств никаких.
Медленно входил Илья в непривычную жизнь, в чужую жизнь.
И уже скоро появилось желание всё бросить и уехать домой – в аспирантуру или трудоустроиться. И поражало, что все эти несносные условия никого из первокурсников не волновали и не возмущали.
Единственный просвет – Павел Осипович, который и первокурсникам читал лекции. При первой же возможности Илья спешил к Калюжному, чтобы хоть поздороваться, подышать одним воздухом, что-то сказать, о чём-то спросить. Но здесь, в семинарии, в наставника вселялась непонятная отчуждённость и сухость. Однако профессор пристально следил за подопечным, и уже вскоре, недели через три сентября, при встрече сказал:
– Я, когда занят и вечером и утром, ночую здесь, в Посаде, комнатку снимаю – ездить на электричке да по Москве очень уж тяжело. Так что, если необходимость будет, в свободное время до закрытия ворот заходи в гости. А чтобы знал дорогу, сегодня и проводишь меня после занятий…
Без желания согласился Илья, потому что уже созрело намерение распрощаться с семинарией. И конечно же он не предполагал, насколько важным для него окажется первый курс и регулярные встречи с Павлом Осиповичем в его непостоянном жилище частного дома. Кровать, стол с настольной лампой, две полки книг, три стула и возле двери кустарный шкафчик для белья и верхнего платья. И всё – но и это представлялось райским уголком, тихим, уединённым, в сравнении с проходными секциями общежития. От Лавры пятнадцать минут хода… И встречи продолжались с осени до лета не реже одного раза в неделю.
Шли молча. Илья запоминал дорогу, уныло думая: «Вот так уйти – и не возвратиться». Когда же вошли в жилище, почти с порога Калюжный спокойно сказал:
– Ты что, намерен оставить семинарию?
Илья сконфузился.
– Я вам этого не говорил… А впрочем, и об этом думаю.
– Тогда налей в чайник воды. Заварим… А пока умоемся да прочтём молитву, – сказал он это настолько распорядительно, что не подлежало сомнению – так и должно быть.
Они сели к столу, и Калюжный с наигранным раздражением сказал:
– Что, или общественная ложка рот дерёт?.. Пища груба, кусок в рот не лезет, изжога изводит. Не так ли?
Илья резко глянул на Калюжного.
– И так тоже…
– Понятно. А ты не заметил, что все довольны столом? Ко всему еще и одобряют: хорошо готовят – и бесплатно!
– Лучше взимали бы какую-то сумму…
– Это тебе лучше, у тебя в Москве папа-доктор и двое кандидатов – отстегнут… А ты поинтересовался, кто рядом с тобой за столом? Дети священников, другие – периферийные парни. Они и дома копейки считали… А потом, ведь не в этом дело. В семинарии будущие иереи. Кто-то и в монашество уйдёт: они уже и теперь должны готовиться к воздержанию и постам, к грубой пище в условиях Севера и сельской глуши… Сознают это каждый по-своему, но сознают. И они никогда не скажут: «Плохо». Затянутся как монахи «обручами» и вместо десерта станут больше трудиться и молиться. Потому что всё истинное христианство – подвиг… А ты этого пока не понял – и не знаю, скоро ли поймёшь. Ты из элитного сословия оказался на пороге истинного православия, чтобы обогатить свою душу, а начинаешь с желудка, с негодования на быт. Всё это заметно и даже видно. Уже то, как ты сидишь на лекциях, говорит о твоём духовном состоянии… Это и наша чванливая болезнь первородства, от которой надо избавляться. Да и сказано: не хлебом единым будет жив человек…
Илья устал слушать, его раздражали слова упрёка. Хотелось даже вступить в спор, но пока он терпел, ни на градус не изменив своего мнения.
– Ты привык к лучшему. Теперь приучи себя к общему – в этом тоже немалое достоинство. И не вздумай бегать в магазин за сладостями. Это всё равно, что в лагере миски вылизывать – читал ведь Солженицына…
Зашумел чайник, дробно заплясала крышка. Калюжный быстро заварил чай. Поставил на стол чашки, дешевые карамельки, до которых, впрочем, не притронулся, задёрнул на окне штору, включил настольную лампу и резко сел на стул.
– Устал…
– Говорить? – не без задира спросил Илья.
– И говорить… Мне ведь не двадцать лет. Да и лекций четыре пары. И тебе вот ещё приходится… говорить.
– А что приходится? Со мной всё ясно.
– Что ясно? – устало и без желания спросил профессор.
– Хотя бы то, что не только от стола изжога, но и от казармы-общежития, где периодически переселяются из угла в угол, где утром в туалет очередь, вечером – в кабину душа, а зимой вонь – дышать нечем. Можно бы, наверное, и по-человечески…
Опустив взгляд, Калюжный помолчал, а когда восклонился, то, усмехнувшись, предложил:
– Давай, Илья Борисович, чай пить…
– Ты же умный человек, неужели не понимаешь логику семинаристского быта? Во-первых, тяжелый быт – это тоже укрепление воли и терпения – на будущее. Во-вторых, испытание на прочность, а благоустроенный быт в данном рассмотрении даже вреден. Ведь лучше, если отсеются первокурсники и даже второкурсники, чем половина выпускников уйдёт в светскую жизнь. Здесь не общеобразовательная школа, здесь готовят церковнослужителей. А тяжелый быт вытесняет случайных людей. Отсюда должны выходить преданные люди. А зайди в келью к монаху – посмотри его быт и стол! Он весь в молитве. Таковы православные христиане…
И если ты не поймёшь, что весь быт в семинарии – десятое дело, а первое дело – духовное возрастание, знай: тебе не дотянуть и до второго курса.
– Вы говорите, что для семинариста любая служба в храме, любое участие в службе, пение на клиросе – наука, постижение, литургика на практике. Со всем этим я могу согласиться и соглашаюсь. Все службы и молитвы семинарист обязан знать – это как один из главных академических предметов… Но даже в связи с этим не могу понять ежедневные послушания… Приказывают делать то, что и не надо бы делать или не к спеху. Лишь бы загрузить? Да семинарист и без того занят по горло…
Настроение было неплохое, впереди полчаса свободных, наверно и поэтому Илья естественно улыбался. А Калюжный хмурился.
– Послушание, Илюша, вообще сложный для понимания и даже спорный вопрос… Почему? По очень простой причине: «послушание», считают, из монашеской обоймы. А в миру, и в семинарии неопытные первокурсники нередко послушание воспринимают как приказ, как порабощение. Ложное понятие. Послушание – это корень смирения. Следовательно, исполняя послушание, послушник обретает смирение, без чего нет ни веры, ни церкви. А в нашем случае это даже не послушание, а самообслуживание. И без самообслуживания в духовных школах нельзя. Представь только: запустили в академическую ограду сотню Посадской обслуги. Это на корню вырубить не только действительное послушание, но и элементарную дисциплину, распорядок, да и нравственность…
– Павел Осипович, а не слишком ли много этого, – Илья щурился и пощёлкивал большим и средним пальцами руки, – ну, подчинения, принуждения, послушания, неустройства в быту, да и не только в быту…
– Понял. По-моему, не слишком. Да и не всю жизнь оставаться семинаристом. А закваска на всю жизнь. И не ты на неё будешь работать, а она на тебя…
– Надо подумать, подумать…
И Илья поднялся на ноги: время истекало, пора спешить – на послушание.
– Подумай, подумай, и сюда что-то отложи. – И Калюжный, холодно усмехаясь, постучал запястьем руки по груди семинариста Крона.
– А знаете, Павел Осипович, я вот подумал: и зачем нам всё это – и мне, и вам, и другим… нашим? – Илья вяло усмехался, и глаза как будто сонные, в унынии.
– Ну, братец, прежде – кого считать «нашими», а потом уж – «зачем?». Первые наши, скажем, по крови, а вторые – по вере. О вере ты и говоришь: зачем всё это?..
– Нет, – возразил Илья, – не так. Сменил веру – верь в своём углу. Но зачем сюда, в монастырь, лезть: в семинарию, в академию – во всё это. Живёшь, и живи в своём курятнике.
– В таком случае и ты ответь мне на вопрос: почему же в душе твоей образовался вакуум? Почему уныние и разочарование?
Илья невесело усмехнулся:
– О, если бы я знал!.. Может, и причина рядом…
– Может быть… Но для меня «наши» и те и другие. И вера одна, от Моисея, и Христианство всё та же – наше. В это я твёрдо верую. И «это» мне нужно – не только для себя, но и для тех – как ты их называешь – «наших». Я хочу, чтобы и наши покаялись, крестились и шли бы за нашим Христом. В конце концов так и будет, но хотелось бы не в последний день и не сто сорок четыре тысячи… А чтобы влиять на своих, надо духовно возвыситься, не только получить соответственное образование, но и возмужать в вере… Иначе заклюют.
Калюжный умолк, казалось, тоже погрузился в уныние. Однако неожиданно засмеялся:
– А ведь наши жиды, как хохлы упрямые! Попробуй, стронь с места, когда он у власти или на золотом тельце сидит – такой ли визг поднимет, все свои права вспомнит, но не вспомнит о правах другого… Вот об этом я и думаю изо дня в день: как стронуть с места… – Он не договорил и с удивлением переключился: – А ты, Илья Борисович, что это аж в лице изменился? Что так смутило?
– Зачем жидами-то крыть? Достаточно, что нас кроют, – еле выговорил он в гневе.
– О, какой ты современный! – И вновь засмеялся. – А ведь сотни лет нас и называли жидами – и нет в этом ничего оскорбительного, как и для украинца – хохол… Это в силе уж мы губы чванливо надули: как это так – Богом избранных жидами!..
– И всё-таки лучше не надо…
Словно туча нахмурился Илья.
– Если это серьёзно, то не будем. – Калюжный так и пронизывал Илью пристальным взглядом, отметив: «А это характер, в маму наверно. Она у них властная». А кстати, мы ведь и «жида» заслужили…
– За что «жида» заслужили? – Калюжный, как будто вспоминая, сосредоточился. – В общем, за многое. Прежде всего, за ростовщичество, которым сегодня опутан весь мир. Во-вторых, я уж не говорю о революциях и красном терроре. Ведь истребили правящий класс, духовенство; порушили церковь, православных загнали в катакомбы. Всё это уже история… А сегодня: новое разграбление государства, так что и власть, и капитал оказались в руках «наших», но это так, на поверхности плавает, а за кадром – Великий Израиль… Идея, но последняя.
– А ведь это похоже на анекдот: в кране не было воды – виноватые жиды…
– И так случается – по анекдоту…
– А где же истина: и во́лоса не упадёт без воли Бога?
– Ты прав. Православные христиане понимают и не мстят, обвиняя во всём себя, мол, по грехам. Многое не вмещается в нас… А если бы иначе, всех бы нас давно перестреляли. А то ведь заметь: ни одного «жида» за время перестройки и до сего дня не убили. Евреи не вымирают в России, вымирают русские – и не мстят. Жидом обзовут, так и то шепотком… А представь, если бы такой же процент русских христиан да с еврейскими псевдонимами подобное творил в Израиле…
– Этого нельзя представить, потому что такое невозможно.
– И всё-таки. Думаю, в двадцать четыре часа… Впрочем, мы отвлеклись. Мы говорили о превосходстве евреев над окружающими… Так считают – и не без основания. У евреев в силу исторических условий сложилась своя, обособленная психология – они энергичны, хитры, пронырливы, верные национальной идее, рационально одарённые. Они приспосабливаются в любых условиях, успешно осваивают языки и технические науки, впрочем, можно перечислять и перечислять их достоинства. Но ведь и у других народов свои достоинства, однако зачастую эти достоинства иррациональные. Их гасят в эмбрионе.
Вот это и позволяет «нашим» считать себя мировой элитой. Да, сумели экономически опутали мир. Но ведь и сотня вооруженных боевиков-преступников способна закабалить безоружный город.
Евреи элитарны во всех государствах за счёт экономической паутины. Они, грубо говоря, ничего не производят, но всё потребляют. И это лишь потому, что аборигены терпят их – аборигены беззащитнее и добрее. Иудеи тоже, случается, добры, но только к своим, за чужой счёт.
Даже из этого исходя, не следует превозноситься. Не лучше ли подумать и понять, за счёт чего такое превосходство. Да и превосходство ли?
– Евреи, Илюша, по природе своей модернисты, авангардисты, разрушители особенно чужих устоев и традиций. За что бы еврей ни взялся, он, прежде всего, смотрит, а как бы это дело перестроить под себя. Отсюда и революции, расшатывания государств, нравственности… и религии тоже: стоит еврею стать христианином, как уже скоро он предлагает реформу… И никто не знает, кому и когда пропоёт петух, – совсем, наверное, не к месту сказал Павел Осипович.
Встречи их как-то сами собой стали обязательными. Не всякий раз, но возникали споры – бунтовал Илья. Однако шло время, и он смирялся не только с Калюжным, но и с семинарией и семинаристами. И уже иначе оценивал бытовые трудности, воспринимая их, скорее, как испытание на прочность. Наверно под влиянием Калюжного и окружения к концу первого курса Илья заметно приободрился, повеселел, и уже можно было сказать – человек что-то понял. Он пел на клиросе – и это приносило ему утешение; алтарничал – и это вызывало восторг. Церковно-славянский язык он освоил так, что не раз подменял чтецов. В академическом храме.
Да только вскоре после экзаменов за первый курс при встрече Калюжный неожиданно сказал:
– Вот и у меня разрешилось… Летом рукоположат в иереи. Так что встречи наши будут перенесены в места пока неопределённые.
– Да ну! Не думал, что так скоро. – Илья растерянно улыбнулся, понимая, как будет ему не хватать рядом этого человека. Правда, и при такой новости он уже не думал о побеге из семинарии.
– Я, Илья Борисович, и так засиделся – десять лет багажом навьючивался. Надо ближе к приходу, к прихожанам… Воистину засиделся. Лекции для семинаристов – это не священство. Я даже устал – от лекций, от бесконечной дороги…
Невесёлый был разговор, хотя идею Павла Осиповича Илья понимал. Да и говорили об этом не раз: необходимы «свои» священники… Одно было не ясно – куда, на какой приход? Понятно – ближнее Подмосковье, в Москве Калюжный не хотел бы служить. Он уже не раз бывал у митрополита Ювеналия – и его высокопреосвященство обещал позаботиться.
И позаботился. Это было охраняемое государством поместье, понятно, пришедшее в крайний упадок. Небольшая церковь Петра и Павла внутри в сохранности, снаружи – советский образ. И барская усадьба в два этажа требовала капитального ремонта. Здесь при Советах размещался изолятор для душевнобольных. Лесопарковая приусадебная земля с елями и вековыми липами огорожена. Передавали церковь Патриархии с условием: ремонт производить по нормам реставрации, на приусадебной земле новое не строить, деревья не вырубать.
Рядом бывшее село, теперь посёлок со своей церковью, так что большого прихода не будет. Один священник, без диакона. И это то, чего и желал Калюжный для начала.
Когда, менее чем через год, Илья вырвался навестить Павла Осиповича, то был удивлён: уютненькая церковь с шатровой колоколенкой и второй этаж особняка были приведены в отменный порядок, даже лепнина вокруг окон дома и под карнизом была восстановлена по сохранившимся чертежам и рисункам. Ремонт первого этажа отложили на год.
– Как это вы так быстро управились?! – невольно воскликнул Илья, на что отец Павел ответил:
– Сегодня быстро работают – были бы доллары. А я удачно нашёл мецената…
И ещё изумился гость, когда узнал, что и жена с детьми переехали из Москвы сюда на постоянное проживание.
Жилой площади было предостаточно – и даже определена гостевая, где пять-шесть человек могли переночевать. Тяжелые ели, чистый снег – дети гуляли без присмотра. Сына в школу жена увозила и привозила на своей машине; дочка пока не училась, постигала домашние науки.
Илья приехал в субботу после обеда. Не успели его покормить, как отец Павел уже начал собираться на вечернюю службу. Оказалось, установлено особое расписание служб: вечерняя, в субботу, начиналась в шестнадцать часов, утром – в десять. Объяснил такой сдвиг отец Павел так:
– Пораньше начну – раньше кончу. А вечером лишний час дорог. Приезжают из Москвы люди, которым пока не столько служба необходима, сколько слово пастыря. А утром, чтобы легче доехать – небольшая, но дорога. Местных прихожан мало, а с москвичами и достаточно.
Всё ясно, разумно.
На вечерней службе Илья был за алтарника и чтеца. Из местных прихожан несколько женщин. Из Москвы трое мужчин. Но Илья видел, как во время службы подходили и подходили молодые люди и девушки – это в основном «свои». По их поведению легко было понять, что в основном это оглашенные. Лица их были строги и даже напряжены. Держались они кучно. Иногда тихо переговаривались, но о чём, нельзя было понять. И ни один из них не перекрестился.
Отец Павел, в облачении неузнаваемый, служил по-монастырски, неторопливо и чинно, лишь при возгласах несколько повышая голос. И как же он преобразился! Илье порой казалось, что службу ведёт архиерей.
В конце отец Павел напомнил время утренней службы, к этому добавив:
– Братья мои и сестры, за ящиком у нас пока нет человека. Свечи лежат на прилавке, по надобности берите сами, кто сколько может, опускайте в «копилку» рядом, у кого нет денег – не надо, когда будут опустите. На нужды храма – у кого есть возможность – жертвуйте в ту же «копилку».
Благословив крестом одновременно всех, отец Александр ушёл в алтарь. Прихожане расходились, а москвичи подступили ближе к амвону.
Когда, разоблачившись, в дымчатом подряснике с наперсным крестом, отец Павел вышел из алтаря, его тотчас обступили. И он каждого обнимал за плечи, благословлял, и для каждого находил доброе слово. Обласкав всех, он поправил на груди крест и спокойно сказал:
– Я рад, что вижу новые лица. Конечно же вы приехали познакомиться со мной, с храмом и с верой в Евангелие и в Господа нашего Иисуса Христа… Не смущайтесь, задавайте любые вопросы, но и без вопросов я кое-что поясню здесь, в храме, а затем побеседуем за чашкой чая… Как хорошо, что вы приехали, чтобы познать и полюбить Богородицу Деву Марию и Её Сына, нашего Бога Иисуса Христа. Конечно же евреи имеют прямое отношение к Господу и его Матери. Начать с того, что Сын её, наш Господь и Спаситель, пребывал на израильской земле; ученики Его евреи; и вот этот храм, в котором мы, сооружен два века тому, во имя апостолов Петра и Павла. Из фарисеев был Господом восхищен Павел – и уверовал, и познал, и принял мученическую смерть во имя Христа…
Храм – дом Божий. Здесь Бог, Его воля и мудрость. И если вы пришли и не уйдёте отсюда – я пойму вас, но если и уйдёте, то и тогда пойму. Поэтому будьте свободны, верны своему сердцу. Господь просветит…
А теперь я приглашаю вас всех на чашку чая, как теперь говорят, на встречу без галстуков.
В столовой тяжёлый сосновый стол на богатырских ножках настолько велик, что за ним одновременно могли уместиться до двадцати человек. Вокруг стола тяжелые скамейки. Дерево покрыто морилкой и бесцветным лаком. В свободном углу иконы – Пантократора, Иверской Божьей Матери и Петра и Павла; тлела лампада. На стенах достойные копии картин Левитана и Нестерова. На столе в центре большая деревянная солонка с солью. При входной двери слева и справа два старой работы буфета – для продовольствия и посуды. Вот и всё.
Верхнее платье и обувь оставляли в прихожей.
Большинство держались свободно, как если бы у приятеля в гостях, а не в доме священника. И лишь новички стеснённо переступали с ноги на ногу, не решаясь на большее.
Отец Павел тотчас и к делу.
– Помолимся, – сказал и повернулся к иконам так, чтобы не видеть, не смущать гостей. – Илья Борисович, прочти молитву – и Богородичную…
Илья прочёл. А отец Павел, повернувшись к столу, сказал:
– Илья Борисович учится в духовной семинарии, а до этого окончил университет – и считает, что одно другому не помеха… Можете познакомиться ближе.
Знакомились, шутили, искали общих знакомых, а между тем полноватая женщина в годах на желтый поднос звучно поставила кипящий самовар, затем два чайника с заваркой. Из буфетов нарезанный хлеб и зелень, сладости к чаю, чашки и блюдца.
Когда садились к столу, отец Павел сказал:
– Кто впервые, полезно знать, что у нас каждый сам по себе угощается. Обязательных речей нет и не будет. Разговор свободный – вопросы любые, мнения личные… Кто припозднится, кому добираться затруднительно, или решил утром на Литургию, можно остаться ночевать в гостевой… Все без исключения хотят познакомиться с православной верой, а так как многие на религию смотрят через национальную призму, то и связывают православие, в частности, с русскими, с Россией, – и тотчас отслеживают предмет неприятия веры. Какое, мол, православие, когда русские нас не любят, а то и ненавидят… На прошлой неделе мы и решили разобраться, а почему так… А вы садитесь, что же вы на ногах, наливайте чай; закусывайте. – И сам сел к столу со всеми.
– А что об этом говорить? Завидуют – и злятся…
Отец Павел промолчал, видимо ожидая продолжения. Сказала это худенькая девушка в тонком свитере – здесь она была не впервые.
Все почему-то молчали. И тогда отец Павел, легонько макая в чашку с чаем сухарик, тихо сказал:
– Завидуют… Есть, значит, чему. – И кратко разъяснил своё понимание вопроса: – Скажите, кого из евреев притесняли потому, что он еврей?
– Почему же диссиденты? – настойчиво спросила всё та же девушка.
– Вот, кстати, и тема – о диссидентском движении… На знамени диссидентства было написано «Права человека!». Вот и надо понять, о правах какого человека забота?
Все мирно закусывали, и только девушка в свитерке нетерпеливо вздёргивала подбородок к правому плечу…
– Права человека – и всё тут, – заметил молодой мужчина лет двадцати семи. – Диссиденты всегда воспринимались героями.
– Герои раскачивания чужой лодки, – с улыбкой сказал Илья.
– Жизнь – это борьба!..
Засмеялись. И отец Павел засмеялся.
– Жизнь – это любовь, с оговоркой: не в сексуальном варианте.
– Но ведь там Сахаров! – округлив глаза, воскликнула девушка.
– Под щитом водородной бомбы, – ставя чашку на стол, сказал юноша школьного возраста. – Мой дедушка академик. Физик. Он не раз говорил, что Сахаров с коллективом разработчиков водородной бомбы из кандидатов перешагнул в академики…
– Вот этого я не знаю. Но знаю, что и он защищал права не каждого человека… Не защищал же он права православных христиан в СССР.
Гости заметно заволновались, кто-то поспешно пережевывал пищу, чтобы высказаться, кто-то и вовсе перестал жевать. И лица как будто изменились – зарделись, а кто-то и побледнел. И заговорили как будто все разом – загалдели… Это был верный признак, что обсуждение вопроса началось. Теперь надо было вылавливать принципиальные разногласия и своевременно проводить коррекцию. В частности, спокойно убедить, что диссидентство сугубо еврейское движение, поощряемое каким-то крылом власти. Не прямо под руководством Кремля, но на поводке. И ехали евреи на обетованную землю, по надобности возвращались, а если кого-то притесняли – устраивали мировой протест… Диссиденты признавали работу на них, но не работали на чужих.
– Я протестую! Диссиденты – наши герои: Кузнецов, Амальрик, Сахаров, Боннэр, Буковский, Тельников!..
– Согласен, согласен! Герои определённой части российского еврейства. Но ведь тем самым они раскачивали устои государства. Я не характеризую коммунистический режим, но в общем государство не еврейское, так почему же мы в праве раскачивать и разрушать его?
– Я протестую! Есть общечеловеческие ценности!..
– Если общечеловеческие, то защищайте права и коренного населения…
И вот такое разбирательство могло продолжаться и полчаса, и час. Когда же уставали, когда надоедала говорильня, отец Павел легко перехватывал инициативу и убедительно доказывал, что все недоразумения, вроде прав человека, происходят из-за того, что нет веры, нет любви, и что, защищая права абстрактного человека, игнорируются и даже разрушаются права нации, народа.
Напрашивался логический вывод: не Богу служим, но выборочно человеку.
Логика отца Павла была проста: он разрушал барьер национального недоверия, чтобы с любой стороны увидеть и признать неправду. И барьер рушился. Еврею без обид и гнева – и без Бога – уже ничто не мешало принять православие.
И ехали не только «свои», потому что по Москве уже гулял слушок, что умный профессор – батюшка в церкви Петра и Павла, в двадцати минутах от окружной на электричке. А каков поп, таков и приход…
За два года отцу Павлу Калюжному удалось не только первый этаж усадьбы и храм обновить, организовать подсадку молодых деревьев, за эти годы он воистину собрал свой приход, добрую половину которого составляли теперь уже крещёные евреи. Проповеди настоятеля записывали – и они ходили по рукам. Казалось бы, всё выстраивалось по задуманному, но уже к тому времени обозначились и проколы.
Чем больше в приходе приживалось крещёных евреев, тем очевиднее определялась их тяга к реформаторству. Нет, желания что-то разрушить у них не было, но они страстно хотели обновить каноны церковной жизни.
Всё чаще за чашкой чая заходил разговор о целесообразности поста в целом. Высказывалось мнение, что это монашеский пост, что в миру, в столичных экологических условиях при строгом посте, человек не в состоянии восполнять затрачиваемую энергию, а это грозит болезнями… Когда же отец Павел напоминал, что прежде всего следует позаботиться о душе, ему шумно возражали: всё зависит от условий, от возможностей, а пост – это не голод… И случалось, что в душе своей наставник соглашался со своими духовными чадами.
Не раз поднимали вопрос о переводе церковной службы на понятный язык. Предлагали десятки переводов молитв и служб.
Однажды обговорили даже такую задачу: создать неформальное общество ветхозаветных иудеев и православных христиан, чтобы полемизировать в поисках Истины. Когда же отец Павел сказал:
– У нас есть Истина – Иисус Христос, Господь и Спаситель. Поэтому нам истину искать не надо.
Тотчас последовало возражение:
– Вот и доказать это!..
– Аксиомы не требуют доказательств, – говорил отец Павел, но с ним не соглашались…
А то вдруг заспорили об Иуде Искариоте. Если, мол, один из Апостолов выполнил волю Божию, а без воли тут никак не обойтись, следовательно, он или только исполнитель, или жертва. На него всего лишь выпал жребий. А выполнив «указание», он покончил с собой. Так за что же его клясть? Не он, так другой предал бы… Тут уж приходилось не раз перелистывать Евангелие, вспоминать колено Даново – и толковать, толковать. Но сердцем настоятель чувствовал, что во многом с ним не соглашаются.
Тогда-то и появилось желание ответить на массу реформаторских вопросов письменно, чтобы затем издать в форме справочника.
Но в повседневности складывались такие условия, что наставник нередко уступал своим духовным детям – то позволял нарушить пост, то причащал неподготовленных к таинству, то благословлял читать в храме молитвы на русском языке. И такая верёвочка вилась и прививалась…
А однажды позвонил неизвестный человек. Сначала он начал восхищаться пастырской одарённостью отца Павла, затем вдруг укорил за Илюшу Крона и посетовал на нечестную игру – нельзя, мол, обманным путём уводить молодёжь в Христианство… Говорил он расплывчато, даже аморфно, и всё покашливал, всякий раз произнося: «Ай-яй-яй, как неразумно»… Наконец отец Павел, поняв, что разговор пустой и, кроме раздражения, ничего в душу не привносит, прервал говорящего:
– Простите, но это беспредметный разговор. Если вы желаете встретиться для беседы, оставьте номер вашего телефона, созвонимся и встретимся.
Оппонент молча прервал связь.
Были и ещё звонки молчания, случалось, хамские, но отец Павел не придавал им никакого значения. Тем более что в семье родился третий ребёнок – сын.
На последнем курсе Илье срочно предстояло решить вопрос о своём будущем. Родители хотели, чтобы сын окончил и академию, а в будущем занял бы кафедру в духовной школе или вузе. Сам он не мог определиться. В конце концов, уже после Пасхи, отправился за советом к своему наставнику, понятно, с ночёвкой.
За последние год-полтора отец Павел заметно отяжелел. То ли возраст сказывался, то ли отягощали пасторские и семейные заботы: обозначились мешки под глазами, седина, а внешняя строгость точно сковывала его. В те дни, когда навещал Илья, отец Павел расслаблялся, и даже улыбка, казалось, не сходила с его лица. А когда, уединялись за чашкой чая, он нередко жаловался и на паству, и на усталость, да и на благочинного.
Так было и на этот раз.
Они уединились в небольшой уютной комнате на первом этаже, рядом с кухней. Здесь был стол, несколько стульев, удобный диван – на диване, отдыхая, и беседовали. Давно не виделись.
– Илья Борисович, как хорошо, что ты приехал! – И отец Павел приобнял Илью за плечо. – Хоть отдохну.
– А что, очень уж тяжело?
– Да нет, всё по силе. Теперь у меня и диакон с опытом. И дома не загружен – так, свои дела. А вот тяжело. – Он помолчал, как будто что-то вспоминая с мыслью, а раскрывать ли тяготы и сомнения. Но тотчас же улыбнулся. – Знаешь, Илюша, с одной стороны я удовлетворён и даже рад, что ко мне идут и едут в основном молодые люди – у меня ведь каждую неделю крещение. Ради этого я и сан принял… Но насколько они упрямы со своей страстью авангардизма. Я и сам порой подпадаю под их влияние. Но это работа, это дело, воплощение идеи – этому надо бы радоваться… Вдвоём здесь надо, да организовать Богословские курсы для просветительства. Ах, как хорошо бы… Тяготит, Илья Борисович, и другое… Года полтора тому привезли мне из православной еврейской семьи юношу с шизофренией: помоги… И ведь так получилось, что уже после двухнедельных совместных молитв, всё это время они и жили у меня, после соборования в храме, исповеди и причастия ему стало легче – он как будто очнулся. Понял, в чём дело… После этих двух недель он уже самостоятельно бывал на Литургии и еженедельно приобщался. И так всю зиму. И Господь милостив – выправился юноша. А уже летом поступил учиться в вуз… Всё хорошо, но уже с середины зимы повезли больных – не крещёные, без веры, с одним желанием вылечить. Как будто у меня психиатрическая лечебница. Привезут и поставят на исповедь. Иной раз понимаешь, нельзя допускать к причастию, а причащаешь – поддержать, помочь. И таких крестил не раз… Вот тогда только я и понял, сколько же среди «наших» душевнобольных… И вот это – тяжело. Не святой же я, не батюшка Кронштадтский, чтобы собственной молитвой исцелять. Я ведь и уповаю только на Кровь и Тело Господа. Вот и нарушаю вольно и невольно каноны… И книгу издал не без погрешностей. Не раз уже беседовал со мной благочинный. Бывал я и у митрополита… Сходит с рук, потому что миссионерство поощряют. Тяжело – всё вместе. Да и приход разросся, второй священник необходим. А где его возьмёшь при такой нужде? Да и не любого хотелось бы…
– А какова же причина? – не совсем ясный задал вопрос Илья.
– Чему причина?
– Душевнобольных много…
– Духовное недомогание. Душа недомогает – что-то не так для неё… Трудно объяснить. Может быть, перст Божий направляет ко Христу. Все в достатке, а душа болит. Не так ведь всё просто, как мы нередко полагаем.
– Действительно, загадка…
– Смирения, любви не хватает… Гордыня… Я своим говорю: вас кто-нибудь притесняет, ущемляет общие права, стреляют в вас из-за угла? – Нет. – Так вы хоть в душе люби́те за терпение и миролюбие… Куда там! Мы и в православии избранные. Мы весь мир культурой обогащаем, мы государствами управляем, экономику создаём… А как же иначе, говорю, если правящий класс истребили, новому подняться нет условий… В ответ: мы никого не истребляли, это нас истребляли – холокост!.. Так вот.
– Загадка, – задумчиво повторил Илья.
– Какая загадка – всё ясно.
– Загадка, говорю: мы вырождаемся, они – вымирают.
– Слишком не пропорционально… А в общем, действительно, загадка… О чём же это говорит? О том, что наше проповедничество – дело святое. Даже не фигурально говоря, мы спасаем людей. Может быть, не прямо, но косвенно… Не понимают. Что же, мол, опускаться и нам? Не опускайтесь, но постарайтесь поднять до себя и самим до них подняться. В чем – подняться?.. Да хотя бы в том, что они не считают вас ниже себя… Не понимают, не хотят…
Прислуга принесла чай и закуску, спросила, не надо ли что-то ещё – и тихо удалилась. На кухне она, наверное, готовила обед.
– Вот смотрю на неё и удивляюсь, насколько она добрая: ни мести в ней, ни лести. Делает своё и не своё дело – и ни копейки дополнительно не потребует. Чистая душой, чистая на руку – и глубоко верующая, хотя в богословии, понятно, не сильна. Ребёнок. Так вот и жить надо, какую бы ты службу ни исполнял… А когда не понимают – тяжело.
– А я вот тоже не понимаю. Себя не понимаю…
– Что так? У тебя, Илюша, пока, по-моему, всё ясно.
– Да нет… – Илья прикрыл глаза и покачал головой. – Не знаю, Павел Осипович, куда лыжи вострить. По вашему пути, но по какому? Можно бы сказать: по своему пути. Но тоже – по какому? Родители за академию. Но они не догадываются, что в академию нужен «пропуск». Знаний для академии мало… И другое: посвящаться или нет – вообще? Выбор на всю жизнь…
После этого они оба долго молчали, наверно думали – каждый о своём. Первым заговорил отец Павел, причём прямо, без предисловий:
– Посвящаться надо с идеей, чтобы всю земную жизнь служить этой идее. Если такой идеи нет, то и посвящаться не обязательно. Имеется просвещение словом: в семинарии или в вузе – без разницы, как теперь говорят. Тоже служение Богу… Только ведь «наши» заблудшие! Вот и думай…
– У меня нет внутренней силы, чтобы одолевать других. И монашество не для меня. И не одолеть мне свои сомнения…
– Это, Илья Борисович, потому так, что делу не посвятил себя. Когда направленно служишь Господу и ближним, сомнений быть не должно.
– Наверно… – Илья вздохнул и горько усмехнулся: – Счастливый вы человек, Павел Осипович.
– А мне кажется, ты счастливый: ты сильный – ты одолел себя. Мне не пришлось себя одолевать, у меня всё получилось слишком естественно, само собой. Даже упрямства не проявилось.
– Это и хорошо!
Оба засмеялись, негромко, с унынием.
Постучав в дверь, домработница пригласила к обеду.
Стол уже был накрыт: расставлены приборы, из закрытой супницы просачивался вкусный запах мясного, и это лишний раз напоминало, что Великий пост завершился, так что можно побаловаться аппетитом. За столом хозяйничала моложавая и весьма милая жена отца Павла, София Михайловна. Старшие дети чинно сидели на высоких стульях, для остальных – скамейки. Когда в столовую вошли отец с гостем, дети скользнули со стульев и обратились к иконам.
Павел Осипович прочёл молитвы, обласкал и поцеловал детей, улыбнулся жене. Сели по своим местам, и тотчас завязался бытовой разговор, необязательный и даже весёлый.
После обеда и отдыха вновь сошлись в диванной. И не удивительно, что продолжение разговора было более деловым и конкретным. Калюжный прямо объявил, что уже теперь следует заявлять епископу о намерении рукоположения. Семинарию следует окончить в сане, чтобы затем, окончив первый курс академии, перевестись на экстернат.
Илья возражал, сомневался, но в конце концов сдался, в общем, не видя более разумного пути. Ведь с этим придёт и личная идея, полагая, что на кафедре вновь может охватить разочарование. А у Павла Осиповича уже выношенная программа действия – беспроигрышное дело: духовная школа, небольшой храм и приход, сочетание службы и лекций. И это, наверное, то, что надо: добрая почва для проращивания идеи, к тому же без физической перегрузки.
– А пройдёт ли такая идея? Не прихлопнут – как муху? – Илья холодно смотрел на отца Павла.
– Это не в наших руках… Рано или поздно мы придём к этому – к примирению и к признанию…
– К признанию, что потребовали распять Мессию?
– И к этому… Но у нас же приходское просветительство. Жатвы много – жнецов нет. Угодно Господу – и дело будет… А риск в нашем деле один: «свои» взбунтуются… Впрочем, и это сомнительно – масштабы не те.
– А что, действительно, могут… Меня беспокоит, не оказаться бы приблудными овцами, белыми воронами.
– Нет – этого не будет… На первом этаже организуем аудиторию на пятнадцать – двадцать мест. И очень удобно – при доме и при храме…
Илья улыбнулся, как будто с облегчением, даже не догадываясь, под каким неотвратимым влиянием он находится:
– Что ж, дело идейное – надо подумать.
Улыбнулся и отец Павел.
– А по мне, так и думать бы нечего…
Однако подумать было о чём.
Во-первых, родители. Судя по сыну, они не сомневались, что их Илюша со временем будет читать лекции в одном из вузов. Ни монахом, ни священником он никогда не станет.
Дочь вышла замуж и отделилась. Сын слишком даже редко бывал дома. И родители скучали по детям в опустевшей квартире. Илья понимал, как им тяжело и как хотелось бы, чтобы он возвратился домой и обзавёлся семьёй с детьми. Трудно было представить их потрясение, когда вдруг откроется его намерение.
Во-вторых, он и сам не мог представить себя в сане священника, с наперсным крестом, в рясе, взывающего к покаянию и вере. За годы, проведённые в семинарии, душа его всё-таки очнулась, он уверовал и в Евангелие, и в Спасителя. В уединении мог молиться долго и с умилением. Иногда радостью захлёстывало душу, но, случалось, душа его леденела – и тогда о священстве Илья и думать не хотел.
Наконец, в-третьих, ведь если уже в текущем году рукополагаться, то необходимо до этого жениться. Были у него подружки – и неплохие, но, оказавшись в семинарии, он растерял их. А вот теперь, не откладывая, предстояло позаботиться о жене. И в этом деле от родителей не утаишься.
При первой же возможности Илья отправился к родителям в Москву.
К удивлению, оказалось, дома его ждали. Ужин с чаем накрыли в гостиной. Так что, переодевшись с дороги и умывшись, Илья тотчас оказался за аппетитным столом.
Иронично улыбаясь, как только умела она, Рута Яковлевна сказала:
– А ты как, послушник, ночевать останешься или картошку чистить?
– Пожалуй, да. Останусь.
– Ну, если «Пожалуй, да», то отпарься сегодня в ванной, от тебя как от рабочей лошадки потом навевает.
– Да, конечно… К сожалению, там ванной нет.
– Хотя можно бы и благоустроиться – не Средневековье, – показалось, строго заметил отец.
– Аскетизм. Не пансионат для благородных девиц.
– Да уж… Читай, послушник. – Мать усмехнулась.
Сын прочёл молитву, после чего сели к столу.
И уже в самом начале разговора Илья понял, что родителям известны все его планы и намерения.
– Я не спрашиваю, каким это образом вы всё обо мне узнали. И зачем я здесь – знаете. Поэтому наверно лучше и правильнее говорить прямо – в обморок никто не упадёт.
– А ты уже созрел, мальчик! – Мать добродушно улыбнулась. – И проникновенный – молодец!.. Выкладывай, как оно есть – прямо. В монахи, надеюсь, не нацелился, как говорит Татка?
Илья пожевал восточные сладости, отведал запашистый чаёк, и на душе как-то вдруг стало спокойно. А это значило, что готов он к любому разговору.
– Нет, мама, в монахи не влечёт.
– И то, слава богу, – проворчал отец.
– Но всё-таки я приехал, чтобы посоветоваться с вами.
– Не надо, Илюша. – Рута Яковлевна и ладошкой закивала. – Какой совет, когда ты уже решил рукополагаться!.. Но ведь это кабала, если ты даже окончишь академию. Священник не может не служить. Даже если ты читаешь лекции, служба всё равно за тобой. Ты это хоть понимаешь?
– Понимаю…
– И тебе в таком случае уже в этом году приказано жениться? – Отец и руки на стороны развёл и губы сложил в каприз.
– Да, папа… В общем, это и хорошо. Иначе распущенности не избежать – как у католиков…
– Ну, это их забота – кто на что способен. А вот ты кого сватать надумал? – Рута Яковлевна по-прежнему иронизировала.
– Да никого – никаких невест! – Теперь уже сын развел на стороны руки и рассеянно засмеялся.
– Это уже хорошо. – Отец шумно пробавлялся горячим чаем, что для него было не свойственно. – А то, думаю, привезёт поповскую Нюшку: прошу улыбаться – моя жена.
– А что, так и поступают семинаристы в спешке… И невесты на смотрины приезжают.
– Прости, Господи… всё-таки чужое стадо.
– А как же – ни эллина, ни иудея?
– Э, сын, это для неба, а для земли у каждого племени свои достоинства и нравы… Так что, наверно, сваху нанимать?
– Не надо. Да и не решено пока, – притормозил Илья.
И только после этого начал излагать свои планы, уже обговоренные с Павлом Осиповичем и большей частью известные родителям, видимо, от него же.
– Послужить своим, помочь своим – это ведь большое дело, даже, может быть, дело всей жизни. Так я на это и смотрю, – заключил Илья.
– И ты убеждён, что твоя помощь так уж необходима «своим»?
– Кому-то и необходима, – тихо ответил сын. – У самого была бы душа живая, а омертвевшие найдутся. Одного из пропасти вытащить – уже дело… Я много об этом думал. Но не нахожу во внешнем мире иного приложения своим духовным силам. Нет для меня дела, которое обернулось бы идеей. И как подумаю об этом – уныние гнетет… – И усмехнулся болезненно. – Вот и с невестой: как быть – не удумаю!
– Такой сокол! Только руку подними – на каждом пальце повиснут. Выбирай любую, но поверь – лучше из своих. Своя не помешает дело делать и жить…
Весь долгий вечер пили чай, перекусывали и говорили весьма доброжелательно, с пониманием друг друга. И только Борис Аврамович отмалчивался и хмурился.
Оставшись один в своей комнате, ближе к полуночи, в душе своей Илья как будто притих – переживал возвращение в детство и юность. Ведь в этой комнате прошла вся его жизнь, стало быть, вся жизнь в образах и предметах здесь – всё твоё, всё ты… И он тихо ходил по комнате, прикасался ко всякой вещи рукой, но ощущение было такое, что всё здесь уже не твоё, постороннее, от чего ты давно ушёл… Затем Илюша перебирал книги, и книги воспринимались далёкими, посторонними, если не чужими в чужом кабинете. И что не менее странно, из головы не уходила без претензий диванная на первом этаже у отца Павла… И только далеко за полночь Илья понял, что он прощается со своей комнатой…
Проснулся он поздно, когда и отец и мать уже ушли на службу. Полагая, что в квартире один, Илья быстро умылся, быстро помолился, решив, спешно позавтракать – и в дорогу, чтобы успеть в Лавру хотя бы к обеду. Он уже прошёл на кухню, когда до слуха дошли посторонние звуки – он без труда понял, что не один в квартире. Стукнула глухо дверь, и в гостиной с кем-то заговорила сестра.
– Тата! – окликнул Илья.
– Салют, Люша! Я как знала – зашла! – отозвалась сестра. – Ты в форме там? А то я не одна!
– В форме – без галстука, четыре года не ношу! – Илья вяло осмеивался, заглядывая в кастрюли и сковороды. Он склонился к холодильнику, когда на кухню вошла Татьяна с подругой.
– Ты что, прячешься?! – Татьяна засмеялась. – Вот какой у меня братец, кормой встречает – знакомьтесь!
Илья вскинул с разворотом голову – и обомлел, в тот же момент подумав: «А вот и жена!» – распрямился, сумел взять себя в руки, и только розовые пятна на лице выдали его волнение. Рядом с сестрой стояла незнакомка, чистых кровей «своя» – красавица и, судя по глазам, волевая, примерно одного возраста с ним. В юности подобных красоток он непременно величал Делилами. Вспомнив об этом, он и теперь решил пошутить:
– Здравствуйте, Делила…
– Нет, не Делила, я Серафима, но лучше Сима, – ответила она на современном еврейском языке.
– А произношение неважное, режет слух, – ответил по-еврейски же Илья. Заметил, как губы Симы капризно передёрнулись, и уже по-русски добавил: – На практике это нетрудно исправить. Был бы словарный запас…
– А ты, брат, уже к лекциям готовишься? – Татьяна и палец вверх подняла, что на домашних жестах значило: профессор. – Ты спешишь? А то ведь мы тоже не завтракали.
– Вот и организуй что-нибудь не казённое… А мы произношением займёмся, – уже по-свойски распорядился Илья, развернул стул, предложил Симе сесть, сам же сел напротив неё – лицом к лицу. Но даже и тогда он не мог спокойно заговорить, любуясь Симой. Она чувствовала это, лукаво усмехалась и тоже молчала. И трудно было понять, какое впечатление на неё произвёл Илья, а произвёл – не менее блудливое, чем она на него.
Мать оказалась права – на одном пальце уже повисла…
А тем временем Татьяна расторопно готовила завтрак – для знакомства с вином.
И не успели выпить за знакомство и закусить, сестра всполохнулась и как птица крыльями замахала руками:
– На работу, опоздала, совещание, бегу! – И она действительно точно вылетела из квартиры.
И только после этого Илья с Симой разговорились. Как и большинство евреев, они были восторженно многословны.
«Вопросы и ответы» всё-таки состоялись – неполно, даже формально, но состоялись. Когда кончились основные лекции, в аудиторию нежданно вошел Троицкий. На ходу он объявил:
– Господа братья, на «вопросы и ответы» у меня не более часа. Вы все готовы – и я готов. На храброго или по алфавиту? – Он раскрыл одну из рабочих тетрадей, склонился, что-то проставляя или записывая. Такое начало никого не смутило, никто не оробел, но сгустилась напряжённая тишина, наверно все вдруг задумались: «А что говорить? Фантастика!» Когда же доктор воздел от стола взгляд, некоторые из однокурсников уже выражали желание высказаться.
Первый из выступивших, как и следовало ожидать, ничего не предложил, не объяснил, хотя мнение своё высказал прямо и однозначно:
– Ни при каких условиях и обстоятельствах я не закричал бы «распни!», потому что вне зависимости от веры и эмоций я не признаю с детства и не призна́ю до конца дней насильственной смерти. Даже в историческом времени я сказал бы: нет!
Вот и всё, так что Троицкий счёл необходимым внести коррективу:
– Крон, ты запрягал, тебе и вожжи в руки. Садись рядом и управляй. Я лишь выскажу мнение, а пока предлагаю уточнение: оппонент говорит да или нет, возможно, что-то третье, а затем поясняет, почему принято такое решение, иначе мы будем растекаться мыслями по древу. Если согласны – продолжайте.
Задвигались, погогатывая, как гуси, но говорили спокойно и даже самоуверенно – и отрадно было заметить, что не лгали ради того, чтобы выставить себя…
– В данном случае всё-таки нелепо сравнивать площадное «оранье» с предательством Иуды. На Иуду уже сходил Дух Божий, а орущим на площади мог оказаться несведущий иудей, у которого был Бог, был Моисей и пророки – и он им верил и предавать не намеревался. Если представить себя на месте такого иудея, то мог бы и закричать: «Распни!» – так говорил приятель Ильи, который готовил себя к монашеству. – Но две тысячи лет Христианства из человечества не вытравить даже террором и атеизмом, и если учитывать это, то, понятно, доведись сегодня – не закричал бы…
– Правильно сказал, – весомо подтвердил Гриша с Волги, так его отличали от Гриши с Урала. Это был глубоко провинциальный малый, без домашнего фундамента знаний, но исключительно хваткий и способный и в науках и в любом деле. Только бывало и слышно: а где Гриша с Волги, что-то мобильник барахлит (ноутбук или фотоаппарат). И Гриша спешил на помощь, до смешного огорчаясь, если не мог помочь. – Но разве можно сдвинуть Христианство – две тысячи лет! Тогда и законы, и нравы, и заповеди воспринимались иначе – всё иначе.
– Ты, Гриша, сначала скажи, за что проголосовал бы, а потом и объяснишь – почему?
Гриша склонил голову:
– Пустое это дело, грех один…
– Просто болтать об этом, пожалуй, грех, – согласился Илья. – Но какова задача? Сгруппировать условия и причины, давящие на человека, диктующие ему даже ложь выставлять за правду. Где-то подсуетился лукавый, где-то сами подсуетились. А в итоге оценить по достоинству человека – и себя. Нам это важно понимать, ведь многие станут пастырями. И не такие вопросы возникнут…
– Сам ты и скажи, что прокричал бы? – это уже первый студент курса Данилов, умеющий и спросить, и ответить.
Илья нахмурился. Очень уж ему не нравилось, когда без повода и причины начинали подминать или неволить, хотя в данном случае сам и завёл разговор… С этого он и начал:
– Не надо диктовать, все мы вольны – отвечать, не отвечать. Не обязательная установка, но лишь возможность хоть как-то прояснить историческое прошлое и личное настоящее. Конечно же в условном варианте. Это не суд, не допрос, а всего лишь попытка познать себя… Но если имеется такая поспешность узнать, а что же выкрикнул бы Крон – могу искренне сказать: в сегодняшних условиях определиться проще, имея Евангельский опыт: нет – и весь ответ. А вот в историческом прошлом я, будучи непосвящённым иудеем, пожалуй, ни да ни нет не прокричал – промолчал бы. Почему? Попытаюсь кратко объяснить…
Но неожиданно аудитория зашумела:
– Улизнул от ответа!
– Ушёл!..
– Чтобы так говорить, необходимо хотя бы выслушать, – попытался удержать Илья.
Троицкий качнул головой в знак согласия.
– Что касается сегодняшнего дня, то сегодня проще – уже говорили об этом – опыт и учит, и воспитывает. Время убедило: во зле спасения нет. И живые заповеди Господа Бога напоминают не только христианам, но и языческому миру: не убий. Я верую, поэтому не преступил бы эту черту… Сложнее принять решение в историческом прошлом, хотя и тогда заповедь «не убий» существовала – и о ней все знали. Но как тогда иудеи, так и сегодня все народы утопают в грехе. О требовании распять я думал не раз и пришёл к убеждению – промолчал бы, не выговорил бы ни слова. И это можно воспринять как предательство… Но ведь у моих прародителей, следовательно, и у меня был единый Бог Отец. В грехах, но мы верили нашему Богу. Историю иудеев вы знаете: там бывало всё – атеизм, сектантство, ведь те же фарисеи в своё время считались сектой, а саддукеи! Тысячелетиями ждали Мессию. И вот появляется новое учение, воспринимаемое консерваторами сектантским. Кто-то проникся, уверовал, но кто-то и слушать не хотел – тем более, первосвященники и книжники из синагог. Вот и получается: время подобное революции 1917 года. Закваска против православного царя и церкви была вброшена – кто-то защищал Царя и церковь, а кто-то кричал: «Долой царя и попов!» Суди кого хочешь, а царя свергли, церковь порушили, и отречение императора вызвался получить так называемый монархист Шульгин. Вот я и говорю: все мы по-своему жиды… Ведь и на площади перед лицом язычника Пилата требовали распять «Царя Иудейского» и вовсе небольшое число иудеев. А кто-то и не знал об этом, а кто-то ушёл от греха подальше. А кто-то был уверен, что сектантов следует распинать на крестах… Так и подумал: в учениках у Иисуса Христа я не был, чудес своими глазами не видел, слышал о чудесах, но и только. Однако понимал: нет дыма без огня – не просто фокусы, а чудеса… Вот я и представил, что оказался на площади перед дворцом Пилата. Сказать: нет, – значит, предать своего Бога, Моисея и пророков; крикнуть: «Распни!» – а воскрешение Лазаря, а вдруг – Сын Божий, хотя и выношенный во чреве иудейкой… Долго решал: что же делать? Вот и решил: промолчу – мой Бог и решит, как поступить с этим человеком. Если посланник Божий – одно; если самозванец – другое. Но я – простой смертный – судить Его не могу…
– Логично, подумаем об этом! – провозгласили в несколько голосов. – Но только после обеда.
И дружно поднялись на обед.
– Словчили, улизнули! – воскликнул Илья и засмеялся.
Троицкий промолчал. Когда же семинаристы поднялись на обед, доктор сказал:
– Задержись… на минутку.
Доктор богословия Троицкий, Пётр Фёдорович, вышел из священнического рода. Лет он уже прожил более семидесяти, и в стенах духовной академии пользовался добрым авторитетом. С отцом Павлом Калюжным они до сих пор поддерживали взаимоотношения. В былые годы Троицкий даже опекал семинариста Калюжного.
– А знаешь ли, Илюша, что все твои доводы и толки можно рассыпать без труда, одной фразой…
– Неужели?! – искренне удивился Илья.
– Ты не берёшь в расчёт психологию нации или народа… Поэтому сокурсники тебя или не понимали, или понимали с неохотой. Хотя говорил ты всё верно.
– А как же духовный человек?
– Верно. Единая вера, как единая плоть. А для этого необходимо выйти из сферы греха и объединиться духовно. Не поглощать друг друга, но быть едиными. – Троицкий вздохнул, снял очки и с улыбкой щурился. – Вопрос сложный… Мы и с Павлом Осиповичем об этом не раз беседовали. – И неожиданно спросил: – А ты как, решил по окончании семинарии? Да уже и теперь – как?
И Крон растерялся.
– Да я, знаете ли, Пётр Фёдорович, пока в неопределённости. – Он пытался улыбаться, а на щеках выступали розовые пятна.
– Странно, – Троицкий склонил голову, глядя на Илью поверх очков, – а я полагал, что ты уже прошение подал.
– Да нет, прежде ведь женой положено обзавестись.
– Это верно. А в академию?
– Прошение подал, только как сложится – не от меня зависит.
– Я когда-то вот так же с Калюжным… Правда, тогда я ему рекомендовал послужить на кафедре – так он и поступил… А ты уже окончательно решил в священство?
– Да нет, да вот решу с недели на неделю…
– Ну-ну. Когда решишь, ты уж, будь добр, мне сообщи.
– А что? – настороженно спросил Илья.
– Нет, ничего. – Троицкий застегнул портфель и улыбнулся. – А теперь обедать.
Казалось, всё решено. Лишь объясниться с Симой и подать заявление-заявку на регистрацию. Да вот беда, для встреч времени не хватало. Дважды встречались, даже побывали в филармонии на Ашкинази. И Сима была очаровательна! Лишь однажды заметил суровость в её лице, но поспешил отписать это на счёт внешнего воздействия. Она уже познакомилась со старшими Кронами – родители были в восторге, и даже поторапливали сына, чтобы не упустить такую умницу и красавицу.
В очередной раз Илья едва вырвался из Лавры, да и то с предупреждением – к закрытию ворот возвратиться. Из электрички созвонился с Симой: бесцеремонно и объявил, что едет для того, чтобы подать заявления на регистрацию. Сима грубовато засмеялась:
– Лихой ты гопчик – и догадливый!
– Что за гопчик? И в чём догадливый? – Илья и брови сдвинул.
– Гопчиком Солженицын хорошего человека называл в «Одном дне». А что догадливый, так ведь и мне пора замуж – засиделась, как говорят.
– Вот и хорошо, – холодно прозвучал и его ответ. – У меня сейчас телефон разрядится. Захвати необходимые документы, встретимся на Ордынке. Радуйся, – закончил он на иврит и прервал связь.
Похоже было, что Сима играла – или вообще, или по телефону. Настроение испортилось, Илья неожиданно подумал: «А ведь она даже не поинтересовалась за всё время, чем я буду заниматься после семинарии?» – Но уже тотчас и решил: «Да она всё знает от Татки и родителей… Красивая… Откуда и взялась? Татка притащила… А согласится ли она жить за городом, на «хуторе»? Никуда не денется… Папочка ей подарит машину – пусть и катает к своим фирмачам… Павел Осипович разворачивается: и в Москве, и в Лавре говорят о нём: аудитория оборудована – просветительство начато. Только читай лекции – ни ходить, ни ездить! – сами придут. А вот какой из меня священник получится? Не знаю… Пётр Фёдорович не случайно заметил: Калюжному рекомендовал для начала лекции читать – вот он десять лет и читал, и только после этого в иереи… И у меня будет малая кафедра, а отец Павел служить наставит. Вот и ладно… Неужели это моя планида… моя идея? Если так, то не случайно отворотило от аспирантуры. А может быть как Павлу Осиповичу – лет десять лекции читать? Нет, это не моё… Если бы в университете – куда ни шло. – Илья и не сознавал, как его увлекает камерность, замкнутость среди «своих», чтобы идея была замкнутой. – А в общем, дело сделано: два образования – и в душе без вакуума… Подадим заявления – и пусть переселяется к нам».
И всё-таки электричка летела, как на крыльях, потому что и сам Илья летел на встречу со своей судьбой. Даже воспоминания о ней не позволяли оставаться бесстрастным: грезилась жена.
«Нет, только не монашество – никогда!» – в искреннем восторге восклицал он.
Когда Илья вошёл в свою комнату, Сима лежала на диване с книгой в руке, вторую руку она заложила под голову. Он уже вознамерился к ней, но она поспешно села, причем перед диваном стояла уличная обувь, и возбужденно проговорила:
– Стой, стой, надо спешить – я отлучилась со службы на полтора часа! – И теперь уже сама ринулась к Илье в дверях. Он поймал её в объятия, она как птица затрепетала и тихо обронила: – Не надо меня, Люша, – а сама уже, запрокинув голову, подвернула губы. – Ах, не надо… Времени в обрез…
И они тотчас, без чашки чая, вышли на Ордынку.
Подали заявления, съездили к её родителям, и жених столь же поспешно поднялся в Лавру. А Сима с удовольствием осталась жить в его комнате – у себя братец младший надоедал.
В тот же день Илья выяснил, какие к прошению необходимы дополнительные документы для хиротонии. Узнал – и даже засмеялся: раньше как через месяц не обвенчаешься, а до этого никаких подвижек.
К тому же накатилась последняя семинарская сессия. И так всё гладко шло, что на душе праздник. Так хорошо, что и ход времени заблудился. Как вдруг в один день позвонила Сима:
– Наконец-то! Люша, милый, ты совсем забыл обо мне! – вскрикивала она. – Уже прошёл срок регистрации, а ты не едешь – что случилось?! Мы все так переживаем – и твой телефон вечно отключен! – Она восклицала и восклицала, не позволяя слова в ответ, в конце концов заплакала – и это было так не похоже на неё, что Илья не нашёл ничего другого сказать:
– А ты что плачешь?
Она не ответила, прервала связь и на звонки не отвечала…
На следующий день к обеду Илья приехал домой. Симы не было – на работе. Расслабленная Рута Яковлевна лежала в гостиной на диване с влажным полотенцем на голове.
– Мама, что случилось? – припадая на колено перед диваном, в недоумении и тревоге спросил сын.
– Ничего – давление… Она ушла в слезах на работу… Почему ты так очерствел? Ведь она тебя любит…
«Что-то не то», – невольно подумал Илья и поднялся с колена.
– И что же я в таком случае должен делать? – спокойно спросил он.
– Мой Боже, что делать! И он спрашивает: что делать?! Ты там совсем омужичился! Звони Симочке, встречайтесь – и регистрируйтесь. Нельзя же играть с девушкой! Она вовсе не из тех, с кем играть допустимо…
– Хорошо, я позвоню, я пойду. Но я не позволю, чтобы и мной играли.
– Мой Боже, Илюша, ты мужчина! Она же слабая девушка. Да и нет красавиц без капризов…
Остаток дня сложился суетно, хотя дело двигалось. Когда, наконец, получили свидетельство о браке, то, оказалось, что-то надо купить, кому-то позвонить, кого-то пригласить на чай. А потом весь вечер галдёж-чаепитие, так что могло показаться, очнулись за полночь в постели.
А рано утром, когда жена всё ещё не пришла в чувства, Илья уехал в Лавру: за два-три дня завершить оставшиеся недоработки – взять своё, возвратить чужое, уложить чемодан и портфель, чтобы отбыть на четырёхнедельный отдых. В ближайшее воскресенье Илья планировал к отцу Павлу – венчаться. Но когда в пятницу он приехал домой, его встретили два собранных чемодана и восторженная жена.
– Илья Борисович, нам подфартило! Вечером улетаем в Варну – билетики, чики-чики, в кармане, всё оплачено! Это мои старики нам свадебное путешествие подарили! – и затрещала, закрутила-завертела радостно, так что и желания не появилось разрушать эту радость.
Перед отъездом Илья всё же позвонил отцу Павлу. Единственное, что сказал наставник с укором:
– А ведь надо бы сначала венчаться, а уж потом и ехать.
Во всём остальном он добродушно поощрял, поздравил и с продолжением обучения в академии, пожелал хорошо отдохнуть, чтобы уже в этом году включиться в общее дело… Однако Илья чувствовал, что отец Павел многое не договаривает.
А Калюжный, положив трубку, прикрыл глаза и тихо постукивал пальцами левой руки по столешнице. Что-то не нравилось ему в этой женитьбе. Не нравилось и то, что ни с невестой, ни с женой он не побывал у него в гостях, не подошёл под благословение – ведь не только ради знакомства, ради дела! Намеревался было заехать сам, закружился с делами: расписал планы лекций на год; собрал разрозненные статьи, составил по темам небольшой сборник для издания… А тут новая мода – приглашают на встречу со студентами, с писателями, а то и вовсе – в Тулу, прочесть ряд лекций по истории Христианства. А ведь ещё и семья, и приход – службы, требы… Нет, не в самом Илье он усомнился. Позвонил однажды, трубку сняла Рута Яковлевна: попытался расспросить, что за невеста. Так ведь говорила минут пятнадцать – и ничего не сказала. Только и узнал, что очень уж красивая и умница… Но ведь так объясняются, когда хотят что-то заследить.
Волновалась и Москва. При встречах знакомые нередко и разговор начинали с профессора Калюжного: каков, а! Одни это произносили с гордостью, хотя и не были христианами; другие с возмущением, хотя и не в первом колене утратили свою древнюю веру, а к христианству и не пытались приблизиться. Но всех восхищала энергия профессора и священника – знай, мол, наших! И порой ехали в храм или на лекции, лишь бы увидеть этого заслуженного священника. Приезжали посмотреть, а через месяц-два, глядишь, и заговаривали о православии, а то и о крещении. И это потому, что большая часть прихода состояла из «своих». Словом, идея, выношенная за два десятка лет, начала работать. Несколько изданных его книжек буквально переходили из рук в руки. И это потому, что и просветительские лекции имели успех, редко кто приходил без записывающего устройства – и всё переводилось на бумагу, на диски. Тем же кругом шли и проповеди, которые обычно строились на связи Ветхого и Нового Заветов.
Волновались идеологи, раввины, волновались хасиды и фарисеи. Но их волнение не волновало Калюжного, да и редко такая информация прямо доходила до него. Зато периодически кто-то звонил по городскому, даже по мобильному телефону – голоса разные, но смысл один: «Ты что же это пишешь?.. Ты на кого работаешь?.. Неужели ты думаешь, так без конца и будет?.. Шёл бы ты профессором в монастырь…» – Десятки подобных звонков, поначалу на которые он пытался отвечать, но, в конце концов, молча выслушивал и прерывал связь. Дважды угрожали. Калюжный понимал, что это серьёзно, но страха не испытывал и телохранителей не призывал. И лишь однажды на вопрос: «Кто говорит?» – последовал ответ: «Это я – Гога!» – «Я записал ваш телефон и выясню, кто вы такой – Гога». – На это в трубке разразился нахальный хохот и мат.
Отец Павел знал, что делает то, что должен делать. Больше смущало другое – именно в деле: нарушение канонов – уступки «своим». Он и сам нередко нарушал не только посты. Так бывало легче не осуждать прихожан. С одной стороны, духовные дети послушные, организованные, с другой – нетерпимые и своевольные. А такими управлять не просто.
Однажды на дороге через мелколесье от платформы электрички Калюжного остановил старик неопределённого облика. И без того невысокого росточка, перегнутый и скукоженный, он и одет был странно, и смотрел на Калюжного сбоку, от плеча – то справа, то слева – медленно выворачивая голову и представляясь двуликим: слева он был толстощёким, справа – кожа да кости. И голос его в этой зависимости всякий раз менялся. А за очками и глаз не видно. Одет старик то ли в чёрный блестящий халат, то ли в лёгкое пальто без подкладки, чрезмерно длиннополое. А из-под этой хламиды не по сезону выглядывали аккуратненькие лаковые сапожки на каблучках. И сочетание это так не вязалось, что вызывало усмешку. В руках у него была нелепая шкатулка в форме бочонка, которую он держал обнявши.
Старик как из-под земли вылупился – и предстал. Был ясный солнечный день, дорога безлюдная, тихий мир царил и в природе.
И первое, что он сказал:
– Поп, а поп – мать твою в лоб – дай мне сотенку, у тебя денег куча: и мне хорошо, и тебе лучше.
Калюжный усмехнулся:
– Почему это вы решили, что я поп и у меня полный саквояж сотенных?
– Тебя все знают: ты людей дуришь и десятину с них стрижёшь. Дай сотенку.
– Вы уже в почтенном возрасте – и откуда такая бестактность?!
– А моё слово золота стоит. А расплачиваться за каждое ты станешь…
– Скажите, кто вы такой и что вам надо? Иначе я ухожу.
– Называй меня как своего – на «ты». А ты жадный, значит, жид, а перестроился в фашиста.
– Нет, я не жадный, но сотнями налево и направо не сорю.
– Надо всем давать. А ты со всех берёшь и никому не даёшь. На небе богатство сулишь. Был на небе? Не был. А мутишь головы чужим детям. – Старик потряс в руках шкатулку – в ней что-то стучало, попискивая. – Это, поп, твоя душа там! – и хихикающе засмеялся, выворачивая голову через другое плечо. – Запомни, поп, на земле каждый достоин рая. А ты даже в подаянии отказываешь…
Калюжного возмутило: он уже сделал шаг, чтобы пройти мимо, но как будто его же тень преградила ему дорогу – старик.
– Оставь меня и посторонись.
Но старик не только не сторонился, но и не слушал, продолжая своё:
– Ты, поп, крадёшь чужих детей и болтаешь им всякую чушь: то бога распяли, то он воскрес – это ли не болтовня?! Бабу можно распять, мужика можно, а бога не распять; и воскреснуть бог не может, потому что если он бог, то не умрёт. Понял ли? – и вывернул нахально толстую щёку. И вновь потряс бочонок.
– Ну что вы глупость говорите, за такие слова отвечать придётся!
– И я говорю: надо отвечать. Ты, поп, что проповедуешь? У тебя и на воротах фашистский крест – ты из той же стаи…
– Замолчи, нечестивый человек, и оставь меня!
– Ты обманываешь несчастных: даёшь сухой хлеб с разбавленным вином, а говоришь: тело и кровь. А я голодный – ты не накормишь. Попы развратники и пьяницы…
– Ты лжец! Ты вор!.. У меня жена и дети, и пьяным я никогда не бывал! – грозно сказал Калюжный. – Убирайся вон! Креста на тебе нет, хам приблудный!
А старик, рыкнув, вдруг начал разгибаться и распрямляться, преображаясь и в объёме. Оказалось, не такой уж он и старик; безбородый, ростом выше Калюжного, лицо лютое с грубыми чертами. Это был суровый черный человек в плащ-накидке до колен. А вместо очков гневно пылали глаза.
– Смотри, поп, доиграешься! Армию формируешь – под суд пойдёшь. Прославишься, как гомосексуалист. Ты ответишь передо мной за все свои дела… Раздавлю! – грубо просипел приблудный…
Калюжный так и ахнул: «Да неужели?!» – и заплетающимся языком взмолился:
– Да воскреснет Бог, да расточатся враги Его, да бежат от лица Его ненавидящие Его…
Мужик как будто визгнул и начал скверно ругаться, а Калюжный осенил его крестом, продолжая читать молитву. И враг стремительно как будто юркнул в мелколесье.
Калюжный и сам себя осенил крестным знаменьем – да и был ли старик, был ли этот хам, не оборотень ли какой… Ясный день, солнышко и ни души на дороге. Отец Павел отщёлкнул саквояж, звякнув кадилом, извлёк наперсный крест и надел на шею поверх костюма, осознавая, что руки его дрожат.
Отдых в Варне можно было назвать удавшимся, если бы Сима вдруг не проявила характер. Даже в мелочах она стояла на своём – и делала это как будто преднамеренно: на всякое «да» говорила «нет» – и наоборот. Диктовала свой порядок, а в таком положении Илья отказывался быть откровенным – в считаные дни наметилась отчуждённость.
– Это уж совсем ни к чему, – говорила она, – отдыхать – и поститься, отказываться от нормальной пищи, за которую, кстати, заплачено. Да и что подумают соседи по столу?!
Понятно, перед едой Илья молился молча. Более того, ни утром, ни перед сном общей молитвы не было. В лучшем случае он вычитывал молитвы, а Серафима молча стояла рядом – слушала. Когда же он спросил:
– А ты, Сима, не молишься вообще или вот так, здесь, не хочешь?
Кривя губы, она ответила:
– Я привыкла к уединению. Ведь сказано: закройся – и тогда молись.
Не хотела она идти и в болгарский храм.
– Не на богомолье же приехали, а отдыхать – у нас свадебное турне…
И только здесь, где целыми днями они были рядом, Илья понял, что совсем не знает её – кроме внешности и обязательных слов, всё оказывалось новостью. На некоторое время Илья даже растерялся. Однако Сима по-прежнему оставалась обаятельной и милой, и он решил: ничего, обкатается. Сима вела себя так, что даже о близком будущем разговор не вязался. Ха-ха, хи-хи, пляж, ресторан, постель – мы отдыхаем.
По возвращении в Москву скоро всё прояснилось:
– Ну вот, слава богу, дома! Теперь дела, дела по распорядку, – потирая ладони, восторженно сказал Илья. Родителей дома не было, молодые сидели на кухне за поздним завтраком. – В понедельник мне в обязательном порядке в Лавру…
Сима натянуто улыбнулась и склонила голову:
– А я, милый, того самого, наверно, понесла…
– Да ну! Так спешно? Вот это да! Досиделись… Завтра же едем к отцу Павлу – венчаться. Ты собери там во что одеться – у тебя есть. Досиделись!.. В выходной и родители смогут присутствовать.
– А это что – там, в церкви? – явно манерничая, спросила Сима. – Там законы какие-то свои? А то ведь я некрещёная.
Илья на какое-то время остолбенел: даже сло́ва произнести не мог. А она спокойно похрустывала сладостями.
Наконец Илья очнулся:
– Ты что… городишь?.. Ты что, играешь? Ты, правда, так играешь? Нас же не обвенчают!.. Ты что молчишь?
– А что говорить. – Сима передернула плечами. – Я думала, всех и венчают, кто захочет – только деньги плати.
– Ты что, жена, дурака-то валяешь?!
– А хамить зачем. Живут люди и с паспортной регистрацией, и даже редко изменяют друг другу. А креститься я не смогу – родители не разрешат.
– А меня без венчания не посвятят! – как будто жалуясь, вскрикнул Илья и резко поднялся на ноги. – Я не понимаю, что это вообще за балаган.
– Милый, да не балаган. Всего лишь я в положении. – Сима болезненно усмехнулась: – Неужели тебе так хочется, чтобы я попадьёй стала? Удивительно…
– Не ёрничай.
– Окончишь академию, будешь читать лекции в университете. И очень разумно. Жена профессора. Жена доктора. Куда как приличнее, чем жена попа. – Она и глаза выкатила: – И дети – попята!..
Илья уже справился с собой – и понял: если это не розыгрыш, то хорошо продуманная игра. И почему-то вспомнил мать с полотенцем на голове, вспомнил суету, неожиданные и нелепые решения, и даже сиюминутное заявление: на сносях… И уж вовсе неожиданно он захохотал, громко до неприличия.
– Что ты ржёшь, мой конь ретивый? – с удивлением продекламировала Сима.
– Ретивое взыграло! Как же ловко вы разрушили мои планы! Так ведь и я могу, точно могу! – и вновь засмеялся, но уже гневно. – Разведёмся, пока не понесла! Приму обет безбрачия – и стану священником… Итак, или мы венчаемся, или разводимся. – И надменно вскинул голову.
Сима молчала, лицо её как будто темнело.
– Попробуй… Да не ошибись, – только и сказала она, поднялась со стула, прошла из кухни в комнату, где и начала порывисто собирать свои вещи и документы…
А Илья так и стоял на кухне, заложив руки за спину, улавливая слухом, казалось, каждое её движение.
«Нет, я не позволю; нет, я не позволю», – мысленно повторял он, а что «не позволю» до сознания не доходило… И только когда хлопнула входная дверь, он криво усмехнулся и медленно пошёл к себе в комнату.
Ночью, когда ворота уже закрыты, Лавра отдыхает, пребывает в иной жизни. В духовных школах только дежурные, в монашеском корпусе тускло светятся келейные лампадки. Деревья, уставшие от шума и пыли, расправляют ветви и тянутся к влажной небесной прохладе. Гуляющих по монастырской территории нет. И только одинокие монахи редко спешат на послушания или с послушаний. И даже храмы отдыхают в молитвенной тишине. Да и весь монастырь как будто погружен в молитву.
Илья приехал к духовнику в тяжёлом состоянии. И это не столько от недоразумения с женой, сколько от следствия этого недоразумения – на всю жизнь. Он понимал, что родители и своё окружение приложат все силы, чтобы его брак с Симой не распался, да и дело ли – развод. Но в таком случае все договоренности с отцом Павлом и планы рушились. И до крайности возмущала эта ловушка, в которой, казалось, все участвовали лишь для того, чтобы он не был, как они почему-то говорят, попом… Вспоминался и доктор Троицкий, не случайно ведь сказавший Калюжному повременить со священством, и об этом он зачем-то напомнил в разговоре… Но слишком велико было желание одолеть. Да и откуда вырвались слова, сказанные жене: развестись, принять обет безбрачия и стать священником. Именно со всем этим Илья и поспешил к духовнику, намереваясь из Лавры ехать к Павлу Осиповичу. Но, прежде всего, надо было твёрдо решить самому.
Вот он и решал: ходил от академической проходной до монастырской – и обратно; кружил вокруг Успенского собора и колокольни; от Троицкого собора до монастырских ворот. Зашел в Троицкий к Преподобному Сергию: здесь было безлюдно, монах читал молитвы возле раки, второй подхватывал песнопение, смиренно управляясь с подсвечниками. Илья, прикрыв глаза, страстно повторял: «Преподобный отче наш Сергие, помоги мне в деле моём. Как быть? Что делать? Ведь я вознамерился служить Господу и «своим», чтобы и заблудшие стекались в церковь Христову… Развестись – я ведь не венчанный, сожитель – и принять обет безбрачия? В монашество я не пригоден, не осилю. Смилуйся, Господи, и ответь мне милостью Преподобного Сергия, как поступить… Помоги…»
И слёзы выкатывались из-под ресниц. Илья приложился к раке, перекрестился с поклоном и медленно вышел из храма, как из надёжного укрытия. Но легче на душе не стало.
Вновь бродил мимо колокольни и храмов, и душа его умилялась самой этой замкнутостью монастырских стен – мир иной, отстраненный от суеты. Днём этого не пережить, не понять, днём здесь проходной двор для паломников и галдящих туристов.
И ещё раз вошёл Илья в Троицкий собор, помолился коленопреклоненно – легче не стало. Однако на сердце легла мысль: не достоин наверно в иереи, поэтому так и повернулось. Значит, и здесь не своя воля.
Время вышло. Духовник должен бы освободиться и принять. Илья склонился к окошечку проходной, назвал себя и спросил: может ли пройти к духовнику.
– Да, – вяло отозвался дежурный чернец, – можно, он предупреждал.
И с лёгким скрипом вышел засов из затвора калитки.
В келье было тихо, сумрачно, пахло лампадным маслом и ладаном. Духовник на коленях молился. Он тотчас же поднялся, благословил Крона и, обращаясь к иконам, предложил помолиться вместе. И они помолились. Затем сели на два стула лицом к лицу.
– Скажи, – спросил духовник, – что тебя повергло в уныние?
И Илья, опустившись на колени, коротко и ясно поведал о планах с отцом Павлом и о своей нескладной женитьбе. Не утаил даже мелочей.
Духовник прошептал молитву, перекрестился, и первое, что он ответил, изумило Илью:
– Господь сдерживает. Значит, не готов в клирики, значит, рано… Хорошее дело затеял отец Павел, доходят слухи. Но есть соблазны… Ах, как опасно ходите… – И вновь прошептал молитву, перекрестился, а далее говорил уже в общем, как будто о второстепенном. – А на лукавстве семьи не построить, не будет единой плоти, – тихо заключил он…
Илья знал, что при исповеди первые слова духовника – от Бога. Именно первую фразу и мысль необходимо уловить и запомнить. Запомнил. Тяжесть с души не сходила. Почти всю ночь провёл он без сна, решив идти к ранней Литургии, помолиться в храме, единственно в котором сами стены поют. А уже после службы и завтрака ещё раз справиться об академии.
И после Литургии легче не стало. Желание бежать, но и бежать некуда. Оставалось одно – академия. Однако и тогда, когда секретарь ректора вновь подтвердил приказ о зачислении на первый курс академии, каменистая тяжесть так и давила на грудь.
Ближе к полудню с портфелем в руке Илья Крон вышел через академическую проходную, чтобы на электричку – и домой. Спешить к отцу Павлу было не с чем. Но не успел переступить порога, когда в конце аллеи узнал доктора Троицкого: с портфелем он по-стариковски бочком как будто пытался бежать, однако ноги лишь передёргивались, так что скорого продвижения не было. Отяжелел человек. Сковало.
Илья ускорил шаг навстречу, а Троицкий в тот же момент остановился, хватаясь свободной рукой за грудь. Они ещё не сошлись, не поздоровались, когда доктор с придыханием выкрикнул:
– Убили… Отца Павла Калюжного убили!..
– Когда?! – цепенея, вскрикнул Илья.
– Сегодня утром… на электричку шёл. В голову железом. Сам домой возвратился, мог бы, но даже не сказал – кто?.. Неотложка приехала, а он уже всё…
Илья молчал. Язык не поворачивался что-то говорить:
«Почему так?..
За что?..
За какие грехи?..
А мне что делать?..» – теснились немые слова.
2010 г.
Один
Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберёт…
…но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкою хочет по всему свету распространить магометанство, и от того, уже говорят, во Франции большая часть народа признаёт веру Магомета.
Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете! Его гонят!..
Н.В. Гоголь
Когда его спрашивали о полном имени, он обычно вскидывал манерно подбородок и с достоинством говорил:
– Георгий Степанович я, простите, Соколов.
Однако на тот же вопрос мог ответить и иначе:
– Герман я, а по родителю Степанович.
А иногда с усмешкой, похоже, отшучивался:
– Если угодно, зовите меня просто Гедеоном.
И любопытные сходились на том, что лучше уж по привычке: Геша. Но не вязалось – Геша Степанович. Так и величали Геша Соколов.
А за последние лет десять к нему уже и не обращались с таким вопросом. Он утратил общение и связи не только с соседями по лестничной площадке и подъезду многоэтажного кооперативного дома, но и с внешним деловым миром. И все бы ничего, но в перестроечные годы что-то не заладилось в быту. Он даже помнил, с чего начались эти нелады. Именно после взрыва Чернобыля у него в квартире вдруг поселились мыши, причем нахальные и разбойные. Стоило сесть за стол, поджарив яйцо или заварив чайку, как «серые волчата» выскакивали в щели кухонного шкафа для овощей или в приоткрытую дверцу под раковиной – и по две, по три рассыпались по квартире… На столе нельзя было оставить корку хлеба, в раковине посуду, а когда всюду был наведен порядок, «волчата» начали грызть картофель в шкафчике и, наконец, взялись за библиотеку. Они обгрызали корешки старых книг. Такое трудно было пережить. Но вместо того, чтобы купит в хозяйственном магазине обыкновенную мышеловку, Геша разработал и применил иной способ ловли мышей: в большой целлофановый пакет он закладывал приманку, сухую корку хлеба, скомкивал пакет так, чтобы и к приманке надо было пробираться с трудом. Оставлял «мышеловку» на кухне, а сам в кабинете при открытых дверях садился за работу. Шуршанье начиналось уже вскоре, но это вначале. Когда же доходило до мышиного писка, оставив под столом тапочки, Геша бесшумными шажками быстро входил в кухню и схватывал пакет так, что серые оказывались в ловушке, случалось, до пяти голов. Через мгновение вместе с пакетом хищные нахалы летели с балкона седьмого этажа на землю, впрочем, как с парашютом… Но уже к вечеру или на следующий день, казалось, все те же разбойники вновь появлялись в квартире. И вот такая охота или ловля продолжалась не менее года. Доходило до того, что ночью мыши забирались к Геше в постель. В конце концов он взвыл и обратился к людям за помощью и советом…
– Потравишь, – рассуждал Геша, – и будут они в закутках дохлые вонять… Нет, – решил он, – лучше кошку. Вот узнаю, как тут ей гальюн устроить, – и заведу.
И завел серую, гладкую, и назвал ее Рыся. Рыся проявила характер в первую же ночь: сначала она как тигра орала возле двери, а после полуночи устроила на кухне такой переполох, что Геша поднялся с постели и включил свет. Два трупа на полу и Рыся с горящими глазами и с еще живой жертвой в зубах.
