Кудыкины горы
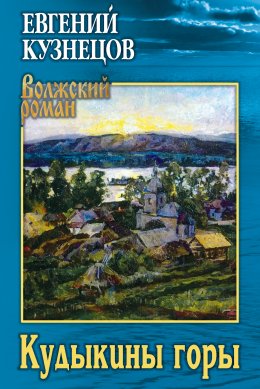
© Кузнецов Е. В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Первый снег
Всё, что было когда-то, есть и теперь, если вспоминается.
Я стою у ветхой калитки, положив руки на потемневшие от времени и дождей штакетины, и не стыжусь (теперь это редко бывает со мной) признаться себе, что сердце моё нежно плачется. Долго я не могу решиться просто войти и чего-то жду от себя. Мне кажется, что прежде я непременно должен осознать всю значимость этой минуты, исполниться чувством радостного нетерпения, насладиться им и только уж потом переступить заветный порог – войти в школьную калитку, которая затворилась за мною так давно.
Передо мной серое, обшитое тёсом двухэтажное здание с тёмными от нависших над ними ветвей окнами, с проржавевшими и покосившимися водосточными трубами, приземистым неуклюжим крыльцом и плоской крышей, у которой слуховые окна заколочены фанерой и где вечно жили и теперь, вижу, кружатся голуби; и всё здание плывёт на меня под неподвижными облаками.
Здесь проучился я десять лет.
Рука моя сама находит вертушку, поворачивает её, отворяет калитку – и вот я на школьном дворе.
Вид двора уныл, хотя вокруг него теснятся густые молодые липы. Вся тесноватая площадка дворика тщательно вытоптана, и лёгкий июньский ветерок чуть тревожит на ней серую пыль. Занятия, как я прикидываю, недавно закончились, и поэтому здесь так пусто теперь, но память моя своевольничает и сердце не слушается глаз: мне чудятся голоса деревенской ребятни, высыпавшей на улицу в большую перемену.
От калитки к крыльцу ведёт из красного кирпича дорожка, служившая когда-то спасением от грязи и луж, теперь же она совсем захожена, вдавлена в землю и проросла подорожником. Подхожу близко к зданию. Взгляд мой падает на чёрный, в деревянной раме, лист железа, на котором значится: «…ская средняя школа». Пройдя ещё несколько шагов вдоль разогретой солнцем стены, на которой жужжа греются мухи, я останавливаюсь у парадной двери, над которой висит давнишнее, написанное по фанере «Добро пожаловать!». Перед самым входом вросла в землю каменная плита в качестве ступени у дверей, из-под которой выбился пучок травы, каким-то чудом не затоптанной.
Я вижу замок, но он, хотя и вдет в дужки, не заперт на ключ. Это когда-то означало, что уборщица Анна Ивановна, жившая в школе, где-то неподалёку: либо у себя на огороде, либо пошла на пруд полоскать тряпки для мытья полов.
Открываю дверь и вхожу.
Сначала я попадаю в полутёмное крыльцо, имеющее небольшое, забрызганное белилами оконце; здесь душно и пахнет хлоркой. Открываю тяжёлую, обитую кожей дверь, ведущую с крыльца в саму школу, – тугая пружина, скрипя, тотчас напоминает мне о себе, стремясь захлопнуть дверь с грохотом, что обычно ей и удавалось с попустительства бедовых школяров; но я, придержав, закрываю её бесшумно.
Прохожу далее узкий коридорчик, бывший бы совершенно тёмным, если бы не приоткрытая дверь бокового класса, и попадаю в зал, называемый большим коридором. Тут приятно прохладно и сумеречно, как мне кажется после яркого света улицы. Этот довольно широкий коридор имеет справа два больших окна, между которыми висит пионерский лозунг, а под ним на полу стоит куст полузасохших цветов в дощатой кадушке. Слева – несколько дверей, на которых приколоты картонки с надписями «Учительская», «Директор» и с цифрами, обозначающими классы.
В углу залы высится тёмное зеркало в деревянной резной раме с причудливой резьбой. Я невольно двигаюсь, желая поймать своё отражение, и от этого ожидаю чего-то значительного. И хотя, подойдя вплотную, я вижу себя, всё-таки там – в глубине отражения – полумрак пустынного коридора чудится мне завораживающим, и глаза мои из зеркала смотрят испытующе.
Тишина в школе и после стольких лет отсутствия чудна для меня. Я ступаю под стреляющий скрип половиц, и боязнь притаившейся неожиданности сжалась во мне пружиной.
Под лестницей, ведущей на второй этаж, стоит серый от пыли и бывший, насколько я помню, всегда расстроенным рояль, не оставивший в моей памяти ни одного сладостного аккорда, кроме сумасшедшего дребезжания, извлечённого исчерниленной рукой самого бойкого ученика. Но рукой моей, коснувшейся давнишней пыли, движет воспоминание иное. Поколением раньше моего, как говаривали старожилы, играл на рояле этом старый учитель, умерший на уроке. Только он один прикасался к чутким клавишам, одухотворяя нелюдимый инструмент, и только вечный вальс Шопена – его любимая, как говорят, музыка – связывает теперь во мне времена. И тень учителя, которого я никогда не видел, скользит незримо рядом со мной, нашёптывая мне о чём-то вечном и святом.
Второй класс школы – это длинный узкий коридор, получающий естественный свет лишь из застеклённых дверей классов. Который же мой?.. Вот он, в конце коридора. Прежде почему-то заглядываю в приоткрытую дверь и – вхожу.
Благословенная минута! Передо мной мой класс. Словно случайно встретился с человеком, с которым некогда был связан душевной близостью, но потом почему-то разошёлся, молчаливо договорившись оставаться всё-таки друзьями, – и грустно, и немножко стыдно.
Вздыхается глубоко.
Оконца небольшие, доска с краю, так как ей мешает шкаф, высокая белая печь до потолка, входная дверь застеклённая, парт три ряда и стол учительский.
Прохожу к доске и обнимаю взглядом весь класс. На всём ещё лежит милая мне сейчас печать только что закончившихся занятий, движенья, суматохи, словно минуту назад ревущая ватага школяров, распущенных на каникулы, ликуя, высыпала отсюда. Ряды парт неровны, повсюду разбросанные тетради, растоптанный мел, с доски не стёрто, а рядом со столбиками алгебраической задачи, выведенными нетвёрдой рукой, начертан виртуозным штрихом чей-то профиль, с тщанием выведен кукиш, запечатлены в лаконичном виде некоторые истины бытия, как то: «Муся – дубина», «Налив – любимчик» и прочее.
А вот и парта моя.
Парта есть место, с которого человек с семи до семнадцати лет с перерывами на каникулы и перемены наблюдает за мирозданием, имея при этом цель познать истину и дожить до звонка. Крышка её затёрта локтями и испещрена кляксами, формулами. Внутренность парты скрыта от посторонних глаз и поэтому наиболее содержательна: вот учебник зоологии, весь изрисованный, видно, хозяин его не был особенно горячим поклонником науки сей; вот из тетрадного листка голубок, крылья которого пестрят красными чернилами; здесь же резинка и горсть скатанных из бумаги пулек, предназначенных для чьего-то затылка; сломанный карандаш и перочинный нож с расколотой ручкой составляют остальные предметы ежедневного обихода.
В согласии сейчас глаза и душа моя: здесь каждая деталь молвит о чём-то понятном мне; ничто не раздражает меня, ничто не кажется лишним, и страшно потревожить единую пылинку этого мирка о четырёх стенах. Увы! – нет теперь меня для него, но он – этот мир – для меня вечно будет существовать… Так рассуждаю я, но рассуждения мне становятся неприятны; кажется никчёмным и желание сделать в эту минуту какие-то выводы, принять торжественную позу, тронуть холодком рассудительности желанную непосредственность чуткого сердца.
Всё в июньском свете, колышутся за окнами молодые липы, играя на стенах густыми тенями; запылённая сетка паутины треплется за стеклом знойным порывом. Полоса солнца, лежавшая, когда я вошёл, на полу у доски, доползла уж до парт… Пресыщенный наслаждением созерцания, выхожу из класса вон.
Торжественность моего одиночества тревожит воображение: тишина сонных классов и полутёмных коридоров не бездыханна, она пугает ощущением звуков и присутствия кого-то рядом…
Вдруг я останавливаюсь, сознаю мгновенно, что вижу что-то особенно памятное мне, – словно чья-то рука неожиданно тронула плечо, будя невольный трепет.
Передо мной большой застеклённый стенд в раме тёмного дерева; на красном бархате – ровные ряды фотографий, вверху – пластмассовые буквы: «Доска почёта». Я машинально скачу глазами по незнакомым лицам, сердце моё волнуется, память лихорадочно ищет тронувшее меня сейчас когда-то бывшее. Это чувство – как засохший цветок, случайно встретившийся в книге: отчего он здесь? Ах, вспомнил!.. Так, так было… Но только на этом месте тогда висел лист ватмана с наклеенными на нём фотографиями и заголовком «Лучшие ученики», где буква «н» отличалась от других тем, что была сначала, видимо, написана неровно, потом поправлена более тёмной краской…
Я тогда учился в шестом классе и был неповторимо впервые влюблён. Ведь все случаи любви схожи тем, что отличаются от любви первой, которая всегда несравнимо особенна, причём у каждого по-своему. Особенностью моей первой любви была страстная скрытность и воинственная стеснительность, дошедшая до крайности: до высокомерно-пренебрежительного отношения к своей избраннице.
Легко вспоминаются теперь дорогие мне подробности: они, как бусинки, нанизанные на нить соединившей их любви, уцелели в памяти.
Случилось это в октябре или в начале ноября, потому что, помню, снег ещё не выпадал. Был звонок с перемены, и среди общего гама никто не заметил, как в класс вошла новенькая и села за последней партой у окна.
Дверь открылась, и все, загремев крышками парт, встали. Михаил Германович, учитель физики и наш классный руководитель, с той небрежностью в походке, которая должна была бы скрыть волнение и которая так естественна для того, кто после вуза практикует третий месяц, вошёл в класс. Он был невысок, с шапкой курчавых чёрных волос, с аккуратным носиком и большими наивными глазами. Подойдя к столу, Михаил Германович, как всегда, значительно вскинул чёрные брови, окинул карими глазами класс и, зафиксировав в минутном недвижении важность сей минуты, тоном человека, чувствующего юмор, проговорил:
– Здравствуйте. Садитесь. – И с глухим шлепком бросил на стол классный журнал.
Подождав тишины, Михаил Германович, вновь подбросив брови, сказал с удивившей всех торжественностью:
– Итак, нашего полку прибыло?
Все закрутили головами. Молчание было вопросительное: галдеть или утихомириться? «Новенькая» – такого раньше не было.
– Ваша фамилия Вернадская? – внятно проговорил Михаил Германович. – А имя?..
– Оля.
– Довольно распространённое, – осмысливающе поднял брови Михаил Германович, прохаживаясь по классу и покручивая на пальце ключи, что было в его привычке. – И кстати… исконно русское.
Всеобщее любопытство было разогрето: все дружно обернулись назад. Оля опустила было глаза, но тотчас подняла их; встретив взгляды тридцати пар глаз растерянным и одновременно вызывающим взглядом, как бывает, когда человек смущается и сам чувствует это.
– Однако начнём урок, – сказал Михаил Германович.
И урок начался.
Я смотрел перед собой, но видел и слышал только лишь то, что увидел и услышал, когда оборачивался: голубые спокойные и вместе с тем мятежные глаза, словно бы чуть заплаканные, с тёмными тенями под ними, и бархатный голос, сказавший: «Оля». И её фамилия, и её глаза, и её голос слились в одно какое-то как бы не до конца понятое событие.
И с этой минуты по классу растёкся аромат чего-то раздражающего, недосягаемого, городского.
В ближайшую перемену всем стало известно, что новенькая – дочь врача, приехавшего работать в нашу поселковую больницу.
Домой я вернулся в тот день озабоченным и молчаливо-капризным, что вызвало назойливые, как мне показалось тогда, вопросы родителей. Настойчивость которых лишь усугубляла глубокомысленность моих «да» и «нет». Этот тон стал характерным для меня в отношениях с домашними. Их волнение, понятное теперь и мне, впрочем, сменилось через некоторое время снисходительным прощением моих выходок и многозначительными, не очень заботливо скрываемыми улыбками, вгонявшими меня в краску.
Со мной что-то стало происходить… Каждому шагу моему сопутствовало новое чувство, то ослабевая, то накаляясь. Я стал нерешителен, так как стал следить за своими движениями и словами, будто чувствовал чьё-то особенное присутствие рядом, хотя это было и в одиночестве. Пока меня это просто злило.
Так прошло недели три. И вот однажды, неожиданно для себя, я задался вопросом: что со мной творится? И ответ молнией сверкнул вместе с вопросом, ослепив и напугав меня, вымолвить же его даже мысленно я не посмел и только запылал весь. Утром следующего дня, лишь я проснулся, первой моей мыслью была мысль о ней – и тут же явился вчерашний вопрос, точно это было одно и то же. Я понял, что близится что-то необыкновенное. В школу я шёл как на эшафот.
И судьба выследила мои мучения: входя в класс, я столкнулся с нею. Смущение моё было таково, что я был почти в забытьи.
Оля, сразу поняв, что я, как обычно, не намерен говорить с нею, и, кажется, довольная случаем, наигранно-извинительно улыбнулась, отчего глаза её с тёмными тенями как будто что-то вспомнили, и проговорила:
– Извините, пожалуйста.
Вчерашний несказанный ответ стоял передо мной и говорил со мною.
И с ужасом человека, теряющего последнюю надежду, я выдохнул:
– Ходят тут всякие!
И ворвался мимо неё в класс – она едва успела дорогу уступить.
Еле я пришёл тогда в себя.
…А Оля прижилась в классе быстро. Уже через неделю она вела себя так свободно, словно училась с нами всегда; она, казалось, просто уезжала на время и теперь вернулась. Чудинкой её поведения была постоянная и умелая наигранная дерзость; чувствовалось, что это перенято ею от кого-то из взрослых. (Разговаривать с нею, должно быть, было приятно.) Она и с мальчишками была наравне, и те при этом не допускали ни пошловатого, ни нагловатого тона, в чём с другими девчонками были несдержанны. Оля сразу утвердилась в этом привилегированном положении, и никому не казалось это странным. Я не помню, чтобы кто-то нагрубил ей. (Лишь как бы отдалённо я догадывался: красота окружающих по крайней мере смиряет…) Столкновение в дверях только позабавило всех, так как выглядело беспричинным, но с этого времени стало – в шутку – считаться, что я с Олей почему-то враждую. Я был и этому рад: это избавляло меня впредь от необходимости объяснять свою необщительность с нею.
А в ту ночь я не мог заснуть. Мой воспалённый мозг лихорадочно трудился, объясняя и оправдывая моё поведение и объясняя именно так, чтобы оправдать. Эта борьба была мучительна и отрадна: в глубине души я был уже убеждён, что победит то, чего я боюсь, но то, чего я боялся, чудилось мне всё-таки прекрасным. Так человек, уверенный в том, что его ждёт счастливое обстоятельство, иногда как-то исподволь отклоняет его от мыслей – чтобы обострить благостность неотвратимой минуты.
Я лежал, смотрел в темноту и боялся думать о чём-либо постороннем, боясь, что ответ мой выговорится сам по себе. Я надеялся на только логические рассуждения, намеренно запутывая свои мысли. Устав рассуждать, подумал, что уже заснул, хотел спросить себя, сплю ли я, и выговорил вслух:
– Я её люблю.
Как ошпаренный вскочил я с кровати и, стиснув зубы, сжав кулаки, замер – раздетый – посреди комнатной тишины. Слёзы потекли по щекам. Это были слёзы досады, что в жизни есть то, что сильнее меня, и одновременно – слёзы счастья: то, что сильнее меня, было во мне самом.
Я стоял, пока усталость не качнула меня в темноте. Высохшие слёзы стягивали кожу на щеках. Было темно, и я только по тому, что моргал, чувствовал: глаза мои открыты. Была такая тишина, будто я слышал один высокий пронзительный звук. Настороженные удары маятника в соседней комнате были то оглушающе громки, то еле слышны, словно часы летали по той тёмной комнате, или приближаясь к моей двери, или удаляясь от неё. Я лёг в кровать. Сон мой был покоен, глубок и краток, как миг. Помню, как закрыл глаза в темноте и как тотчас открыл – но было уже ослепительно светло. Потянуло взглянуть на улицу.
Я встал коленями на стул, отодвинул занавеску – всё было чисто, ясно и бело-бело… Потому-то, значит, так глубока была ночная тишина и так чист мой сон. В душе и в теле была невероятная лёгкость, я не ощущал себя и ни о чём не думал. Было состояние безмолвия и всепонимания; было ощущение главного; смысл жизни стоял за моей спиной, и я слышал его дыхание.
…Жизнь моя переменилась. Признавшись себе, что я люблю и лишь неосознанно скрываю это от себя, я стал с той ночи скрывать свою любовь сознательно – от других. Чуть речь зайдёт о ней – силюсь казаться равнодушным, безучастным, а когда рядом она – и горю и холодею; и не дай бог встречусь с нею глазами! – не знаю, что делать, как сидеть, как стоять, словно заряд сердечной энергии вольётся в меня с её взглядом.
Едва же останусь один – тотчас вижу её. Воображение моё ведёт причудливое повествование наших отношений. Порой я даже путал события, на самом деле происходившие, с выдуманными мною. Я смотрел на мир через полупрозрачное стекло, на котором была изображена она: не видел ничего, не видя её.
А сколько было отчаянной, подавленной в себе ревности! Я ревновал мятежность и одновременно печаль её голубых глаз с тёмными тенями – к равнодушию симпатий и антипатий в глазах моих одноклассников; белизну её лица – к откровенной румяности деревенских девчонок; смелость (ограниченную представлениями сельских учителей о скромности) её причёски – к простеньким косичкам моих одноклассниц; красные кожаные сапожки её с молниевыми застёжками – к валенкам, подшитым и не подшитым, в которых ходило в школу большинство учеников. Я был уверен, что она несчастна тем, что теперь живёт и учится в деревне; по-моему, ей надлежало было учиться в высокой каменной городской школе, играть на фортепьяно, ходить в театр, заниматься фигурным катанием.
Её отношение ко мне меня не заботило. Да и в самом деле, если человек любит, то счастье это разве совместимо с мыслью, что ему чего-то недостаёт?
…Однажды, только придя в класс, я заметил странное волнение среди однокашников: все что-то обсуждали, но не спорили, не галдели. Прозвенел звонок, и я не успел узнать, что случилось.
Сев за парту, я оглянулся, по обыкновению как бы между прочим, туда, где сидела Оля, – и сердце моё остановилось: её не было. Раньше первой мысли меня поразило чувство, в одно мгновение связавшее её отсутствие с тем, что так тревожно обсуждалось всеми.
Вот я стою: это пришёл в класс Михаил Германович; вот я сел: это все сели; смотрю перед собой…
Михаил Германович прошёл мимо стола, держа в руках журнал, упёрся в стену, вернулся к столу и сказал, не подымая бровей:
– Слышали?.. – И по тишине понял, что слышали.
Я не мог бы сказать, как быстро прошёл урок, потому что хотел узнать о случившемся и боялся того, что должен был узнать. Когда надо было что-то записать, я не записал, не мог: это казалось мне чем-то посторонним. Изобразить же равнодушие мне было стыдно отчего-то – впервые.
Звонок обрезал время кощунственно неожиданно. Все зашевелились. Я же не спеша вышел из-за парты. Даже и теперь я боялся спросить, потому что случившееся (как мне сказало сердце) было связано с нею – так уж безобразно бесстыдна была моя стеснительность, такой уж изуверски предательской была моя верность мысли: во что бы то ни стало скрыть от всего мира свою любовь. Ужаснее всего было ощущение, что Оля где-то здесь, рядом, следит за мной и видит, как я в минуту всеобщего волнения даже не соблаговолю поинтересоваться причиной её отсутствия. Я возненавидел себя.
Наконец из разговоров одноклассников дошла и до меня роковая весть…
В минувшее воскресенье отец Оли пошёл с товарищем на охоту; когда только входили в лес, напарник, шедший сзади, споткнулся о сук под снегом, ружьё его, заряженное, со взведённым курком, выстрелило, и весь заряд вошёл в спину Олиного отца, и он сразу умер.
…И тогда, и всегда потом, не только в минуту болезненно чувственного возбуждения, но и в час рассудительной трезвости духа, я всегда соглашался с той мыслью, которая явилась мне в этот недобрый день: всё произошло не случайно, этому суждено было случиться. Бредовая мысль – но только благодаря её безрассудной логичности смогла меня утешить тогда: без этого самообмана было бы слишком тяжело.
И вот именно в эти-то дни неожиданно для себя я перестал стыдиться своего чувства, и если б меня спросили, люблю ли я, то, пожалуй, я бы признался. В душу мою влилось какое-то удовлетворение, покой, отдых и даже как бы радость, от всех скрываемая…
Дальше – больше: я вдруг даже твёрдо уверился в том, что между мною и ею есть нежная связь, о которой просто никто не знает, и что мы с нею сообща таим это. Уверенность же в том, что я с нею больше никогда не увижусь, лишь подогревала воображение. Мне стало проще и легче, я преобразился и ожил!
…Так минуло несколько дней.
И вдруг: она здесь, в школе, в нашем классе, она пришла проститься, она уезжает навсегда – узнал я в раздевалке, только придя в школу…
«Бежать!» – это было само собой разумеющимся. Чувство было такое, словно меня застали за чем-то постыдным. Идиллия романа, нашёптанного мне моим воображением, рассыпалась враз. Но и уходить было нельзя: ведь это выдало бы меня. Мгновение я боролся с собой. На ногах еле стоял и, чтобы скрыть нервическую слабость своей походки, вприпрыжку побежал в класс.
Оля была среди одноклассников. Все молчали; ребята стояли потупясь, девчонки жались друг к другу, некоторые из них всхлипывали. Все как бы не знали, что делать.
Я вошёл – и чувство борьбы с самим собой исчезло: боязнь превратилась в отчаянье, отчаянье – в решимость. В душе теперь было только чувство необходимости исполнить тот долг, который принял на себя каждый в классе и который состоял в том, чтобы чувствовать его. Я вошёл и встал, где встал. Глаза на неё я поднять не смел: неусыпное воображение привычно подсказало мне, что, если я взгляну ей в глаза, она не выдержит этого и заплачет. (Фантазия ли это моя?)
– Я пришлю свой адрес, я напишу, – сказала Оля голосом непохожим – спокойный и стыдливым, словно она с принуждением играла навязанную ей роль и не могла сейчас говорить в своей обычной манере наигранной дерзости. Она не умела быть в печали.
Минута была молчания. Все чувствовали, что сейчас услышат и последнее слово, которое скажет она.
Загрохотал, словно выпал из рук, звонок. Никто в класс не вошёл, все были в классе. За стеной галдели, там ещё не пришёл в класс учитель. И в наш класс вот-вот должен был войти. Теперь уж все смотрели на Олю. И я!
Оля вспыхнула, узкие плечи её неумело-артистично подёрнулись, и, побледнев, сказала, словно её просили сказать слова той роли, но она всё стеснялась:
– До свидания. – И опять нескладно пожала плечами.
Взгляд её на мгновение упал на меня, и мне показалось, что он молил сделать то, что я как будто бы ей обещал и не исполнил. В глазах с тёмными тенями был укор. (На самом ли деле?..)
Вдруг лицо Оли сделалось непохожим, она закрылась ладонями, и я удивился, насколько были мне знакомы те звуки, когда она заплакала, словно я и раньше видел и слышал, как она плачет.
В глазах у меня всё расплылось… Я лишь услышал торопливые шаги и звон хлопнувшей двери…
Лишь когда все уселись и умолкли, в класс вошёл Михаил Германович. Он написал на доске номера задач из учебника и велел решать, а сам стал ходить по классу, не заглядывая в тетради. Я ничего не делал. Звонок с урока прозвенел, и, казалось, он был дан тотчас после звонка на урок, словно ошибочно позвонили дважды.
По дороге домой я свернул в лес: я шёл плакать и спешил остаться один. Но слёзы не потекли. Я сидел на поваленном дереве, со злорадством чувствуя, как мне холодно. Не было во мне больше и моего внутреннего романа; воспоминание же о том, как я ещё сегодня утром, идя в школу, воображал, мечтая и философствуя, вызывало во мне чувство гадливости. Я не мог – самое страшное – представить её лица и думал, что никогда не вспомню его. Всё было просто и ясно. И было мне – одиноко. Был мороз, серые кусты и белый снег.
Утром следующего дня мать уговаривала меня не ходить в школу, так как я, с её слов, всю ночь кашлял и ворочался, и значит – заболел. Действительно, была слабость: накануне простыл в лесу. Я обрадовался (если ещё мог чему-то радоваться) предлогу, он был кстати: ещё вчера решил я притвориться больным, чтобы не ходить в школу с таким настроением. Остался было в постели… Но тут меня стало жечь непонятное любопытство. А если бы я не пошёл в школу вчера!.. И я вскочил с кровати.
Звонок уже был, коридоры пустовали.
Кроме Веры Филипповны, чей урок был первым, в классе были Михаил Германович и Павел Павлович, директор школы.
Выслушав выговор за опоздание, я прошёл к своей парте.
«Неужели опоздал?» – думал я, словно знал, что здесь сейчас происходит.
– Ведь это же самое настоящее хулиганство, – продолжал начатую до меня мысль Павел Павлович. Он стоял у доски, сцепив перед собой пальцы рук, и так ими жестикулировал, то подымая их к груди, то опуская вниз. Он был сильно не в духе: на побледневших щеках его проявились розовые пятна. – Люди сделали стенд, потратили на это силы, время, средства… это же школьное имущество… и вдруг кто-то… а я уверен, что из вашего класса… вырезает, крадёт из этого самого стенда эту самую фотографию. Позор! – Павел Павлович поднял и решительно опустил сцепленные руки.
Я ничего не понимал, оглянулся. Михаил Германович ходил позади парт, останавливаясь каждый раз у окна и бросая на улицу прищуренный взгляд.
– Этот человек запятнал свою честь… честь всей нашей школы. Ведь стенд висит на самом видном месте. – И Павел Павлович двинулся было с места, но резко остановился. – И прямо ведь варварски ножом или ещё чем… На хорошее так вас нет!
Вера Филипповна отрицательно покрутила головой, соглашаясь с последними словами. Она стояла у стола, опершись на поставленный ребром журнал; лицо у неё было поднято, губы сжаты, и взгляд требовательно метался по классу, выражая, что всё это могло быть сказано и ею.
Павел Павлович опять было шагнул, но остановился и сказал, понизив голос, тоном давая понять, что перешёл к главному:
– Уж если хватило нахальства украсть, то пусть найдётся и смелость признаться честно. Так вот. – Пальцы сцепились и расцепились. – Кто это сделал?
Шаги Михаила Германовича прекратились.
– А эта ученица ещё была здесь вчера? – спросил Павел Павлович вполголоса, обращаясь к Михаилу Германовичу через класс.
– Да, – последовал ответ. – И шаги стали приближаться; Михаил Германович тоже встал перед классом, словно происходящее только теперь стало касаться его.
…Одним порывом пронеслась во мне вся уничтожающая меня логика происшедшего. Кто-то из ребят нашего класса (не я!), придя сегодня в школу раньше всех, вырезал со стенда фотографию Оли, потому что… значит… любит её… И он пошёл на это, рискуя быть сурово наказанным, чтобы потом наедине с самим собой любоваться ею…
В глазах у меня потемнело.
И он, этот кто-то, сейчас здесь, в классе, и, может быть, сидит сейчас рядом со мной, и её фотография с ним, где-нибудь в учебнике или в кармане.
Но этого не должно быть!
Я решался. Только я – один только я! – существую для неё, и никто в мире, кроме одного меня, не смеет дерзнуть связать своё имя с её именем.
– Я жду, – повторил Павел Павлович.
Один только я! Никто не смеет!
Михаил Германович, опустив глаза, рассматривал ключи и не крутил ими. Вера Филипповна, не меняя выражения своего требовательного лица, неслышно барабанила пальцами по журналу.
Я перестал и дышать, досадуя на своё сердце, что оно так стучит и мешает поджидать свой час…
Здесь этот кто-то, здесь, и, может быть, сердце его стучит сильнее моего… сейчас он решится, встанет, назовёт себя, и тогда… вот-вот, он уже обдумывает, как сказать…
Журнал, стоявший на ребре, неловко выскользнул из рук Веры Филипповны и глухо шлёпнул по столу.
Позади, как мне показалось, кто-то пошевелился…
Я очнулся, когда уже встал и услышал свой голос:
– Я сделал это… Я!
– А вам чего тут надо?
Я оборачиваюсь – Анна Ивановна, школьная уборщица. Она как на уроке?.. Вздрагиваю: да это уже явь…
– Не видите, в школе никого нету. Зачем под замок-то залезать?
Она стоит передо мной, держа в одной руке ведро с водой, в другой – швабру.
– Чего молчите-то?
– Здравствуйте, Анна Ивановна, – лепечу я с глупой почтительностью.
А она нисколько не изменилась: те же маленькие сердитые глазки, тот же потасканный серый халат, валенки с калошами; те же водянистые полупрозрачные руки, утратившие цвет живой кожи за долгие годы ежедневного мытья школьных полов.
– Я учился здесь, – говорю я, не дождавшись ответа.
– Так что? Мало ли… Занятия кончились… – Она делает нетерпеливое движение.
Я хочу спросить, не узнаёт ли она меня, но почему-то отклоняю это намерение и улыбаюсь. Довольный, что вижу её.
Анна Ивановна, увидев мою улыбку, как и всегда бывало раньше, толкует её не в свою пользу.
– Нечего делать тута. Никого в школе нету, – повторяет она свой резон. – А мне мыть надо. – И, давая понять, что разговор окончен, шаркает к лестнице. – Ходят-бродят, маются от безделья, а мне мой за всеми, обихаживай… Шутка ли сказать, всю школу вымыть!..
Что ж, ты права, Анна Ивановна, пойду: теперь я здесь лишний.
А что было потом… скандалы, кабинеты, педсоветы… важно ли это? Если забылось – не стоило памяти.
Рыбинск, 1979
Петровна
Шестилетнюю Варьку Таланову в деревне величали Петровной. Нет, не боялись спутать её с какой-то другой девчонкой и вовсе не хотели лишний раз намекнуть на ироническое уважение к её папаше – Петрухе из колхозной рыбацкой артели, мужичку низкорослому и курносому, – просто уж сама Варька была такова.
Худенькая, с удивлённо торчащей головой, с короткими, до мочек ушей, волосами цвета пересохшего сена, она неизменно появлялась при всяком интересном случае, то смущая взрослых своим присутствием, то умиляя всезнающим взглядом круглых серых глаз. Неизвестно почему, но все мирились с Варькиным чрезмерным любопытством. И когда за изгородью палисадников мелькало веснушчатое личико с назидательно приподнятым носиком и по траве стремительно двигалась фигурка в длинном – ниже колен – полинялом сарафане, открывавшем загорелые плечики, когда она, босая, озабоченно семенила вдоль деревни – тогда каждому не терпелось радостно окликнуть:
– Что, Петровна, по делам собралась?
И слышался тонкий, независимый голосок:
– Коне-ешно!..
Словечко это звучало подчас и сухо, если чувствовалась насмешка или праздность в вопросе, ибо Петровна избегала фамильярности в общении. Степенность и важность сквозили в любом её поступке, значительность – в каждом слове.
Любимой и необходимой вещью Петровны был костяной щербатый гребень, самовольно присвоенный у матери Маруси. Бежит она – цепко, чтобы не потерять, держит его в кулачке, остановится хоть на мгновение – тотчас водрузит обеими ручонками на затылок, спать ложится – под подушку прячет.
Сверстниц-подружек Петровна не признавала, высокомерно, без тени зависти взирала на яркие игрушки соседских детей. Похвастается ровесница:
– У меня е-есть, а тебя не-ету!
А она важно заявит:
– Дурочка малолетняя! – И убежит к себе во двор.
– Сбегай, Петровна, в избу, – попросит Петруха-отец, чиня на солнце сеть, – глянь, сколько времени.
Петровна тут же суматошно топочет по ступенькам крыльца, летит в комнату к комоду, со знанием дела водит пальцем по циферблату будильника – и кричит в окно:
– Папка Петя! Да па-апка Петя! Сколько время-та, что ли?
– Ну…
– Время-та, что ли, сколько? – переспрашивает она.
– Да-да! Сколько – чёрт! – времени? – уже нетерпеливо кричит отец.
И тогда Петровна ответит осуждающим тоном:
– А-а! Время-та – уж скоро коров пригонят.
И мать Маруся, обычно крутая и своенравная, дочке единственной во всём потакала, прощая ей проказы, – может быть, в отместку соседкам за укоры в баловстве.
К вечеру, первая услышав усталое мычание у калитки, Петровна бежала встречать Кралю, по-хозяйски требовательно выкрикивала:
– Мамка Маруся, да хлеба-та скорея! – И, держа на вытянутой руке горбушку и оттопыривая пальцы, чтобы Краля не прихватила их вместе с хлебом, зажмуривала глаза, чувствуя, как влажный шершавый язык касался ладони, как над самым ухом шумно вздыхала корова.
Мурзика-кота она уважала лишь в ту минуту, когда он, недосягаемый, торопливо пробирался по двору с таким видом, словно его собирались поймать. Когда же Мурзик дремал на кухне у залавка, подогнув под себя лапки, Петровна повелительно топала пяткой у его морды:
– Живо мышей ловить! – И заливисто смеялась, видя, как он, сгребая второпях половики, шмыгал во двор.
А смеялась Петровна пронзительно-звонко, забывая себя, закидывая назад голову и машинально хватаясь, чтобы не упасть, то за ручку дверную, то за ремень Петрухи, то за передник матери; смеялась так, что роняла из волос свой гребень, а потом искала и спрашивала:
– А смеялась-то я где?
Куклу же свою, с исцарапанным кончиком носа и с равнодушными голубыми глазами, Петровна давно забросила:
– Не люблю я неживучее!
И валялась пластмассовая «сестрёнка» где попало, неуклюже оттопырив ногу.
Доверие к Петровне в домашних делах было полное. А нынешним, последним, перед тем, как ей пойти в школу, летом допустили её и до запретного уголка: показали на повети клуху.
Вообще-то Петровна – за несолидность – недолюбливала кур, то бесцельно шляющихся по двору и бесцеремонно кивающих хвостами, то суматошно голосящих, а чаще – ненасытно клюющих из корыта корм. То и дело покрикивала на них:
– Ух вы мне, надоедные!
Недели же две назад, за ухой, мать посетовала:
– Да ведь клохчет одна, ведьма!
– Мм? – удивился Петруха, хлебая.
– Как? – навострилась Петровна.
Клуха, пёстрая, жёлто-коричневая кура, с некоторого времени стала чересчур озабоченной: нахохлившись, металась по двору, простуженно хыкала – будто искала что-то или негодовала, что её тревожат.
– Спрячется, пройдоха! – беспокоилась Маруся.
И курица куда-то пропала.
– Где же она? – домогалась Петровна.
– Посадила я её.
– Куда?
– На яйца.
– Зачем?
На повети было полутемно и душно, пахло прошлогодним сеном и нагретой солнцем дранкой, скрипели зыбкие половицы под ногами, невидимая паутина чуть касалась лица, и только один яркий острый луч разрезал мрак, а в нём струилась тонкая пыль. В углу, куда направилась Петровна, что-то настороженно заклохтало, и по этому звуку она догадалась, что в корзине, над которой она склонилась, и была клуха. Приглядевшись, она увидела широко расшеперенные крылья и беспокойно вздрагивающий гребешок.
– Тихо ты – сгонишь, – шепнула мать, подтолкнув Петровну обратно к лестнице.
Прошла ещё неделя. Петровна не раз собиралась с духом забраться на поветь, но вспоминала паутину и не решалась, а только надоедала вопросами.
Раз была она в прихожей, а мать несла по коридору на улицу корзину, накрытую мешковиной. В корзине слышалось знакомое клохтанье и другой, переливчатый звук.
– Мамка! – закричала Петровна и, уронив стул, кинулась на улицу.
Во дворе Маруся поставила корзину, загнула угол пыльной мешковины. Петровна присела рядом. Клуха, наклоняя голову, косилась круглым глазом на свет, вся в сеточке теней от плетёных стенок корзины. И тотчас из-под крыльев клухи высыпались несколько цыплят: они делали по два-три мелких шажка, замирали, дремотно покачиваясь на тонких ножках, а один, часто барабаня голыми крылышками, норовил забраться клухе на спину.
– Мамка, да мамка! – капризно причитала Петровна, будто та собиралась корзину унести.
Озадаченные громким криком, во дворе недоумённо замерли куры, а белый щеголеватый петух с алым ребристым гребнем скандально-резко кокнул, как будто клюнул по жести, дёрнул сплющенной головой и важно переступил с ноги на ногу.
– Смотри, клевачий! – напомнила мать.
С того дня Марусе не было заботы с цыплятами: Петровна сама наливала в блюдце воду, крошила ножом варёные яйца, щипала, обжигаясь крапивой, мокрицу на грядах, заглядывала под доски, отыскивая червяков. То и дело её тонкая рука просовывалась в дырявое днище перевёрнутого плетня, возбуждая там писк и суматоху, – под плетнём теперь сидели цыплята.
Петруха, лишённый решающего хозяйского голоса, сдвигал на глаза кепку:
– Что толку-то, половина, увидите, окажутся петухами. Складней бы инкубаторских купить в городе. – И грозил дочке: – Ты, Петровна, опять без палки ходишь?
А та капризно морщилась. Речь шла о том клевачем петухе, атласно-белом, форсистом, которого он недавно выменял на рыбу в соседней деревне. Бывшие хозяева предупредили, что товар – птица опасная. Петровне было строго-настрого наказано ходить по двору с палкой, которую договорились ставить около крыльца и называли «палкой для клевачего петуха». В первые дни, правда, Петровна не выпускала её из рук, издали для острастки потрясая ею, но петух вёл себя смирно: следом ни за кем не ходил и сзади не подкрадывался. Петровна и забыла о палке.
Однажды утром Петруха и Маруся услышали отчаянный, надрывный визг под окном, кинулись на улицу. Петровна стояла неподвижно посреди двора, глаза её были плотно сжаты, из-под правого по щеке тянулась алая полоска с тёмной каплей на подбородке. Рядом, у ног её, судорожно бил клювом в сухую землю петух. Тут и родители заголосили. Маруся, растягивая ругательства в один воющий звук, прижала дочь затылком к груди, вытерла подолом кровь. Петровна сопротивлялась – голосом. С трудом разжали ей пальцами веки: глаза были целы. Тогда только вспомнили про петуха.
Петух, словно нехотя, тронулся с места – и вдруг побежал размашистым шагом. Азартно и зло кокая, он долго метался по двору, то резко поворачивался, опираясь крылом о землю, то, зажатый в угол, перелетал через головы мимо хватающих рук, – в хлев его всё-таки загнали.
Ещё минуту назад Петровна, щурясь от солнца, привычно смотрела в небо – нет ли ястреба? – и время от времени покровительственно командовала цыплятами, катавшимися грудкой по двору. А теперь в щеке была жгучая боль, Петровна стиснула в себе плач, но любопытство подталкивало её, и она, прерывисто вздыхая, с опаской полуприкрыв лицо ладошками, подкралась к тёмному зеву раскрытой двери хлева.
Там, в глубине темноты, шаркали сбивчивые шаги, слышались беспорядочные сухие всплески, словно хлопали рука об руку в рукавицах. Петровна замерла, прижав кулачки к подбородку. И вот из проёма двери на солнечный свет вышел Петруха, он что-то говорил мстительно и злорадно; в одной руке у него был топор, а в другой он держал за ноги петуха, который, взмахивая снежными крыльями, пытался поднять голову вверх, но это не получалось, и он удивлённо склонил её набок – глазом к небу.
Поправляя сбившийся платок, мать сказала отцу вслед:
– Крылья прихвати – рубашку обрызгаешь.
Отец скрылся за поленницей.
– Не ходи туда, – остановила Петровну мать.
Мгновение было тихо. Вдруг за поленницей что-то стукнуло. У Петровны сразу пропала боль. Только один затихающий слабый шелест слышала она.
– Подавай наволочку под перья, – сказал отец матери.
Петровна медленно подошла к поленнице: тонкая береста шуршала возле её уха. Она ступила шаг: за поленницей стоял толстый кряжистый чурбан, на нём – густые свежие пятна и белое пёрышко, зажатое в прямой короткой щели. Она шагнула ещё: за чурбаном на земле лежала петушиная голова: пучок белых перьев, жёлтый, с дырочкой ноздри, клюв, алый ребристый гребешок и полузатянутый матовой плёнкой глаз. И Петровне показалось, что плёнка эта всё больше и больше сужается, – она метнулась обратно, пугаясь собственного крика, и упала на руки матери…
…Когда она очнулась, в спальне было полутемно; свет вливался оранжевой полосой в двери из прихожей. Там слышались приглушённые голоса. Петровна вздохнула, спать больше не хотелось. И вспомнилось ей, как давным-давно приснился страшный сон, будто она нагнулась над той головой петуха, дотронулась до глаза – матовая кожица на нём оказалась податливой и холодной. В носу у Петровны защекотало. Она поняла, что когда-то во дворе был петух, который медленно переступал, настороженный, с ноги на ногу и громко-требовательно пел, а теперь его нет, совсем нет, – и Петровна тихонько, уткнувшись в подушку, чтобы её не услышали, заплакала.
На следующее утро Петровна подошла к зеркалу и с изумлением увидела под правым глазом пятно зелёнки – величиной с пятачок. Она боязливо поёжилась – и уронила гребень. Сразу же вошла мать и запричитала от самых дверей:
– Вон! Она уж на ногах. А вчера-то до полночи так кричала, так кричала! Я хотела батьку к фельшару посылать. А потом ничего, уснула.
С тех пор бродила Петровна по деревне горестная. Растерянно прислушивалась она, как деревенские увлечённо обговаривают небывалый случай:
– На своём веку-у…
– А я слыхал, будто бы…
– И ведь куда целил-то, паразит, а?..
Где ни покажись теперь она – все сетуют и причитают, разглядывают щеку, руками всплёскивают. При таком внимании Петровна подчас и сама невольно лезла на глаза. Идёт мимо окон – и как бы случайно повернёт в ту сторону лицо с пятном зелёнки. Или: если заговорившиеся старушки её не замечают, она маячит возле, пока не услышит ожидаемого:
– Серде-ешная!..
– На-ко бы девка без глаза осталась!
– Больно, чай, было?
– Да-а…
– Болит теперь?
– Не-е…
И всё же это внимание мало утешало Петровну, тем более что оно скоро полиняло и выцвело совсем вместе с зелёным пятнышком под глазом. Но главного от взрослых она так и не услышала: у неё-то ранка зажила, а вот петух-то…
Проплыл знойный июль. У цыплят выбелились и пригладились пёрышки, вытянулись шейки. Они уже не бежали наперегонки к блюдцу, когда по нему стучала Петровна ноготком, а с опаской, полуукрадкой, норовили клевать в корыте вместе с курами. И клуха теперь только по привычке предупреждающе вскрикивала, когда низко пролетала ворона. Осталась Петровна не у дел.
Раз она сидела на ненужном больше плетне и крутила на пальце медное колечко, мечтая, когда оно будет ей впору, – вдруг что-то кольнуло в ногу: цыплёнок вскочил ей на коленку и с интересом косился на кольцо. Петровна замерла, терпя. Цыплёнок, удерживаясь в равновесии и ещё больше вонзая коготки в кожу сквозь сарафан, изловчился и два раза клюнул камешек в кольце. Это неуклюжее прикосновение разлило в душе Петровны неизъяснимую радость. Тут подбежал другой цыплёнок, но первый спрыгнул с коленки ему навстречу – и они неумело стукнулись зобами, бойко подпрыгнули раз и другой. Пёрышки на их головках оттопырились, цыплята на мгновение замерли нос к носу – и снова запрыгали.
Гребень выпал из волос Петровны. Закинув голову, вцепившись руками в плетень, она звонко смеялась и даже не заметила, как из окна высунулись мать с отцом, оба довольные чем-то, хотя при этом Петруха и махнул безнадёжно рукой:
– Говорил я – половина петухов вырастут!
А Маруся его попрекнула:
– Чем трепаться – съездил бы за инкубаторскими!..
Рыбинск. Январь 1982
Тайна одной школы
Когда в одну среднюю школу приезжал из роно проверяющий, в педколлективе все в один голос утверждали:
– Степан Филаретович да Александра Александровна всю школу на себе везут.
Да разве и нашёлся бы в целом сельсовете с этим несогласный: без русского языка и литературы, которым учил Степан Филаретович, без математики и геометрии, которые преподавала Александра Александровна, не только не поступить куда-нибудь, но даже и аттестата не получить. А кроме того, они оба отличались своими яркими педагогическими методами.
Посидев на одном уроке, на другом, проверяющий потом с каждым учителем беседовал и, например, в разговоре со Степаном Филаретовичем считал должным – по своей обязанности – кое-что высказать и начинал обыкновенно так:
– Знаете, Степан Филаретович… как бы это выразить?.. Не кажутся ли вам отношения ваши с учениками, простите за прямоту, несколько фамильярными?
А Степан Филаретович неизменно отвечал на это своим природным баском:
– А отчего бы, уважаемый, отношениям между людьми не быть таковыми?
Тогда проверяющий, чуть покраснев от досадной мысли, что не сумел править разговором, восклицал убеждённо и неожиданно для самого себя:
– Конечно, конечно! Ведь у вас такой опыт…
В беседе же с Александрой Александровной проверяющий, ещё не успев сказать и слова, вдруг замечал в её лице такое негодование от возможных советов, что сразу терялся и восторженно лепетал:
– Всё прекрасно, Александра Александровна, всё прекрасно!
Между тем школа, затаившая было дыхание на два дня проверки, опять дышала в полные лёгкие всех своих классов и кабинетов. В старших классах, с пятого по десятый, беготня и гам вовсе не прекращались, и редко кто оказывался на месте, когда в класс заходил Степан Филаретович. Наоборот, зная, что урок будет именно его, ученики проводили перемену в каком-то неистовом ожидании: самые резвые не боялись и после звонка носиться по классу сломя голову и прыгать через парты, сбивая их ровные ряды; ученицы и радивые ученики не сидели, как бывало перед другими уроками, зажав ладошками уши и уткнувшись в учебники, и не стучали коленками в отчаянном усилии зазубрить параграф в последнюю минуту, а болтали между собой по углам; курящие не опасались табачного запаха, разящего от них при ответе, и не выбегали во двор за поленницу, а курили прямо в классе, стоя на подоконнике у форточки, и звонок – получалось так – лишь собирал всех в класс и лишь усиливал всеобщую суматоху.
Степан Филаретович, сутулый, морщинистый, с прядью, упавшей на лоб, засунув руки в карманы брюк и прижимая под мышкой классный журнал, проходил к столу неторопливым прогулочным шагом, словно класс был пуст. И пока он усаживался, пока листал журнал и тряс ручкой в промокашку, кто ещё только вставал, кто только ещё перебегал к своей парте, и шум в классе утихал подобно тому, как если бы медленно уменьшать громкость телевизора, по которому транслируют футбол. Когда же, наконец, все стояли на местах, Степан Филаретович, записывая в журнале, спрашивал между прочим:
– Иван Фёдорович, а знаете ли вы, сударь, отчего принцесса не тонет?
После такого вопроса, разумеется, было уже слышно, как скрипит его перо, и даже тот, к кому он обращался, с оттопыренными ушами ученик, стоял, раскрыв рот, и не отвечал, чтобы не прослушать.
– А оттого, сударь, что она глупа как пробка.
Мгновенный смех колыхал класс. Сам Степан Филаретович откидывался на спинку стула, отводил пятернёй прядь со лба и сквозь смех выговаривал:
– Нижайше… Прошу покорно.
Нужна была ещё минута-другая, чтобы все, утихомирившись, сели, и, дождавшись своего времени, Степан Филаретович продолжал разговор, начатый так весело:
– Вчерашний вечер, на досуге, я прочёл сочинения ваши и в одном из них обнаружил слово «лошадь» с четырьмя ошибками. Таковая лошадь обитает в сочинении всеми нами уважаемого Ивана Фёдоровича Полканова. Поведай, любезный, видел ли ты оного зверя в окрестностях своей родной деревни?.. Ничего, ничего, молчание… Так какой же, сударь, ты после этого Иван? Ты – мазила!
Вся школа знала о страстном увлечении Степана Филаретовича футболом, потому-то все чувствовали, сколь порицательно это словцо «мазила» – самое бранное в устах учителя, и потому-то смущённый Полканов так усердно теребил своё большое ухо, а все валялись на партах, пока Степан Филаретович не делал свой бас гуще:
– Народ, безмолвствовать!
Сидел Степан Филаретович нахохлившись, вобрав голову в плечи, и в его нарочито угрюмом взгляде исподлобья было столько иронической требовательности и сдержанного юмора, что каждый ученик невольно вытягивался над партой, желая привлечь к себе этот взгляд.
– Ну-с, Василий Петрович, каково вчера порыбачилось? – спрашивал Степан Филаретович, раздумывая, кого бы вызвать к доске.
– Пусто, Степан Филаретович! – не подымаясь с места, охотно отвечал приглашённый к разговору бойкий, остроглазый Коровин. – Одни ерши!
– Эх ты! А ещё живёшь у реки! А я, например, умудрился выловить в бочаге, что у большой берёзы с дуплом, вот таких двух господ окуней и аж вот этакую гражданку плотицу. А раз так, то я и музыку заказываю. Так что изволь, сударь, пожаловать на эшафот!
С вызовом к доске Коровина, шустрого, но непутёвого ученика, непременно ожидалось что-нибудь весёлое, поэтому не один, так другой от удовольствия присвистывал.
– Воробьёв, на место! – говорил тогда Степан Филаретович.
И в угол шёл свистнувший на этот раз Воробьёв, скалясь в довольной улыбке.
– Итак, Василий Петрович, пиши предложение: «Я ловил рыбу на реке и видел, как на берёзу села утка». Написал? – спрашивал Степан Филаретович, не поворачиваясь к доске. – А теперь, сударь, соблаговоли отыскать в этом предложении ошибку. Не нашёл?.. Плохи тогда твои дела!
Класс затаённо молчал, и лишь Воробьёв, стоя в переднем углу и всё улыбаясь, не мог сдержаться:
– Да не садятся утки на деревья…
– Молчи, разбойник! – свирепо потрясая кулаками, басил Степан Филаретович. – Человек в углу – вне закона!
Незадачливый Корович шёл к своей парте, а Степан Филаретович, опять чуть выждав, говорил:
– Вот, любезные, что означает фраза: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
Начав объяснять новое, Степан Филаретович выходил из-за стола и, встав перед классом, возвещал торжественно:
– Итак, почтенные, очередной параграф! Имеющий уши слышать да слышит!
Он прохаживался у доски, то и дело откидывая прядь со лба, и его нарочито строгий взгляд отыскивал равнодушное лицо. Заканчивая фразу, он неожиданно, как бы желая напугать, останавливался у первой парты и, строго глядя в весёлые глаза, назидательно покачивал пальцем:
– …что и гражданин Сорокин зарубит на своём конопатом носу! – Или, завершая другую мысль, добавлял: – …с чем и товарищу Судакову, как всякому смертному, надо быть знакому, хотя ему и не терпится закурить!
И пока шёл урок, ученики в других классах, заслышав всплеск приглушённого стенами смеха, понимающе переглядывались, а учителя, разговаривавшие в учительской, на мгновение умолкали, но тут же успокаивающе говорили друг другу:
– А! Это урок у Степана Филаретовича!
Правда, молодые учителя, только что, например, направленные в школу на практику и на первых уроках часто повторявшие: «Это неэтично, это нетактично, это неучтиво!» – смотрели поначалу на Степана Филаретовича недоумённо, что называется таращили глаза, но и они скоро привыкли, а так как им было такое поведение учителя в новинку, то они даже больше других ожидали очередного повода посмеяться.
Но Степан Филаретович вовсе не был человеком, от которого неизвестно чего ждать в следующую минуту, а напротив, был очень постоянен в своих привычках. Например, он курил только «Беломорканал» и носил в кармане пиджака портсигар; из класса он не выгонял и после уроков не оставлял, не записывал в дневник для сведенья родителям о проступке и не обязывал явиться в школу с отцом или матерью – что другими учителями делалось всеми; в учительской впечатлениями о прошедшем уроке не делился, не упоминал ни одной фамилии; и только на педсовете при обсуждении отстающего, когда очередь высказать обязательное мнение доходила до него, Степан Филаретович возмущался и говорил про такого ученика:
– Да, да! Именно так! Коровин, несомненно, форменный лиходей с большой дороги, ибо не далее как вчера он перекинул свой поплавок через мою лесу, и мы с ним битый час распутывали обе удочки.
Под конец урока, когда класс уже чуял близкий звонок, Степан Филаретович говорил:
– С вашего позволения, урок отечественного языка объявляется закрытым. Команды могут удалиться на перерыв!
И сразу к учительскому столу подбегали ученики с неотложными вопросами и сообщениями. Стоявший в углу оказывался первым: ему ближе.
А после урока Степан Филаретович всю перемену был в тесном окружении то в классе, то в коридоре, так что часто только-только успевал зайти в учительскую заменить журнал, чтобы идти в другой класс.
Не так бывало на других уроках. Вот один, смахнув улыбку, вскакивал с места, за ним другой, третий; волна неуютной тишины и надлежащего поведения прокатывалась по классу, всё умолкало, всё не двигалось – в раскрытых дверях класса, как в раме, стояла Александра Александровна.
Ещё не переступив порога, она ждала, когда все встанут и замрут, лишь потом входила, и её одинокие шаги были единственными в мире звуками. Прижав скрещенными руками к груди журнал, она обращала на всех два сверкающих стекла очков, за которыми не видно было её глаз. С первых рядов можно было рассмотреть лишь отражённые и изогнутые в линзах светлые полосы окон. Этот призрачный свет так ослеплял всех, что никто не видел ничего, кроме него, никто даже сразу после урока не мог сказать, как Александра Александровна была одета.
Сверкающие очки оказывали на класс магическое воздействие, заражая каждого навязчивым подозрением, что именно на него смотрит Александра Александровна своими невидимыми глазами, и каждый трусливо смотрел на круглые блестящие стёкла и не мог оторваться, подобно крольчонку, смотрящему в глаза змеи. Поэтому всем становилось легче, когда она обращалась к одному:
– Коровин, встань прямо, тебя весь класс ждёт.
Когда Коровин вздрагивал, и хотя позы не менял, потому что не знал, как можно стоять прямее, но зато этим движением выказывал послушание, тогда Александра Александровна спрашивала:
– Кто сегодня дежурный?
– Я! – поспешно отвечал дежурный и тотчас расторопно бежал к доске и стирал с неё, а если тряпка была сухой, то бежал сначала в туалет, мыл тряпку, а потом уж стирал и, запыхавшись, вновь недвижно становился у своей парты.
После этого Александра Александровна говорила:
– Здравствуйте. Садитесь.
И класс устало садился.
Когда Александра Александровна, склонившись, записывала в журнал, то и тогда никто не мог быть уверен, что она не смотрит на него. Не отрывая от бумаги ручки, она то и дело говорила спокойно:
– Полканов, ты в перемену не наговорился?.. Воробьёв, у тебя что, чесотка?..
Тишина была гробовой.
Наконец наступил момент, когда ручка медленно двигалась по списку снизу вверх, и каждый, зная, в какой строке по алфавиту его фамилия, мог или мысленно вздохнуть с облегчением, или всё мучиться в ожидании.
– К доске пойдёт Наседкина!
Тут весь класс переводил дух, потому что Наседкина отличница и ответит наверняка, а не будет посажена на место за незнание урока, и, значит, рука уже не поползёт по списку – по крайней мере сегодня.
Вызванный к доске немедленно брал – должен был брать! – мел, хотя и не знал, придётся ли писать, но этим жестом изображал послушание, то самое, выставленное напоказ, с которым оговорённый вздрагивает у парты, а дежурный мечется по классу.
– Расскажи, Наседкина, теорему Пифагора. Кстати, ты знаешь её? – спрашивала Александра Александровна, хотя была уверена, как и весь класс был уверен, что Наседкина расскажет любую теорему без запинки.
– Квадрат гипотенузы равен… – тараторила Наседкина.
– …прямоуго-ольного треуго-ольника… – поправляла Александра Александровна.
– …равен сумме квадратов катетов, покраснев, как кумач, лепетала Наседкина.
– Приступай к доказательству.
Стучал по доске мел в узенькой руке, сверкали очки, и всем думалось не о том, что писалось и говорилось, а о том, что хотя Александра Александровна строга вообще, но к Наседкиной – особенно, потому что Наседкина самая красивая в классе, а вот Александра Александровна стара и дряхла и, вернее всего, никогда не была такой же молодой и красивой и поэтому сейчас мстит Наседкиной, не прощая ей даже оговорки.
Наседкина говорила последние, которые надлежало сказать, слова:
– …равен сумме квадратов катетов. Следовательно, теорема доказана.
И тут Александра Александровна вдруг спрашивала:
– Сорокин, повтори последнюю фразу. Молчишь?.. Подай сюда… садись, Наседкина… дневник. И завтра явиться с родителями.
Из какого-то класса долетал приглушённый смех, и казалось, что уроку не будет конца.
– Перехожу к объяснению новой теоремы.
В волшебных свойствах очков Александры Александровны не сомневались даже и тогда, когда она, делая на доске чертёж, стояла к классу спиной. Даже и тогда никто не дерзал шелохнуться.
Вычерчивая аккуратную фигуру, она, не оборачиваясь, вдруг делала заслуженное замечание:
– Судаков, не проверяй меня по учебнику, я знаю его наизусть.
И этим она лишний раз укрепляла бытовавшее среди учеников мнение, что она следит за классом, пользуясь зеркальным отражением в стёклах очков.
В классах, где преподавала Александра Александровна, не переставали обсуждать чудесные свойства её очков, и при этом мнения разделялись. Одни утверждали, что очки эти – необыкновенные, и поэтому она носит такие старые, с треснувшей оправой, а не покупает новых; другие же уверяли, что очки у неё обычные, что по всем законам физики линзы не могут играть приписываемой им роли и что дело в каком-то, пока ещё непонятном, скрытном маневре самой Александры Александровны: ведь глаз её никто никогда не видел.
Пытливый школярский ум использовал любую возможность для разгадки. Приоткроется дверь учительской, мелькнёт там лицо Александры Александровны, когда она смеётся, – и всем уж думается, что это она смеётся над всеобщим неведеньем, что это рассказывает она учителям о своей тайне – да разве у них спросишь! Или разве спросишь у мужа Александры Александровны, школьного завхоза, который и без того зол на всех и каждого то за спущенное в трубу школьной печки полено, которое потом приходилось выуживать с крыши же багром, то за снятую с петель дверь школьного сарая, которая валилась на завхоза, едва он брался за ручку.
Словом, тайна оставалась тайной, чудо – чудом, к которым привыкли, и ни один, даже самый рисковый ученик, не решался ради эксперимента махнуть рукой во время урока, когда Александра Александровна писала на доске, а предпочитал, как и все, принимать её педагогический приём на веру. И вот каждый день по целому часу все классы по порядку, по расписанию, томились неподвижностью, а пуще – неизвестностью.
И был урок Александры Александровны ожиданием конца её урока.
Когда уже были поставлены оценки в дневники и записано домашнее задание, когда в других классах уже слышалось оживление, обещавшее близкую перемену, тогда Александра Александровна прижимала журнал к груди, вставала, блестя очками, неподвижно перед классом – именно тут-то, ни секундой раньше или позже, и раздавался звонок.
– Урок окончен. Можете идти на перемену.
Но никто не двигался с места, как было ею же и заведено, пока она не выходила из класса. Потом все бродили, словно больные, и по классу ползло приглушённое:
– Шш… Змея очковая… Шш…
Не сумели ничего выведать и у дочки Александры Александровны её одноклассники. Эта возможность теперь упущена навсегда, так как дочка уже не жила в деревне, училась в городе, в педагогическом институте на филологическом (против воли матери) факультете, а вернуться в родную школу по окончании вуза не могла по той простой причине, что её будущие предметы вёл учитель бессменный – Степан Филаретович.
Никто в деревне не помнил, как давно он учительствует, и никому в голову не приходило, что когда-нибудь он перестанет работать в школе. Для одних он был бывший учитель, для других – учитель в настоящем, для остальных – в будущем. Так что когда он в субботу приходил в клуб, то ему приходилось кланяться направо и налево, отвечая на приветствия со всех сторон. И даже с киномехаником, тоже любителем футбола и тоже, конечно, его бывшим учеником, Степан Филаретович не мог потолковать спокойно, потому что из зала кричали теперешние ученики:
– Сюда, Степан Филаретович, мы место заняли!
А зал был полупустой.
И каждую субботу сдержанный смех во время сеанса обозначал место, где сидел Степан Филаретович. Туда перебегали мальчишки, и эта беготня не смущала взрослых зрителей, а женщины в передних рядах, сведя головы, переговаривались:
– Не заметила я: в калошах ли он в такую непогоду?
– Да чего ему будет! Он мужчина бодрый, непростужимый.
И точно: Степан Филаретович был всегда и у всех на глазах, даже в отпуск из деревни не отлучался, и, значит, никто не мог заметить в нём никакой перемены. Поэтому он не старел уже много, много лет.
Был он одинок, и – само собой – редкий день у него дома не засиживались ученики: кто играл с ним в шахматы, кто крутил на все каналы телевизор, кто копался в рыболовных снастях, а кто – случалось – и пробовал его маринованных грибов и солёных огурцов – это уж кто окончил школу.
К Александре же Александровне никто из школьников никогда не заходил, потому что не было к тому повода, хотя и была такая дерзкая идея насчёт очков: узнать, носит ли она их дома или же надевает только в школу, – и тем прояснить неизвестность. Но однажды такая возможность предоставилась всем.
Раз Александра Александровна, к всеобщей радости, не пришла на урок и совсем не вышла в тот день. В школе стало светло и празднично, как перед весенними каникулами. Сказали, что она заболела из-за нервной перегрузки на работе. Часть уроков заменили, и особенно повезло тому классу, в котором урок Александры Александровны стоял в расписании последним: всех отпустили домой!.. Но на другой день, хотя Александра Александровна опять не вышла, в школе было тягостное молчание. Была организована общешкольная линейка, на которой объявили: сходить к Александре Александровне домой, сходить «в последний раз». И это всех напугало. Каждый ученик дрожал именно потому, что при последней-то встрече Александра Александровна – а ведь в эту минуту раскроется её тайна! – обязательно задаст по первое число и за «очковую змею», и за неприязнь тайную и явную, и за радость во время её болезни. Одни сослались на неотложные домашние дела, другие отговаривались тем, что якобы уже были у неё дома, а кто не сумел избежать этого посещения, тот, подходя к дому, подолгу мялся у крыльца и трепетал, видя бледные лица выходивших. Но волнения были напрасны: Александра Александровна отпускала заходивших к ней с миром. Хотя все и сдерживались от разговоров, но уже всем, и даже тем, кто ещё не заходил, было известно, что Александра Александровна в доме лежит, что глаз её и сейчас не видно, но что и ей не видно никого, теперь уж совсем: глаза её закрыты двумя тяжёлыми пятаками.
Не боясь быть наказанными за откровенность, однажды ученики поведали свои сомнения Степану Филаретовичу, а тот сказал:
– О фокусах с очками я, разумеется, премного наслышан. Но, братья! Давайте условимся больше не трогать этой темы. Да и что спрашивать меня, если не знаете вы!
И этим он расстроил последние надежды на разгадку.
Ярославль, ноябрь 1983
На чай
– Прие-ехал, на-ко ты, прие-ехал!.. Уж с месяц, посчитай, как не бывал. На-ко ты! Сердешный… Да уж! Не скажешь, что Софья не ждала. По субботам-то каждый автобус глазами встречаю. Ну да приедет! Эта тётка уж всегда начеку. Уж знаю: у Павлика на заводе выходные два дня: суббота да воскресенье. Из-за одного дня, знамо, не поедет. Раз в субботу нет – дожидайся другой недели. А он в воскресенье… Сегодня ведь воскресенье?.. Да, да! Вчера, помню, субботний-то листок отрывала.
Бабка Соня сидела на табурете, прислонившись к печке, и лицо её выражало терпеливое ожидание ласкового разговора, умилённые морщинки лучиками разбегались от глаз. Она ещё не совсем поверила, что перед нею сейчас Павлик, её единственный внук, и чувствовала себя так, словно её разбудили среди ночи. Она и правда ждала его каждую неделю, то есть каждую субботу, и вся её жизнь в последние три года, с тех пор как умерла от сердечного приступа дочь, мать Павлика, состояла в ожидании суббот, в каждодневном отрывании листков с настенного календаря и даже в заглядывании на следующие листки, будто могло случиться так, что после понедельника окажется среда, а после четверга – суббота, и если внук не приезжал, если долгожданный день проходил впустую, то она ещё субботним вечером срывала ненавистный листок, срывала – и сразу влюблялась в следующую субботу, опять торопила дни, листая календарь и даже снимая его со стены. То-то ей и не верилось теперь: пустой вчерашний день миновал, разлюбленный листок оторван и засунут по привычке под клеёнку на столе (вдруг там написано интересное), настало уже воскресенье, первый – как повелось для неё – день недели, недели ожидания, а Павлик – вот он.
Бабка Соня поёжилась то ли от озноба, то ли от предчувствия чего-то неприятного, поправила платок и опять прислонилась к печке, устроилась поудобнее, чтобы лучше разглядывать Павлика.
– На-ко ты! Воскресенье – а приехал… Батюшко мой…
Павлик – тридцатилетний мужчина, полный, коротко стриженный, с круглой, как оладья, плешью на затылке, с поросшими густой чёрной щетиной щеками – жадно хлебал щи, склонившись над тарелкой и широко расставив локти на столе; ноги его, одна на другой, были вытянуты для того, казалось, чтобы поддерживать обвисший живот. Он приехал совершенно иззябнувший, заморённый, с блаженным взглядом непроспавшихся глаз, и когда безвольно целовал бабку, то пахну́ло перегаром; у него была бутылка водки, и пока он не выпил две стопки, есть не мог. С самого приезда он сказал всего несколько слов: «Здравствуй, бабуся… Мне бы пожевать… О-о…» И теперь бабка Соня ждала, когда он насытится и заговорит с нею.
Внук вообще приезжал редко и почти никогда один, а всё с женой и дочкой: жена не отпускала его далеко от себя; только летом наезжали чуть не каждый выходной, а дочку оставляли с бабкой и на месяц. Она, правнучка Маринка, второклассница, даже и летом чудно мечтала о зиме: ей почему-то казалось, что зимняя деревня для того только и есть на свете, чтобы кататься на лыжах с горы, и в зимнее время надоедливо просила родителей брать с собой лыжи из города, а те ленились таскаться с ними по автобусам и всё откладывали до погожего якобы дня. Хотя – уж так получалось – приезд в деревню и погожий день никогда не совпадали, бабка Соня всё-таки не укоряла ни Павлика, ни Викторию, его жену: она была рада и одному желанию Маринки.
Опорожнив тарелку, Павлик полными плечами привалился к переборке, положил на живот ладони и, глянув матовыми глазами на бабку, наконец-то проговорил:
– Бабу-усенька…
У бабки Сони задрожал подбородок, она тяжело поднялась, заковыляла к внуку.
– Уж ты, Павлик, не обижайся на меня, батюшко… Как хочешь, а я, старуха, тебя поцелую…
– Ну что ты, бабу-уся, какой разговор.
Бабка Соня прижала к груди тяжёлую голову и трижды приложилась к горячему, потному лбу, а Павлик, зажмурясь и улыбаясь, на каждый поцелуй отвечал коротко и бодро:
– Э!.. Э!.. Э!..
– Редеют волосёнки-то у батюшки, реде-еют… А ведь, бывало, каким ты был барашком чёрным!
– Переживём, бабуся. Садись, тебе ведь трудно стоять.
Павлик выпил ещё стопку и не стал почему-то закусывать.
– Ведь я тебя, родной, от самого пупа знаю. Таня, мама-то твоя, мама-то, сколько она с тобой пома-аялась!.. Не отстаёт Павлик от груди – да и раз! Уж такой был сосун – куда! Уж и подрос, пора бы отстать, а он всё ходит за мамкой, теребит за подол: «Ма-ама, ти-ити!» Одолил! – И бабка Соня затряслась в беззвучном смехе. – Татьяна, мама-то твоя, бывало, мне: «Чего хоть делать-то с ним?» А я думаю: ведь, и верно, не дело. Раз сидит Павлик на кровати, ножонки подвернул, а сам всё: «Ма-ама, ти-ити!» Я расстелила платок на полу, грудь Татьянину вынула на ладошку да вдруг её кухонным ножом вот этак, вот этак!.. Павлик глазёнки вытаращил – глядит. А я изловчилась да в платок-то и бросила тряпочку. Бросила тряпочку, завязала платок узлом и узелок тот подвесила на гвоздь к потолку. Бывало, как Павлик начнёт теребить: «Мама, тити!» – я ему на узелок и показываю: «Вона титя-то! Вона теперь где она!» Павлик глазёнками похлопает – да и уймётся. Так и отвык.
Павлик, слушая, думал о чём-то своём и то потирал лоб, то машинально покручивал стопку и смотрел исподлобья куда-то мимо бабки, а когда она умолкла, то не сразу спохватился:
– Неужели?.. Занятно.
– Тебе большое, Павлик, спасибо… – У бабки Сони опять задрожал подбородок. – Как хорошо ты могилку причередил маме-то своей: и оградка железная, и памятничек каменный…
– А как же иначе, – сказал Павлик, всё глядя мимо бабки, словно он был перед нею в чём-то виноват.
– Да-а, сердешный. Уж маме-то твоей ой какая память.
– Тоже ведь всё через знакомых.
– Скоро и мне… и мне…
– Брось ты, бабуся.
Павлик выпил ещё и сразу закурил.
– Ой! – спохватилась бабка Соня. – Да всё куришь? Вот бы тебе, Павлик, отстать, а?..
– Пардон. Иду на улицу. – И Павлик упёрся кулаком в стол.
– Что ты, что ты! Кури себе, кури… Пусть в избе мужичком попахнет. Да-а… А папа-то твой, папа-то, с войны пришёл совсем никудышный – не жилец, простуженный весь. А тоже ведь как курил! Ну а как ты народился, Татьяна, мама-то твоя, и говорит: «Бросай, Костя, курить, теперь, мол, ребёнок в доме». Вот Костя и бросил. А если б не ты, не бросить бы ему. Не-ет. Только уж из-за тебя. Да всё равно недолго пожил ненаглядный. Жалко Костю, жа-алко… Помнишь, Павлик, папу-то?
– Да как тебе сказать… Смутно.
– Да-а, маленький ты ещё был… Слушай, Павлик, чего тебе скажу. Как я помру, ты нашу кровь наследуешь. Ты ведь один у меня внук-от, один в роду. Уж ты смотри не урони-и…
– Бабуся! – взмолился вдруг Павлик. – Не терзай меня, прошу! И без того тошно…
– Не случилось ли чего, батюшко?
Павлик непоседливо поёрзал на стуле, словно собираясь встать, но опять сник и покрутил опущенной головой, потом взволнованно посмотрел на бабку, спросил плаксиво:
– Как ты-то, бабусенька, поживаешь? Как зимуешь?
– Да как… Помаленьку, батюшко. Дров-то много не жгу, иной раз в фуфайке дома сижу. В большие морозы западню открываю, чтобы тепло в подвал тянулось, чтобы картошка не помёрзла. А холодно бывает, бывает. Кошка вон жрёт, а у ней из пасти пар валит…
– Бабусенька! – вдруг перебил Павлик, часто дыша. – Скажи… скучаешь ты по нам?.. По Вике? По Маринке?
– Как не скучаю, сердешный! Скучаю, скуча-аю…
Павлик порывисто поднялся, шагнул к бабке и, словно провалившись, стукнулся перед нею на колени, ткнулся горячим лбом в её холодные гладкие руки.
– Ба-бу-сень-ка… а-а!.. – громко вздыхал он, плача. – Милая моя бабусенька… а-а!.. Одна ты у меня осталась на свете… а-а!.. Как бы я стал без тебя…
– Что ты, Павлик, что ты, – снисходительно и ласково сказала бабка Соня, довольная нежностью внука. – Вставай, сердешный, вставай, батюшко…
– Н-нет!.. Милая бабусенька, я обязан перед тобой… а-а!.. стоять на коленях… Всю жизнь буду… а-а!.. перед тобой стоять… Одна ты у меня…
– Да будет тебе, Павлик, будет. Вставай-ко. Или случилось чего?
Голова Павлика застыла, и, всё держа лицо опущенным, он проговорил глухо:
– Случилось.
У бабки Сони мелко задрожали руки, она пыталась вырвать их из рук Павлика, но тот держал крепко, не выпускал.
– Пав-лик… Чего?.. Ой как сердце-то… Чего?.. Да говори же!
Но Павлик упрямо крутил лысым затылком.
– С Викторией? С Маринкой?
– Нет. Со мной.
– Гос-споди!.. Вот отчего ты приехал-то сегодня! В воскресенье, никогда не бывало. О-ой… Я-то как чувствовала. Как ты ступил на порог, так мне и не по себе сделалось. Что-то, думаю, тут неладно. – Бабка Соня, наклонясь, требовательно заглянула в лицо внука, спросила строго: – Говори, Павлик, чего у тебя болит?
Тот шумно выдохнул:
– Ни-че-го не болит… Душа!
– Слава богу! – подняла глаза к потолку бабка Соня. – А я-то думала… Думала, хворый ты. Ну и ладно, раз здоров. Вставай-ко, батюшко.
Но Павлик своею тяжёлою головою придавил руки бабки к её коленям.
– Не встану, – твёрдо сказал он. – Пока не простишь.
– Прости-ишь? Да чего же мне, батюшко, тебе прощать-то?
– Пока не простишь.
– Пошёл к лукавому! Выдул бутылку-то, обрадовался…
– По-ка…
– Ну, прощу, прощу. Эко напился!
– Дай слово.
– И слово тебе на́, на́ тебе слово, только вставай.
Павлик резко вскинул голову, подставил бабке затёкшее, будто обваренное кипятком, лицо.
– Бабуся! – заговорил он с расстановкой. – Ты мне слово дала. Слово дала. Выручи меня. Спаси. Внука своего единственного!
– Ну балаболка…
– Знай же: я сегодня дома не ночевал.
Они оба разом замолчали, словно прислушиваясь, не стучится ли кто-нибудь в двери, – и тут же бабка Соня отпрянула от внука, будто от прокажённого, прижалась спиной к печке, грубо оттолкнула его лицо, но Павлик, как резиновый, лишь качнулся, цепко держась обеими руками за сиденье табуретки и подковой обхватил бабкины колени; его пьяные и упрямые глаза смотрели раскосо, в стороны, как у телёнка; бабка Соня пыталась встать, но лишь ткнулась животом в крепкую неподвижную голову.
– Ну-ко! – брезгливо-резко крикнула она. – Пусти меня!
– Не пущу. Ты… дала… слово…
– Вон ты како-ой!
– Да. Такой. Я сегодня дома не ночевал. Я ночевал в другом месте. Мы с тобой не дети. Тебе понятно, где я был.
– Ух ты, паразит! Как он ловко подъехал! Ух ты, тихоня!.. А я-то уши развесила! Чего натворил!.. Бедная Викто-орья… А Маринушка-то, девчоночка-то…
– Вот-вот. Не разрушь семью. Прошу тебя. Не говори Вике.
– Ишь чего захотел!
– Скажи Виктории, что я был у тебя два дня: сегодня и вчера, субботу и воскресенье.
– Чтобы я соврала-а?! Ну-ко подымайся, негодяй! Ишь впился, как клещ!
– Мы приедем на тот выходной. Скажи Вике. Я всё продумал.
– Вон как закрутил, образина!.. То-то я гляжу. И не бритый, и голодный, и с перепою. Гад ползучий!
– Мало. Мало ругаешь. Легче, когда выговоришься. Ударь меня. Ещё легче будет. Ударь. Но представь Вику, Маринку…
– За-мол-чи! Тьфу!
– Мало. И этого мало. Плюнь мне в морду. Скажи Вике.
– Ой, гадёныш… От жены блудить! С потаскухами мараться!
– Маринка, твоя правнучка Маринка, она не виновата. У неё за четверть одни пятёрки. Я ей настоящий лыжный костюм куплю. Нет, пять костюмов. И лыж куплю дюжину. Нет. Две дюжины. Она мечтает приехать к тебе. К тебе. Она хочет покататься с горы за двором.
Бабка Соня охнула и закрыла лицо ладонями.
– Меня не жалей. Пожалей их. Всё будет как прежде. Ведь ты дала слово. Скажи Вике, что меня подвёз знакомый по пути. Телефона в квартире нет. Я не мог предупредить. Скажи, что я приезжал на чай.
Павлик измождённо уронил голову, кряхтя поднялся, опершись на бабкино колено, мотнулся, подошёл к столу. Покачиваясь взад-вперёд, он выпил остаток из бутылки и долго держал бутылку над стопкой, капая то в неё, то мимо, потом резко выплеснул из стопки в себя и так остался стоять, закинув голову и всё качаясь.
Бабка Соня, закрывая лицо ладонями, между пальцев следила за ним, смотрела ему в спину, в широкий бычий затылок и уже не плакала, понимала, что сейчас ей плакать не время. Она испытывала тот же нетерпимый страх и ту же ясность, что ей надо немедленно что-то делать, как и тогда, когда Павлик, ещё ребёнком, подавился рыбной костью и она неволила его глотать хлебные корки и сама, показывая ему, наглоталась досыта; или когда он, уже подростком, угорел в бане и она тащила его, голого, на плече домой и натирала ему виски луком; или тогда, когда он, только придя из армии и ещё не устроившись в городе на завод, загулял, стал похаживать к одной неприхотливой бабёнке в соседнюю деревню и возвращался под утро, и она, щадя больное сердце дочери, в те дни не встававшей с кровати, умалчивая о возможной близкой беде, тайно, ночью сходила к той злополучной бабёнке и выговорила ей, запретила пускать к себе внука. И вот сейчас она, даже не слыша саму себя, невольно прошептала:
– Ладно, ладно…
Но Павлик, закинув голову, всё покачивался.
– Ладно, ладно, – чуть громче прошептала она.
Павлик, наверно, услышав её, перестал покачиваться, вздохнул, сказал рассудительно:
– Теперь мне хоть в петлю.
– Да ладно, – нетерпеливо и громко сказала бабка Соня. – Слышишь ты, ладно!
Павлик, словно очнувшись, медленно подошёл к ней.
– Святая, святая…
Стоя на коленях, он целовал ей руки, подол её платья и всё говорил и говорил, а бабка Соня, опять заплакав, теперь уж от умиления, от радости, что беда не коснётся внука, играючи постукивала кулачком по его лысине.
– Что, что для тебя должен я сделать? Что? Приказывай! Ну! Ну же! Хочешь… Хочешь, я…
– Слушай, чего тебе расскажу, – посмеиваясь, заговорила бабка Соня. – Знаешь, как я за водой-то хожу? Коли много снегу нанесёт, так мне и до колодца не доползти. Вот я сперва тропинку и промну. Раз пройду порожняя, потопчусь, другой раз, а уж потом и воды полведра несу. Вот какая стала тетеря!
Павлик, только тут заметив, что бабкины руки вздрагивают не от плача, а от смеха, болезненно покривился, недоверчиво хмыкнул и захохотал, потрясая полными плечами и то откидываясь назад и садясь на пятки, то тыкаясь лбом в колени бабки.
– А уж коли сугробы не в силу велики, так из огорода снегу натаскаю в таз. Таз поставлю в печку. Как чаю попить – вот я снегу и натаю.
Павлик оборвал свой смех и, восторженно глядя на бабку, завопил:
– Бабуся! Святая моя! Скажи, сколько тебе принести воды? Сколько? Я буду носить всю ночь!
– Да много ли мне, старухе, надо? Вон на крыльце два ведра пустые…
– Нет! Сколько?
– Да уж сходи разок-от, проветрись.
– Да нет! Нет! Ты скажи, сколько именно вёдер тебе принести? Сколько именно? Скажи – сто!
– Ну-у, батюшко! Мне ведь не на баню.
– Нет! Ты смеёшься. Ты издеваешься надо мной! Потому что теперь я завишу от тебя! Потому что теперь я в неоплатном долгу перед тобой! Скажи, сколько вёдер? Скажи!.. А-а!..
Павлик зарыдал, качнулся и повалился на пол. Бабка Соня его, рыдающего, со слюной на подбородке, тяжёлого, неподатливого, с заголившимся из-под рубашки животом, еле дотащила до дивана. Павлик и там не унимался. Фыркал, кашлял, уткнувшись в подушку, – и вдруг захрапел. Бабка Соня расторопно подошла к нему и повернула его голову лицом на волю.
…Она разбудила внука рано, на первый проходящий автобус, зная, что ему сегодня, в понедельник, надо на работу. Ещё вчера она приделала все свои дела: оторвала воскресный листок с календаря, долисталась до следующей субботы, потешила себя мыслью, что в субботу эту непременно будут у неё гости; потом натаскала снегу в таз и ещё в два ведра, чтобы наутро было даже чем и умыться. Павлика, так и спавшего не раздетым, она еле подняла:
– Вставай, Павлик!.. Да подымайся же, пора!.. Иди-ко, сердешный, попей чайку таленького.
Ярославль, 30.11.1983
Желанный
У старой Лизы было ладно на душе: парнишка оказался послушным – без горя с ним одну-то неделю. Когда родители уезжали, когда уже прощались у «Москвича», он, внучонок, стоял перед ними и, задрав голову, переводил понимающие глазёнки с мамы на папу; стоял как-то чудно́ – руки за спину; не плакал, не допытывался, когда они вернутся; раз так делают – значит надо; не боялся остаться с нею, с бабкой Лизой, хотя в деревню дочка с мужем привезли внука впервые.
А привезли внучонка к ней, в ярославскую деревушку, издалека, «из Питера» – так сказали; мол, сейчас оба в отпуске, едут по какому-то «кольцу», и когда «кольцо замкнётся», возьмут сына, а пока, дескать, пусть он поживёт «в первобытных условиях, понаблюдает флору и фауну, подышит озоном». Лиза поняла так: гостить приехал желанный; сколько раз писала, просила – не видывала ни разу.
Одно смущало Лизу: в письме имя внука не могла разобрать. Родители сказали: «Зовут его, мамочка, Робертом». – «Как, как?..» – переспросила Лиза. «Ро-берт. Ну, может, видела по телевизору поэта – Роберта Рождественского? Вот и нашего зовут так же. Поняла?» Лиза помолчала, потом спохватилась: «Как же, как же!.. На телевизор, бывает, хожу смотреть к Васильевне, зимой не раз у неё сидела… Как же!..» И Лиза хотела позвать внучонка, но лишь заморгала часто и закрыла рот ладошкой: «Напишите хоть покрупнее…» Зять достал из машины блокнот, написал печатными буквами. Лиза прочитала сначала шёпотом, затем громче, так что внук удивлённо посмотрел на неё, и она, довольная, что получилось, сказала ему весело: «Просился, чай, к бабке-то? Гости себе на здоровье!»
И вот теперь, оставшись с ним наедине, Лиза озадаченно думала: «Неуж Робертом и кликать? Нет бы Ванюшка или Колюшка… Как бы попроще-то, поласковей? Робертушка?.. Ругательно выходит – боже упаси!»
Между тем внук, заложив руки за спину, испытующе, снизу вверх, смотрел на неё.
Лиза сказала бодро:
– Когда, говоришь, тебе в школу-то?.. – И тут само собой сказалось: – Робка?
Роберт, услышав заискивающий голос, подёрнул гордо плечом – и пошёл от неё, но всё-таки обернулся и сказал так, как был, видно, приучен:
– Толь-ко две, только две зимы-ы!.. Учли?
– Вот оно что! – опять бодро сказала Лиза, а сама подумала: «Об чём это он спросил-то?..»
Роберт – он был в безрукавой рубашонке с карманом на груди, в коротких штанишках – побродил малость по двору, но, видимо, ничего интересного не нашёл. Подойдя к крыльцу, он поставил ногу в сандалете на ступеньку и как бы между прочим оглянулся на бабку.
– Поди-поди, Робка, в избу! – тотчас крикнула Лиза. – Иди куда хошь!
– Не подумайте, я самостоятельный, – ответил Роберт. – Учли?
«Вот об чём спрашивает? – гадала Лиза. – Как хоть с ним водиться-то?..»
И как этот тон между ними завязался – внук молчит, а она, Лиза, боится спросить, чтобы избежать его ответного непонятного вопроса, – так и дальше стало. Но ей как хозяйке было неловко молчать при госте, и она всё тем же бодрым и ласковым голосом рассказывала о том, что делала:
– Вот сейчас будем муку сеять, завтра тебе пирожков напеку с черникой… Теперь на огород пойдём за луком, за стрелками, будем на ужин яичницу с луком жарить… Вот и матрац и подушку для тебя на солнышке посушим…
Роберт смотрел на всё с раскрытым ртом, будто только что проснулся – и не знал где. Он ходил за бабкой молча и всё с заложенными за спину ручонками, приглядывался и к делу, и к ней самой.
Лиза набрала в кладовке яиц, лежавших в коробке из-под ботинок, и пошла на кухню, но Роберт, чем-то заинтересованный, остался. Он ещё раз открыл и закрыл дверь кладовки, потом, взявшись за ручку, долго играл дверью, туда-сюда, прислушиваясь, присматриваясь к петлям. Лиза слушала-слушала, вышла в коридор как бы по делу, глянула на внука, а вернувшись на кухню, удивлённо прошептала:
– Неуж у них там, в Ленинграде, и двери не скрипят?.. – Но тут она вспомнила, что в кладовке яйца лежат на самом виду, и крикнула внуку: – Робка! Может, ты сырого яичка хочешь?
Роберт, шлёпая сандалетами, подошёл к столу и, значительно кивая на каждом слове, сказал с расстановкой:
– У меня режим – трёхразовое питание. Учли? – И убежал.
Лиза промолчала, отчаявшись понять, о чём он всё спрашивает её.
Поскрипев дверью, Роберт хлопнул ею так, что из щелей в потолке коридора посыпалась пыль. После этого некоторое время было тихо, потом внук на цыпочках – половицы-то в коридоре тоже скрипели! – подкрался к прихожей и заглянул на кухню, на бабку. Лиза, кроша лук, притворилась, что не заметила этого.
А Роберт принялся за другую дверь. Та, что из прихожей в коридор, закрывалась сама – дом был старым, покосившимся, – поэтому сейчас, летом, чтобы в комнатах не было душно, Лиза держала эту дверь открытой, припирала её кирпичом. Роберт кирпич отодвинул – дверь закрылась, хлопнула громко, он ещё раз открыл её – ещё раз хлопнула, и ещё, и ещё. И каждый раз звенели стёкла в окнах, с потолка сыпалось теперь и в прихожей, и каждый раз Роберт ворошил свои волосы, стряхивая с них… Другая дверь, из коридора на задний мост, наоборот, сама открывалась, и в притворе был наколочен кусок войлока. Роберт вышел на задний мост – Лиза выглянула: не упал бы там! – затворил за собою дверь, ударившись в дощатую стенку кладовки, и опять, и опять…
Лиза сосредоточенно крошила лук и никак не могла привыкнуть к этому грохоту: при каждом ударе рука с ножом вздрагивала, словно её толкали под локоть. Но Лиза приспособилась: едва хлопнет – быстро крошила, потом пережидала очередной удар.
За ужином Роберт, сев к столу, сказал, глядя в свою тарелку:
– Приятного аппетита, – словно был чем-то недоволен.
И когда Лиза потчевала его, он отвечал, всё так же не подымая глаз:
– Спасибо… спасибо…
Когда на кухню вбежала кошка, любимая Лизой Цыганка, и, подняв хвост, стала тереться под столом о болтавшиеся голые ноги Роберта, он пнул её сандалетой и, наморщившись, точно яичница была горяча, стрельнул глазами на бабку. И Лиза опять не повела бровью, подумала: «Только бы ел…»
Вставая из-за стола, Роберт уж только буркнул нехотя:
– Сибо…
В передней комнате, укладывая внучонка спать, Лиза извертелась у его кровати, поправляла подушку, одеяло, а когда чуть отошла, Роберт повернулся к стене, положил ладошку под щеку и сказал:
– Спать надо на правом бочке. Учли?
Только тут Лиза и смекнула, что это короткое словечко вовсе не требовало ответа: ведь внук сразу же заснул.
А Лиза всю ночь не спала, взволнованная тем, что в её доме наконец-то живёт – а сейчас мирно дышит – её долгожданный внучонок; и она, в своей спальне, боялась пошевелиться, чтобы не заскрипели пружины её ветхой кровати. Было непривычно тихо, потому что она остановила ходики, висевшие над внуком, чтобы они не тревожили его. Она слышала далёкий тающий гул ночного самолёта, слышала, как чмокает, облизываясь, Цыганка на коврике около кровати, и всё думала, а когда забывалась, то невольно проговаривала вслух:
– Да пусть себе хлопает!.. Не зима – избу не выстудит… Но мудрён, мудрё-он…
И тогда на её слова, слабо мяукнув, отзывалась рядом кошка.
Ранним утром, когда ещё и воробьи только-только вылетели из-под конька крыши, Лиза на огороде выкопала несколько лунок картошки. Нынешняя картошка была хоть и мелкая – да зато свежая, вкусная. Лиза поставила картошку вариться; хотела сделать к завтраку окрошку и собралась было за сметаной к своей давнишней подруге Васильевне, державшей корову, но передумала, не пошла: та стала бы расспрашивать её о внуке, а Лиза не знала, как отвечать – хорош или плох.
– Подожду, – сказала себе. – Уж чего сегодня будет…
И приготовила из картошки пюре.
Потом со светёлки принесла черники, за которой, ожидая гостей, сама ходила в лес; принялась за тесто.
То и дело она заглядывала в комнату, прислушивалась: внук всё спал. И она растерялась даже, когда вдруг на кухню в одних трусиках и тапочках вошёл Роберт; в руках у него была зубная щётка и тюбик пасты.
– Робка! Да как же ты сам!..
– «Доброе утро» сначала говорят, – ответил сонно внук.
Лиза засуетилась.
– Надо же, как приучен… Вот тебе, Робка, скамеечка, а то высоко до рукомойника.
Роберт помялся.
– Вы не скажете папе, что я гимнастику не делал?
– Что ты, что ты, желанный, что ты, кровинушка!
Пока Роберт чистил зубы, Лиза придерживала его и всё приговаривала, довольная, что он её хоть о чём-то попросил:
– Я да скажу!.. Бог с ней, с зарядкой-то.
А Роберт с полным ртом пасты, подняв подбородок, чтобы не накапать на грудь, прошепелявил:
– Ога нет – есть осмос!
За столом он болтал ногами, загнул клеёнку.
– Где же кот?
– Кошка-то? Леший её ведает, где она, прохиндейка… Ты ешь, желанный, ешь!
Радовалась Лиза: куда разговорчивей был внучонок сегодня; и она уже жалела, что не пошла к Васильевне, не рассказала про него, не похвасталась, а теперь весь день от него не отойдёшь и до следующего утра надо ждать-крепиться.
Когда она поставила перед Робертом тарелку пюре с жёлтым глазком масла, он охотно подул на вкусный пар, клубившийся у его лица, потом размазал масло по всей тарелке, донёс ложку до рта, повёл глазами – и вдруг сказал твёрдо:
– Хочу пирожков!
– И верно, милый, и пирожками наешься! Гли-ко! – И Лиза поставила на стол полную миску горячих пирожков с черникой.
Роберт с удовольствием съел полпирожка, запивая клюквенным киселём; густой черничный сок вытекал из пирожка и капал на полотенце, которым Лиза накрыла внуку коленки; прожёвывая, он положил остаток пирожка, пошлёпал клейкими пальцами, облизал их, посмотрел и снова облизал.
– Это что? – показал бабке пальцы.
– Вот она какая – ягода черника! – обрадовалась вопросу Лиза. – Теперь у тебя не только пальцы – язык будет чернильный!
– Да?!
– Ещё какой чернильный! После завтрака поглядишь в зеркало.
– А принеси зеркало сейчас сюда…
– Ешь пока, потом и сам посмотришь.
– Ну принеси зеркало…
– Ешь, потом…
– Зеркало!
– Ну сейчас, сейчас, дитятко…
Лиза отвязала зеркальце, висевшее в прихожей на гвозде, принесла на кухню, поставила, держа крепко, на стол перед Робертом. Тот высунул язык, пополоскал рот киселём, опять высунул – и отодвинул миску с пирожками.
– Не буду!
– Да почему же, батюшко? Горячие, с черникой…
– Потому что: бе-е-е… – И он показал бабке фиолетовый язык. – Учли?
Лиза не обиделась: сама же научила. Заторопилась на улицу, ей теперь было не до хозяйских дел: надо было следить за внуком.
Кое-как она скоротала время до обеда; попросить Роберта побыть дома хоть самую малость она не решалась, поэтому была даже рада, когда он снова начал хлопать дверями: она успела за это время вымыть посуду.
Лиза уже не рассказывала вслух о том, что делает.
– Чего говорить-то? Вчера, небось, всё переговорила…
Пообедать она внука еле упросила.
Была теперь и другая забота: уложить его на «тихий час», как она обещала дочери. Долго Роберт не соглашался забираться на кровать, и только напоминание о папе спасло; зато уснул он быстро.
– Режим! – догадалась Лиза, вспомнив внуково словечко, и решила: – Пусть теперь спит, покуда сам не проснётся. – И занялась хозяйством.
Минул час, другой – и вдруг она с улицы услыхала восторженный хохот в доме; бегом, как могла быстро, приковыляла Лиза в комнату. Роберт, босой, в одних трусиках, прыгал на полу и хлопал в ладоши, глаза его ликовали: по комнате порхал воробей, залетевший в открытую дверь с крыльца. Воробей то садился на шкаф или на деревянную рамку с фотографиями, то, пугаясь крика и близости людей, тукал клювом в стекло, шуршал крыльями по невидимой преграде; обратно, в двери, он или не догадывался лететь, или боялся скакавшего там Роберта. И Лизе было потешно, следила же она не за воробьём – за внучонком.
И вдруг что-то быстрое, гибкое, чёрное, словно брошенное в дверь, влетело в комнату, метнулось, чуть касаясь стены, к потолку и мягко прыгнуло на пол – воробей был в зубах Цыганки. Она зло и дико поглядела на людей, загородивших дверь, и юркнула под кровать.
Заверещал Роберт, заойкала Лиза, оба кинулись к кровати, но только заглянули – Цыганка проскочила мимо них и в два прыжка была на улице.
Лиза причитала, утешая Роберта, да напрасно: Роберт увернулся от руки, тянувшейся к его голове, и проговорил:
– Чтобы эту особь я больше не видел! Учли?
Лиза чувствовала себя виноватой: ведь её кошка; боялась сказать внуку слово, только скорбно качала головой, следя за ним. Роберт степенно оделся и пошёл на улицу, в огород.
Клубника была давно снята, а помидоры ещё и не желтели; Роберт прямо по грядам, топча зелёные метелки, – он, наверно, и не подозревал, что это морковь, – прошёл к засохшему гороху. Лиза уже собрала горох на семена, но много стручков оставалось. Роберт сорвал серый сморщенный стручок, вышелушил, попробовал горошину, но не мог и раскусить; однако он для чего-то набрал стручков и пошёл в дом. Лиза, конечно, за ним. Всё так же молча и как бы не замечая бабки, Роберт стал шелушить стручки, набирать по полной горсти и бросать в окна. Дробно звенело оконное стекло, разлетался, катясь и прыгая, по комнате горох – а Лиза сокрушённо молчала и боялась только одного: как бы внучонок не наступил на горошину!
Но вот все стручки кончились; Роберт, перед тем как выбежать на улицу, поднял одну горошину с пола и положил в кармашек рубашки.
Лиза торопливо, украдкой, подмела горох и ссыпала в мешочек на семена: памятный будет посев!..
Ночью ей и на ум не пришло спать. Она дождалась, когда домой пришла Цыганка, и покормила её мясом, чтобы та, сытая, дольше не возвращалась.
Словно больная, вздыхала Лиза и не могла навздыхаться. Она со смятением представляла, как Васильевна, к которой ещё в обед ей так не терпелось сходить, настойчиво задаёт один и тот же вопрос: слушается ли внук, слушается ли?.. И Лиза отмахивалась рукой в темноте, словно от мухи, от этого навязчивого видения и в то же время как бы оправдывалась:
– Чего говорить – одолил! Бедо-овый!.. Сегодня чего – середа или четверг?
Вчерашнее пюре прокисло, пирожки засохли – внук и свежие-то не ел; Лиза сидела на кухне, сложа руки на коленях, и думала, как ей казалось, о том, что приготовить на завтрак.
– День-то бегает-бегает, а к столу не назовёшься! В чём и душа держится?.. Что вчера вытворял: и дверями хлопал, и по грядам носился, и горохом пулял. И как не утомится-то! Ранёшенько – а уж на ногах.
Ей даже не верилось, что так получилось: внук приехал – а на душе неуютно.
Лиза стояла у кровати над ним, спящим, и ей чудилась складная картина: вот он скоро проснётся, вот она его оденет, накормит, поведёт через всю деревню показывать Васильевне, его, послушного, отзывчивого на ласку…
– Ну чего вот ему надо? Ведь и не строжу – бегает, где вздумает. И ни в чём не перечу, а ведь за ним глаз да глаз нужен… Вот чего он сегодня ртом дышит? Не простудился ли? Не нос ли у него заложило?..
Роберт спал, разбросав ручонки по подушке, нахмурив еле приметные бровки, точно с гневом мирился с необходимостью спать. Дышал он на самом деле ртом, из мягких губ сочилось тёплое:
– Ка – ка-а… ка – ка-а…
Задумалась Лиза. Вчерашним погожим днём внук простудиться не мог; ночью не кашлял, и голова – она потрогала – не горит… И тут она кинулась к его рубашке. Дрожащими непослушными руками отыскала кармашек, сунула в него три пальца – пустой!..
– А где же горошина?
Теперь уж Лиза с нетерпением ждала, когда внук проснётся.
Утром Роберт пришёл на кухню уже без зубной щётки.
– Вы не шкажете маме, что я шубы не шистил?
Лиза ладошкой закрыла глаза: или простудился, или горошина в носу.
У неё была ещё надежда: что говорит ребёнок «в нос», что жуёт, не закрывая рта, одновременно ртом дыша, – это ещё ничего, это бывает, когда простуда нос заложит, это ещё полбеды. Но вот страшные приметы: ест внук с показным, натужным аппетитом и, главное, бабкиному вниманию не удивляется: так и есть – беда!
Лиза выждала, когда он поест, и спросила впервые строго:
– Робка, ты почто себе в ноздрю горошину засунул?
Роберт замер на минуту, покраснел – и на улицу бегом.
– Батюшки!.. – И где стояла Лиза у лавки, тут и села.
До обеда она ходила за внуком по пятам, уговаривала, выспрашивала и не раз тянула к глазам угол передника.
– Робка, Ро-обушка… Да чего же ты натворил! Ой, да как же я, старая хрычовка, недоглядела! Ой, да как же я посмотрю отцу-матери в глаза!.. Ро-обка, задохнёшься ведь. Послушайся бабку-дуру, пойдём к фельшару, а?.. Недалеко это, в соседней деревне. А?.. Или высморкайся. Зажми левую ноздрю, а правой высморкайся.
– У меня нашморка в шизни не было.
И каждый раз, слыша его голос, Лиза закрывала глаза.
За обедом Роберт есть не отказывался, но ел опять же через силу, морщась, ленясь глотать. И это удручало Лизу, понимавшую, что внук ест, чтобы бабка меньше к нему приставала с уговорами. На «тихий час» она не стала его склонять, боялась, как бы во сне он не задохнулся: Роберт бродил вяло, глаза его слипались.
На бабкины уговоры Роберт не поддавался, как та ни старалась. Может быть, думала Лиза, силком его в медпункт свести? Так ведь упираться будет, кричать, дивить всю деревню, а главное, закричит – да вдруг поперхнётся!..
– Сколько мне горя с этим горохом! – причитала она. – Ну почто я его сажаю, мучаюсь? Только на семена и беру, сама ведь не ем… Да провались он сквозь землю! Хоть бы его мальчишки ночью оборвали – так им яблоков подавай. Хоть бы его дрозды обклевали – так этих с вишни не сгонишь…
Вечерело, близилась ночь, и Лиза решила сидеть возле внуковой кровати. После ужина Роберт совсем задремал. Лиза взяла его на руки, стала опять плакаться, а заглянула ему в лицо – он уж спит. Она уложила внука, голову на подушке повыше ему устроила, сама села рядом на табурет.
Пришла Цыганка с улицы, помяукала в пустой хозяйкиной спальне, потом прибежала, села у ног Лизы, удивлённо, навострив уши, смотрела то на неё, то на кровать, где слышалось упрямое:
– Ка – ка-а… ка – ка-а…
И заплакала Лиза:
– Цыганка ненаглядная… Какое горе на мою головушку! Вот ведь чего натворил, идол! Лучше бы он на этой проклятой горошине проехался да синяк себе нажил!..
Проснулась Лиза – и опешила: голова её лежит на подушке рядом с головкой внука, а сама она всё так же сидит на табурете. Рассветать начинает; значит, уснула-таки под утро, умаялась, не смогла третью ночь без сна. Прислушалась к дыханию внучонка – успокоилась.
Смотрит, и Цыганка спит на кровати в ногах у внука; Лиза взяла кошку под тёплое брюхо, вынесла на улицу: не дай бог внучонок увидит!
Пришла Лиза на кухню. Надо было за дело браться, а всё из рук валится. И стала она злиться и на себя, и на внука:
– Видать, надо с ним построже! Совсем распоясался! Вот ужо я ему!
Но не раз, пока она готовила завтрак, складная, светлая мечта о нежном и послушном внуке убаюкивала её сердце, и тогда Лиза, припомнив два последних дня, нарочно напускала на себя строгость, резко двигала кастрюлями и чугунами, кивала головой в сторону комнаты:
– Ужо я тебе!..
И вот она услышала за своей спиной:
– Вы не шкажете папе и маме, што я не умывался?
– Ишь чего захотел! – повернулась к нему.
Глянула Лиза на внука – и затрясло её: пол-лица у него опухло, правая ноздря округлилась, щека раздулась, и глаз превратился в щёлку, будто внук нагловато подмигивал бабке.
Кинулась Лиза к нему:
– Будешь ты сморкаться или нет?!
Но не хватило ей духу стиснуть покрепче слабую ручонку, и внук вырвался, убежал в комнату.
– Чтоб ему насморк подхватить! Может, тогда чихнёт!..
Немного спустя пошла она в комнату; видит, внук стоит у окна, насупился; сказала ему приветливо, как ни в чём не бывало:
– Что ж ты, Робка, убежал? Пойдём завтракать. Не буду больше тебя ругать. Бог с ней, с горошиной!
И за столом не умолкала Лиза:
– Что ж ты, Робка, кошку-то невзлюбил? Что воробья-то она утащила? Так и мне жалко его. А так ли надо? Воробьёв много, а кошка у меня – одна. Пусть она в избе живёт, а?..
Роберт покосился на бабку, и заплывший глаз теперь казался прищуренным подозрительно.
– Пушть шивёт…
«Какой уступчивый стал! – горячась, думала Лиза. – Будто золотая у него эта горошина…»
Когда дожили до обеда, она уже знала, как его заставить есть.
– Доедай суп, а то опять начну про горошину!
И Роберт слушался.
А после обеда она снесла его на кровать и сказала:
– Вот только не усни! Я живо тебя к фельшару. Он клещами горошину вытащит. Хочешь?
Роберт сонно покрутил головой, и скоро послышалась его мягкая песенка. Лизы кашлянула – не просыпается…
Наконец-то дождалась она этой минуты, о которой думала, которую ждала с самого утра. Поспешила она в огород, долго бродила по траве, искала что-то, нагибалась, рассматривала и опять искала. И вот торопливо зашаркала она в дом, села к внуку на кровать, перевела дыхание и склонилась над родным человеком.
В дрожащей руке её была травинка с мелкой кисточкой на конце. Не сразу всунула она её в левую ноздрю внучку, а когда всунула – стала катать травинку между пальцев, крутить её.
Роберт прервал свою песенку, наморщился, порывисто вздохнул – как чихнёт!..
Через час он проснулся. Счастливая Лиза не прозевала, сразу пошла к нему, спросила умилённо:
– Ну, желанный, чего тебе снилось?
Роберт вскочил, сел на подушку, закрыл ладошкой рот и, часто подымая плечики, подышал носом.
– Здоров, здоров теперь ты, Робка! Выскочила твоя хворь!
Роберт посмотрел на бабку одним большим и напуганным глазом, другим – узеньким и злым и заорал, брызжа слюной:
– Где моя горошина?! Ведь она должна была во мне прорасти! Как у факира!.. Ничего ты не понимаешь! Вызывай такси, я еду в Ленинград! Учла? Ты… ты – фурия!
Довольна была старая Лиза. Довольна, что у дочки семейная жизнь сложилась, что в большом городе живут, в хорошей квартире, не бедствуют, на своей машине приезжали. Довольна была внуком: ест хорошо, спит охотно, к порядку приучен, сам одевается, сам умывается, а что «спасибо» говорил ей только в первый день – так это ли горе!.. Довольна была и за себя, что сумела приспособиться к внучонку, нашлась, не растерялась, когда нагрянула беда. Опухоль пропала к приезду родителей, и они ничего не заметили, а, наоборот, похвалили сына, мол, поправился. «Он у нас гурман!» – сказали.
Довольна была Лиза, что было теперь о чём рассказать Васильевне. Когда та спрашивала, почему она не приходила всю неделю, Лиза отвечала: от внука не уйдёшь; когда та спрашивала, почему не приходила с внуком, – отвечала: опасно, мол, вдруг собака привяжется или мальчишки нехорошее слово скажут.
И терялась Лиза лишь тогда, когда Васильевна спрашивала, как внук её звал.
– Как же он звал-то меня? Вот память-то дырявая!..
Так и не могла она точно припомнить, но была уверена, что называл её внучонок или бабушкой Лизой, или бабкой Лизой – как же ещё!
Ярославль, 3 марта 1984
Молчаливая история
История эта молчаливая, враз никем не рассказанная, по полочкам не разложенная, о ней в деревне Погорелово мало и поминают, разве только мальком да намёком. Да и что понапрасну слова тратить, если всё всем известно и понятно; ведь тут не какой-нибудь вчерашний-позавчерашний случай, пустяк или не пустяк, о котором не терпится посудачить. Она, история эта, не разом ткалась, не в один присест, а как полотно – нить за нитью, неторопливо, не мозоля глаз, и пока ещё, на сегодняшний день, никто в деревне не изумился, не воскликнул: «На-ко что вышло!» – так, чтобы все погореловцы оглянулись и покачали головами. Для всех это даже и не история, а просто-напросто вот как: кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, и сначала, мол, было это, потом это, а когда было то, что было сначала, когда было то, что было потом, и когда, наконец, было самое последнее «потом» – никто из погореловцев не ведает, потому что от одной нити полотна заметно не прибавляется.
Да и трудно разобраться, с чего всё началось: с того ли, что одинокая и придурошная бабёнка-замарашка вдруг забеременела и родила; с того ли, что народившийся мальчонка, Ванюшка, едва он стал подрастать, уж очень стал походить на кого-то из местных; с того ли, что у него в школе обнаружилось плохое зрение и матке-недотёпе подсказали купить сынишке очки; или же с того, что, как Ванюшка очки надел, стал вылитый председатель местного сельпо.
Словом, долго выбраживало, да густо заварилось: с какой-то с Дунькой со Терёхиной, с этим Поло́халом-то, как её, непутёвую, кликали за болтливый и глупый язык, сам Иван Назарович спутался! И глаза ему опускать – не спрятать, как не убрать, не спрятать Ванюшку ни из деревни, ни из школы, ни со света белого. Привередлива же судьба: Дуньке-Полохалу, нечистоплотной, взбалмошной, никудышной, на которую ни один пьянчужка не позарился и у которой вся жизнь состояла в мытье полов в клубе да в дурацкой непоседливой беготне по деревне, – этой судьба подарила сына, невзначай дала смысл и радость всей жизни; Ивану Назаровичу, всеми уважаемому в округе человеку, председателю – а не просто так! – сельпо, – этому навесила тяжкий крест порока, подтверждённого ухмылками односельчан, упрёками жены и, главное, самою жизнью белобрысого очкастого сорванца. Да, видно, чересчур круто обошлась судьба, коли с нею не согласились погореловцы. С Полохалом дело ясное: всё была, придурошная, одна, как травинка, да и та сорная, – а тут сын, радёхонька, чего говорить. А вот Ивану-то Назаровичу каково! Разве не тошно ему бывает, когда он, важный, степенный, в дорогих пальто и шляпе, в больших строгих очках, вышагивает на виду у всей деревни – и вот навстречу ему семенит сопливый мальчишка с полевой, через плечо, сумкой, шлёпающей по заднице, и тоже, как Иван Назарович, светловолосый, и тоже круглолицый, и тоже – что главное – в очках, бежит навстречу и кричит, приученный школой здороваться с каждым взрослым, кричит радостно: «Здра-авствуйте!», на что Иван Назарович, как спохватившись, как бы только что мальчишку заметив, отвечает принуждённо хладнокровно: «Э-э… Добрый день». И жалко тогда бывает погореловцам Ивана Назаровича, и невольно припоминаются им тогда те частые случаи, когда он возвращается с охоты с развесёлой и богатой, на нескольких машинах, компанией, в которой всё нездешние, всё незнакомые, но такие же, как он, солидные и важные мужчины; или припоминается, когда его, Ивана Назаровича, видели случайно с девицей, тоже незнакомой, тоже, видно, приезжей, – и жутко тогда делается погореловцам от этой неведомой им полутёмной, полудикой жизни, жертвой которой Иван Назарович стал. Затеяла судьба игру без промашки: не родись Ванюшка похожим на Ивана Назаровича – не сделалось бы тайное явным, даже и не стали бы погореловцы гадать, кто Ванюшке отец: мало ли женщин рождает для себя одной. Но ещё усугубила положение и сама Полохало, несуразная баба, – назвала ребёнка Иваном.
И лишь к одному человеку из этих, связанных судьбой, трёх были добры погореловцы безоглядно – к Ванюшке: кто родился – разве он не прав! И даже как-то особенно были рады ему: ведь по какому случайному случаю явился он на свет… Ванюшка точно бы и сам понимал это: был он резв и весел. Да и что ему было за дело до всего и до всех. И верно: человек только ещё родится, а уж имеет мать, дом и деревню – родину, то место на земле – единственное, – которое он никогда не спутает ни с каким другим местом.
Напрасно предрекали погореловцы Ванюшке голозадое и впроголодь житьё. Хоть Полохало и не знает, для чего люди в зеркало заглядывают, хоть и забывает она подтягивать чулки, сползающие ниже коленей, хоть она и бегает и в клуб на полы, и в магазин за хлебом в одном и том же халате уборщицы, но Ванюшка у неё – бел-белёшенек. Не знали, выходит, односельчане всех изъянов Полохала: при деньгах – а замарашка. Но нет худа без добра: у Ванюшки и костюмчик, и ботинок не одна пара, и даже – на зависть одноклассникам – ручка с закрытым пером. И такой он ухоженный, подтянутый, да ещё и в очках, что поглядишь на него – и невольно подумается: не кого ли это из местного начальства сынок? А ведь так говорили: «Это Ванюшка по породе таков». И раз уж так говорили взрослые, то чего от мальчишек-подростков ждать!..
Прикинула, видно, судьба, что пора и Ванюшку втягивать в затеянный ею круговорот, дошёл, мол, черёд и до него. Учился Ванька уже в шестом классе, и было это для него, как и для сверстников его, волнующее, словно преддорожное, время, когда снятся нежно-удивительные сны и когда синяки под глазами молвят не только о мести за отказ подшпаргалить, но и о той волнующей, злой и чистой, зависти, которая ещё не названа ревностью. Именно в это самое время кто-то из приятелей и обозвал Ваньку Иваном Назаровичем. И узнал Ванька дрогнувшей душой то, о чём раньше и не думал и о чём, как оказалось, знают все. Видно, беспечально ему было возле матки Полохала, если только теперь, так неожиданно, он ощутил холодную пустоту в одной руке: все-то сверстники шли по жизни, держась обеими руками: за мать, за отца, – и стал Ванька искать и для другой своей руки тепла.
Вот и стал Иван Назарович с некоторых пор чувствовать на себе затаённый и щекочущий взгляд, и всё чаще и чаще попадался ему на дороге долговязый белобрысый очкарик, который говорил своё дурацкое «Здра-авствуте!» почему-то теперь издалека, а потом останавливался ожидающе и с недоумением смотрел на проходившего мимо – в эту минуту особенно торопливого – председателя сельпо; и всё труднее и труднее становилось Ивану Назаровичу придавать своему голосу степенность и важность, когда он выдавливал из себя: «Э-э… Добрый день». И без того тяжко было жить председателю сельпо в одной деревне с человеком, в котором он узнавал себя – мальчишку, а теперь стало невыносимо. Раньше Иван Назарович делал вид, что у него в жизни нет ничего такого, из-за чего бы ему волноваться, – и вот сделался его грех его же собственной тенью. Стал он бояться, как бы односельчане не подумали, что неспроста часто встречаются на дороге двое людей – мужчина и мальчуган, неспроста что-то бормочут друг другу – уж не договариваются ли о чём?.. И не вытерпел Иван Назарович этого своего подозрения, не сумел соблюсти себя до конца: сама рванулась его рука к белобрысой голове, схватила оттопыренное ухо, крутнула его так, что оно чуть не осталось в костистом кулаке, и простонал Иван Назарович, болезненно оскалившись: «Чего-о, чего-о тебе надо?..» А потом он пошёл своей дорогой, досадуя на себя за несдержанность, и нетерпеливо вытер руку носовым платком.
Был этот платок клетчатым, в голубую и розовую полоску – хорошо запомнил это Ванька, как хорошо запомнил он этот день, потому что за тем днём пошли совсем другие дни и совсем другая жизнь… Скрипнул Ванька зубами, перемогая боль и брезгуя ладошкой охладить горячее ухо, которого коснулась беспощадная чужая рука, – и вдруг встали перед его глазами те случаи, когда его мать и этот человек с чужой рукой встречаются на улице, как минуют друг друга, словно незнакомые, будто между ними не было и не могло быть ничего, будто – значит – не было и не могло быть его, Ваньки, будто – значит – он, Ванька, просто-напросто «ничего», пустое место. И была эта мысль для Ваньки куда больнее костистого кулака. Пришёл он в тот день домой и всё смотрел и смотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться: нет, он не пустое место, он на самом деле есть!..
И такие другие пошли после этого дни, что подал Ванька и вторую свою руку матери: перестал он капризничать и понукать ею, перестал спрашивать с неё модные брюки-дудочки, а стал уговаривать её, чтобы она не ходила по деревне в поношенном халате, а купила бы себе пальто. И Полохало, во всём привыкшая угождать сыну, купила-таки пальто – купила ему, Ваньке: о себе она думать не умела.
Ещё что сделал Ванька – это выкинул в пруд свои очки, а в школе сказал, что разбил. Но без очков он не мог ни читать, ни писать, и снова пришлось учителям подсказывать Полохалу, чтобы она купила сыну новые очки. Стоили, как оказалось, очки денег – и не стал Ванька новых очков топить.
Ивану же Назаровичу с того памятного дня стало жить куда легче: не попадался больше ему на дороге белобрысый очкарик. Правда, спилил кто-то ночью у него в саду самую большую яблоню и скосил кто-то ботву на ещё молодой картошке, но Иван Назарович уверил сострадателей-соседей, что это дело рук заводских, работающих в колхозе, и грозился им этого не спустить. А в душе он радовался, догадываясь, что эти пустяковые неприятности даны ему в обмен на другую одну – гораздо бо́льшую.
Но рос и мужал Ванька – и всё неотразимее становилось сходство двух чужих людей в Погорелове. И уж путали их погореловцы. Как, например, лучше сказать: Ванька поправляет очки, как Иван Назарович, или, наоборот, Иван Назарович поправляет очки, как Ванька?.. Простили Ваньке его похожесть на председателя сельпо лишь дружки-приятели, но горько обошлось ему это прощение: приятели ведь сказали, что ничего зазорного в этой похожести нет, что люди все грешны и что весь свет стоит на этом; горько было ему сознавать, что он, Ванька, – ходячее доказательство греховности жизни. И не было ему легче оттого, что приятели зовут его Иваном Назаровичем без желания обидеть: не хотел и не мог он принять этой простоты. И вот не стало у него приятелей. И всё-таки не чувствовал себя Ванька в деревне одиноким: грело его перворадостное чувство, грели его и синяки, полученные в драках (перед которыми он успевал-таки снимать очки) из-за одной лукавой одноклассницы. Но на выпускном вечере после окончания восьмилетки эта девушка сказала ему: «Не буду с тобой танцевать, а то получится ещё один Иван!» И поэтому он не пошёл в девятый класс – уехал куда-то. А куда можно уехать из деревни, как в город.
Судьба Ваньки, теперь уж, вернее, Вани, погореловцами была предрешена наперёд, опять молчаливо, необтолкованно, ибо чего и толковать о человеке, который, словно ком земли от подмытого берега, оторвался, отпал от родного дома, от деревни и которого понесёт теперь, как и тот ком земли по реке, по жизни, понесёт туда, где город, завод и армия и потом снова – город и завод. Ведь в мире – как в море. Да и какой ещё путь Ване, у которого и мать стыдоба-дурочка, и ни друзей в деревне, ни зазнобы, а одна только холодная нелюдимая сила, которая, вернее всего, и оттолкнула его от берега.
Что ж, плыви себе, Ваня Терёхин, куда кривая вынесет, шли непутёвой матке письма с неведомыми адресами на конвертах, с номерами частей войсковых, посылай фанерные ящики-посылки, рисуй корявым, в погореловской школе усвоенным почерком переводы. То-то будет, о чём погадать почтальонше, которая и на свет письмо посмотрит, и в пальцах помнёт, то-то будет хлопот любознательным бабёнкам на почте, которые твою посылку и покувыркают, и потрясут, то-то будет разговоров всей деревне от твоих переводов. И лишь одна забота останется: куда расходует бестолковая Полохало столько добра?
Но всё-таки не это больше всего удивляло погореловцев: ведь Ваня совсем от берега не отбился. Не только письма и посылки шли в деревню – он и сам приезжал. То он в шапке дорогой, мохнатой, то, однажды, в шинели, то в куртке с молнией, каких в сельповский магазин и не заваживали. Приедет – сойдёт с автобуса не на остановке, а у самого дома: то ли не хочет глаза мозолить, то ли не терпится ему. Только приехал – и вот уж на крыше латает дыры или чистит трубу или дрова пилой двуручной пилит; и огород поправляет, и гряды копает, и мостик через канаву налаживает.
А по деревне он не ходит, нет, даже и в магазин; курево, видно, с собой привозит. Если и отойдёт от дома, то разве до колодца, что через два двора, а если куда дальше – так это уж за грибами, в лес. Так помелькает Ваня у родного дома два-три дня – и опять его не видно полгода или год. И редко, редко кто успеет с ним словом-другим перемолвиться, да и то не много Ваня наговорит: живу, дескать, как живётся – и всё. Судя по тому, что одет опрятно и дорого, понимай, что жизнь ведёт правильную, трезвую; по тому, что кольцо на руке, понимай, что женат; а по тому, что письма от него бывают непрозрачные, тугие, догадывайся, что у него и дети есть, потому что кого же ещё фотографировать семейному, как не детей.
Много и к Полохалу было теперь любопытства. Раньше, когда она жила одна или когда ещё Ванюшка под стол пешком ходил, бывали у неё в доме соседки, сиживали у голого, без клеёнки, стола, слушали трепотню Полохала, головами качали, озирая пустые стены, нюхали нежилой дух. А как стал подрастать Ванька – всех отшила Полохало. Была дурой трепливой – стала дурой неразговорчивой. Никого теперь не пускала ни в дом свой, ни в душу свою. И всё хирела и хирела. С чего бы?.. И всегда-то была худа как доска, а тут и вовсе словно выжатая стала. Дивились люди: куда у неё пропадают деньги-добро, которые шлёт-привозит сын? И дурить стала по-иному, беспокоя людей: бегает по деревне ночью. Стучится, стращает хозяев: «Здря вы деньги на книжку кладёте – вдруг да сберкасса сгорит!» Тут-то и смекали люди, что дурь губит дурочку: голодом Полохало себя морит.
И вот однажды и день, и другой, и третий не видно её. Всем и ни к чему, да спасибо старушкам делать нечего, как только на лавочках балаболить, они-то первые и спохватились. Стали к Полохалу стучаться, не достучались, сняли двери с петель – а она мёртвая. Надо бы сына вызвать, а как? Хорошо, нашли пачку писем от него, по адресу на конверте отбили ему телеграмму. Заодно и подивились люди, сколько у Полохала «именья» преет без дела. А уж чулок с деньгами – который, конечно, должен быть – оставили искать сыну. Тот не сразу приехал из своего далека, мать к тому времени была уже на кладбище. Ваня сделал оградку на могиле, заколотил досками окна в доме – и уехал.
Старый домишко, в два окна по переду, остался ветшать. И с радостью, с радостью видел Иван свет-Назарович заколоченные окна. Так же наглухо, думал он, заколочено было теперь всё то неприятное, причиной чему был высокий, стройный человек в очках, который в последний приезд был вылитый Иван Назарович в пору возмужалых, сильных лет.
Правда, спал ли Иван Назарович спокойно или же всё-таки по ночам подушка под ним крутилась – этого никто не знает, были у погореловцев и сомнения на этот счёт. Речь к тому, что чья-то злая рука про всеми уважаемого председателя сельпо написала в город, и не куда-нибудь, а в «органы». Иван Назарович на это лишь посмеялся и даже не упустил случая намекнуть, что на охоту он ездит с людьми непростыми и что у него в райсуде товарищи-друзья. Так это или не так, но однажды приехали в Погорелово два человека, «обэхэсники» – сказали про них. Были они люди молчаливые и, когда шли к сельповской конторе, смотрели по сторонам добродушно и снисходительно, будто хотели сказать: «Ну и что из этого?..» Именно эти-то слова они и сказали Ивану Назаровичу, когда он заикнулся о своих знакомствах. И потом были два канительных месяца: Иван Назарович зачастил в город, точно работал там, правда, ездил туда без радости. Отделался он, хорошо, товарищеским судом, но, плохо, с председателей его всё-таки сняли. Да верно говорят: никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдёшь. Ивана Назаровича некоторое время не было видно, а потом он вдруг стал кладовщиком колхозного склада. Так что солидности в его осанке два приезжих молчуна немного поубавили. Да и чудно́ перечить уважаемому человеку. Есть дела и почуднее.
Подкатил однажды к заброшенному домишке грузовик с городским номером, а в грузовике был типовой намогильный памятник. Вышел из кабины Иван Терёхин, зашёл в дом, а потом поехал на кладбище, поставил памятник на могилу матери. И уехал. «Ну, теперь уж навсегда», – сказали погореловцы. Да ошиблись: опять и опять приезжал Иван в домишко. Сделал даже ставни на окна и нет-нет да и открывал старому дому глаза. Пусть и редко.
И опять не виделось конца непокою Ивана Назаровича, опять подушка под ним крутилась: за сельповские грехи он ответил – за давний ночной грех ответа всё ждал. И опять не виделось конца молчаливой истории.
Но завиднелся однажды и конец: сгорел – для одного святой, для другого проклятый – домишко, сгорел дотла. Видно, на роду было написано Погорелову, чтобы в два-три года хоть один дом в деревне сгорал, как и в соседних деревнях, носящих бедственные имена: Огарково, Пепелище, Дымовское… Сгорел домишко не потому, конечно, что в этот час на колхозной пожарной машине уехали на рыбалку: эту машину погореловцы никогда и не видели в деле, она просто-напросто по штату была, что ли, положена, – а потому сгорел, что стояла жара ветреная и возле безлюдного дома мальчишки баловались самодельными пугачами-поджигами. Они-то и подпалили. Что поделаешь: постучали в рельсу, висевшую посреди деревни, побегали с вёдрами вокруг горящего дома, потаскали за уши мальчишек-виновников да посудачили, глядя на огонь, о том, что будет, когда приедет Иван.
А тот приехал зимой. Приехал, сошёл с автобуса – а перед ним сугроб, среди сугроба – печь без трубы да обгорелый столб огорода. Иван постоял на дороге, а потом махнул тому же автобусу, на котором приехал и который только что развернулся на этой конечной, погореловской, остановке…
Прошло ещё полгода. Поросла иван-чаем, крапивой и лопухами груда головней. Да и как же иначе, чему же ещё расти на погорелом месте? Тут всё обычно. Но вот для чего, непонятно, для чего стоит у страшной кучи Иван Терёхин? Или он глазам своим не поверил, когда приезжал зимой?.. Идут по дороге школьники и прилежно кричат ему: «Здра-авствуйте, Иван Назарович!» А им не отвечают. Школьники удивились этому, так как привыкли слышать в ответ от всеми уважаемого седого пенсионера: «Э-э… Добрый день». И ещё больше удивились, даже напугались, когда повернулся к ним Иван Назарович – а совсем он молодой! И побежали школьники прочь без оглядки… И это был последний раз, когда Ивана – как его по отчеству-то? – Терёхина видели в деревне. Да и как ему, настырному, раньше было непонятно, что не должно быть в Погорелове сразу двух одинаковых Иванов, да ещё и в очках.
Идёт год за годом. Но молчаливая история ткётся и до сих пор. Потому что до сих пор, правда, очень и очень редко, доярка, спешащая ранней ранью на ферму, или заблудившаяся в ночи пара сталкиваются в предутреннем полумраке с человеком, бредущим за деревней по пыльной тёплой дороге или по росистому лугу, и тогда неожиданно понимается им, что быть в Погорелове, даже в окрестностях его, хотя бы одну летнюю ночь в году, и притом тайно, – значит, постоянно жить здесь, а не бывать в Погорелове пусть и годами – значит, лишь на время отлучаться. И поэтому встречной доярке и одинокой паре сделается вдруг тревожно и радостно от предутренней полевой стыни, которую они ощутят как бы впервые в жизни, от матового зыбкого тумана, сквозь который только ещё начинает просачиваться знакомый и дорогой рассвет.
Ярославль, сентябрь 1984
На вечную память
У Алексея Платоновича Шибаева была болезнь желудка, такая болезнь – что и вымолвить страшно. Он четыре месяца лежал в городской больнице. Выписали.
Когда он сошёл с автобуса у магазина сельпо, каждый встречный бодро спрашивал: «Ну. Как дела?» – и ожидал от него, как и от всякого, кто выписывается из больницы, обычного ответа: вот, мол, выписался, но Платоныч отвечал: «Да выписали домой!..» И заговорившему с ним становилось не по себе от слова «домой».
В магазине Платоныч купил папирос и бутылку красного вина. Пошёл в свою деревню, что километрах в пяти от шоссе, и чутко оглядывался по сторонам, словно прислушивался к чему-то. Зима была уже на исходе, дело шло к марту, а когда он ложился в больницу, снег ещё и не выпадал, поэтому сейчас ему отрадно было видеть чистую белую, теперь, к вечеру, начавшую уже синеть, снежную равнину, тёмную лесную полосу, сверху ершистую, снизу словно обрезанную ровной снеговой гранью, весело было слышать скрип снега под ногой.
Вот завиднелась Шибаевка – и Платоныч остановился. Густые и совершенно белые, наклонённые столбы дыма высились над деревней; занесённых снегом крыш не было видно, точно их и вовсе не было, чернели лишь стены и огороды. Предвечерняя синь оседала на деревню, кое-где уже блестели тёплые огоньки. И Платоныч часто задышал… Ему вдруг ясно подумалось: ничего, ничего больше и не надо в жизни – только бы видеть это… И он слабо осел на дорогу… На людях эта ясная мысль не приходила, но он предчувствовал, что ему не избежать её: готовясь именно к ней-то, он запасся куревом и вином. И заторопился открывать бутылку. Отпил из горлышка, и ещё, и ещё, но всё не пьянел – только зябнул…
Когда ему сказали, что выписывают «домой», он всё-таки, обрадовался, потому что больница ему порядком надоела, в излечение ни он сам, ни врачи – никто теперь не верил, и он не раз подумывал: «Лучше уж под кустом, чем в этой проклятой палате…» Ведь если выписаться, то впереди будет ещё много всего: будет ещё встреча с зимней улицей, прогулка по шумному городу до автовокзала, толкотня в очереди за билетом, потом дорога домой, будет ещё ожидание того, как он сойдёт на остановке около магазина, как будет раскланиваться со всеми, как пойдёт в Шибаевку к своему дому, к жене… И вот теперь – так скоро! – всё это было уже позади. Оставалось лишь пройти полкилометра, постучаться в окно, похлебать чего-нибудь, потом забраться на печь – и не знать, встанешь ли…
Уже темнело. В доме, в прихожей, горел свет, и ярко-оранжевый половик лежал под окном на тёмно-синем снегу. Платоныч постучался в окно. По занавеске скользнула тень, послышались глухие шаги, ласково звякнула задвижка в коридоре, заскрипели промороженные ступеньки крыльца.
– Кто ещё там? – близко раздался голос жены.
– Анна… – отозвался Платоныч.
– Лёша?..
– Да…
Брякнул крючок, дверь распахнулась – и Анна с Платонычем минуту смотрели друг на друга в потёмках, словно не узнавая или не веря, что она – это она, а он – это он. Вдруг Анна заторопилась в дом, будто оттуда её позвали, а Платоныч стал сосредоточенно обметать веником валенки.
И вот вошёл, снял шапку.
Анна стояла спиной к нему и мыла посуду.
– Здравствуй, – сказал Платоныч.
– Здравствуй, – недовольно буркнула Анна.
Платоныч всё стоял. Анна медленно оглянулась на него, вытаращив глаза.
– Ну и чего?..
– Вот видишь… Выписался… – начал было Платоныч, но тут их глаза встретились, и он не смог выговорить слово «домой». Анна бросила тарелку в блюдо, словно обожглась ею, и пошла, строгая, в спальню; там скрипнула кровать и послышались заглушённые подушкой: «Ох-хо-хо-о… о-ох…» Платонычу от этого стало легче – ему показались почему-то смешными эти звуки, и он улыбнулся: вот, мол, сколько всего из-за меня одного!.. Стал раздеваться.
Из спальни Анна вышла спокойная, будто ходила туда по делу; не глянув на мужа, опять принялась за посуду. Платоныч подсел к столу, закурил. Он выставил бутылку, начатую в дороге, но не стал допивать её: впереди ещё ночь, а покуда и так терпимо. Анна подала ему ужинать, стала резать чёрствый хлеб – видно, в магазин сегодня не ходила.
– Хлеба-то я и забыл купить, – сказал Платоныч, чтобы хоть что-то сказать, но тут же пожалел, что так сказал: получалось, он оправдывается перед женой, чего раньше не бывало, – вина ведь купить не забыл!.. Анна опять построжела, покрутила головой. И перемогла себя, не ушла в спальню.
Говорить, выходило, было не о чем, но и молчать было не в силу тяжело, и Платоныч стал есть, хотя ему не хотелось. Анна же суетилась на кухне – безо всякого спешного дела.
Поужинав, Платоныч заторопился спать.
– Устал я… с дороги… – сказал он и закряхтел от злости: опять оправдывается!..
Анна стала прибирать для него на печи.
Платоныч и на самом деле был такой усталый, что сразу крепко заснул.
А на следующий день Платоныч пережил то, что было с ним только раз в жизни, да и то в ясно-холодном отроческом сне, где он – самый сильный и быстрый среди однолеток – убегал от какой-то страшной силы, от которой убежать не мог и знал, что не убежит.
Утром Анна заторопилась в магазин, и Платоныч наказал ей купить вина. Она промолчала согласно. И Платоныча это взбесило. Он чуть не бегом подскочил к двери и распахнул её:
– Иди!.. Бери ящик вина – не меньше!
Анна, горестно склонившись, прошла мимо него, а потом что-то неслышно делала на крыльце.
А Платонычу, как и вчера на дороге, стало опять невмоготу, и он допил початую бутылку. Уступка жены была больна ему: ведь раньше она без крепкого разговора вино по его просьбе не покупала. А теперь не отказала, и это ему было горше всего. Только лежи или сиди – и жди…
Часа через два с Анной пришёл сосед Николай и принёс едкий запах солярки; на улице гудел его трактор.
– Здорово, Платоныч! – закричал он с порога, радостно улыбаясь. – Сколько лет, сколько зим!.. Тётка Анна говорит, эт самое, хозяин, мол, приехал. Дай, думаю, эт самое, навещу. – И Николай, широко размахнувшись, подал холодную, с улицы, руку.
Платоныч сначала смотрел на соседа растерянно: он ещё не чувствовал, хорошо или плохо, что тот пришёл. Понял, конечно, что Николай сам навязался, увидев Анну, идущую из магазина. Он, Николай, был человеком донельзя наивным, по молодости лет слыл в деревне «придурком». И вот Платонычу стало чуть легче: он видел хоть и глупое, зато искреннее лицо.
Сели обедать втроём. Анна выставила бутылку вина – и Николай, хлопнув по коленям, делано изумился:
– Вот это да-а!
Он весело чокнулся с Платонычем и – ничего не сказав – выпил залпом, стал закусывать.
Платоныч пытливо следил за ним – и свой стакан поставил. Он знал повадки соседа, и сейчас его насторожило то, что Николай выпил, ничего не сказав. Значит, ему всё уже известно. И тяжесть вернулась к Платонычу. Он зло заиграл желваками.
Николай же, только мельком глянув на поставленный стакан Платоныча, заговорил весело:
– А я вчера чё? Хватился, смекаю, где моя-то ведьма бутылку спрятала? Полез, эт самое, на печь – а бутылка-то в валенке…
– А помнишь, Коля?.. – вдруг перебил его Платоныч. – Помнишь, как ты отвязал моего телёнка от огорода? Тебе не понравилось, что он топчет за двором твою траву. Нет бы сказать мне, мол, дядька Лёша, убери скотину. Так не-ет. Ты его отвязал втихомолку. А я его потом еле нашёл в лесу. Верёвка запуталась за дерево, и телёнок чуть не удушился. Помнишь такое?..
Николай выпрямился удивлённо и посмотрел на Анну, призывая её себе на помощь, но она и сама смотрела на мужа во все глаза.
– Ты чё, Алексей Платоныч! – возмутился Николай. – Я ведь хотел тогда, эт самое, перевязать телёнка, эт самое, а он у меня и вырвись…
– Перевязать?
– Ну да!
– Ладно, – сказал Платоныч, – пусть так… А помнишь, Коля?.. Помнишь, как ты той весной прокопал канаву из своего огорода в мой? Нет бы прокопал в сторону, к кустам. Так тебе это далеко показалось. Пусть, дескать, идёт вода к соседу. Всё равно, мол, ему свою-то надо выпускать. Помнишь?
Николай вскочил.
– Знаешь, эт самое, я тебе, дядя Лёша, эт самое, что скажу!.. Ты вот, говоришь, эт самое, выписался… А я-то тут при чём? А?.. Я-то при чём?
Платоныч дикими глазами посмотрел на Николая и вдруг широко улыбнулся:
– Ладно. Садись. – Ему понравилось, что тот сказал правду.
– Нет уж! Во! – Николай провёл ладонью по горлу.
Когда он ушёл, Анна и Платоныч долго молчали.
– Лёша, – заговорила Анна, глядя в пол. – А может, и ничего… А?.. Это я про больницу-то… Вон ведь как бывает. Человека и посадят ни за что. А потом разберутся – и невиноватый он. А?.. Может, и в больнице так же ошиблись?
– Зря врачам деньги платят! – вскочив, закричал Платоныч, так что Анна даже загородилась рукой. – Так, что ль?..
И Платоныч задиристо смотрел на жену. Анна редко заговаривала первая, а если так случалось, то в ссоре не поддавалась мужу. Но сейчас она сидела склонившись и молчала, молчала…
– А-а! – радостно крикнул Платоныч. – Дожидаешься?.. Дождёшься – не горюй!.. Во-от, вот видишь – ложусь!
И Платоныч полез на печь.
В ту ночь он долго не мог заснуть. Он и сам не ждал от себя такой злости к жене и к Николаю. Но ведь не ждал он и того, что они оба, словно сговорившись, во всём будут ему уступать и, значит, в каждом их слове будет сквозить уверенность в том, чего ему в скором времени не миновать… Но он и понимал, что начинает срываться, капризничает, как малый ребёнок, – и за это он злился на себя самого.
И он поплакал в ту ночь…
«Тяжко, тя-ажко… Вот оно, выходит, как бывает-то… Вот как оно меня прижало… Да-а… На фронте-то ведь легче было, ой легче!.. Там хоть знаешь, за что… А тут… Вот бы проснуться завтра – а ничего этого и нету. А?.. Куда-а! Не увернёшься из-под этих вил. Хоть бы научил меня кто, что делать-то, а?.. Ведь не знаю, за что и схватиться: то ли табак зобать, то ли краснуху тянуть, то ли с женой лаяться… Вот лежи пластом – и раз… Лежи… Ой, лежать-то и не надо бы. А как надо? Как надо, а?..»
Они с Анной всю жизнь проработали в колхозе и лишь второй год были не у дел: Анна вышла на пенсию, а он попал на инвалидность. Но даже и тогда, когда ему можно было уже не работать, он всё равно работал сторожем на ферме. Теперь это место было занято. Да и не взяли бы немощного. И впереди, значит, ничего больше нет. Дела все приделаны: дети выращены, на свадьбах у них в далёких и не в далёких городах отплясано, с внуками, пусть и не досыта, поиграно, и даже дрова заготовлены с расчётом на две зимы – это на случай, если из больницы не придётся возвращаться своим ходом…
– Анна?.. – вполголоса позвал Платоныч.
– Чего? – сразу откликнулась в спальне жена.
– Завтра вот что. Завтра я сам пойду в магазин. Сам!
Анна промолчала. И в этом молчании он услышал прощение своему давешнему крику… Нет, даже не так: услышал, что жена и вовсе-то на него не в обиде. И на душе стало уютно. Главное же – на завтра дело нашлось. И он уснул.
Поутру сильно вьюжило: злость зимы выходила снегом. Ветер был восточный, но Платоныч шёл упрямо: впереди была дорога туда и обратно, был магазин, знакомые, с которыми он наговорится досыта, а может быть, попадёт к кому-нибудь в гости.
Но у магазина – в такую непогоду – не было никого. И в магазине никого, кроме молодой продавщицы, мало ему знакомой. Платоныч купил, что ему наказала жена, купил и вина – это на случай, если кто-нибудь всё-таки встретится, чтобы угостить. Вышел на улицу. Пусто. Метель… Лишь запорошённая собака стояла у крыльца, склонив голову, исподлобья смотрела на него, не уходила, соображая, видимо, что если человек стоит на таком ветру, а рядом других людей нет, то это значит – он стоит для неё, для собаки. Платоныч замахнулся:
– У, стерва! Одна жратва у тебя на уме!
Он сошёл с крыльца, огляделся, подумал – и пошагал вдоль деревни. Стыдно было ему искать компанию, он даже не знал, что скажет, если спросят, куда идёт в сторону от дома, – но что делать?.. Из-за метели было так темно, что в некоторых домах даже сейчас, днём, горел свет. Платоныч присматривался к этим окнам и, если там замечал движение, останавливался и ждал, не выйдет ли кто.
– Алексей Платонович!.. – услышал вдруг он.
Платоныч закрутился на месте, не видя в кутерьме снега, откуда и кто его окликнул.
– Здесь, здесь!
Он наконец увидел заснеженную фигуру возле колодца и поспешил туда. Это была учительница-пенсионерка Екатерина Сергеевна. Она только что вычерпнула воды, а теперь поставила ведро на снег.
– Здравствуйте, Екатерина Сергеевна.
– Здра-авствуйте, Алексей Платонович!.. Смотрю я и не пойму, Алексей Платонович идёт или не Алексей Платонович. По походке – вроде как он. Хорошо, окликнула…
– Да вот…
– Ну, как у вас там Таня, дочка поживает как? Пишет?
– Бывает… То есть пишет, пишет!
– Это хорошо. Хорошо, что не забывает. А Вася как? Я слышала, он уже майор. А пишет? Собирается ли приехать?
– Может, и…
– Это хорошо, хорошо. Писать ему будете – от меня привет. И Тане привет. Вот и будет хорошо.
«Знает она или не знает?» – подумал Платоныч.
– Ну а жёнушка Аннушка поживает как?
– Чё ей!..
– Ну и хорошо. А вы, Алексей Платонович, я вижу, из магазина?
– Да вот…
– Что в такую метель? Завтра бы сходили.
«Знает…» – понял Платоныч.
– Как вы-то поживаете, Екатерина Сергеевна? – спросил он.
– Ой, у меня всё хорошо. Да. Спасибо. Какие у меня дела: воды ведро принести, дров охапку. Ну и в магазин, так это не каждый день. Но я не скучаю, не подумайте, нет. Вчера ходила в лесничество, дров выписывала. До вчерашнего – в школу. Не забывают меня, приглашают… А у Тани детки пошли уже в школу?.. Это хорошо, хорошо.
«Знает, всё знает, – подумал Платоныч. – А легко с нею… Легко!»
– Сколько кубов-то? – спросил он.
– Вы о дровах? Десять кубометров выписала. Да.
Платоныч взял ведро и понёс к крыльцу, поставил на порог.
– Пойду я… покуда… – заторопился он.
– Ну, счастливо вам, Алексей Платонович, счастливо.
– Домой я… До свидания!
– Домой, домой! До свидания.
Платоныч чуть не бежал. Ветер в спину помогал ему, радостная мысль подгоняла его, и он сейчас же готов был взяться за то, что надумал. Но когда пришёл к дому, то устало сел на крыльце. Теперь надо было до завтра ждать.
Поначалу он ничего не хотел говорить жене, но радость просилась наружу.
– С утра в лес уйду, – сказал он.
– Чего там? – Анна остановилась посреди кухни.
– По дрова, знамо!
– Куда их?.. – И Анна двинулась с места. – И так весь проулок загорожен.
– Да не нам, не нам! – закричал Платоныч.
Анна опять стала.
– Всё бы тебе да тебе!
– Чего орёшь-то?.. – равнодушно сказала она.
Платоныч помолчал, борясь с собой, потом сказал спокойно:
– Екатерине Сергеевне дрова – вот кому.
– Подрядила она, что ли?
– Нет. Не подрядила. Помянула только. Мол, десять кубов выписала. Вот ты и подумай: кто ей будет пилить? Нанимать придётся. Да расплачиваться где пятёркой, где чекушкой. Да ещё и не все десять выберут. А и выберут – так труху да сучья.
– Тебе-то что за дело? – спросила Анна.
И Платоныч сразу замолчал: опять жена намекнула о болезни. Он уже готов был вспыхнуть, но тут почувствовал, что жена вот-вот уйдёт в спальню, и сказал примирительно:
– Она – помнишь ли ты? – деток наших учила.
Анна, беспомощно прислонясь к углу печки, спросила:
– Сколько же сулит?
Платоныч ответил уклончиво:
– Сначала надо дело сделать.
Сам каждый год заготавливавший дрова, Платоныч знал, где делянка. Он выбрал куст высоких, ровных и без сучков, берёз, утоптал вокруг снег и наладил свою старенькую бензопилу, без которой ему, конечно, было бы не справиться. И так работа для него, выжатого болезнью, намечалась непосильная: не на одну неделю, – но даже и уцелевших сил он не мог рассчитать… И он так прикинул: чтобы в любом случае, даже и без него, люди приехали бы к сделанному – пусть и не ко всему, что надо бы. Если навалить деревьев на все десять кубометров или хоть наполовину, то могло получиться, что не все удастся перепилить на швырок, перетаскать в одно место, и переколоть, и уложить. Поэтому он решил валить по два-три дерева, пилить, стаскивать и сразу колоть. А где будет пилить – он сказал жене.
Вечером Анна заметила:
– Вот до чего заездил себя – уж и не куришь…
Платоныч ответил, как и задумал:
– За делом-то и не до курева.
Но это не была вся правда. Ещё накануне, по дороге из магазина, когда он задыхался, подгоняемый ветром и радостью, он решился не курить и не выпивать. К его удивлению, это удалось ему: у него было теперь дело, и такое, которое бросить нельзя, а курево и вино могли стать помехой.
И через две недели к дому Екатерины Сергеевны были подвезены целые сани колотых дров. Платоныч сразу, будто ему могли помешать, стал разгребать лопатой снег до земли, где быть поленнице, положил на это место две жерди, чтобы потом – ни весной, как затает, ни летом в дождь – поленницу не подмыло и она бы не повалилась. Николай вышел из трактора и принялся разгружать. Выбежала Екатерина Сергеевна, на ходу застёгивая фуфайку, она что-то кричала, но что – не слышно было из-за шума трактора. Когда дрова были разгружены и уложены, Екатерина Сергеевна совала Платонычу деньги, но он не взял. Она стала совать деньги Николаю, а тот, озадачив её, крикнул ей на ухо, что уже получил от неё деньги через Платоныча, и поблагодарил за них, от Николая пахло вином.
Был влажный тихий мартовский вечер. От дороги пахло талым снегом, из-за поля приносило дух оживающего леса. Платоныч добирался домой пешком, ему незачем было теперь спешить: впереди у него было много, много всего. Посмеиваясь, он приговаривал: «Это хорошо, хорошо, да…» Впервые за всё время после больницы его не угнетала мысль, что он не живёт, а доживает. И он улыбался, представляя, как его скоро повезут мимо дома Екатерины Сергеевны, как она выйдет на дорогу, как пойдёт вместе со всеми за медленным грузовиком и как поплачет.
Так оно через месяц и вышло.
Ярославль, сентябрь 1984
«Барыня»
– Ба-арыня, барыня, сударыня-барыня!.. А ну давай «Барыню»! Давай, ну… Давай, ну…
Так всегда говорит, вернее, по-петушиному вскрикивает, переиначивая свой голос, Егор Сажин, неожиданно вскрикивая, вылезая из-за стола и выходя на середину комнаты, очищенную для пляски, – и так всегда зачинается тот кавардак на любом застолье, о котором потом долго и охотно вспоминают, рассказывая: «Весело было – куда!.. И Егор, Егор-то со своей «Барыней» – умора!» Голос Егора во время его, так сказать, выступления постороннему может показаться задиристым и даже ехидным (особенно когда он с издёвкой подбивает гармониста: «Давай, ну… давай, ну…»), но это вовсе не так, и все, знающие Егора, распрекрасно понимают, что голос этот совсем не ехидный, а затейный, праздничный, плясовой. Обычный же голос Егора – хриплый, извинительный, неохотно и редко им подаваемый; с таким голосом при веселье, тем более при пляске, людей можно охладить и озадачить, потому-то Егор, дурачась, и меняет его – с помощью, конечно, нескольких стопок перед этим. А меняет Егор не только голос, но и всего самого себя.
– Ба-арыня, ба-ры-ня!.. А ну давай!
Только что он, неказистый, виноватый, щупленький, смиренно сидел за столом, стыдясь потянуться вилкой к недалёкой от него тарелке с любимой закуской – солёными грибами, сидел никем не замечаемый, кроме, по правую руку, жены, то и дело толкающей его локтем и расплёскивающей водку из поднятой стопки, и ещё кроме, по левую руку, соседа по застолью, который под видом ухаживания за стеснительным Егором усердно подливал в его стопку, а заодно и в свою. Но вот самая компанейская бабёнка зычно повела «Златые горы», вот кто-то сразу спохватился – и вмиг все обернулись в одну сторону, словно встречая долгожданного запоздалого гостя, и вот – конечно же! – добыт из-под кровати баян, вот баянист будоражаще громко взял первый аккорд «русского» – и сразу же разбежались стулья по углам, вот мужчины, ещё чуть хмельные, поневоле стали вставать, доставая папиросы то ли из охоты, то ли от смущения, а женщины, вскакивая тотчас, этого только и ждавшие, заодёргивали платья, ободряя себя смехом, привычно образовали подвижный живой круг, при этом каждая секунду-другую выжидая, чтобы кто-то начал первой, а она бы тут же и вступила, и вот сорвалась с места одна, самая резвая, та, что первой затянула песню, за ней другая, третья, вот завертелись на месте, задевая друг дружку разведёнными руками, деревянно заподпрыгивали, дробя пол, толкаясь плечами, вот вырвалось из лужёной глотки начало частушки, от которой мурашки радостного волнения побежали у всех по спинам, вслед за этим и конец частушки, спетый ещё пронзительней, всегда неожиданный и часто такой, что один одобрительно захохочет, другие всплеснут руками, третьи приложат ладони к щекам, стыдясь смелости певуньи, а та невозмутимо и лукаво подожмёт губы, словно не она только что спела, и баянист, дожидаясь следующей частушки, ещё отчаяннее рванёт меха, – и вот тут-то, вот тут-то и заёрзает на стуле Егор; ещё частушка, другая, один голос, другой – и вот вскочит он с места, врываясь в очередную частушку своим нарочитым, пронзительным, петушиным голосом:
– А ну давай «Барыню»!.. Давай, ну!..
В первое мгновение все удивились его смелости и вообще дерзости перебивать других, но тут же вспомнили, что всегда-то так с ним бывало, и сразу ахнули, захохотали, засуматошились, давая ему дорогу, и баянист, жадный до игры, свёл, перебирая клавиши, меха, – и тут же призывно-громко плеснул первый, под выход плясуну, аккорд. Егор стоит посреди комнаты – и он в центре всеобщего, возбуждённого им, интереса. Лысая голова его закинута назад, глаза пьяно-ласково зажмурены, большие некрасивые ноздри ещё больше округлились, как у коня на бегу, и чуть подрагивают, словно ловят вкусный запах, пустой рот, обросший вокруг пепельной щетиной, бесстыдно раскрыт и хвалится несколькими жёлтыми пеньками зубов. Поднятые, сейчас бессильно, широкие ладони крутятся у плеч, и от всего его исходит смешанный запах табака, водки, зависевшегося, редко им надеваемого пиджака, и ещё исходит неожиданный восторженно-звонкий голос:
– «Барр-ню» давай!.. Ну, давай, ну!..
И так Егор стоит, закинув лысую голову, покручивая ладонями у плеч и значительно-нетерпеливо поигрывая бровями, стоит, собрав и людей, и праздник, и всю радость вокруг себя, и уже всем не терпится, уже его подталкивают в спину, но Егор стоит – и ни с места. И мало-помалу начинает тускнеть на его лице так резво вспыхнувший задор; он хмурится, поворачивает к баянисту то одно, то другое ухо и наконец, всех разочаровывая, кричит баянисту с упрёком, всё так же визгливо и для большего задора ещё пуще коверкая слова:
– Ты ча?.. «Барр-ню» не знашь?.. Ты ча это, а?..
Все вокруг ещё не теряют надежды, что вот-вот Егор Сажин начнёт свою «Барыню» – ведь такой лихой он сделал выход! – и все тормошат и поучают гармониста, который и без того, пока Егор стоял с закинутой головой, уже перебрал дюжину вариантов вступления к «Барыне», какие походя вспомнил или даже сам изобрёл, по выражению лица Егора необходимый плясуну мотив, – но всё не то, не пляшет Егор. То одна, то другая женщина подскакивает к баянисту, «нанакают» и «татакают» ему в ухо, прихлопывают и притопывают, советуя; баянист ошалело таращит глаза, ничего не видящие перед собой, – но не пляшет и не пляшет Егор. Одна из женщин, прислушиваясь к баяну и чуть не лёжа щекой на строптивых мехах, наконец-то утвердительно кивает, всё-таки вопросительно оглядываясь на Егора, а потом даже делает вокруг него дробь – но всё равно Егор крутит головой и не даёт добро.
– Не та!.. Ча ты, мать-перемать! Не та!
Все уже выбились из сил, у баяниста дёргается щека, лезут на мокрый лоб брови, словно он чем-то подавился, – и тут вдруг сам Егор всё просто разрешает:
– Ча вы?.. На баяне-та?.. Не выдет!.. Нада гармонь! В гармонь давай!
И тут все вместе с Егором так же неожиданно и твёрдо понимают, что и в самом деле с баяном ничего не выйдет, а нужна, конечно же, конечно же, гармонь, только гармонь! Замученный игрок чуть не сталкивает с коленей на пол баян, который, тоже вдруг, показался ему пустым ненужным ящиком, ругает всех за недогадливость – и требует себе в награду, будто это именно он догадался, стопку, и ему наливают так охотно, словно только в этом спасение Егоровой пляски. Теперь уж дело за малым – только где же гармонь? Начинается суета и перебранка; гости лезут под кровати, заглядывают в шифоньер, а один даже вскрикнул истошно и победно, приняв за гармонь накрытую платком швейную машину; сами хозяева суетятся не меньше, но эти ничего не ищут, а, наоборот, втолковывают гостям, что в доме у них гармони вообще нет. Все было падают духом, но тут является другая простая мысль: взять гармонь в другом доме, и тут же кто-нибудь и бежит. Но если дом с гармонью от места гулянья далековато, скажем, в другой деревне, то решают сгонять на велосипеде или мотоцикле; если у хозяев есть мотоцикл, то сам хозяин рвётся устроить всеобщую радость, но его мать или жена считают, что он не трезвее других, и сперва не пускают, но под напором праздника и они не могут устоять. И если гармонь будет вот-вот, то к столу не садятся, а стоят, хохоча, вокруг Егора, если же посланцу быть не скоро, то садятся к столу, весёлые, замученные, будто уплясавшиеся.
«Барыня» заразила всех, и праздник – не праздник, все ждут Егоровой победы и упрямо желают её, знают: ничего другого Егор плясать не будет – только «Барыню». Пожилые уважительно, с одобрением смотрят на него: понимают лучше молодёжи, что настоящая русская пляска – это не шутка и что не всякий сможет. Егор, видя, что весь праздник свихнулся на него, держит себя гоголем и уже не боится, что жена исподтишка толкнёт его локтем. А если нетерпеливая молодёжь заведёт магнитофон или проигрыватель или под тот же баян запоёт какую-нибудь современную песню, Егор смотрит на это свысока и, дождавшись передыха между куплетами, своим нарочито петушиным голосом вторгается в песню и выводит старательно:
– Может, ты позабы-ыла мой номер телехвона!
Песня сразу, конечно, обрывается хохотом, и Егор принимает его с видом заслуженного успеха: не думайте, дескать, я и тут вам нос утру! Ему и невдомёк, что слова, им всунутые, из другой песни: для него все не народные, не старинные, не времени его молодости песни, «нонешние», как он выражается, – все на один лад, на один мотив. Он не видит и смысла ни в песне, которую запела молодёжь, ни в словах, которые сам прокричал, но он знает, что смысл в каждой песне, раз её поют, должен быть, и вот почему-то считает, что смысл песни, начатой молодёжью, как раз и состоит в более ловком коверканье слов, потому-то он и переиначил «телефон» в «телехвон». Весь стол смеётся и тому, что Егору на язык подвернулась давно забытая песня, и тому, что он коверкает слова, но он принимает этот смех за чистую монету, за похвалу своей случайной песенной удаче. Ведь он и сам хорошо понимает, что никакой он не певец и не гармонист и даже никак не плясун. По характеру он человек скованный и молчаливый; никто никогда не видел его с гармонью в руках, не слышал, чтобы он пел, но случаются в его жизни вот такие редкие дни, вернее – часы, ещё вернее – минуты, когда он вдруг становится совсем другим человеком, преображается, вскакивает из-за стола, врывается в праздничный круг, – и тогда-то оказывается, что его суть, суть Егора, вечного труженика, не в одном только повседневном будничном труде, но немного, совсем немного и в празднике, а весь песенный и плясовой мир для него, оказывается, поделён на две части: в одной «Барыня», в другой – всё остальное.
Но когда же, однако, его пляска? Скоро, скоро! Вот уж посланец-баловник, чтоб дать застолью о себе знать, «рявкнул» под окном, надавив сразу на несколько ладов, сколько пальцев хватило, вот уж торопливые шаги на крыльце… в коридоре… в прихожей… вот гармонь, необходимая сейчас как воздух, поплыла по рукам в переднюю, к столу, к тому же самому вспотевшему игроку, который вмиг преобразился в гармониста. Что ж, выходи, Егор, – свет на тебе клином сошёлся. И вот звонко, по-родному, не то что баян, вскрикнула гармонь, вымела всех из-за стола, раздвинула круг, и вот опять вышагнул вперёд Егор, запрокинув лысую голову, шевельнул прочувственно лошадиными ноздрями, топнул для порядка так, что все поёжились от удовольствия, – и замер.
– Не, не та!.. Теперь чуток не та! Да всё одно – не та!
И опять привередливо отворачивается Егор, артачится, вздыхает, расстроенно машет рукой, и опять его подталкивают, бьют в ладони возле уха гармониста, и гармонист опять таращит на Егора глаза, плюётся, морщит лоб, так что двигаются волосы на голове, – словом, лезет из кожи вон, но ничем не поможет пальцам отыскать заколдованное Егорово сочетание звуков. Гармонист требует, чтоб Егор напел свою разэтакую мелодию, и Егор соглашается, в который раз крутит ладонями у плеч и умилённо щурит глаза; он даже прибавляет лишних слогов, чтобы было, как он думает, чувствительнее и понятнее, и напевает размеренно:
– Ба-ры-ня, да-да ба-ры-ня, да-да су-да-да-рыня-ба-ры-ня!..
Гармонист, как видно по его губам, материт Егора, принимая эти «да-да» за издёвку, и требует мелодию насвистеть.
– Ты ча?.. Рехнулся?.. «Барыню» – насвистеть!.. Ты ча это, а?..
Гармонист уже вслух поминает и чёрта и чёртову мать, суматоха такая, будто разнимают дерущихся, с Егора требуют дальнейших слов песни, и он отвечает:
– Тэ-эк, знач… Су-да-да-рыня-ба-ры-ня… А дальше не знаю! Дальше сама гармонь скажет! Ты играй знай! А я – плясать!
Егор делает невольную попытку присесть – и все, кто рядом, бросаются помогать ему в этом: кто давит на плечи, кто тянет вверх за подмышки. Егору и самому кажется, что вот-вот – и он «ухватит» бесценный мотив. Он отталкивает всех, встаёт в дверях из передней в прихожую, обеими руками берётся за косяки и приседает, но все его силы уходят на то, чтобы устоять на ногах, и он снова выходит на середину комнаты. Гармонист обрадованно принимает этот выход за почин… делает значительную паузу… решительно давит на клавиши – но опять, опять Егор крутит головой:
– Не та!.. А ну давай ещё раз!.. Не, не та!..
И опять в его лице, в его фигуре вянет восторженное и умилённое предвосхищение любимого, единственного танца. Никак, никак не может окаянный гармонист отгадать, уловить то заветное сочетание звуков, которое он, Егор, слышал когда-то давно, в молодости, под которое плясал, когда любил, когда жизнь была ещё впереди, и которое самое настоящее.
И вот, почуяв горячую закуску, от Егора отступаются, и Егор отступается от гармониста по той же причине. Но все так веселы, так безоглядно и памятно веселы: ещё раз подтвердился слух, что лучше Егора Сажина «русского» никто не спляшет, не говоря уж о «Барыне», в которой лишь он в округе знает толк. А то, что Егор, по сути дела, вовсе и не плясал, – это никого не смущает, наоборот, это лишь подтверждает, что Егор не помирится ни с одной фальшивой нотой, не будет плясать ради каблуков, потому как он, выходит, знает «Барыню» настоящую, первозданную, исконную и ревниво хранит и оберегает в своей душе её, «Барыни», душу.
Ярославль, октябрь 1984
Добро
К Надежде Карповне сейчас нельзя «на уколах пожить» – у неё вторую неделю «живёт на уколах» Таисья из Рылова. Как только она и умудрилась поспеть раньше других старушек, желающих подлечиться? Даром что восьмой десяток: приковыляла «на трёх ногах» – с палкой. Будет она жить у Надежды Карповны – посчитай – и ещё три недели, раз ей прописано тридцать уколов. Вот уж после неё.
Днём Надежда Карповна на работе – в поселковой больнице, где она фельдшером; Лукьяновне, матери её, некогда лясы точить – она всё по хозяйству: то у печки, то в огороде, то на дворе – и Таисья скучает одна. От телевизора у неё «в глазах рябит», вязанье, как на грех, забыла второпях дома, и целыми днями скрипит она диваном, где ей постелили, то приляжет, то сядет; слушает радио да листает журналы «Здоровье». Лукьяновна лишь мельком заглянет к ней в переднюю комнату. «Ну, каково?» – спросит. «Да вот лежу», – ответит Таисья. Или: «Да вот сижу», – и затрясёт плечами, прикроет ладошкой беззубый рот – посмеётся от стыда за своё безделие. В обед, правда, и Лукьяновна, набегавшись, любит в блюдце подуть на пару с приживалкой; благо та, натерпевшись молчком, тараторит без умолку – только слушай да кивай. С полчаса так посидят они – и опять одна в огород, другая на диван. И только к вечеру, ожидая в обычное время Надежду, садятся за стол по-настоящему, с самоваром.
Таисья – большетелая, грузная, с толстым, пористым, будто иголкой исколотым носом – сидит у переборки, чтобы не мешать лёгкой на ногу хозяйке бегать на кухню, и теперь уж она старается молчать: это в благодарность за чай и – ещё больше – потому, что Лукьяновна ведёт речь о дочери, о Надежде.
– Она, случай что, ой какая своевольная! Никому не под шапочку. Уж чтобы всё было по ней. Шабаш! – вкрадчиво и торопливо, опасаясь скорого прихода дочери, доносит Лукьяновна, шевеля клочковатыми бровями, которые у неё двигаются, как у собаки, вслед за взглядом маленьких глазок. – Слушай что. Помню, на Владика пришлют благодарную грамоту из армии, мол, службу несёт с примером. А Надежда грамоту как швырнёт на стол: «Разве можно худо служить!» Вот ведь какая крутая! Шабаш! Скажет: «А кто, мол, худо служит, так на него за это чего же присылают?»
– Владик-то теперь на продлённой? – перебила Таисья, давая понять, что она, уважая Надежду, всё знает о ней и о её сыне.
– На сверхсрочной, – подтвердила Лукьяновна, а сама хитро повела собачьими бровями. – А грамоты – во-от они у меня где-е…
Она, не вставая от стола, выдвинула ящик буфета и достала коробку из-под конфет, показала пачку перегнутых надвое бумаг, стянутых крест-накрест резинкой.
– Я вот помню, с какого Владик году, да забыла, – опять уважительно вставила Таисья.
Вдруг скрипнула, распахнулась дверь крыльца, туго застучало по ступенькам: это – вмиг смекнули собеседницы – Надежда заводит велосипед на крыльцо – приехала! И Лукьяновна – живо коробку в ящик…
– Вот так больные! – резвый голос с порога.
Лукьяновна, сидя к вошедшей спиною, в нарочитом страхе подмигнула, прося Таисью молчать, а та засмеялась – затрясла плечами, закрыв ладонями лицо и выставив пористый нос.
Надежда сняла платок, тряхнула опавшими русыми волосами, глянулась в зеркало, машинально повесив платок на угол его, – и повернулась к столу. По улыбке, осенившей круглое быстроглазое лицо, было видно: догадалась, что говорили о ней.
– О чём заседание в верхах? – спросила она с безобидной строгостью.
Лукьяновна, как бы спасаясь, тотчас побежала на кухню – принести дочери ужин, а заодно и поставить, как заведено, кипятить шприцы. А Таисья улыбнулась испуганно:
– Сегодня, Надежда, в какую же сторону?
– Какая меньше болит.
– Обе болят.
– Ну, в обе и уколю.
Когда Надежда мыла руки, Лукьяновна шепнула Таисье:
– Что, напросилась на свою головушку?..
Церемония вечернего чая была известная – для Таисьи она повторялась на этот раз вторую неделю, а всего – третий раз в её старости: Надежда приехала (а зимой бы пришла), поужинала, теперь спросит как бы между прочим…
– Что же, тётя Тая, чай не пьёшь? – спросила Надежда.
– Да я, Надежда Карповна, отпила…
Тут уж все трое засмеялись.
Надежда повелительно встала.
– Мама, шприцы готовы?
– Честь имею, честь имею… – И Лукьяновна принесла, держа в полотенце, ванночку со шприцами.
И что будет дальше – известно: тщательно моет руки Надежда, дымится горячий пар над шприцами, звякает отломленное горлышко ампулы – отчего Таисья ёжится, ползёт светлая капля по приподнятой торчком игле – отчего Таисья зажимает один глаз, а другим косится…
– Марш в переднюю!
– Надя… это, как его…
– Не р-разговаривать!
Лукьяновна остаётся в прихожей.
– Какая благодать, что я не хворая! – говорит она сдержанно, но всё-таки так, чтобы в передней было слышно.
А там скрипнул диван, там возня и гомон:
