Радость жизни (о первых годах Классической гимназии при Греко-латинском кабинете)
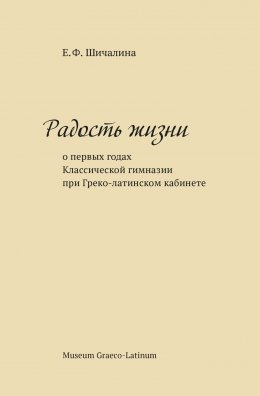
© Е. Ф. Шичалина, 2023
© Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2023
Вступление
Своеобразие жанра книги, которую уже давно мне хотелось написать, определяется, с одной стороны, многогранностью и разнообразием форм нашей деятельности, а с другой – сумбурным, переменчивым и непредсказуемым характером того периода истории и жизни, когда эта деятельность протекала.
В сентябре 2023 года Гимназии исполняется 30 лет. В 2020 году я передала бразды правления Гимназией Олегу Владимировичу Сидорову, обладающему всеми необходимыми качествами руководителя. Проработав со мной бок о бок более пятнадцати лет, он приобрел и знания, и опыт. У меня появилась возможность осмыслить прошедший период и записать некоторые впечатления и соображения.
Как только я мысленно обращаюсь ко времени становления Гимназии (90-е – начало 2000-х), перед внутренним взором встает галерея лиц. Это – те люди, без которых наша Гимназия никогда не стала бы тем, что она есть. Мы вместе с ними выстраивали учебное заведение традиционного российского образца, не имея опыта, необходимых материалов, денег, а периодами даже места для работы. Но нами двигала идея восстановления классического образования, и то, что мы старались воплотить в жизнь, мы считали правильным. Не побоюсь сказать, что мы и сейчас так думаем.
Когда в книге я употребляю местоимение «мы», я имею в виду прежде всего Юрия Анатольевича Шичалина и себя. Юрий Анатольевич – основатель и глава Греко-латинского кабинета, учредитель Классической гимназии, а я – ее первый директор. Но часто это «мы» подразумевает гораздо более широкий круг людей: тех, кто участвовал так или иначе в конкретном описываемом мною эпизоде или вообще работал с нами в те годы.
Особенно драгоценен вклад тех, кто пришел в «никуда», чтобы создавать Гимназию вместе, претерпевая все тяготы первопроходцев. Это были Ирина Владимировна Кувшинская, Виталий Егорович Сусленков, Наталья Львовна Волкова, Кирилл Кириллович Андреев, Игорь Николаевич Осипенко и Анастасия Владимировна Сивицкая. Низкий им поклон! Начало было положено.
Разбирая старые фотографии и записи, я смогла подсчитать, что в Гимназии с начала ее существования (1993) до последнего переезда (2004) работало около 40 человек. Всем, кто внес свою лепту в работу Гимназии, я выражаю глубокую сердечную благодарность.
Были среди них и такие педагоги, без присутствия которых Гимназия была бы другой. Кроме вышеупомянутых, это Наталия Ивановна Кириллова, Елена Всеволодовна Добровольская, Елена Николаевна Скрипка, Татьяна Петровна Васькина, Марина Евгеньевна Клягина, Владимир Александрович Гугнин, Гаянэ Эдуардовна Богомолова, Дарья Дмитриевна Шаховская, Юлий Львович Бялов… Все эти люди не только старались придерживаться нашей концепции, но и вносили в преподавание свое видение, свою индивидуальность и свойственный им артистизм.
За время своей работы Гимназия утеряла нескольких дорогих людей и прекрасных педагогов. Светлая память Антонине Михайловне Альбовой, Екатерине Сергеевне Дружининой, Марине Игоревне Поповой! Они беззаветно любили свой предмет и преподносили его «вкусно», разнообразно и глубоко.
С самого начала в Гимназии речь шла об изучении дисциплин, а не о формальном выполнении учебного плана или о необходимости следовать неубедительному стандарту. Стремление возвысить детей до понимания серьезных вещей, привить им вкус и пробудить интерес к первоисточнику знаний отличало большинство педагогов Гимназии. Люди, мыслящие в пределах школьной программы, обычно в Гимназии долго не задерживались.
Мы не имели тогда ни отдела кадров, ни юриста, ни нескольких администраторов, но все тяготы по ведению гимназических дел лежали на плечах Александра Тимофеевича Матвеенкова (делопроизводитель), Ольги Петровны Александровой (завуч), Оксаны Викторовны Ивановой (секретарь), Александра Борисовича Левикова (завхоз) и Елены Борисовны Филюшовой (бухгалтер). Трое из них пришли к нам уже на Новодевичий проезд, а как мы управлялись до этого, сейчас даже трудно представить.
Мне посчастливилось работать двадцать лет с неизменным составом учителей младших классов с момента, когда в Гимназии была открыта начальная школа. Тогда по мере ежегодного набора первых классов пришли работать Татьяна Сергеевна Бакланова, Галина Валерьевна Кислинская и Ольга Николаевна Мелёхина. Я по сей день при слове «нельзя» слышу непревзойденную по убедительности интонацию Татьяны Сергеевны: Ваня, так делать нельзя! – с выразительным акцентом на последнем слове.
В тяжелые годы при отсутствии налаженности быта и в государстве, и в Гимназии мы все же старались хорошо кормить детей, ни разу не прибегнув к готовой школьной «еде». Во всяком случае мы всегда отвечали сами за то, что именно, из чего и как было приготовлено. Тяжелей всего досталось Ольге Александровне Полонской, у которой не только не было кухни, но и притулиться-то было негде. Я навсегда сохранила в сердце благодарность всем нашим кормильцам тех времен: Ольге Александровне Полонской, Ольге Алексеевне Исиняевой, Наталье Владимировне Двужиловой. Хотелось бы надеяться, что наш нынешний повар, Аксана Александровна Виноградова, во всеоружии кухни, плит и утвари будет долго всех радовать своей вкусной стряпней.
По мере расширения Гимназии увеличивалось и количество каждодневных ссадин и ушибов. Первым нашим врачом в конце 90-х была Елена Петровна Протасьева. Она проработала в Гимназии несколько лет, создавая уют в разных уголках и ухаживая за цветами. Сменила ее Вера Ивановна Карпова – врач высшей категории, имевшая большой опыт работы на «скорой». Она естественно влилась в гимназические будни и проработала с нами более 15 лет, всегда спокойно принимая верные решения порой в весьма нелегких ситуациях. Хорошо понимаю, как важен был их ответственный «незаметный» труд.
Не могу не выразить восхищения и благодарности созвездию наших «уборщиц». Кавычки говорят не о том, что они плохо убирались, поскольку убирались все трое великолепно, а о том, что это амплуа было вынужденным для высоко квалифицированных интеллигентных людей, которым научные институты не выплачивали вовремя зарплату. Они были украшением Гимназии, подавая пример детям своим отношением к труду и к людям. Четвертая «уборщица» пришла работать, устав на курсах от древнегреческой грамматики. Она была крайне самобытным человеком, ничуть не гнушавшимся новых обязанностей. Но когда ее попросили ввести в курс дела несуразного молодого человека (хотел работать, но не умел держать в руках веник), она приступила к «обучению», начав с чтения ему вслух «Жизнеописаний» Плутарха.
Все упомянутые или не упомянутые мною люди, так или иначе подвизавшиеся в Гимназии, заслуживают каждый как минимум отдельной главы. Но эта книга – не история Гимназии и тех, кто в ней работал, а воспоминания о событиях и людях, находящихся нередко словно «за кадром» обычного течения гимназических будней. В силу этого хронологический порядок усматривается лишь в разделе «Перемена мест».
«Впечатления» можно читать в любой последовательности, так как они не связаны между собой и сознательно «перепутаны» во времени. Это – отдельные «сцены», словно вырванные из разных пьес, но объединенные в одном жизненном спектакле.
В свободных размышлениях о театре наоборот: читать желательно подряд от начала к концу. Несмотря на то что раздел также разбит на небольшие главки, их объединяет общая мысль. Упомянутые спектакли служат иллюстративным материалом к тому или иному тезису, а не являются предметом специального анализа. Их хронология поэтому не соблюдается.
Утро
Ранним сентябрьским утром я медленно шла по Никольской улице в направлении бывшего Заиконоспасского монастыря. Погода стояла отменная: яркое по-августовски солнце, ещё скрытое за тёмными силуэтами домов, приятная осенняя свежесть и небесная синь. В такие дни хочется расправить плечи, вдохнуть утреннюю прохладу и безмятежно скользить лёгкой походкой, слегка закинув голову, чтобы впитывать глазами «чистую и тёплую лазурь». Однако одолевающая меня тревога, путающиеся мысли и ужас, охвативший всё моё существо, не позволяли мне ускорить шаг: я и стремилась всей душой достичь пункта моего назначения, и одновременно боялась.
Первого сентября 1993 года я шла в Классическую гимназию при Греко-латинском кабинете. Беда заключалась в том, что Гимназии-то ещё не было. Она должна была возникнуть в этот день. Именно возникнуть, а не открыться, потому что «открывают» нечто подготовленное: просторное здание, светлые окна, оснащение, оформленные документы… Мы ощущали всем своим естеством ответственность момента, риск провала и неминуемость нашего начинания… Мы ведь обещали, мы дали согласие! Нельзя забыть глаза родителей (их дети посещали уроки латыни, истории и искусства на наших курсах), взиравших на меня требовательно и вместе с тем просительно: «Вы хотите открыть гимназию, мы знаем. Возьмите наших детей, мы хотим, чтобы они остались с вами. Они всегда успеют вернуться в государственную школу!» И мы обещали им попробовать.
Зачем, зачем я согласилась? – в отчаянии повторяла я. А дети? Празднично одетые, полные надежд и уверенности в завтрашнем дне, они шли учиться в новое, желанное учебное заведение! Невольно вспоминался анекдот советского времени, как приезжий хвалит море в Чехословакии.
– Но у нас нет моря! – возражают ему.
– Надо же! А я не знал и выкупался!
Куда они придут? – спрашивала я себя, невольно перебирая мелькавшие перед внутренним взором картины: новые школы, только что выстроенные или отремонтированные, с широкими лестницами, по которым поднимаются сияющие мальчики и девочки, сгибаясь под тяжестью гладиолусов и заслоняя объективы капроновыми бантами.
Действительно, куда? Грязный двор, засыпанный песком; поруганный собор с покосившимися от трещин стенами, из которого только что выехал детский театр, оставив после себя «культурный слой» метра на два вокруг всего Храма; нуждающееся в реставрации здание с кривыми каменными ступенями, темное внутри, где как раз и расположился маленький класс, отмытый нами и свежевыкрашенный добытой с трудом зеленой краской!
Мучимая кошмарами, я миновала арку и вошла во двор. Солнце, поднявшись над домами, ярко освещало собор и горстку детей (их всего-то было тогда двенадцать). Сгрудившись посреди двора, они, закинув голову, глядели на колокольню и жестами призывали меня разделить их небывалую радость. Весь двор и вся округа были наполнены звуками колоколов, молчавших столько десятилетий!
– Игорь Николаевич! Игорь Николаевич! – кричали дети, указывая вверх на едва приметную в проёмах колокольни фигуру любимого учителя. Колокольный звон победоносно плыл над городом, властно распространяясь по Красной площади. Казалось, что и сам собор омывается этим звуком, готовясь принять молящихся на торжественный молебен. И в этот миг глубокий покой и радость охватили мою душу. Все мои сомнения куда-то исчезли, и я увидела залитый светом вход в Братский корпус Славяно-греко-латинской академии, куда по отшлифованным временем ступеням вслед за тенью Ломоносова поднимались наши дети. С юными силами и гордостью первопроходцев они были готовы приступить к изучению древних языков. В тот день Гимназия не имела ещё «статуса» православной, а мы ничего не знали о «конфессиональном представлении», но именно тогда я остро ощутила, что Господь не оставит нас и что через этот чудесный колокольный звон, через нашу первую общую молитву, через напутственные слова архимандрита Иоанна и через этот сияющий свет на нас сошла та высшая Сила, с милостивой помощью которой нам и было суждено идти дальше.
Перемена мест
Переезды
Братский корпус
Мы доблестно начали, повесив в классе берёзовую ветку как символ розги, и стали сеять разумное, доброе, вечное теми методами и способами, какие были нам доступны в то время. Лишь к маю, например, мы заметили, что наши бравые гимназисты по возрасту должны были идти в шестой класс, а мы приняли их в пятый. Ну что ж, прошли программу шестого и седьмого класса за один год, и никто даже не выказал сомнения в правильности наших действий. Чем больше бессмысленного, ненужного и чуждого образованию навязывали впоследствии нам разные «образовательные» структуры, тем с большим удивлением и восхищением мы вспоминали тот благословенный дикий хаос, в котором пребывало наше государство в 90-е годы. В отличие от марксистов, которые всегда знали, «что делать» и «кто виноват», мы искали, пробовали, ошибались, всячески пытаясь нащупать тот традиционный и апробированный путь нашего отечественного образования, который в свое время приносил такие благие плоды. Но как трудно было начинать, не получив того естественного и органичного воспитания и тех знаний, что давались в наших лучших российских гимназиях! Классическое образование, полученное нами, зияло подчас многочисленными лакунами: уже будучи взрослыми, мы, как дети, были вынуждены постигать древние языки, начиная с алфавита (до революции университет и в студенты-то не брал без знания латыни и древнегреческого). К тому же нам не хватало педагогического опыта в работе с детьми, а порой и терпения.
Наш маленький класс с высоким потолком, остатками лепнины, выдававшими былое благородство здания, да и сам весь Братский корпус, где в течение нескольких первых лет располагался Греко-латинский кабинет, принадлежал в то время Историко-архивному институту. Десятилетиями не прибиравшаяся комната с мутными треснутыми стеклами окон была завалена никому, очевидно, не нужными папками старых курсовых и дипломных работ. Их развалившиеся груды упирались в потолок. Неделю мы выгребали, чистили и мыли. Повесили зелёные занавески, доску и поставили парты. Однако если присутствие одного-двух сотрудников Греко-латинского кабинета не было слишком заметно, то ежедневное пребывание группы детей на институтской территории вызвало соответствующую реакцию. Уже в конце сентября явилась клика из ректората: хлопая дверьми и демонстративно не замечая идущих занятий, они гулко прошагали по коридору. Злобно озираясь на вымытые стены.
– Здесь будет мой кабинет! – изрёк один из них. Это был приговор. Безрадостный финал ожидал наше едва прозябшее хилым ростком учебное заведение! Поделом нам, – неопытным, безответственным и, что хуже всего, легкомысленным! У нас ведь не было ни одного документа, ни бумажечки. О чём же вы думали? – спросит современный читатель, приученный заверять справки у нотариуса. Об образовании мы думали, вот о чём!
Возможно, напрашивается ещё один немаловажный вопрос: а как в Братском корпусе оказался сам Греко-латинский кабинет? Да и как вообще на фоне 90-х годов в стране, доведённой до крайней степени нищеты, голода и дикости (и это в мирное время!), могло возникнуть столь странное для большинства, «неактуальное» («В стране нет мяса, а вы…») просветительское учреждение?
Воссоздание исторических событий, их причин и следствий – не мой конек. Эти заметки – плод субъективного, но эмоционально пережитого и осмысленного со временем восприятия происходящего. Такой подход допускает порой фактические неточности, но не допускает искажения сути. А суть сводится к простому факту, что всё, что связано с нашей деятельностью, начиная с 90-го года, обязано своим существованием одному человеку.
Греко-латинский кабинет был задуман, выстрадан и воплощен Юрием Анатольевичем Шичалиным. Он ему принадлежит (откуда притяжательный падеж в названии) и в нем существует. Незыблемость традиции, непоколебимая сила языка Гомера, Платона, Василия Великого, несокрушимость основ классического образования, уверенность в положении: в России должны быть классические гимназии, даже если почти никто не хочет этого понимать. Дети должны учить древние языки, потому что на этих языках зиждется истинное отечественное образование. И взрослые тоже. Абсолютная убежденность в правильности идеи, потому что она верна, не только дала необходимый импульс в начале пути, но и явилась базой для всей последующей последовательной работы. Древние языки стратегически необходимы.
В это не смог не поверить даже тогдашний ректор Историко-архивного института Афанасьев.
– Хотите четверть ставки? – спросил он после того, как Юрий Анатольевич подверг глубокому сомненью образованность историков-архивистов, не знающих даже азов древнегреческого языка. Жест был сделан: отделение из четырех волонтеров открыто. Вот почему через некоторое время Греко-латинский кабинет скромно угнездился в Братском корпусе бывшей Славяно-греко-латинской академии.
Итак, в конце сентября нам было явственно предложено убраться восвояси со всеми нашими детьми. Характерная деталь: никто из этих и последующих гонителей гимназии, зримых и незримых, ни разу не поинтересовался, где и как будут обучаться изгнанные на улицу дети, почему и чему они учатся в нашем учебном заведении и чем вообще мы занимаемся. Это удивительное отсутствие любознательности, свойственное, впрочем, многим представителям рода человеческого, особенно присуще чиновникам от образования. Спасибо им за это! Ведь страшно вспомнить, сколько раз получала лицензию (право ведения образовательной деятельности) и аккредитацию (право выдачи государственного диплома) наша многострадальная гимназия, но ни разу ни один чиновник не захотел взглянуть на детей или того хуже – заглянуть на урок. Главное требование – поставить в кавычки «классическая» при слове гимназия, потому что-де «классических гимназий у нас полно» (тот, кто мне это говорил, имел в виду, по-видимому, изучение классической русской литературы).
– А вы что такое? Обычная СОШ!
Хотелось бы мне посмотреть на учеников обычной средней общеобразовательной школы, читающих в подлиннике Платона, Овидия или Горация! Однажды оказавшись по принуждению на открытом уроке литературы в 9 классе одной школы, я стала свидетелем гордости учителя: ученики коряво, запинаясь, ритмически неверно, но всё же смогли прочесть вслух несколько строк из «Евгения Онегина»! Но тем не менее, когда я говорю «спасибо им», нашему образовательному начальству, я это говорю от чистого сердца без всякой иронии: они позволили нам работать так, как мы считали нужным (я ручаюсь за двадцать пять лет существования гимназии). Они не закрыли нас из-за простого непонимания и нежелания понять, для чего и кому нужно классическое образование. Все эти годы они относились к нам с брезгливой настороженностью, как к убогим или не совсем здоровым, от которых неизвестно, чего можно ожидать. Но нет правил без исключений. Был человек из «вражеского» племени методистов, который тянулся к нам душой, приносил книги по античной тематике, старался всячески втянуть нас в некие вязкие образовательные проекты (видимо, заботясь о спасении наших душ) и так был в целом расположен, что однажды согласился под Новый год сыграть роль «отрубленной» головы Олоферна в живой картине по знаменитой работе Кристофано Аллори «Юдифь». Потом он исчез, и путь его нам неведом. Был ещё один человек «из высших образовательных сфер», о котором с глубокой благодарностью – чуть позже.
Тогда всех этих чувств, нахлынувших сейчас, когда невольно вспоминается вся ретроспектива, я ещё не испытывала. Первое изгнание – первая горечь. Мы совсем не были тогда уверены в успехе и долговечности нашего начинания, но особенно больно было от того, что конец настал так скоро! От неминуемого позора (признания родителям, что гимназию попросту выставили вон) нас спас расстрел Белого дома.
Непосредственно перед воротами нашего прибежища Никольскую улицу перекрыли баррикады. Раздавались редкие выстрелы: продолжать здесь занятия было небезопасно. Двор опустел, и только «Эхо Москвы», оказавшееся в ту пору нашим соседом, вещало не прерываясь.
Я сидела в старинном кресле в нашей опустевшей после кончины бабушки безжизненной квартире (Елена Владимировна Шервинская умерла в мае 1993 года) и молчала. Молчание было тягостным. Что было говорить о том, что потребовало стольких душевных и физических сил и так мало смогло прожить! Помощи было ждать неоткуда. Политические события вряд ли могли позволить кому-либо из власть имущих всерьёз отнестись к нашей мелкой на общем фоне неурядице. Гимназия не была зарегистрирована, так что её кончина прошла бы так же незаметно, как и рождение. Денег не было вовсе.
И тут пришла простая мысль: ведь помещение есть! Чем хуже комната в нашей квартире, служившая ранее рабочим кабинетом Сергею Васильевичу Шервинскому, того класса, что был на Никольской? Мы всегда советовались с дедушкой во всех своих начинаниях, и, когда он ушел в мир иной, эта связь не только не ослабла, но, наоборот, приобрела иные, но явственно осязаемые формы. Я и сейчас ясно представляю, как, узнав о нашем решении, он бы привычно кивнул головой и сказал: «Всё правильно». – Глаза его хитро улыбались.
Дома
Забрав свой невеликий скарб, мы переехали из Заиконоспасского монастыря к Новодевичьему, который сыграл впоследствии очень важную роль в нашей судьбе. Дело в том, что тогда в своем молодом наивном неведении и безрассудной смелости мы ещё не понимали и не чувствовали, как неотвратимо, целенаправленно и благостно ведет нас Божия милость. Тогда мы знали твёрдо только то, что дом наш находится напротив Новодевичьего монастыря.
Чтобы не потерять ни дня занятий, мы срочно взялись за переустройство нашей квартиры в гимназию. Развернув два стола, письменный и овальный, так, чтобы выиграть как можно больше места, мы пришли к выводу, что больше десяти детей за два стола никак не посадить, и стали изобретать третий. Сохранившаяся за шкафом доска (кажется, с её помощью раньше раздвигали стол) удачно легла на подставку от швейной машинки Зингер. Ажурные ножки машинки из черного металла с витиеватым рисунком таили педаль и соединенное с ней большое колесо, на которое при необходимости натягивался тугой ремень ножного привода. Эту педаль (без ремня) раскачивало ногой не одно поколение в нашем семействе: колесо могло вращаться вперед и назад, слегка поскрипывая и достигая желаемой немалой скорости. Предположить, что самые примерные ученики, сидя за этой «партой», не будут качать педаль было невозможно. Я полезла привычно смазывать рычаг машинным маслом.
Да, но писать-то не на чем! Доски нет, и повесить её решительно некуда: с одной стороны – портрет Шишкова, который, удобно сидя в кресле возле сложенного стопкой толкового словаря великорусского языка, взирает на бюст Пушкина в другом конце комнаты, словно думая, простить ли; с другой – три богини в горном пейзаже (картина почти во всю стену) ожидают вожделенного яблока, смущая обещаниями обескураженного Париса. Между балконом и окном – старинное бюро. Вот на нем-то и будем объяснять. Родителям брошен клич: каждый приносит рулон ненужных обоев!
– Елена Фёдоровна, отмотайте, пожалуйста, Вы как раз объясняли этот материал на той неделе; да, да, после примеров по математике! – У нас до сих пор хранится образец такого рулона.
В понедельник утром раздался звонок в дверь, и потекли детки: круглолицый Вова, очень серьёзный с министерским портфелем в руках, в сером пальто, застегнутым на все пуговицы, и в тёмной шапочке, низко натянутой на уши; Кирюшка с лукавым взором и сияющей хитрой улыбкой; Андрюша с розовыми яблоками щёк; за ними плетётся волоокий Янис в туго зашнурованных ботинках (после уроков он задумчиво усядется их бесконечно долго шнуровать); мелькает светлая коса Наташи, нередко накрученная на большой Сашкин кулак; у Наташи губки плотно сжаты, а взгляд внимательно-встревоженный. Сашка ни минуты не пребывает в покое: он подпрыгивает, вертится, строит рожи и беззлобно поддразнивает девчонок тоненьким голосом. Уже достойно вплыла спокойная Олеся, за ней впопыхах крепкая, как белый гриб, с приоткрытым от непонимания ртом Елена (она через год покинула нас, разумно предпочтя фигурное катанье). В прихожей мало места; все топчутся, меняя обувь, суют мне в руки коробочки с бутербродами на кухню (пока будет не мой урок я приготовлю чай к 12 часам, поделю завтраки, насколько возможно, поровну. Труднее всего с колбасой, начиненной оливками – всем хочется попробовать! Перечитывая этот текст, понимаю, что необходим комментарий: в те годы мы уже несколько лет вообще не видели в продаже колбасы, как, впрочем, и другого съестного, а тут ещё с оливками!
