Парадоксы свободы (2)
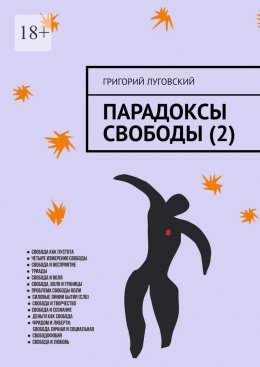
© Григорий Владимирович Луговский, 2025
ISBN 978-5-0067-0676-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Тема свободы будоражила умы мыслителей на протяжении веков, особенно пары последних. Но никто так и не дал ясного ответа на простой, казалось бы, вопрос: что же такое свобода? Все исследователи свободы походили на слепых мудрецов из общеизвестной притчи про слона. Когда слепые мудрецы принялись описывать слона, то каждый ощупал его лишь с одной стороны. И получилось, что слон был похож на веревку (мудрец ощупал его хвост), шланг (хобот) или столб (нога слона).
Похожая ситуация сложилась с описаниями свободы мудрецами. Мы видим череду интуитивно понятных представлений, но ни одно из них не дает полной картины свободы. Более того, часто эти описания не согласуются между собой, хотя очевидно, что они выражают некоторые сущностные стороны свободы.
Вот, например, цитата из М. Мамардашвили: «Под свободой обычно эмпирически понимают „свободу выбора“. Считается, что мы свободны тогда, когда можем выбирать; и чем больше выбора, тем больше свободы. Если у человека есть свобода выбора, то свободой называется, во-первых, само наличие выбора, и во-вторых, непредсказуемость того, что именно он выберет. Таков эмпирический смысл термина „свобода“. А философ говорит нечто совсем другое – более правильное. Он говорит: проблема выбора никакого отношения к проблеме свободы не имеет. Свобода это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. Свободой является нечто, что в себе самом содержит необходимость – вот как введена категория. Нечто, что является необходимостью самого себя, и есть свобода».
Получается, что существует эмпирическая и философская свобода. Но как они согласуются друг с другом? Мамардашвили не даёт разъяснения, для него лишь философская свобода является «более правильной».
В другом месте тот же Мамардашвили озвучивает третье определение свободы: «свобода – это когда свобода одного упирается в свободу другого и имеет эту последнюю своим условием». Как видим, даже один философ может спокойно называть свободой разные явления. Тем не менее, в его понимании эти дефиниции свободы уживаются. Все эти определения имеют свою логику, просто ее никто последовательно не раскрыл.
У большинства философов свобода возникает словно черт из табакерки, как непознаваемое явление. Для одних свобода – феномен божественный, для других – проклятие человеческого рода, мешающее всем маршировать единым строем. Разобраться в этой проблеме и расставить точки над «i» в вопросах о свободе призвана эта книга.
Основная мысль «Парадоксов свободы (2)», которую я попытаюсь раскрыть – свобода имеет основание в мире, сам мир невозможен без нее, а не только человек, которого многие философы называют единственным действующим лицом свободы. Но человек действительно особенный актор свободы. Все успехи и проблемы человечества так или иначе связаны со свободой. Продолжайте чтение до конца, чтобы снять затемняющие повязки с глаз и узреть слона свободы во всей его сложности. Хотя раскрыть эту тему «до конца» невозможно, ведь свобода не предполагает окончательности. Она приходит к нам в разных формах и обличьях, поскольку сама не имеет формы. Разглядеть свободу или волю за множеством явлений – прикладная задача любого ума.
Несколько слов об истории создания книги. Интерес к теме свободы во мне открылся случайно, когда на одном из форумов в 2007 году я придумал себе ироничную подпись: «Свобода – это расстояние от меня до вас». За этим последовали более серьезные раздумья о свободе. В конце 2008 года на том же форуме я опубликовал пространный пост, где изложил идею о том, что свобода это пустота. Данный текст можно найти в приложении к этой книге. Следующее озарение на тему свободы случилось летом 2011 года, когда я написал «Четыре измерения свободы». В конце 2013 я решил раскрыть тему свободы в форме книги, чтобы окончательно закрыть этот вопрос для себя.
Это вторая версия «Парадоксов свободы», отсюда и специфическое название с двойкой в скобках. Первые «Парадоксы» были завершены в марте 2014 года и вскоре опубликованы через электронную платформу «Издательские решения». Но с тех пор многие взгляды на свободу пришлось пересмотреть, некоторые темы требовали более тщательного рассмотрения. Поэтому появилась вторая редакция книги – расширенная и более дотошная в отдельных деталях. Это примерно на 70% новый контент.
Основной текст второй редакции создан в конце 2024 – начале 2025 годов. В конце книги есть «Приложение», куда вошли разные тексты на тему свободы, написанные ранее, но представляющие собой отдельные эссе. Они либо детальней раскрывают какие-то контексты этой книги, либо служат иллюстрацией моих более ранних, не вполне оформившихся взглядов на свободу. У меня нынешнего могут быть претензии к форме, но в основном я согласен с содержанием этих текстов.
Вместо эпиграфа: Желания и возможности Несколько вопросов без ответов
Какая разница, что ты делаешь, если ты делаешь не то, что хочешь?
Какая разница, с кем ты, если ты не с тем, с кем хочешь?
Какая разница, где ты, если ты не там, где хочешь?
Какая разница, кто ты, если ты не тот, кем быть хочешь?
Какая разница, как именно ты компенсируешь то, что не можешь получить?
Существует ли только один правильный выбор для каждого из нас? Или, может быть, выбор и делает нас? Каждый акт выбора – шаг на пути к становлению собой.
В таком случае ограничение выбора, действующее в любой системе, способно исказить нашу возможность выбирать и быть собой. Мы становимся теми, кем мы есть, а не теми, кем могли бы быть, если бы действовали свободно. Ведь выбор – это проблема, и не каждый готов переживать её снова и снова. А потому человек принимает отказ от части свободы, делегируя её системе, порядку, который «освящает» протекающие процессы и существующее положение вещей.
Как мы можем быть уверены в каждом новом выборе, если уже уверены, что один из предыдущих был неверным? Тогда все последующие наши действия тоже ошибочны. Пока мы пытаемся выехать на трассу своей «реальной» жизни, жизнь проходит мимо нас.
Или, всё-таки, нет никакой разницы? В таком случае мы живём здесь и сейчас, независимо от всех вариантов, которые пролетели мимо. И та точка жизни, в которой ты сейчас находишься, и есть твоя истинная реальность, которую ты заслужил. Тогда любой выбор, который сделан, является верным? И наша дорога меняет своё направление хотя бы на долю градуса в каждый момент совершения выбора.
Наши желания вытекают из сделанных ранее выборов. Желания диктуют новый выбор. Что первично: выбор или желание? Возможностей всегда больше, чем желаний, но в русле наших желаний возможностей всегда меньше. Часто – ни одной. В таком случае, чтобы пользоваться большей свободой, нужно делать выбор вразрез с желаниями?
Мы – итог цепи выборов, сделанных ещё до нашего появления. Но даже появившись, мы продолжаем оставаться под постоянным влиянием чужих выборов.
Что есть свобода: быть собой, иметь возможность сохранять себя или постоянно меняться, теряя границы себя первоначального?
Что вообще такое свобода?
Большая часть этих вопросов останется без ответа. Но эта книга посвящена ответу на последний. А на остальные каждый может ответить для себя сам.
Свобода как пустота
Определив точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений.
Рене Декарт
О свободе говорили и писали давно и много. Эта тема интересна и философам, и «свободным художникам», и политикам, и обывателям. И хотя почти все понимают смысл понятия «свобода», выразить его ясно и определенно – не простая задача. Чаще свободу определяют через отсутствие чего-то: рабства, угнетения, давления. В конечном же итоге оказывается, что основной смысл свободы – отсутствие всего. Ведь что бы то ни было способно свободу ограничивать и только пустота является достаточно убедительным описанием свободного состояния бытия. А если погуглить картинки по запросу «свобода», то поиск выдаст массу изображений людей, стоящих на какой-нибудь горе с распростертыми руками, или даже подпрыгивающих, пытаясь изобразить полет. «Вольная птица» – эпитет более распространенный, чем «вольный зверь», а тем более какая-нибудь рыба, рептилия или трава. А выражение «вольный ветер» приходит на ум быстрее, чем «вольная вода» или «вольная земля» (впрочем, человек традиционно вступал с землей в особые отношения, не предполагающие существования по-настоящему «вольных земель»). Напрашивается вывод, что свобода предполагает возможность полета или хотя бы максимального контакта с воздушным пространством, которое само по себе является символом освобождения от материального, бренного, телесного. Когда мы говорим «свободное место», «свободное время», «свободная касса» и т. д., подразумеваются место/время/касса пустые, не занятые, но потенциально могущие быть заполненными.
Наиболее простое определение, вытекающее из сказанного: свобода – это пустота. Этот вывод мы получим без погружения в многословие умных книг – такое понимание свободы вытекает из самого языка и нашего опыта.
Конечно, любая пустота относительна. А физики могут сказать, что настоящей пустоты вообще не существует. Но ведь и материя «сама по себе» не известна, она бесконечно делима, а значит, бесконечно содержит в себе некие промежутки, которые можно назвать пустотой. Пустота существует и постигается лишь при наличии чего-то, непустоты, в сравнении с материальными объектами. При этом любая пустота окажется ограниченной конкретным уровнем ее проявления, как и материя, овеществляемая благодаря наличию пустоты рядом/вокруг, что позволяет быть отдельным объектам вообще. Материя обретает свое бытие через пустоту, а пустота выступает таковой, имея проявленные формы материи в себе/рядом с собой.
То, что Аристотель называл формой – это единство пустоты и материи. А главное свойство материи – движение – осуществимо только благодаря наличию пустоты, позволяющей перемещаться, в том числе и внутри других материальных объектов и живых организмов – как двигаются различные частицы, молекулы, электрические импульсы. То есть свобода – окно возможностей для движения, пространство выбора. Даже если этот выбор из одного варианта. Всегда, если движение осуществляется, для этого существует возможность – определенная пустота. Можно сказать также, что наличие в языке глаголов демонстрирует существование свободы в мире. Чем больше вы можете применить глаголов к себе, тем больше ваша свобода.
Один из популярных вариантов основного вопроса философии звучит так: «Что первично: материя или сознание». В свете сказанного его можно перефразировать: «Что первично: материя или пустота». Такая редакция основного вопроса освежает его, ведь «сознание» или «дух» – понятия слишком человеческие, а пустота/свобода выступают свойством физического мира. Но сама по себе первичность материи или сознания (духа) ничего для понимания бытия не дают. Это спор о том, что считать лошадью, а что телегой в мировых процессах. Лучше говорить об их единстве. Весь мир соткан из двух реальностей – энергоматериальной (ведь материя всегда включает энергию, что и позволяет ей меняться) и символической (информационной). Любая материя имеет какую-то форму, то есть несёт информацию, идею. И любая идея запечатлевается в материальном носителе.
Пустота, разлитая повсюду в мире – та самая абсолютная свобода, о которой лишь мечтают. Ее можно сравнить с бесконечностью в математике. Но если говорить о свободе субъектов и объектов, то никто не может иметь ничего бесконечного. Бесконечность можно помыслить, во многом благодаря этой идее живы представления о Боге, Абсолюте – сверхсуществе, обладающем этой абсолютной свободой. Остальным же сущим свобода открывается лишь в некоторой мере, в ограниченном показе. Здесь все как с прочими платоновскими эйдосами: есть идея стола (стольность), чашки (чашность) или слона (слонность), а в реальности же мы имеем дело с их копиями. Есть идеальная свобода, а все сущие обладают только той или иной мерой свободности. Но зато уместно говорить о духе свободы, бытующем среди живущих, влекущем нас к ускользающему горизонту. И о противостоящем ему духе рабства и страха, препятствующему движению, заставляющему окапываться в обретенных границах.
Четыре измерения свободы
Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношения бытия к небытию.
Ф. М. Достоевский
Синоним свободы – возможность, а возможность проявляется в движении. Возникает вопрос: где в принципе может происходить движение? На данный момент можно с точностью утверждать наличие двух всеобщих (физических) измерений свободы и еще двух, открытых для человека.
Первое измерение свободы – время. Конечно, время возникло вместе с пространством, поэтому не является старшей субстанцией. Теоретически время и пространство появились в результате «Большого взрыва», который в тот же момент создал и пустоту – возможность для движения. То есть мир возник вместе со свободой. И все изменения с тех пор протекают во времени и пространстве. А в результате изменений в мире могут появляться и новые измерения свободы.
Время является «великим уравнителем» – часики тикают для всех одинаково, Кронос пожирает всех детей. И хотя кому-то удается просуществовать дольше, с точки зрения вечности мы все – точки на карте времени. То есть имеем мизерную протяженность, чуть отличающуюся от нуля.
Если представить нашу жизнь как протяженность во времени, то возможности выбора будут сужаться подобно воронке: от рождения к смерти. Чем дольше мы живем, тем, без всяких сомнений, меньше времени у нас остается. А значит, и меньше возможностей реализации выбора. Смерть – точка, когда выбор исчезает совсем. Чем дольше мы живем, тем яснее нам и окружающим, кто мы есть, кем мы стали и кем уже не сможем стать.
Помимо общего, космического времени, существует и время каждого отдельно субъекта, выстраивающего свою жизнь в координатах этого времени. А это триллионы человекосекунд, минут, дней и лет. А сверх того – секунды, дни и годы мириад других существ и просто движущихся, бытийствующих объектов, вносящих свою лепту в развитие этого мира. Таким образом, время следует умножать на все количество объектов и субъектов, которые движутся в нем – от атома до метагалактики. Каждый элемент бытия обладает своим временем, которое характеризует его перемещения в пространстве или другие изменения, происходящие с этим элементом.
«В этом мире два времени. Есть механическое время и телесное время. Первое жёсткое и металлическое как массивный железный маятник, который раскачивается вперёд-назад, вперёд-назад, вперёд-назад. Второе же резвится словно рыбка в заливе. Первое неуклонно движется по предначертанному пути. Второе принимает решения на ходу» (Алан Лайтман).
Субъективное время создаёт множество времён в одном общем времени. Так, если десять человек взаимодействовали один час, то вместе они провели десять человеко-часов. И каждый из этих часов будет уникальным.
Вторым измерением свободы является пространство, оформленное в нашей картине мира как трехмерная реальность (современная физика допускает, что мерность может быть иной, а значит, пространство является более сложно организованной реальностью, с пока не доступными нам гранями свободы). Не зря лишением свободы называют заточение в замкнутое пространство, приковывание, связывание, отправку в ссылку.
Но кроме физического пространства существует еще топологическое или математическое. «Пространством в этом смысле называется множество объектов (точек), между которыми существует отношение непрерывности. В этом смысле можно говорить о семантическом пространстве, пространстве окрашенности, этическом пространстве, временнóм пространстве и даже пространстве физического пространства. С этой точки зрения пространство – универсальный язык моделирования» (Юрий Лотман). В этом контексте особыми пространствами являются все измерения свободы.
Пространственный аспект свободы начинается с возможности распоряжаться своим телом. Свобода человека, ограниченного физически, всегда будет меньшей, чем у того, кто легко перемещается, владеет двумя руками, острым глазом, чутким ухом и носом. Все эти инструменты служат восприятию и освоению пространства, возможности движения в нем. Далее пространственная свобода реализуется во владения территорией или жилищем, где ты находишься в полном праве и волен претендовать на уединение от внешних воздействий не только климата, насекомых или хищников, но и назойливого общества себе подобных.
Именно пространство мы прежде всего можем воспринимать как «пустое». И оцениваем не только протяженность, но и качественные характеристики пространства: комфортность температуры, перепад высоты, наличие воды и пищи, хищников. То есть пустота может быть не только количественной, но и качественной характеристикой, определяющей комфортность условий для жизни.
Яркой метафорой свободы считается полет – возможность передвижения не в одной плоскости, а фактически во всех направлениях. Для птиц воздушный океан – пространство их свободы, а для человека это лишь мечта о больших возможностях перемещения. Для рыб толща воды – их пространство свободы. Пространство свободы камня, если его что-то привело в движение, завершается у ближайшей преграды, в которую он упрется.
Анализ характеристик пространства относится к сфере деятельности третьего измерения свободы – сознания. Оно решает, как проложить путь, к чему идти и от чего бежать. Именно сознание воспринимает пространство понятным или непонятным, обжитым или заброшенным. И способно делать обжитое заброшенным, заброшенное обжитым, неудобное удобным, удобное неудобным, находить пищу и иные блага там, где их не было раньше или терять имевшиеся блага.
Скученность – один из признаков несвободы. Тем не менее, человек часто устремляется в гущу людей. Потому что себе подобные являются носителями сознаний, с которыми можно чем-то обменяться или чему-то научиться. Чем ближе к нам множество людей, тем больше они открывают для нас возможностей, хотя и отнимают пространство и время.
Сознание – самое человеческое и самое загадочное проявление свободы. Здесь движение выглядит как возможность что-то представить, помыслить ту или иную идею. Сознание создает копию мира – отражает всю данную в ощущениях свободу и несвободу окружающего бытия. Но сознание – не только зеркало, но и живая система, способная работать с полученной информацией, моделировать на ее основе особенную, психическую реальность. Эта реальность включает и действительное, и возможное, выстраивая вероятные и даже невероятные сценарии развития. Сознание позволяет двигаться (внутри себя) во времени и пространстве, преодолевая ограничения, которые накладывает окружающий мир. Если в реальности наше движение во времени непрерывно и последовательно, то в сознании мы можем этим движением управлять, переносясь в прошлое или будущее.
В каком-то смысле все происходящее с нами происходит у нас в сознании. И все самое ценное, что есть в жизни – это память и мечты. Память о лучших моментах пережитого и мечты о том, чтобы такие моменты наступали снова. Мы не можем расценивать как «событие» нечто, повторяющееся многократно. Единожды испытанный восторг по поводу чего-то нового, впечатлившего, не способен возвратиться в тех же формах. Поэтому для сознания как свежий воздух нужна свобода.
Человек может быть так увлечен внутренней свободой, захвачен движением в сознании, что теряет интерес к внешней реальности, к пространству и времени. Благодаря сознанию мы можем компенсировать недостачу всего остального. Не случайно так важны для нашего существования «рукотворные» реальности: искусство, литература, спорт, хобби. Они формируют новые грани действительности, расширяя границы человеческой свободы.
Свойство сознания, направленное на оценивание пространства, времени и всего, что оказалось рядом с оценщиком, являются зародышем четвертого измерения свободы – денег. Возможно кто-то удивится, что мы так просто перешли от «высоких материй» к бренному измерителю ценности. Но это факт: деньги – человеческое изобретение, способное аккумулировать свободу, вводить ее в обращение и обмен. Деньгами измеряется все, что может являться объектом желания, а значит, и выбора. Чем сильнее желание, чем большее количество желающих, тем выше цена. И наоборот.
Деньги служат не только обмену материальных ресурсов, но и свобод. Свобода субъекта меняется в зависимости от времени и места в пространстве. Да и ресурсы сознания трудно оценить и взвесить, исходя из неопределенности тех обстоятельств, в которых мы можем оказаться. Мы всегда имеем что-то больше необходимого, когда чего-то другого не хватает. Поэтому менять одни ресурсы (в том числе свободы) на другие – естественное стремление, улучшающее общее положение участников обмена.
Денежные потоки, словно реки и ручьи, в которые люди сливают свою свободу и обменивают ее на нужные блага. В деньги мы переплавляем наше время, которое продаем кому-то, в деньгах можно измерять пространство, которым мы пользуемся. Информационные продукты сознания также стали товаром, что существенно расширило финансовую сферу и общую капитализацию экономики. «Деньги – это чеканная свобода» (Ф. М. Достоевский).
Объекты или субъекты выбора – переменные в нашем поле свободы. Само же это поле определяется лишь четырьмя координатами: пространством, временем, воспринимающим сознанием и финансовыми/потребительскими возможностями. Можно предполагать, что существуют и другие измерения свободы. Но думаю, что я назвал все известные нам формы свободы. Все изменения (движения) нашего мира протекают именно в этих полях.
Можно ли считать дополнительным измерением свободы ресурсы тела? То есть наличие более длинных ног, более сильных рук, да и вообще двух рук, а не одной, обеих ног, острого слуха, глаза и прочих данных природой возможностей? Нельзя, так как физические возможности принадлежат миру энергоматерии, а не информации (духа). К свободе можно отнести результаты работы руки, ноги, как и сознание есть результат работы мозга. Но эти результаты не составляют особого измерения свободы, а принадлежат к достижениям субъекта в пространстве и времени. Несомненно, длинная рука лучше короткой, сильные ноги лучше слабых, но они только инструменты освоения двух первых измерений свободы.
Физическая ограниченность не всегда влечет ограниченность свободы. Человек слабый физически скорее будет уделять больше сил и времени на развитие сознания, чтобы достичь тех же (а то и больших) успехов, которые как бы сами собой валятся в руки сильному1. Вряд ли кто-то станет при наличии рук писать или рисовать ногами. Но люди, лишившиеся рук, учатся делать их работу ногами, порой достигая больших успехов. Лишенный какой-то части тела перераспределяет силы на другие части. Лишенный острого зрения скорее разовьет слух и т. п. Такое перераспределение – либо результат работы сознания, либо итог многочисленных физических тренировок – перемещений в пространстве и времени, в процессе которых тело приспосабливается к новой форме. Таким образом, над ресурсами тела всегда довлеют время, пространство и сознание. А при помощи денег можно превратить чужие тела и сознания в свои инструменты. Свобода сама ничего не делает, но способствует тому, чтобы все делалось.
Что касается бартера, праобраза денег, то предлагаемые к обмену товары или услуги не отвечают главному условию свободы – быть пустотой. Возможности натурального обмена сильно ограниченны, его участники могут погрязнуть в бесконечных обменных операциях, чтобы заполучить необходимое. Вещь, предлагаемая к обмену, всегда уникальна, а ее полезные качества могут теряться. Деньги же «пусты» по своему содержанию, их ценность только символическая. А в эпоху электронных платежей и криптовалют деньгам даже нет необходимости быть материальными.
Если первые два измерения свободы количественные, то два вторых – качественные. Сознание мало зависит от размера мозга, ценность (покупательная способность) денег мало зависит от их размера и даже от количества нулей на банкноте.
Наиболее количественное измерение свободы – время. Ведь одна секунда или один год ничем не отличаются от других. Их делают особенными только деятельность и взаимодействие субъектов и объектов.
Наиболее качественное из измерений свободы – деньги. Их задача и заключается в оценивании и измерении качества чего бы то ни было.
С пространством и временем все достаточно ясно, а про сознание и деньги подробнее будем говорить в отдельных главах.
Свобода и восприятие
Для того, чтобы пользоваться свободой, то есть двигаться, нужно воспринимать ее, а также антиподы пустоты, препятствия для движения – энергоматериальные объекты. И то, и другое является информацией – пищей для восприятия.
Не обязательно биться о стену, чтобы убедиться, что она непроходима – достаточно воспринимать (представлять) преграду, чтобы понимать тщетность движения в эту сторону. Хотя для неживых предметов именно столкновение с преградой служит единственным способом «узнать» границы своей свободы. Человек также имеет границы свободы, но способен активно (или не очень) работать с ними, расширяя горизонт возможностей. Поэтому далее мы сосредоточимся на индивидуальных свободах, открывающихся как возможность для движения по-разному для разных акторов бытия. И в этом процессе первейшую роль играет восприятие2.
Здесь можно вспомнить формулировку понятия материи из книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», где «вождь пролетариата» единственный раз по-настоящему замахнулся на метафизические глубины: «Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении». Но ленинская формула грешит против истины, ведь воспринимаем мы не материю, а конкретные формы, симбиозы материи и пустоты. Не будь между нами и объектами свободы, мы бы не смогли воспринять их. Кроме того, есть огромное количество материальных объектов, которые нам не даны в ощущении. Нам не дано слышать ультра- и инфразвуки, видеть ультрафиолетовые лучи. А вполне живые микробы и вирусы оставались бы вне нашего восприятия, если бы не микроскопы.
Восприятие работает только с актуальной для воспринимающего свободой, которая открывается на конкретном уровне бытия. Как писал У. Блейк (эти его слова стали эпиграфом к книге О. Хаксли «Двери восприятия»), «если двери восприятия очистить, все сущее явится человеку таким, какое оно есть – бесконечным». Хаксли, опираясь на свой психоделический опыт, развивает эту мысль, утверждая, что восприятие играет роль защитного клапана, через который в мозг поступает и фиксируется лишь необходимая для биологического выживания информация. Но измененные состояния сознания позволяют приоткрыть завесу, демонстрируя созерцателю чудный мир избыточных форм, красок и явлений, в котором нет места нашему привычному пониманию смысла и связей, явлений и предметов. Тем самым мистический опыт может демонстрировать как отсутствие свободы (изобилие не воспринимаемых в обыденном состоянии форм и явлений), так и всеобщую свободу (пустота, которая есть везде), что отражают учения об иллюзорности бытия.
Восприятие, которое фильтрует информацию, отбрасывая ненужное – полезное эволюционное приобретение. Ведь избыток впечатлений способен затормозить нашу интеллектуальную деятельность. Информационный шум отвлекает от внутренних процессов, благодаря которым мы упорядочиваем себя. Нашему сознанию точно также нужна тишина и периоды переваривания полученной информации, как и сама информационная пища. Пустота и тишина, если бы они наполнились невидимыми для нас красками и ускользающими от уха криками, перестали бы восприниматься как пространство свободы. Не случайно человек современного типа сформировался не в изобильной среде тропической Африки (откуда несколько раз совершали свой исход пралюди), а в аскетических ландшафтах ледникового периода. Суровая природа не только заставляет больше думать о выживании, но дарует феномен сенсорной депривации. Некоторые исследователи считали, что именно сенсорная депривация (недостаток внешних впечатлений) стала основой для развития шаманизма у народов Севера. Нехватка внешнего преодолевалась развитием внутреннего. Поэтому слабость зрения, слуха и нюха человек научился компенсировать развитостью сознания. Притупляя восприятие, эволюция сделала людей более свободными. Нас сформировало «блаженное невежество», включающее в себя, в частности, способность идти против законов природы, имеющих над другими живыми существами гораздо большую власть (об этом говорит отсутствие у человека чистых инстинктов). Максимум свободы – это минимум ощущений, минимум вынужденных действий под влиянием природы, социума или иных внешних причин.
К фильтрам восприятия можно отнести и язык. Власть языка легко осознать, учитывая, что наше мышление строится на его основе. И чем более развито сознание, чем выше человек поднимается по пути познавательной деятельности, тем больше он зависит от языка, к большему числу слов ему приходится прибегать. Можно сказать, что мы свободны настолько, насколько понимаем. А понимаем мы настолько, насколько развит наш язык – базис объяснения и моделирования мира. И это не только речь – вербальный язык, ведь понимания требуют и другие знаковые системы, через которые нам что-то сигнализирует мир и собственное тело.
Благодаря фильтрам восприятия (и восприимчивости – способности взаимодействовать с другими объектами разным образом), существуют отдельные этажи реальности, где действуют особые законы, имеющие границы «юрисдикции». Каждый из этажей опирается на нижележащие, зависит от них, но обладает особым порядком. Так, существует физическое восприятие и «свобода физическая» (в механике она определяется понятием «степени свободы»), причем квантовая физика – это отдельная реальность со своими законами. «Химическая свобода» (где тоже работают свои «степени свободы») действует в мире молекул с их особым восприятием друг друга, хотя она оказывает влияние и на другие уровни бытия. Биологическая реальность создает особое поле юрисдикции законов и свобод клеток и живых существ. Человеку же известны еще социальная и психическая свободы, ведь двигаться мы можем не только в физической реальности, но и в мыслях, в авторитетности, экономике, карьере и т. п.
Существуют также созданные культурной средой фильтры восприятия. Иногда это благожелательное, а часто злонамеренное воздействие на наше восприятие с целью замаскировать некоторые возможные пути движения, расширяющие индивидуальные свободы. Как пишет В. Пелевин, «поскольку бытие вещей заключается в их воспринимаемости, любая трансформация может происходить двумя путями – быть либо восприятием трансформации, либо трансформацией восприятия» («Священная книга оборотня»). Хотя успех творчества Пелевина держится на мастерстве казуистики, иногда он дает меткие формулировки. Бытие вещей – их свобода, ведь благодаря свободе существует все отдельное, самое по себе. Трансформация – изменения конфигурации свободы. Изменение восприятия возможно в обе стороны – как с открыванием новой свободы, так и с ее маскировкой. Государство, религия, любая идеология занимаются маскировкой свободы. Проще говоря: неизвестное называют известным, пустое – полным. На дверь вешается бирка: прохода нет.
Свобода открывается субъектом через трансформацию данных в информацию. Там, где набор данных (хаос) приобретает структуру, определенность (космос) – он становится информацией, чьим-то представлением. Где понимающий видит системность, непонимающий видит хаос. Поэтому хаос (беспорядок) и космос (порядок) всегда субъективны. Все то, что мы не можем отобразить, понять, удержать в памяти, укладывая в систему – наш персональный хаос. А то, что расположилось на своих полочках в сознании – космос.
Свобода может пониматься и через популярный ныне термин «виртуальное», противопоставляемое реальному, как возможное – действительному. А бытию можно дать такую дефиницию: это совокупность объектов, субъектов и их свобод, взаимодействующих в определенном времени и пространстве. Или короче: бытие – это совокупность реального и виртуального, преломленная в восприятии (сознании) субъектов. Где реальное – это собственно объекты и субъекты, а виртуальное – их свободы.
Естественно, многообразие возможного всегда богаче воплощенного в реальность, а значит, виртуальность первична, а реальность вторична и подчинена миру возможного: любая система, всякий космос пребывает внутри хаоса.
«Доминирующее направление рассуждений Делёза от точки зарождения – к хаосу, из которого возникает все, но который, в то же время, не содержит в себе ничего из актуализированного мира даже в виде возможности. Любая наметившаяся было в хаосе форма тут же рассеивается с бесконечной скоростью. Хаос – это пустота, считает Делёз, но не небытие, а виртуальность, содержащая в себе все возможные элементы мира и принимающая все возможные формы, которые, едва возникнув, тут же исчезают без всяких последствий»3.
Виртуальное является концентратом реальности, питательным бульоном для зарождения нового порядка. Но полноценно жить в хаосе нельзя. Не считать же нормой жизнь на вокзале, на рынке или в тюрьме? Необходимость уединения, уход от суеты мира – такая же потребность для процветания свободы, как и пребывание в «горниле жизни». Чередование этих состояний – условие развития сознания и нормальной жизни вообще.
В некоторых ситуациях разумно использовать термин постмодернистов хаосмос, намекающий на отсутствие ясной границы между хаосом и космосом. Такое пограничное состояние актуально, когда знаемое забывается. В силу лени, инерции тела и сознания, границы обретенной ранее свободы могут сокращаться, а потому их следует если не расширять, то хотя бы обновлять – утверждать, словно архаический царь, чьей обязанностью был периодический объезд своих владений. «Освежая» свои навыки и знания, мы не только укрепляем их, но и подвергаем ревизии. Что-то ранее известное может оказаться не таким уж понятным, и наоборот.
Меру индивидуального восприятия можно назвать бытием (миром, космосом) данного индивида. «Свобода является единственным принципом, к которому все возводится… Бытие вообще является лишь выражением заторможенной свободы». (Фридрих Шеллинг). Все, что за рамками бытия, оказывается либо не воспринятым, либо непонятым. Хотя не все воспринятое осознается. Например, радиация или иные излучения не фиксируются органами восприятия, хотя оказывают воздействие на организм.
За границами воспринятого начинается территория небытия субъекта. Это не обязательно смерть, ведь рабство, отсутствие выбора, болезнь, глупость, слабость иного рода – формы небытия, влекущие вынужденную ограниченность. И только высшей точкой небытия является смерть. Поэтому полнота бытия, жизни возможны лишь в свободе, а свобода сродни понятию счастья.
При всем многообразии определений счастья, предложу такое: счастье – это видение перспективы, возможности свободного движения. Счастливое время – вечер пятницы. Счастливым человек скорее ощутит себя на природе, с широким горизонтом, чем в толпе или среди застилающих пространство небоскребов.
Известная старуха из сказки про золотую рыбку была постоянно недовольна, потому что ожидала окончательного счастья, а свобода не предполагает окончательности. Она предлагает опираться на имеющееся и добывать через него нового. Уметь жить – значит пользоваться свободой, взаимодействовать с возможностями. Кто этого не может, тот всегда несчастлив и вечно страдает.
Признаки счастья – способность впечатляться, вдохновляться, находить радость даже в малом, которое может выступать порталом к большому, всеобщему. Адам Смит писал: «Счастье посещает нас в разных видах и почти неуловимо, но я чаще видел его среди маленьких детей, у домашних очагов и в деревенских домиках, чем в других местах».
Переживание счастья происходит в реальности, в сейчас, когда сознание не замутнено думами о прошлом или будущем. Поэтому свободу ограничивает в том числе и память – восприятие прошлого как могущественной силы. Память способна отнимать наше сейчас. Как и планы, фантазии, проекты. Чем больше мы живём прошлым или будущим, тем больше они отнимают настоящее. Поэтому свойство забывать также служит свободе. Меньше помнишь – легче воспринимаешь новое.
Триады
Весь мир пронизывает пустота, а она подчиняется формулам – это даёт нам безграничные возможности.
Григорий Перельман
Воспринявший свободу (как информацию о возможностях для движения) является ее субъектом. Но одну и ту же свободу могут воспринимать сразу множество субъектов. Вся символическая реальность описывает различные конфигурации свободы в определенной области пространства и времени, где взаимодействуют разные акторы бытия.
Восприятие может направляться на отражение не только своей свободы, но и свободы окружающих явлений, предметов, существ. Так, примитивное восприятие может «показать» своему субъекту лишь наличие какой-то преграды для движения. А развитое восприятие, передающее формы (не только визуальные, ведь некоторым существам звуки или запахи дают больше информации), позволяет предвидеть действия открывающихся преград, определяя потенциальные угрозы или добычу. Восприятие и запоминание форм – это уже шаг к возникновению сознания.
Например, волк, увидевший зайца, «должен» совершить математическую операцию, взвешивая соотношение расстояния до зайца, вероятной скорости своего и его перемещения, а также собственного голода и общего физического состояния. Таким же математиком (а больше геометром) станет и заяц, увидевший волка. В его формуле, как вероятной жертвы, может быть меньше переменных, ведь убегать придется невзирая на физическое состояние, полагаясь на удачу. Не трудно догадаться, что заяц, оказавшийся в поле свободы волка, постарается исчезнуть из него подобру-поздорову, не привлекая внимания хищника. То есть заяц не только должен уметь воспринимать свою свободу, но хотя бы в общих чертах представлять пространство восприятия волка. Но и охотник заинтересован в восприятии свободы потенциальной жертвы, если хочет добиться успеха. Отсюда и искусство маскировки, бесшумность движений как удачные для хищников способы самореализации.
Некоторые физики полагают, что самим фактом наблюдения за системами можно их преображать. Акт наблюдения влияет на наблюдаемое. Отражение становится актом искажения. Как у каждого субъекта есть форма/характер, так и его свобода, атмосфера вокруг него приобретает особый характер, влияя на других участников системы и на сам субъект, проецирующий свой характер. Это касается и идеальных объектов. Будучи лишь состоянием сознания, они способны оказывать на него влияние. Как свобода (пустота), так и несвобода (отсутствие возможности движения) могут быть только представлениями – состояниями сознания или восприятия.
Естественно, не всякая пустота используется как возможность для движения (вспомним образ витязя на распутье – у него было как минимум три варианта движения, но выбрать нужно лишь один4), но чем больше направлений для движения, тем свободнее субъект. И тем сложнее совершить выбор. Поэтому многие воспринимают свободу как проблему.
И она действительно является проблемой. Особенно когда это динамическая конфигурация отношений многих акторов, которые действуют в общей плоскости пространства и времени. Многообразие, сложность, непредсказуемость бытия – результат взаимодействия множества субъектов и объектов. И каждый актор изменяет общую конфигурацию свободы. Даже самый малый камень в реке может влиять на ее течение.
Каждая встреча двух элементов бытия формируют уникальную конфигурацию свободы – триаду. Структура триады упрощенно выглядит как «точка – расстояние – точка», где точки это субъекты или объекты, которые воспринимаются другими объектами и субъектами. В триадах свобода приобретает конкретный, измеряемый характер. Зачастую это общая свобода или такая, за которую участники триады конкурируют. Поскольку триады подвижны и не замкнуты, количество свободы в них постоянно меняется. А некоторые триады всегда остаются невидимыми, неизвестными, тем не менее оказывая влияние на конфигурацию свободы.
Системы триад могут пересекаться, включаться одни в другие в качестве подсистем, синергетически подпитывать друг друга и конфликтовать – взаимодействовать с обоюдной или односторонней выгодой. Например, и отдельное дерево-организм, и целый лес – сложные системы, которые при детальном рассмотрении окажутся комплексами взаимодействующих триад. Любое событие, акт бытия можно рассматривать как триаду – коммуникацию двух акторов через их свободу, которая при этом меняет свои границы. Но каждый срез бытия (конфигурация свободы в конкретном времени-пространстве) будет включать огромное число триад, которые постоянно вступают во взаимодействие, разрушаются и создаются. В любой момент времени каждый из нас является участником множества триад.
Триады существуют на всех уровнях бытия. Микромир, как и макромир, наполнен пустотой, определяемой расстояниями между точками в триадах. Простейший пример триады – атом, в котором существует ядро, а также электрон (ы), вращающийся на некотором расстоянии от ядра. Но электрон тоже может быть делим, а значит содержать в себе другие триады.
Схема реальности, обозначаемая в геометрии точками, отрезками, прямыми, в самой реальности, порожденной переплетением энергетического и символического, выглядит как объекты, субъекты и их взаимодействие или отношение. Взаимодействия энергетической и символической реальностей задают тон космогоническим и эволюционным изменениям. При взгляде с большого расстояния, сквозь призму больших объемов данных, эти изменения будут выглядеть как волны. А при взгляде приближенном, мы увидим взаимодействия и движения объектов и субъектов, зайцев и волков – частные случаи, рождающие некие закономерности и порядки.
Многие триады строятся на отношениях. Они выражают устойчивые конфигурации свободы, где каждый участник находится в определенных границах, играет свою роль. Даже ядро и электрон – это отношения и роли. Сознание практически полностью состоит из отношений – оценок фактов, явлений, людей и себя среди всего этого разнообразия. Любая субъект-субъектная триада может быть усложнена встречным отношением, которое не всегда очевидно и потому является элементом игры, загадкой для сознания. Наши отношения, а значит и конфигурация свободы будут разными в триадах с братьями, родителями, друзьями, соседями, детьми и т. д. Триадами отношений являются «охотник (хищник) – жертва», «подчиненный – начальник», «симпатичный человек – несимпатичный человек», причем мы можем быть как участниками таких триад (можно изображать себя симпатичным по отношению к тем, кто симпатичен нам, и наоборот – демонстрировать отстраненность, а то и враждебность к тем, кто не симпатичен), так и их посторонними наблюдателями, оценщиками. Последнее не отменяет факта, что, оценивая, мы опять формируем триаду, даже не вступая в прямое общение с объектом/субъектом наблюдения.
Триады претерпевают изменения не только в пространстве, а во всех измерениях свободы. Так, уместно говорить о работающей во всех измерениях свободы триаде «субъект – путь – цель». Или о развивающейся во времени триаде «человек – его жизнь – его смерть», ведь смерть – это незримый участник большинства осознанных действий. Знание о смерти, своей (и любого другого объекта и субъекта) конечности делает нас свободными, поскольку свобода и предполагает дискретность, прерывность бытия, внесения промежутков как условия существования чего-либо отдельного. «Только она (смерть), т.е. мысль о ней, выносит в такую область мысли, где полная свобода и радость», – писал Лев Толстой в письме В. В. Стасову.
В нашем сознании существуют как устойчивые триады – представления – так и находящиеся в процессе формирования, поиска. Чем больше неоформленных триад в сознании, тем очевиднее можно говорить о кризисе или творческом поиске.
В сфере финансов триады выглядят как «покупатель – деньги – товар». Здесь количество денег (а вернее их стоимость, ценность) определяет удаленность или приближенность к разным товарам. Условный богач может «дотянуться» до большего числа целей, чем бедняк. Богач богат не только деньгами, но и триадами.
Хотя движемся мы в пустоте, восприятие фиксирует перемещение через изменения, связанные с объектами и субъектами – своеобразными реперными точками или камнями на распутьях. Тут можно вспомнить удава из мультфильма, которого измеряли то в слонах, то в попугаях или в обезьянах. Двигаясь во времени, пространстве, сознании и финансовых возможностях, мы можем воспринимать это движение то в платьях, то в сортах колбасы и сыра, то в автомобилях, то в половых партнерах и т. п. Триады служат восприятию абстрактной свободы в конкретных ее символах. Объективная пустота непознаваема. Свобода, которая воспринимается, предстает в субъективных формах. Из каждой точки времени/пространства открывается различный вид на окружающее. Каждое отдельное сознание или иное зеркало отражает свой, доступный ему образ свободы.
Триады включают в себя не только бытие субъектов и объектов, но и жизнь идей, чувств, фантазий, которые играют свои роли на сцене свободы – в пространстве, времени, сознаниях. Бытие – это даже не удвоенный мир (вещей и идей), но многократно отраженный; это то, что есть здесь и сейчас плюс то, что видит, чувствует и понимает каждый, кто находится в этом здесь и сейчас. Количество миров равно количеству созерцающих мир плюс один – тот, который есть на самом деле. Бытие есть совокупность множества процессов, встреч и взаимодействий, преобразований форм. Свобода – сцена бытия, где все это происходит. А триады – простейшая форма систематизации и описания этой многосложной картины.
Стоит обратить внимание на парадокс свободы: чем больше взаимодействующих в системе субъектов, тем больше в ней открывается свободы. Казалось бы, должно быть наоборот, ведь количество пустоты уменьшается. Но свободу в системе нужно измерять не с точки зрения стороннего наблюдателя, и не с точки зрения отдельного ее элемента, а как совокупность всех триад в ней. Ведь каждому объекту открывается своя, особенная свобода, уникальные возможности для движения. Это как с человекочасами. И чем больше объектов, тем выше их совокупная свобода. Даже в мире элементарных частиц существует непредсказуемое броуновское движение. А в мире людей часть свободы, воспринимаемой извне, уходит в сознание, где она способна «копиться», пока субъект выбирает момент для удачного/успешного хода, не расходуя силы на бессмысленные движения. И чем больше разных (различия субъектов важно, поскольку многообразие несет больше непредсказуемости, а значит свободы) людей взаимодействует, тем гибче и свободнее становятся их сознания. Поэтому городские цивилизации продуцируют больше свободы и развиваются, а аграрные и кочевые ходят по кругу. В условиях города на относительно малом пространстве взаимодействует больше субъектов с достаточно разными сознаниями. Это и всевозможные ремесленники, и торговцы, и чиновники, и жрецы, и появляющиеся на этой питательной почве художники, нищие, мошенники и пройдохи. В условиях сельской культуры почти все соседствующие субъекты заняты одинаковой деятельностью. Это обедняет их социальную жизнь.
Важным принципом любой триады является ее открытость или закрытость – отношение к свободе. Одни триады дружественны (открытые), а потому ориентированы на сохранение и расширение общего пространства (и других измерений свободы). Другие триады строятся на принципе «хищник-жертва», и там одна сторона пытается лишить свободы другую. Иногда дружба может строиться на принципах закрытой триады, реализуя эволюционную стратегию эскапизма. При этом друг хочет запереть друга в границах их общего мирка. Если эта стратегия взаимна, такая дружба может стать пузырем-долгожителем.
Множество зависимостей диверсифицируют риски и дают больше новых возможностей, чем взаимодействие малого числа акторов свободы. Лучше иметь несколько друзей, а не одного. Если ваш бизнес зависит только от одного покупателя, вы в очень зависимом положении. Но если покупателей сотни и тысячи, вы гораздо свободнее и успешнее. Известный принцип диамата «переход количества в качество» строится на этом же парадоксе свободы. Но неосвоенная свобода, неработающие триады никакой роли в развитии не сыграют – переход количества в качество происходит только при достаточно полном восприятии открывающихся во множестве триад возможностей. Повторяющиеся действия, где свобода не меняет конфигурации, ничего не добавляют к бытию.
Можно представить, что созидание триад – скрупулезный труд Демиурга-ткача, бога, который мыслит структурами, пикселями, автоматически складывая, сшивая из них весь мир мыслимых им картин\образов. Если рассматривать творение или познание как череду ячеек, заполняемых ответами «да» (единица) и «нет» (ноль), то «да» будет соответствовать факту наличия «чего-то», а «нет» – пробелу, пустоте, «зиянию» свободы. Каждое «нет» означает возможность движения – до тех пор, пока это движение не будет остановлено очередным «да». Но пока это лишь гипотеза. «Бритва Оккама» рекомендует нам обойтись без Демиурга, ограничась более экономным понятием «законы природы».
Довольно близко к подобному пониманию свободы находится понятие «субъективное семантическое пространство» в психолингвистике. Вот его определение: «Это операциональная модель представления категориальной структуры индивидуального сознания в виде математического пространства, координатные оси которого соответствуют имплицитно присущим индивиду основаниям категоризации, а значения некоторой содержательной области задаются как координатные точки или вектора, размещённые в этом пространстве». Всё понятно? По сути же здесь речь идёт о системе триад, возникающих и исчезающих в поле восприятия субъекта. При этом постоянным элементом каждой триады остается наблюдатель – субъект, воспринимающий свою и чужую свободу. В общем, каждый актор свободы выступает Демиургом своего мира и героем своего мифа.
Свобода и воля
Ни одна сила на свете не сравнится с энергией, с которой многие защищают свои слабости.
Карл Краус
Мы думаем, что способность выбирать дает нам свободу. Выбор – это само отрицание свободы.
Кришнамурти
Говоря о триадах, трудно было остаться в рамках термина «свобода», когда речь зашла о взаимодействии и движении. Ведь любая деятельность – это освоение свободы. Самой свободе двигаться никуда не нужно, она первична и самодостаточна. Ее подвижность иллюзорна, свобода проявляется (возникает/исчезает) на фоне движения различных энергоматериальных объектов. Субъекты, взаимодействующие в бытии, через открывающуюся им свободу стремятся достичь каких-то своих целей. Поэтому нам необходимо еще одно понятие, определяющее движения и намерения акторов бытия, служащее диалектическим дополнением к свободе – воля.
Свобода и воля так тесно связаны, что их часто используют как синонимы (по крайней мере в славянских языках). Но не стоит их путать. Что в таком случае означают выражения «свобода воли» или «вольному воля»? Они бы звучали как «масло масляное», если бы свобода и воля не были разными явлениями.
«Почему наши предки называли свободу „волей“? Да потому, что свобода есть полное принятие воли бога как своей. Любое несогласие с этой волей карается немедленно и жестоко, и кара заключается в ощущении, что ты несвободен и несчастен», – пишет Виктор Пелевин. Это спорная концепция, как и весь Пелевин, но в ней есть рациональное зерно – бесспорно, законы природы («воля бога») дают нам свободу, в определенных границах.
Но воля способна менять границы наличной свободы. Если свобода есть пустота, возможность, то воля является актом ее заполнения, работой с границами свободы. Не только акты, направленные во внешний мир (в том числе собственное тело), но и мысли, слова, идеи являются продуктами воли. Свобода «переходит» (на самом деле такой «переход» – результат работы воли с границами воспринятой свободы) в волю, а воля создает новое пространство для свободы (либо не создает – в случае неудачи).
Воля это посыл, месседж, побуждающий к определенному действию или бездействию. Она служит осуществлению замысла или желания, но может быть направлена и на избегание желания, противодействие чужой воле. Воля не тождественна силе и самому движению. Если действие относится к миру энергоматерии, то воля – к сфере информационно-духовной. Акт воли похож на нажатие кнопки, запускающей механизм исполнения задачи. В основе такого акта лежит решение, принимаемое сознанием или низшими слоями психического. Воля осуществляется в действии, которое может быть «выключено» по достижении цели, либо прервано другим нажатием кнопки в «центре принятия решений» в произвольный момент.
В русском языке можно даже проследить связь пустоты, свободы и воли. Так, частица «пусть», связанная с корнем «пуст», указывает на позволение чему-то быть, то есть предоставление свободы. Но частица «пусть» заменима глаголом «пускай» («пусть будет» = «пускай будет»), который отсылает нас к запуску действия, кнопке «пуск» – акту воли. Таким образом, воля запускает некую возможность, делает виртуальное реальным. Но «запустить» может означать также «пустить на самотек» – разрешить развиваться какому-то явлению естественным образом, свободно. Это лишний раз подтверждает связь свободы, воли и пустоты.
Отношения воли и свободы можно также сравнить с дуализмом «инь» и «ян», где активное начало «ян» равнозначно воле, а пассивное «инь» – свободе. При этом свобода первична и самодостаточна, а воля вторична.
Свобода – это о созерцании. Воля – о движении, изменениях. Но сам акт восприятия свободы, а тем более ее фиксации и оценки, тоже требуют воли. В процессе движения меняется угол зрения, открывается новая свобода, а какие-то возможности исчезают. Но даже если возможностей может быть несколько, то реализация – только одной. Нельзя одновременно идти несколькими путями. Можно создать видимость движения по нескольким путям – для разных внешних наблюдателей. И это тоже о воле, но о нескольких разнонаправленных ее актах. Можно выбрать в магазине не один сорт колбасы, а десять. Но съесть их одновременно нельзя. Можно встречаться с двумя и более партнёрами, но нельзя это делать в один момент времени (здесь тоже возможны варианты, но они потребуют отдельных усилий воли, усложняющих конфигурацию ситуации).
Отношения свободы и воли хорошо просматриваются через призму понятий возможное, действительное и необходимое. Возможное это вся свобода, которая открывается в какой-то реальности (времени, пространстве) субъектам этой реальности. Действительное – все то, что ранее реализовано или реализуется здесь и сейчас, формируя уникальную конфигурацию реальности. Возможное плюс действительное составляет бытие, которое не просто определяет сознание, а является частью сознания, находящейся в диалоге с миром. Но возможное всегда будет отличаться для разных субъектов, даже находящихся в общих рамках действительного – в силу разного опыта, особенностей восприятия, интеллектуальных и физических данных. Наконец, необходимое (должное) – это представления акторов реальности о том, как должна выглядеть эта реальность на самом деле. Вот на реализацию должного и направляются главным образом усилия воли. Поэтому, когда определяют свободу как осознанную необходимость, речь идёт о воле. В этом контексте воля выступает антиподом свободы – возможного. Отношения множества воль и свобод, формирующие мириады триад, создают все многообразие узоров (паттернов) бытия.
Насколько корректно говорить о реализации свободы? Под реализацией нужно понимать воплощение возможного в действительное. Все факты бытия являются проявлениями свободы. В какой-то момент они были только возможны, но в результате стечения обстоятельств или действия чьей-то воли из многого возможного реализовалось именно это. В качестве примера можно взять любую индивидуальную жизнь. Рождение каждого сущего – итог цепи обстоятельств. При иных обстоятельствах ваши предки не встретились бы, а мир населяли бы другие люди. Но даже родившись, вы могли бы прожить другую жизнь, если бы сделали другой выбор на том или ином жизненном повороте. Каждый субъект – не только игрушка чужих воль (особенно воль из прошлого), но и творец бытия, меняющий мир, если он уже явился в него.
В некоторых точках времени-пространства свобода предлагает большое количество возможного, а в других возможное почти сведено к единичному варианту, потому наблюдается повторяемость событий и сложно различить какие-то изменения. Но как дважды нельзя войти в одну реку, так не бывает одной и той же свободы на разных временных отрезках. Даже там, где декорации бытия относительно статичны, любое движение совершается лишь однажды. Но восприятие предпочитает пренебречь выявлением этой микроскопической уникальности. Тогда оправданно утверждение, что одна и та же свобода реализуется многократно. Например, я могу изо дня в день выходить и входить в одну и ту же дверь, хотя это всегда будут немного другой я и чуть другая дверь.
Все реализованное из имевшейся у нас свободы – результат работы воли. Но свобода может «утекать» и без усилий воли. Можно лежать на диване, а время жизни при этом также уходит, как если бы мы занимались делом. Воля берет процесс распределения свободы под контроль, меняет конфигурацию возможностей субъекта – делает их либо больше, либо меньше, а также служит перетеканию одних форм свободы в другие – времени в деньги, денег в пространство, сознания во время и так далее. Но оценивать прибыльность или убыточность работы воли нужно с точки зрения «корзины свобод». Нельзя считать время потерянным, если мы заняты игрой, чтением книги, просмотром фильма, общением – чем-то полезным для сознания. На пользу такой деятельности каждый имеет право смотреть со своей колокольни, ведь для одного что-то является открытием, толчком к развитию, расширяя его горизонты свободы, для другого это пройденный этап, а третий там же пройдет мимо, не восприняв информацию. Поэтому работа воли может оказаться холостой, лишенной результата, а значит и воздействия на конфигурацию свободы (за исключением потери времени – этот процесс однонаправленный и линейный).
Избыток свободы может пагубно сказаться на развитии воли. Как писал Сергей Левицкий (1908 – 1983), автор книги «Трагедия свободы» (впрочем, традиционно не различавший волю и свободу), «самое мучительное – необходимость выбирать, и чем больше предметов выбора, тем интенсивнее это психологическое ощущение несвободы». Но множественность предметов выбора не ограничивают свободу, а парализуют развитие воли. Несколько простых примеров. Животное, находясь в неволе и получая вдоволь пищи, теряет навыки охоты, добычи пропитания, которые, хотя и закладываются природой, но требуют тренировки. Большой ассортимент колбасы или сыра в магазинах – не тот случай, ведь при этом выбор будет определяться вкусами и финансовыми возможностями субъектов. А вот изобилие бесплатной и доступной в несколько кликов информации в интернете действительно ставит нас в позицию животных в стойлах. «Вся ирония в том, что люди будущего могут страдать не от отсутствия выбора, а от парализующего обилия выбора», – писал Э. Тоффлер в «Шоке будущего». Если мы не прилагаем усилия для получения информации, откуда взяться аппетиту к ее усвоению, как будет развиваться воля? Поэтому люди как завороженные серфят по новостным лентам, превращаясь в информационных буридановых ослов, боясь пропустить что-то «важное». Единственная возможность, открывающаяся при помощи усвоения, выбора информации – развитие сознания. Но для этого нужно учиться не только искать необходимые данные, но и отсекать ненужное, избегать информационного шума (см. сенсорная депривация, о которой говорилось ранее). При информационном изобилии легко стать информационно сытым, но не умным. Поскольку ум – такой же инструмент, как и мышцы. И ум, и мышцы обслуживают волю, которая направляет их в мир на приобретение (схватывание) тех или иных благ. Когда же блага валятся в кормушку сами, развиваются лишь физическая дряблость и интеллектуальная тупость.
Единицей измерения воли можно считать транзакции или акты синтеза. Транзакция – процесс передачи энергетических или информационных «пакетов», «импульсов» от одних элементов триад другим. В процессе такой передачи меняются обе стороны своеобразного диалога. Но не всегда отдающая сторона в результате транзакции становится слабее принимающей. Хотя бы в силу того, что принимающая может оказаться во власти передающей, попасть в зависимость от донора энергии или информации. При распаде триад также могут возникать всплески воли, поскольку освобожденные элементы будут искать новые конфигурации порядка.
***
Остановимся на отношениях воли и власти. Известное выражение «воля к власти»5 является еще одним примером «масла масляного». По сути воля и есть власть. Только волей обычно называют власть над собой, собственной природой (телом, страстями, настроениями), а властью – управление другими. Технически же это один и тот же феномен.
По Марксу, свобода – «господство над обстоятельствами со знанием дела, а не обстоятельств над человеком». Но раз речь идет о господстве, речь идет о воле, а не о свободе. От успехов воли зависит и свобода субъекта. Имеющий больше знаний, более свободен, а значит уровень и качество принятия решений у него будет выше. При этом факт, что любое знание неполное, можно отчасти игнорировать – как иллюстрацию «горя от ума». Если действовать нужно, то стоит полагаться даже на неполное знание.
Суть власти заключается в коммуникации, а не в насилии, утверждал социолог Никлас Луман. То же самое мы уже определили как сущность воли, относя ее к информационной реальности. Поэтому грубое насилие, произвол не является властью. Даже если психопат, насильник, маньяк совершают насилие, они обычно вначале подавляют волю жертв при помощи определенных символических посылов. Таким образом коммуникация, работа с волями других – приоритет для любой (гуманной или враждебной) власти. «Насилие, если оно позволяет себе помедлить, становится властью» (Элиас Канетти). Но отложенное (обещанное) насилие уже есть коммуникация. Чтобы повелевать, воля должна быть правильно понята, эффективная власть строится на знании законов семантики и психики.
Воля требует физического участия субъекта, но будучи частью информационной реальности, она может давать кумулятивный эффект при взаимодействии сознаний. Писатель, поэт, философ через слова, музыкант через песню могут доносить свою волю (мысли, эмоции) до многих. Можно говорить одновременно с миллионами, используя СМИ, соцсети, хотя в голове каждого слушающего/смотрящего/читающего эти послания будут вызывать разные реакции. Тем не менее, понимание одного сознания другим принципиально возможно. И хотя монолог не способен заменить диалога, он эффективен при донесении своей воли до других, позволяя сэкономить время и усилия. Вот почему для любой власти так важны медиа.
Суть власти заключается в навязывании оценки. Вынося оценку, определяя отношение к предмету или явлению, сознание осуществляет власть над телом и низшими этажами психики. Как писал Д. Кришнамурти, «когда вы смотрите в качестве одного фрагмента, разглядывающего другие, этот фрагмент присваивает себе авторитетные полномочия, чем и становится причиной противоречия, а значит и конфликта». Нирвана – видимо такое состояние, когда сознание не выполняет работы по оценке и определению смыслов и целей. Потому в нирване субъект исчезает, поскольку не знает пределов своей свободы. А значит не знает вообще ничего. Ведь знание строится на определении границ, оценивании реальности. Нирвана есть блаженное неведение, специфическая форма отрешенности от мира, эскапизма. Такое мистическое погружение в свободу, вызывающее океанические переживания с восприятием безграничности пустоты, не предполагает никаких проявлений воли.
Можно рассматривать власть как искусство взаимодействия с другими волями. Это искусство похоже на работу хорошего педагога, который способен не вбивать знания в головы учеников путем репрессий, а заинтересовывать, подключая их волю. Такая власть строится на любви. Там же, где обличенные властью лица и институты полагается на устрашение и силу, речь идет о грубой, «неотесанной» воле, которая берет начало из недр психики, видевшей страх и репрессии как норму.
Популярна мысль, что во власть обычно проникают люди непорядочные, психопаты, стремящиеся подавлять других. «Самая явная односторонность, даже дикая фантастическая узость параноиков ведет их к успехам в жизни и к верхушкам общества и власти» (И. Ефремов, «Лезвие бритвы»). Это можно объяснить тем, что люди, сталкивавшиеся с психологическими проблемами, имеющие сильных демонов внутри, были вынуждены (обычно в детстве) им противостоять, что выработало у них сильную волю. В процессе попыток обуздать себя, они пришли к выгодному открытию, что для достижения своих целей можно подчинять волю других. Поэтому во власти часто оказываются люди, которым проще управлять другими, чем собой.
***
Некоторые называют собственно свободу «свободой от» (отрицательная), а волю – «свободой для» (положительная)6.Такие определения только углубляют путаницу. Так как в обоих случаях речь может идти о воле, только разнонаправленной. Все волевые акты можно свести к центробежным (избегание, «свобода от») и центростремительным (притяжение, «свобода для»). Сама по себе свобода ничего не желает, она – всегда нечто внешнее (или глубоко внутреннее, см. нирвана) для нас. Это верно даже когда речь идет о собственном сознании, которое во многом остается белым пятном.
«Свобода для» более известна под именем Эрос (Любовь), а «свобода от» – Танатос (Страх), но и та, и другая чреваты смертью «Я», пусть не всегда полной и буквальной. Только в случае любви эта смерть нам приятна, а в ситуации страха – неприятна. Здесь уместно вспомнить теорию тифоанализа, утверждающую единственным вектором, по которому устремляется все живое, смерть, Танатос. Всякое удовольствие и разрядку тифоанализ рассматривает как смерть.
Страх и Любовь являются программными принципами, управляющими всеми организмами. Только если животная особь руководствуется предустановленными инстинктивными программами, то человек может выступать самонастраиваемым духовным организмом. Поэтому для нас, разумных существ, одни и те же программы (идеи) могут восприниматься то как Эрос, то как Танатос; то влечь к себе, то отталкивать. Например, для христианина Библия, распятие и прочие ритуальные атрибуты, сакральные в данной традиции, являются вдохновляющими, благими, «эротическими». А для воинствующего атеиста эти символы – средоточие зла, Танатоса, страха.
Может сложиться впечатление, что «свобода от» должна ходить в паре со «свободой для», но они способны гулять сами по себе. Вполне возможно желать избавиться от какого-то давления без замены удаленного элемента другим, который будет тоже давить, но как-то иначе. Желание освобождения вполне самоценно. Это стремление расширить свое пространство, время, сознание (приобретение знаний, даже без очевидной пользы), приобретение большей финансовой независимости (без определенного плана трат этих средств).
Негативная воля, «свобода от» часто направлена на отказ от навязанного выбора, которым может быть и психическая зависимость, и страх, и чувство долга, и другие социально поощряемые ограничения. «Свобода от» как правило порождает стремление удалиться от общества. А это почти наверняка означает приближение к природе – как собственной естественности, так и природе внешней. Потребность в свободе почти всегда выражается в эскапизме. Бегстве либо внутрь себя, либо в мир физического одиночества.
Что касается «свободы для», то есть воли позитивной, она также может осуществляться без акта освобождения. Навязанная властью, пропагандой повестка может стать симулякром личной воли. Рабы могут быть воинами и неистово сражаться за удвоенную похлебку ради славы и трофеев для своих господ. Толпа, устраивающая погром, не освобождается, а лишь подкармливает свои темные желания и страхи. Это очевидные акты воли, но чьей? Можно ли считать ее принадлежащей субъекту-погромщику? С одной стороны, конечно нет, ведь по сути погромщик – раб страсти, причем социально подогреваемой. С другой стороны, этот субъект вряд ли способен мыслить себя вне этой страсти, не быть погромщиком пусть не на деле, но хотя бы в самоощущении. Впрочем, это отдельная тема. Отмечу лишь, что неразвитость сознания – главная причина и признак несвободы. Человек массы или стада (в данном случае это не синонимы, а разные исторические формы социальной организации в несвободе, которую человек добровольно принимает или безропотно наследует) довольствуется своим скудным сознанием, поскольку мало сталкивается (вернее – коммуницирует) с Другими, иными, а всецело принадлежит «обществу своих», где ему вполне комфортно.
***
Свобода, в форме времени и пространства, существует изначально, как условие бытия. Допустимо ли существование изначальной воли, возникшей вместе со свободой или даже до нее? Многие философы, как и теологи с мистиками, предполагали наличие перводвигателя – творческой силы в основе мироздания. Кто-то называл ее божественной волей, Абсолютом, или дао, у Аристотеля это энтелехия, а сегодня к этому списку добавилась Матрица. Свой вариант всеобъясняющей идеи в форме всеобщей Воли представил и в книге «Мир как воля и представление». Остановимся на его теории подробнее.
Согласно Шопенгауэру, мир имеет две стороны – представления и волю. Тот, у кого много представления, с высокой вероятностью, обладаем малым запасом воли. Шопенгауэр считал, что за каждым актом бытия лежит безличная мировая воля. А частные воли – лишь орудия всеобщей, которая является «вещью в себе» и действует иррационально.
Шопенгауэр утверждает, что мы живем в мире, который сами создали своими иллюзорными представлениями, которые не столько отражают жизнь, сколько скрывают ее, создают дистанцию между нами и жизнью. А «жизнь как она есть», по Шопенгауэру – это бурление страстей, столкновение желаний. Поэтому надо уметь отбросить свои представления и просто проживать жизнь. Мир как воля для Шопенгауэра – подлинная реальность. Это флуктуации спонтанных, иррациональных импульсов. Мир воли ощущается интуитивно, не может быть выражен в понятиях. Лучше всего, по мнению Шопенгауэра, волю выражает музыка, вызывающая в нас беспокойство и смятение чувств.
Однако, если опираться на физику, а не метафизику и мистицизм, за событиями физического мира стоит не воля, а необходимость. Камень катится с горы под действием гравитации, которая не является волей, поскольку там нет акта принятия решения, как нет и актора, субъекта.
Принимая концепцию мировой воли Шопенгауэра, мы должны признать некий вечно неудовлетворенный, но безличный Абсолют, не имеющий ни сознания, ни целей. Но наш опыт говорит, что воля всегда чья-то. За ней стоит субъект, его цели, интересы, желания. Безличная воля Шопенгауэра – противоположность первобытному антропоцентризму, в котором боги, духи ведут себя подобно людям, только обладают большей силой, знаниями, но и страстями. Людям оставалось лишь преклоняться и подражать этим сверхсуществам. В этом ключе и развивалась вся человеческая культура, стимулируя индивидуальные качества, поощряя волю, ум, смелость.
Трудно согласиться с идеей Шопенгауэра об иррациональности мировой воли и ее противоположении представлениям. Ведь воля необходима не только для движения, изменения, распада, но и для созидания, и даже для сохранения созданного порядка. Значит, представления тоже включают волю. Для того, чтобы «творить хаос», никакая воля в принципе не нужна, а значение индивидуальных воль, формирующих собственные взгляды, противостоя безликому хаосу, очевидно. Мир как представление – отражение реальности в нашем сознании, способ космической воли увидеть саму себя через наше сознание. Признаком свободы воли служит многообразие представлений (культур, философий, индивидуальных сознаний), возникающих по поводу общего мира.
Интуицию Шопенгауэра можно было бы прочесть иначе: мир как энергия и информация. Энергия действительно играет роль иррациональной силы во вселенной. Но равнозначна ли воля энергии? Нет. Энергия – часть материальной реальности, а воля – информационной. Хотя энергия нужна для реализации целей, но постановка и удержание цели не входит в компетенцию энергии, это уже продукт воли. Сугубо физические процессы притяжения и отталкивания предметов происходят в силу природных законов, без участия воли. Она здесь – лишний элемент, отсекаемый «бритвой Оккама». Нужно различать движение естественных сил и осознанное, упорядоченное волей движение субъектов. Понятие «энергия» не дает такого различения. Поэтому в той форме, в какой Шопенгауэр представляет мировую волю, это может быть только энергия. Если бы миром заправляла играющая без смысла и цели воля, мы не видели бы качественного отличия сознательной деятельности и бессознательной, а все разумное оказалось иллюзией. Тем не менее, это не так, если на промежутках своей жизненной активности субъекты, благодаря успешному использованию знаний и воли, достигают тех или иных задач, которые сами определяют. А это значит, что субъекты, даже принадлежа миру, могут обладать определенной свободой, противопоставляя хаосу иррационализма личный рационализм, созидая в океане неопределенности свои, пусть и кратковременно существующие острова порядка.
Для Шопенгауэра воля иррациональна, импульсивна. Но мы знаем только рациональную волю, которая служит выживанию и успеху субъекта как отдельного от мира актора (каждый «Я» – отдельный мир). Способность эффективно воспринимать информацию и работать с ней (в чем и заключается сущность сознания) – вот задача свободной воли как технологии постижения реальности. Эта технология направлена как на энергосбережение (ресурсов тела и сознания), так и на расширение свободы. Ведь любое представление (информация) требует воли и энергии для формирования и удержания этого представления. И чем меньшей ценой это дается, тем эффективнее такая воля. Тот факт, что воля может выступать энергосберегающей технологией, также свидетельствует, что она не равна энергии.
Свобода, воля и границы
Единственный способ установить границы возможного – это слегка выйти за них в невозможное.
Артур Кларк
Распространено мнение о свободе, что она не признает границ. Но свобода в ее восприятии выражается в выявлении границ. Ведь границы существуют благодаря пустоте между предметами и явлениями. Любое понимание явлений и вещей приходит через свободу. Чтобы что-то разглядеть, нужно быть на расстоянии от этого. Чтобы что-то понять, необходимо время для анализа и сбора данных.
Свобода – условие и потребность существования. Все существующее мы можем считать проявлениями свободы. Быть свободным значит быть отдельным.
«Вдумаемся в то, что значит для предмета „быть“, быть сущим, быть чем-то. Если предмет вообще есть нечто, то это значит, что предмет отличается от иного. Если предмет ничем не отличается от иного, то нельзя сказать и того, что он есть нечто. Тогда он слит с другим, неразличим от всего иного и другого, и о нем ничего нельзя сказать как о нем. Но отличаться от иного и не сливаться с другим можно только тогда, когда есть определенная граница, очертание, форма. Предмет отличается от иного – это значит, что предмет имеет определенное очертание, и – обратно. Надо только хорошенько усвоить себе природу этого „иного“» (А. Ф. Лосев «Философия имени»).
Не быть – значит не иметь формы, проявления, пребывать вне времени и пространства – за пределами сцены, которую выстраивает свобода. Бытие осуществимо посредством небытия, если под небытием понимать пустоту7.
Камень, валяющийся на дороге, более свободен, чем камень в стене. Но и второй обладает некоторой формой, отдельностью. Если же речь идет о цельной глыбе, из которой при разрушении образуются отдельные камни, то до момента распада глыбы эти потенциальные камни не обладают никаким отдельным бытием. Конец существования целого есть концом и его свободы. Но при этом обретают свободу элементы, составлявшие целое.
Индивидуальные свободы уникальны в силу разного положения в бытии и разного восприятия бытия. Но работа со свободой, в том числе и ее восприятие – это уже воля. А значит индивидуальные свободы имеют границы в силу разного восприятия и воли. Как писал Карл Ясперс, «границы рождают мою самость. Если моя свобода не сталкивается ни с какими границами, я превращаюсь в ничто. Благодаря ограничениям, я вытаскиваю себя из забвения и привожу в существование». На самом деле самость рождается благодаря воле – инструменту работы со свободой.
Здесь понятными становятся приведенные в Предисловии слова Мамардашвили о свободе как необходимости самого себя. Только речь здесь идет о воле, которая работает с границами свободы субъекта. Но и объекты и явления существуют как нечто отдельное или познаваемое благодаря свободе, поскольку отдельны. Они отдельны, поскольку имеют границы. Наличие границ дает им уникальность и возможность меняться: прирастать, увеличиваясь, либо терять, а в конечном итоге – умирать, то есть утрачивать свободу и форму, возвращаясь в мир уже как материал для бытия других. Поэтому бытие – больше процессы, чем вещи8. Только в мире объектов границы меняются не по их воле, а по естественным причинам, внешним или внутренним9. Воспринимающий должен учитывать эту «бренность бытия» хотя бы в ближайшем горизонте событий.
То же касается границ во времени. Не быть можно вечно, а быть лишь какое-то мгновение в жизни вселенной. Бесконечное бесформенно, непознаваемо, иррационально. Любой порядок органичен и конечен, а хаос бесформен и бесконечен. Поэтому космос (или многие космосы) плавает в океане безбрежного хаоса, а не наоборот.
Слово «конец» несет смысловую нагрузку цели. Быть – значит быть конечным10. Только конечное имеет смысл и способно ставить цели вне себя, поскольку смысл предполагает трансценденцию – выход за границы. Смысл любого явления находится за пределами этого явления. Как и сама возможность жизни любого существа находится вне его тела, которое должно питаться, дышать, размножаться.
Парадокс: свобода субъекта или объекта имеет границы, но свобода «вообще», выступающая сценой для проявлений всего сущего – безгранична. Мы берем из источника бытия столько, сколько можем, то есть для сущих свобода – ресурс ограниченный. Больше свободы предполагает его большую протяженность во времени и пространстве, наличие большей воли для удержания свободы.
Но бывают и кратковременные выходы за границы своего бытия, своеобразные экскурсии в свободу, которое можно называть экстазом. Это состояние обычно описывают как переживание преодоления условных границ себя, своего тела и сознания. Шаманы, чью практику известный религиовед М. Элиаде называл «архаическими техниками экстаза», рассматривали экстаз как мистический полет души, путешествие в иные миры. Состояния вдохновения многие поэты и мыслители также описывают как полет. Отсюда и крылатые существа, связанные с вдохновением – пегасы, музы. Образ крылатого коня существовал и в шаманизме тюркских народов, а основатель ислама пророк Мухаммед совершил свой ночной полет – мирадж – на крылатом существе Бурак, похожем на кентавра. Полет – наиболее удачная метафора переживания безграничности и пустоты. Если обыденная жизнь напоминает движение по давно протоптанным тропам или ходьбу по лабиринту, то полет – перемещение в пространстве фактически без границ.
Если обобщить, то экстаз (он же восторг, восхищение) – состояние сознания, восприятия, возникающее при встрече со свободой.11
Поскольку свободу мы можем постигать в четырех проявлениях, то многообразие экстазов тоже сводится к четырем сферам.
1. Страсть к путешествиям – проявление экстатического восприятия пространства. Любое путешествие является метафорой безграничности. Статичный «Я» – это точка, а движущийся «Я» – уже прямая. Чем больше я двигаюсь, тем меньше я точка, тем больше проявляюсь в пространстве. Это верно как для страсти к скоростям, так и для неспешного туризма. Путешествие всегда совершается ради новых впечатлений и является «легкой формой» шаманского камлания.
2. Потеря ощущения обычного течения времени – важное качество экстаза. В сказках, а также в шаманских рассказах о мистическом путешествии часто встречается сюжет о сжимании времени: если «в этом мире» прошел час, то «в том мире», где пребывала душа шамана (или сказочного героя) прошли годы. Вдохновленный человек или тот же путешественник теряют ощущение обычного восприятия времени, в экстазе оно становится более насыщенным. Человек, увлеченный каким-то делом, по-иному переживает течение времени, оно словно уплотняется.
3. Экстаз потребителя – переживание радости в момент приобретения или продажи. В этот момент деньги совершают магическое освобождение заложенной в них потенции. Конечно, экстаз ощущает человек, меняющий деньги на желанную вещь, а не тратя на необходимое или вынужденное (например, оплата услуг ЖКХ или налогов).
4. Проявление свободы сознания – интеллектуальный или творческий экстаз. Об этом библейская фраза «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Разрешение какой-либо проблемы дает такое ощущение освобождения – преграда мышления преодолена, путь дальше оказывается открытым. В творчестве это состояние характеризуется «слиянием с материалом»: художник ощущает себя единым целым с кистью и полотном, писатель оказывается в месте описываемых им событий, воплощается в своих героев, гонщик сливается с машиной, команда футболистов превращается в слаженно действующий механизм, токарь чувствует растачиваемую деталь и т. п. В таких состояниях человек менее всего ощущает свое «Я», наступает временная потеря самости.
Хотя проявления экстаза относятся к субъективным ощущениям, это не значит, что действительность за пределами психики не переживает ничего подобного экстазу. Факт существования эволюции означает, что выход за рамки устоявшихся систем – один из фундаментальных законов бытия. Только «эволюционный экстаз» совершается очень медленно, а сознание способно меняться и менять мир порой революционно. «Человечество преследует две цели, из коих одна, негативная – сохранить жизнь (избежать смерти), а другая, позитивная – увеличить ее интенсивность», – писал Жорж Батай. Но это правило жизни вообще, не только человеческой. Задача №1 любого существа – выжить, а если она выполнена (угрозы на горизонте не замечены), в силу вступает программа-максимум: расшириться, постичь, познать, размножиться, обогатиться, утвердиться, преуспеть. То есть расширить границы своей свободы. «Интенсивность видоизменяется в зависимости от степени свободы», – пишет далее Батай.
Если для неживого объекта физические границы, форма определяют его условную уникальность, то для живого пространство свободы не может ограничиваться только телом. Быть свободным значит проявлять волю в пустоте, в которой субъект может двигаться. Причем не только физически, перемещаясь в этой пустоте, но и «духовно» – неся информацию о себе. Поэтому можно говорить о двух контурах границ свободы.
Первый контур – собственно физическая граница объекта, либо тело субъекта, его материальная форма, посягательство на которую несет угрозу его разрушения или уничтожения. Второй контур – то пространство, в котором объект или субъект «пребывает» информационно, может быть воспринят другими. Второй контур свободы включает не только пространство и время, в котором бытийствует и воспринимается субъект свободы. Это еще и знание, память о нем в сознаниях его самого и других субъектов, а также его имущество и финансовые ресурсы. Последние два аспекта свободы касаются главным образом человека, но и животным нельзя отказать в наличии памяти, некоторых представлений о собственности (в виде простейших жилищ, кормовых территорий, семей и кланов).
В эволюции можно выделить две генеральных поведенческих стратегии, определяющие судьбу видов и отдельных сущих в отношении свободы и, соответственно, границ. Это эскапизм и цефализация12. Первая стратегия выражается в избегании борьбы, препятствий, вызовов судьбы, замыкании в первом контуре границ свободы – телесном. Вторая стратегия выражена в развитии восприятия, оптимизации работы с информацией, опоре на сознание – расширение внимания ко второму контуру свободы. Такая стратегия позволяет видеть свободу там, где она была скрыта, что дает таким сущим дополнительные очки в играх бытия. Обе стратегии способны сочетаться, но преобладает какая-то одна, формируя уникальную форму данного вида. Например, мимикрия, обрастание толстой кожей, иглами, отращивание ядовитых жал, уход в глубину или высокогорье, где мало конкурентов и хищников – элементы стратегии эскапизма. Развитые конечности, чуткие уши, зоркие глаза – элементы стратегии цефализации. Эти стратегии можно разглядеть и при анализе индивидуальных характеров, особенностей культур и психотипов.
Свои границы имеют также разные поля и законы природы, действующие лишь в некотором пространстве и/или времени (об этом уже говорилось, когда речь шла о фильтрах восприятия). В каждом из полей существуют свои формы движения, особенные возможности изменений. Например, в квантовой физике законы иные, чем в мире, подчиненном ньютоновой механике. Химия, биология, социология, психология, выстраиваясь на фундаменте физической реальности, вносят в нее свои отношения и законы. Каждый из этажей реальности видоизменяет отношения и снимает некоторые из ограничений низлежащего этапа, открывая особые пласты свободы.
Проблема свободы воли
Выводить события будущего из событий настоящего невозможно. Суеверие – вера в такую причинную связь. Свобода воли состоит в том, что поступки, которые будут совершены впоследствии, не могут быть познаны сейчас. Знать о них можно было бы лишь в том случае, если бы причинность – подобно связи логического вывода – представляла собой внутреннюю необходимость.
Людвиг Витгенштейн
Понимание и признание свободы воли имеет не только философскую, но и вполне экзистенциальную ценность. Да, возможно, она отсутствует у нейронной сети как таковой, и мозг морочит нам голову и даже слишком много на себя берет. Но не у личности, принимающей осознанные решения, за которые она несет ответственность! Робот и «зомби» ответственности не несут, но Homo sapiens sapiens – несет. Иначе вся человеческая цивилизация является насмешкой.
Черниговская Т. В.
В эпиграфе к этой книге была намечена проблема желаний и возможностей. Теперь можно обозначить их как волю и свободу. Когда мы испытываем желание, требуется уточнить: чье оно? Это желание диктуется телом, сознанием или социальными установками (культурой)? Именно наличие воли отделяет субъект от объекта, давая разграничение активного и пассивного элементов бытия13. Но человек, несмотря на присутствие в нем потенциала субъекта, часто остается объектом чужой воли, «прогибаясь» под мир и обстоятельства, подчиняясь какой-то власти – законам общества и природы.
Существует ли свобода воли (лат. liberum arbitrium, буквально «свободный выбор») – один из важнейших философских вопросов. Причем таких, ответ на который серьезно влияет на мировоззрение и поведение людей, на политические и социологические концепции, на культуры и религии. Ведь, перефразируя персонажа Достоевского, «если свободы воли нет, значит ничего нельзя». Или наоборот: все, что мы делаем, можно толковать как проявление воли бога, природы или другой высшей силы. Тогда любой наш выбор окажется иллюзией.
И если существование свободы доказать легко – если есть движение, то есть и свобода – то со свободой воли все чуть сложнее. Здесь уже много деталей, в которых скрывается дьявол, подстрекающий дать ответ, не вникнув в суть. Тем не менее, я попытаюсь решить эту задачу, рассмотрев несколько тезисов.
1. Детерминизм или корреляция?
Говорить о свободе воли можно лишь после положительного ответа на другой вопрос: возможно ли свободное движение? То, что движение происходит, а значит оно происходит в некотором пространстве выбора, не означает, что этот выбор осуществляет сам субъект. Очевидно, что физические тела совершают движение под действием внешних сил, воздействия на них других предметов. Отчасти это воздействие совершается и изнутри, в силу физических свойств. Тем не менее, жесткий детерминизм даже на уровне физического взаимодействия не работает. Невозможно предвидеть траекторию движения предмета, даже зная все о характере, направленности, силе всех воздействий на него.
Вместо детерминизма сегодня чаще используют другой термин, определяющий характер взаимодействия предметов и явлений – корреляция. Так называют случайную взаимосвязь двух факторов, или связь их через третий фактор. Причинность же – прямая взаимосвязь одного фактора с другим. Современный популяризатор науки Дэниел Левитин отмечал: «Известно, что корреляция не подразумевает причинность, однако об этом правиле часто забывают в рассуждениях».
Взаимодействия бильярдного шара и кия находятся в корреляционной зависимости, хотя на первый взгляд здесь мы видим причинную связь. Но всякий ли удар кия по шару достигает поставленной цели? Даже при том, что кий и шар неизменны, каждый удар будет уникальным, а значит и результаты будет разными. Взаимодействие кия и шара зависят и от силы удара, и от его угла, от микроскопических шероховатостей поверхностей и т. п.
То же самое можно отнести и к футболу, другим играм с мячом или иным перемещаемым объектом. Движения мяча зависят не только от его физических свойств, поля, характера ударов по нему, но и от погоды, настроения игроков. А может даже и от настроения зрителей. Любое соревнование – взаимодействие набора огромного числа переменных. Влияние части из них на исход можно с тем или иным успехом предвидеть, но все – никогда. Даже в шахматах, где каждой фигуре отведена своя роль, где заданы жесткие правила и ограничено число клеток, количество вариаций ходов слишком велико, чтобы одна партия повторилась дважды.
Еще один пример корреляции – изменение температуры среды и расходы топлива в домохозяйствах. Несомненно, чем сильнее холода, тем больше люди будут тратить ресурсов на отопление. Но это изменение не находится в прямой зависимости от температуры на улице, а опосредовано множеством иных факторов, среди которых и специфика жилища (теплое оно или холодное), финансовые возможности владельцев (кто-то будет экономить, а кому-то то это ни к чему), особенности восприятия температуры организмом. То есть жесткой причинно-следственной связи двух факторов не существует, ее размывает взаимодействие множества факторов, среди которых немалая роль принадлежит не прогнозируемому (а потому – свободному) выбору владельцев домохозяйств.
Таким образом, мы всегда говорим лишь о вероятностях, а не прямых причинно-следственных связях. Иногда вероятность события Б после события А столь велика, что кажется стопроцентной, убеждая нас в детерминизме. Однако, когда есть возможность провести множество тестовых экспериментов, вероятность окажется не такой определенной, демонстрируя уникальность любого события.
Мы никогда со 100-процентной вероятностью не можем предвидеть результат какого-то действия даже в относительно закрытых системах, где число акторов ограниченно. А значит всегда и везде имеется некоторый элемент неожиданности – свободы.
2. Какую волю считать свободной?
А что, собственно, подразумевают мыслители под свободой воли, если они и под самой свободой понимают нечто абстрактное, обтекаемое, требующее толкований? Значит, и тут нужно разбираться.
Правильна ли постановка вопроса о свободе воли как если бы существовала несвободная воля? Ведь сам факт наличия воли предполагает выбор поведения. Там, где выбора нет, живые существа действуют рефлексивно или инстинктивно. Воля является механизмом работы со свободой – инструментом для выбора. Это неживые элементы природы движутся под действием притяжений, отталкиваний и столкновений. Но даже глядя на эти несвободные движения материи некоторые философы (не говоря о мистиках и теологах) допускали существование за ними некой творческой силы.
Оставим за скобками тему первозданной или мировой воли и зададимся простым вопросом: зачем в принципе нужна воля как механизм выбора, если она не совершает выбора? Если воля не свободна, то она бессмысленна, и тогда ее не должно существовать. Но если бы воли не существовало, везде, включая человеческое бытие, царил бы детерминизм, что противоречит опыту. Если же воля есть, то она обладает свободой – в меру данных природой возможностей воспринимать и желать.
Конфликт разных мотивов, побуждений – тоже аргумент в пользу свободы воли. Иначе такой конфликт был бы багом системы, лишним звеном, ведь проще двигаться под воздействием безусловных программ поведения, как это делает большинство живых существ. Но если мы можем выбирать из ряда целей, желаний, реагировать по-разному на разные раздражители и вызовы, значит мы не марионетки бытия, а обладаем волей.
Как вопрошал Элиас Канетти, «Свободен тот, кто не имеет желаний. К чему же тогда быть свободным?» Действительно, можно ли говорить о свободе воли, испытывая желания? Но природа наделяет некоторым авансом свободы всех сущих для того, чтобы те могли удовлетворять желания, которые дает все та же природа. Мы можем либо растратить этот потенциал, либо еще и приумножить. В последнем человек особенно преуспел. Поэтому «быть свободным» – родовое свойство человека. Оно же делает нас неравными, поскольку кто-то реализует это свойство по минимуму, для реализации полученного от природы аванса, животных задач, другие же – и это всегда меньшинство – считают свободу ценностью самой по себе. Но, возвращаясь к вопросу Канетти, можем ли мы вторых назвать свободными, а первых – нет? В вопросе заложена манипуляция, поскольку нельзя быть совершенно свободным и совершенно не иметь желаний. Для открывания новой свободы необходимо желать этого. Таким образом, чтобы возникла воля к свободе, субъект должен испытывать особые желания, которые не свойственны природным существам. Эти желания можно назвать мистическими или метафизическими, хотя таковыми они являются лишь отчасти. Свобода «про запас» может иметь значение игры, «блажи» сегодня, а завтра дать вполне осязаемые плоды, меняющие мир.
По словам Эйнштейна, «человек может делать то, что хочет, но не может хотеть по своему желанию». Но и с этим можно поспорить, ведь сознания (наше или чужое, посредством переданных сообщений) могут стать источником (творцом) новых желаний. Еще одним источником наших решений и желаний является условный антагонист природы – культура, то есть набор правил поведения в обществе. Определяются ли конкретные желания природой, культурой или собственными решениями? Ответ не всегда очевиден. Но уже сама возможность лавировать между Сциллой природы и Харибдой культуры делает сознание самостоятельным актором. Может ли считаться свободной воля, избегающая воздействия иных воль? Вполне. Даже уклоняясь от давления, сознание способно выстроить этот процесс по-разному, здесь действует корреляция, а не детерминизм.
Даже выбор зависимости человек может осуществить сам, и это тоже акт свободной воли. «Когда человек поддается своим влечениям… это значит, что он свободно отрекается от свободы, чтобы найти оправдание своей несвободе», – Виктор Франкл. Хотя их можно рассматривать как синонимы, между влечением и волей есть различие. Увлечение или влечение есть притяжение к уже существующему, чужому. Воля же способна создавать свое, новое. Но как правило любая цель имеет корень во влечении, возникает из устремления к ранее воспринятому. Создание нового – мимесис по отношению к существующему, ступень развития «инстинкта красоты».
Ни один спектакль жизни не идёт по заранее написанному сценарию. Даже если принять метафору марионеток, то кукловод, управляющее всеми сущими, не играет на стороне одной из кукол или их группы. На сцене бытия все куклы играют по-настоящему, на пределе своих сил и возможностей, ведь на кону стоит как минимум их успех, а как максимум – сама жизнь. Для эволюции каждый сущий или вид в принципе равен, раз уж он оказался на этой сцене. Лишь совокупность действий многих сущих какого-то вида способна привести их к фиаско. Либо к грандиозному успеху на каком-то отрезке времени и пространства. И это будет следствием их успешного или неуспешного выбора коллективной стратегии выживания. Само существование эволюции говорит о наличии свободы выбора и воли у живых существ. С той поправкой, что эта свобода воли осуществляется в некоторых рамках.
Абсолютная свобода, как и абсолютно свободная воля – удел спекулятивной философии или теологии. Они возможны как идеи. Идеальный слон свободы (или свободной воли) находится внутри каждого реального слона (свободы или акта воли). Этот идеал подразумевает полное и окончательное освобождение от всякого давления. Которое и достигается на какое-то время при завершении акта воли, получении желаемого результата и обретения покоя. Но пока мы физические существа, покой нам только снится. И абсолютная свобода (и свобода воли) остаются линией горизонта, недостижимым идеалом движения. Который не стоит путать со смертью, разрушением субъекта воли. Этот идеал сопоставим с вечной, безбытной «жизнью после смерти», которую рисуют мировые религии для своих адептов. В какой-то мере бездеятельное созерцание, чтение, прослушивание музыки, просмотр кино выступают суррогатами такого безбытного бытия, в котором мы перестаем быть собой, растворяясь в потоке информации, с возможностью перевоплощаться в кого-то другого.
До тех пор, пока внешние причины (или внутренние, которые можно также рассматривать как внешние для сознания, осознающего себя повелителем, а не рабом тела) являются чем-то вроде шепота, мы можем считать себя достаточно свободными от них, то есть располагать свободой воли. Если же внешние-внутренние воздействия слишком сильны, если это не шепот, а крик, не ветер, а буря, не совет, а пинок, приказ, физическое воздействие, про свободу воли говорить сложно, поскольку не предполагается выбор.
Чтобы провести водораздел между относительно свободной волей и относительно несвободной, достаточно определить, возникает ли она под влиянием притяжения, в состояния относительного покоя, или для избегания, в состоянии непокоя. Несвободная воля заставляет двигаться под внешним давлением, а не из состояния относительного покоя. Свободной волей можно называть ту, которая совершается в состоянии наименьшего давления обстоятельств. Волю можно назвать «своей», если она рождена не в голоде или страхе, а в ясности мыслей и чувств. Здоровый, сытый, обладающий опытом, скорее обладает свободой воли, чем подавленный и угнетенный. Сильные аффекты способны затмить разум, подчинить сознание. Акты воровства еды или каннибализма возникают, если сознание дает добро на реализацию запретного ради выживания. Такое сознание находится под сильным давлением обстоятельств и фактически перестает играть роль свободного оператора воли. Хотя запретные действия могут совершаться и как акты утверждения свободной воли (пример Раскольникова).
Вообще все сознательное – синоним свободного. Сознательная воля – такое решение, которое было взвешено, принято не спонтанно, в добром здравии и при ясной памяти. Такой волевой акт начинается с осознания своих мотивов. Вызовы, на которые существо полностью природное может реагировать лишь в потомстве, через генетику, человек способен воспринимать и отвечать на них, меняя (обогащая, расширяя) сознание. Всякая учеба – ответ (часто упреждающий) на внешние вызовы, а учиться – значит менять сознание и пользоваться свободной волей.
Мысль – наиболее очевидное проявление свободной воли. Мы можем помыслить (вообразить, представить) всякое. Не зря фраза «я думаю» и «мне кажется» может выражать одно и то же состояние сознания. Но чтобы достичь продуктивных целей, мысль должна вступать в диалог с реальностью, оценивать ее. Продуктивная мысль сводится к оценке фактов и доводов, зависит от них. Но знание – это не подчинение фактам, а сотрудничество с ними. Это положительная зависимость, синергия воли и действительности, дающая позитивные плоды для обладателя знания.
Свободной волей можно считать такую, которая отвечает сущностным интересам субъекта. Иначе говоря, если субъект совершает оптимальный выбор и добивается успеха, то воля, способствующая этому результату, свободна. Принимая решение сознательно, мы понимаем, ради получения какого блага это делается. Сознательная воля не обязательно следует на поводу выгод тела или социальной оболочки субъекта. Он может поставить выше не личные интересы, а групповые, общие. Это может быть и компромиссное, и парадоксальное решение. Благодаря наличию сознательной воли, человек не может быть до конца познан, предугадан, что и есть главным условием его свободы. Здесь свободная воля равнозначна тому, что у Маркса названо свободой – «господство над обстоятельствами со знанием дела, а не обстоятельств над человеком». Впрочем, очень вероятно, что первоисточником такой дефиниции свободы был Гегель. Но более изящно эту мысль уже в 20 веке выразил психолог Ролло Мэй: «Свобода – это способность человека делать паузу между стимулом и реакцией и за счет этого бросить свою гирю, как бы мала она ни была, на чашу весов одной реакции из нескольких возможных».
Несвободную волю мы не выбираем, а часто и не замечаем, если она действует мягко и настойчиво. Это как запах, к которому можно привыкнуть и уже не ощущать. Но благодаря сознанию мы способны внутри себя совершать остановку «витязя на распутье» и выбирать между разными причинами, воздействующими на нас. Иногда эта остановка может длиться мгновения, иногда – целую жизнь. То есть мы можем не совершать какой-то волевой акт, какое-то действие, но само это стояние на месте тоже волевой акт.
Откуда берется собственная воля? Это продукт собственного пути, уникального опыта и уникальных выводов, личных открытий, озарений. То есть когда кто-то начинает «ходить» не так как его программируют общество и природа. Конечно, тут есть вопросы. Можно ли ходить, не согласуясь с природой? Думаю, что природой предусмотрено все, она охватывает и поощряет как движение в толпе, так и движение в одиночку. Иначе бы никаких одиночек просто бы не было. Как и эволюции. Тем не менее, большинство сущих природа толкает на путь легких решений. И только меньшинство подходит к вызовам творчески. Любить свободу – то же, что и любить жизнь. И если кто-то видит для себя возможности жизни в отказе от некоторой свободы (а полный отказ от свободы означает смерть), это тоже выбор.
