Эссе
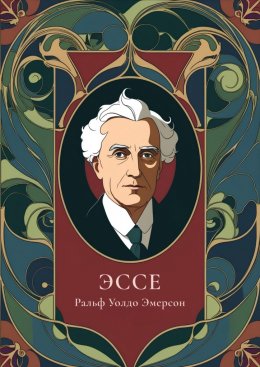
Дизайнер обложки Ю. В. Гринько
Переводчик С. П. Маляров
Редактор С. П. Маляров
© Ральф Уолдо Эмерсон, 2025
© Ю. В. Гринько, дизайн обложки, 2025
© С. П. Маляров, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-0916-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Почему нужно читать эссе Эмерсона. Предисловие издателя и переводчика
В нашем быстротечном веке непросто найти книгу, которая не только увлекает силой мысли, но и подталкивает к переменам в самом себе. Эссе Ральфа Уолдо Эмерсона именно такие. Они пробуждают ум, возрождают жажду искать и сомневаться, не дают укрыться в привычных схемах. Этот мыслитель, которого почитают основателем американского трансцендентализма, писал так, что каждое его слово словно высекает искру из души читателя. Не случайно Эмерсон давно вошёл в мировой канон, ведь его тексты обращаются не к поверхностным интересам дня, а к самой сути – к воле человека быть самим собой и не пасовать перед обществом.
Удивительно, насколько его наблюдения о природе, обществе, личной свободе становятся всё актуальнее: ещё в XIX веке он призывал не терять «собственного я» в шуме толпы и не гнаться за ложными авторитетами. Сегодняшний мир перегружен информацией и чужими советами, и эта мудрость звучит с новой силой. Человек, который возьмётся серьёзно читать и обдумывать эссе Эмерсона, сразу почувствует перемену: перестанет бездумно принимать чужое мнение, обнаружит в самом себе скрытые резервы и начнёт видеть больше, чем прежде. Эти тексты не читаются набегу; их хочется смаковать, перечитывать, конспектировать – ведь в каждом абзаце кроется искра, которую можно раздувать в пламя собственной мысли.
Имя Эмерсона стало классикой не из-за формального признания, а потому что его идеи словно входят в привычный нам мир и незаметно перестраивают наши взгляды изнутри. Он уверенно говорит о свободе духа и внутренней дисциплине, о силе индивидуальности и общих для всех людей законах Вселенной. Это сочетание романтической дерзости и практичной зоркости удивляет и побуждает к действию. С годами эссе Эмерсона не «стареют», а напротив, обретают ещё более свежий аромат – ведь вокруг много суеты, а он говорит: «Слушай свой внутренний голос и твори с верой».
С. П. Маляров постарался передать в этом переводе живую энергию Эмерсона, его ясность и жгучую интонацию. Словно слышишь, как он сам говорит: «Снимите покровы, распахните окна ума!». Приглашаем читателей открыть эти страницы и погрузиться в мир, где каждая фраза ведёт к большим вопросам и не менее большим ответам. Возьмите эти тексты как беседу с мудрым учителем, который не даёт готовых «рецептов», но указывает дорогу к подлинной самостоятельности мысли. И тогда непременно почувствуете, что чтение и рефлексия над эссе Эмерсона становятся не просто занятием для досуга, а шагом к новому этапу вашего собственного интеллектуального развития.
Том первый (1841)
ИСТОРИЯ
«Нет величия, нет малости
Для души, что всё творит:
Где бы ни явилась, всё там и будет,
И повсюду путь ей открыт.
Мир – её достояние,
Семизвёздье и солнечный год,
Слава Цезаря и разум Платона,
Сердце Христа и стих Шекспира»
Есть единый Разум, общий всем смертным. Каждый человек – проводник этого Разума и имеет долю во всей его полноте. Тот, кого допустили к праву Разума, становится свободным гражданином необъятных владений мысли. Он способен постичь то, о чём размышлял Платон; ощутить то, что ощущал праведник; понять любой опыт, выпавший когда-либо на долю любому человеку. Тот, кому открыт доступ к этому вселенскому Разуму, причастен всему, что свершилось или свершится, ведь только он воистину правит миром.
История – это летопись дел этого единого Разума, а весь ход времён раскрывает его гений. Человека нельзя объяснить ничем меньшим, чем всем ходом его истории. Без суеты и без устали от начала времён душа движется вперёд, воплощая каждую свою способность, каждую мысль, каждое чувство в соответствующих событиях. Но мысль всегда предшествует факту. Всё, что случается в истории, заранее живёт в Разуме как закон. И в каждый момент обстоятельства выводят вперёд один такой закон, ведь природе не дано действовать сразу всеми силами. Человек вмещает в себе целую энциклопедию фактов. В одном жёлуде заложено рождение тысячи лесов; Египет, Греция, Рим, Галлия, Британия, Америка уже были «свёрнуты» в первом человеке. Эпоха сменяет эпоху: лагерь, царство, империя, республика, демократия – всё это лишь проявление его многогранного духа в таком же многообразном мире.
Этот человеческий Разум создал историю, и ему же надлежит её прочитать. Сфинкс должна сама разгадать свою загадку. Если вся история заключена в одном человеке, значит, понять её можно на основе личного опыта. Между нашими часами жизни и целыми столетиями тянется невидимая связь. Точно так же как воздух, которым я дышу, исходит из неисчерпаемых кладовых природы, а свет на моей странице – дар далёкой звезды, как равновесие центробежной и центростремительной сил держит меня на ногах, – так и века должны просветить часы, а часы, в свою очередь, пролить свет на века. Каждый человек – ещё одно воплощение всеобщего Разума. Все его свойства заключены в нём самом. И каждое новое событие в его личном опыте бросает сияние на то, что совершали большие сообщества людей, а поворотные моменты его судьбы отзываются в великих потрясениях целых народов. Любая революция родилась сперва как мысль в чьём-то уме; и когда кто-то другой вдруг приходит к той же мысли, он находит ключ к целой эпохе. Любая реформа когда-то была частным мнением, и когда оно снова станет чьим-то частным мнением, оно и решит задачу своего времени. Чтобы некое историческое событие стало для меня понятным и заслуживающим доверия, оно должно в чём-то соответствовать мне самому. Читая, мы должны становиться греками, римлянами, турками, священниками и королями, мучениками и палачами – соотносить их образы с нашим сокровенным опытом; иначе мы не постигнем подлинной сути. Всё, что пережил Аздрубал или Чезаре Борджа, лишь отражает способности человеческого разума к возвышенным деяниям и падениям – так же, как наши собственные. Любой новый закон или политическое движение имеют значение и для вас. Подойдите к каждой их «скрижали» и скажите: «Под этой личиной пряталась моя собственная, изменчивая природа». Так мы выходим за пределы нашего слишком узкого взгляда на самих себя, и наши деяния обретают верную перспективу. Подобно тому как краб, козёл, скорпион, весы или кувшин смотрятся менее жалкими, когда они – лишь знаки Зодиака, так и я могу взглянуть на собственные пороки беспристрастно, видя их в далёких фигурах Соломона, Алкивиада или Катилины.
Ведь именно вселенская природа придаёт ценность отдельным людям и вещам. Жизнь человека, вмещающая в себя эту природу, полна тайны и неприкосновенна; мы обносим её узаконенными запретами и наказаниями. Отсюда все наши законы черпают свои последние основания, все в большей или меньшей мере выражают веления этой высшей беспредельной сущности. Собственность – тоже порождение души, она соотносится с великими духовными истинами, и, по неосознанной интуиции, мы ревностно охраняем её мечами и сводами законов, выстраиваем хитроумные и громоздкие конструкции. Смутная догадка об этой связи освещает наш день: это главный аргумент в пользу образования, справедливости, милосердия, основа дружбы и любви, и всех проявлений самоотвержения и величия, возникающих из опоры на собственные силы. Любопытно, что невольно мы всегда читаем, ощущая себя существами высшими. Когда мы обращаемся к мировой истории, к творцам слова, к рассказчикам – в самых величественных описаниях дворцов жрецов и императоров, в торжестве человеческой воли или гения, – они нигде не отвергают нас, не заставляют чувствовать себя чужаками, будто всё это для «более достойных». Напротив: в самых блистательных подъёмах мы особенно близки к происходящему. Всё, что Шекспир говорит о короле, чувствует справедливым и тот мальчишка, что читает в уголке. Мы сопереживаем великим мгновениям истории, великим открытиям, отчаянной борьбе, расцвету народов, – потому что там ради нас установился закон, там прочёсывали моря и искали земли, там наносили решающий удар за нас или так, как мы бы сами поступили или одобрили.
Мы столь же живо интересуемся и положением человека, и его характером. Мы чтим богачей за внешнюю свободу, силу и изящество – качества, которые нам кажутся истинно человеческими, свойственными и нам тоже. Всё, что стоики, восточные мудрецы или современные эссеисты говорят о человеке мудром, – лишь обрисовывает каждому читателю образ его сокровенного «я», описывает его ещё не достигнутое, но достижимое совершенство. Вся мировая литература рисует образ мудреца. Книги, памятники, картины, разговоры – это портреты, в которых он узнаёт черты, которые взращивает в себе. И молчащий, и красноречивый хвалят и обращаются к нему, а он на каждом шагу ловит намёки на свою личную связь с ними. Настоящему искателю не нужно ждать специальных похвал и намёков в чьей-то речи. Он слышит не похвалу себе, а нечто более отрадное – восхищение тем характером, к которому он стремится; слышит это в любом слове о человеческом достоинстве, более того, в каждом факте, в любой мелочи – в журчании реки, в шелесте хлебов. Похвала глядит на него и почтительно склоняется к нему из безмолвной природы, из гор и сияния небес.
Эти подсказки, словно донесённые ветром из тьмы сна и ночи, мы должны уметь использовать при дневном свете. Настоящий ученик истории читает её деятельно, а не пассивно; он считает собственную жизнь главным текстом, а книги – лишь комментариями к ней. И, принуждённый к такому восприятию, он услышит прорицания музы истории, каких не услышать тому, кто не почитает самого себя. Я не жду, что человек правильно поймёт историю, если он думает, будто в былые эпохи, когда вершились великие дела, было что-то более значимое, чем то, что мы совершаем ныне.
Весь мир существует, чтобы воспитывать каждого из нас. Не было ещё такого века или общественного строя, способа действий, где не находилось бы отражения нашей собственной жизни. Всё удивительным образом кратко пересказывает само себя и дарует свою суть человеку. Он должен понять, что способен прожить у себя на родине всю мировую историю – в собственной душе. Он обязан твёрдо стоять на месте, не позволяя пугать себя ни царям, ни империям, помнить, что он сам выше любой географии и любого земного правления. Он должен сместить привычную точку зрения с Рима, Афин и Лондона на самого себя – и не предавать свою убеждённость, что именно он, в сущности, и есть подлинный суд. Если Англии или Египту есть что ему сказать, он выслушает их; нет – пусть умолкнут навсегда. Ему надо достичь высоты, откуда открывается скрытый смысл фактов, где сливаются поэзия и летопись. Сам ум, сама задумка природы выдают себя в том, как мы применяем уроки истории. Время обращает твёрдые, резкие очертания фактов в сияющий эфир: никакие якоря и заборы не сохранят факт в неизменности. Вавилон, Троя, Тир, Палестина и даже древний Рим уже становятся мифом. Эдемский сад, солнце, остановленное над Гаваоном, – отныне поэзия для всех народов. Кому важно, что же в точности произошло, если мы превратили событие в созвездие, горящее на небе вечно? Лондон, Париж, Нью-Йорк пойдут тем же путём. «Что есть история, – говорил Наполеон, – как не общий вымысел?» Жизнь наша утыкана именами – Египет, Греция, Галлия, Англия, Война, Колонизация, Церковь, Двор, Торговля, – словно яркими и мрачными цветами. Но я не стану придавать им особенной важности: я верю в Вечность. Я могу найти Грецию, Азию, Италию, Испанию и любые острова – все их гении и творящие начала – в собственном уме.
Мы неизбежно снова и снова наталкиваемся на главные факты истории в нашем личном опыте и там их подтверждаем. Вся история становится субъективной, иначе говоря, фактически нет истории, а есть лишь бесконечная биография. Каждый ум должен сам осознать весь урок, пройти весь путь. Он не познает того, чего не увидит собственными глазами и не проживёт собственной жизнью. Если прежние поколения свели что-то к формуле или правилу для удобства, мы рискуем утратить истинное понимание, ибо правила возводят стену, за которую мы и не заглянем. Когда-нибудь мы потребуем возмещения этого убытка и сами проделаем эту работу – пусть даже позже. Фергюсон вновь открыл в астрономии многое из того, что давно было известно. И это пошло ему только на пользу.
Такой должна быть история, иначе она ничего не стоит. Каждый закон, принятый государством, указывает лишь на некий факт человеческой природы – и только. Мы должны внутри себя увидеть необходимость каждого факта, понять, как он мог и должен был возникнуть. Так мы подходим к любому общественному или частному деянию – к речам Бёрка, к победам Наполеона, к мученической кончине сэра Томаса Мора, или к казни ведьм в Салеме, к фанатическим «пробуждениям» и модным увлечениям магнетизмом – в Париже или у нас. Мы предполагаем, что, окажись мы под тем же влиянием, нас постигло бы то же самое, и пытаемся умом постичь всю цепочку шагов, чтобы достичь таких же вершин или такой же пропасти, какие выпали на долю нашего собрата – действующего «от нашего имени».
Всё любопытство к древности, вся тяга выяснить тайну пирамид, подземных городов, Стоунхенджа или кругов Огайо и Мексики, Мемфиса, – на самом деле стремление уничтожить это дикое и бессмысленное «там» или «тогда» и заменить его «здесь» и «сейчас». Беллцони копает и замеряет гробницы и пирамиды в Фивах, пока не поймёт, чем именно «страшные чудища» прошлого отличаются от него самого. Как только он убедится, в общих чертах и в деталях, что это дело рук таких же людей, как он, имеющих те же мотивы и цели, которыми руководствовался бы и он сам, загадка перестаёт существовать: его мысль теперь протянулась по всем этим храмам, сфинксам, склепам и оживила их в уме – сделав их частью настоящего.
Готический собор свидетельствует: «Это сделали мы – и не мы». Конечно, создатели – люди, но в них мы не видим «наших» людей. Чтобы понять собор, мы должны встать на место зодчего. Представить себе, как возникали первые святилища в лесной глуши, как бережно мы повторяли первые образцы и понемногу украшали их в меру растущего богатства нации. Тот смысл, который придаётся деревянным резным украшениям, внушил нам украсить целую гору камня, из которой воздвигли собор. Когда мы представим католическую церковь, крест, церемонии, шествия, лики святых и поклонение образам, мы, словно сами, создадим этот величавый храм. Мы поймём, как он мог и должен был родиться. Мы найдём разумное объяснение.
Разница между людьми кроется в их способе сопоставлять явления. Одни судят о вещах по цвету и размеру, по внешним признакам; другие – по глубинному сходству, по законам причины и следствия. Движение ума идёт к более ясному уразумению причин, где не столь важны внешние различия. Для поэта, философа, праведника – всё священно, всё дружественно, в любом событии скрыта польза, любой день исполнен святости, всякий человек божественен. Их взор устремлён к самой жизни, а не к её внешним проявлениям. Каждый химический элемент, каждое растение, каждое животное в своём развитии указывают на единство первопричины и многообразие её воплощений.
Окружённые всётворящей природой, мягкой, текучей, как облако или воздух, зачем же мы такие педанты, что превозносим лишь несколько форм? Зачем считаем важными время, величину или очертания? Душа не признаёт их власти; гений, следуя её закону, играет ими, как малое дитя играет со стариками и в храмах. Гений стремится к первопричине, заглядывая в самое чрево вещей, и видит, как из одного светила расходятся лучи, которые до бесконечности разветвляются, прежде чем достичь нас. Он отслеживает «переселения» природы в мельчайшем живом существе, узнаёт сквозь облик мухи, гусеницы или червя неизменную сущность; через бесчисленные особи – одну незыблемую породу; через разные породы – один род; через все рода – непреложный тип; через все царства живого – вечное единство. Природа похожа на облако, вечно меняющееся и вечно остающееся тем же. Она неоднократно «разыгрывает» одну и ту же мысль, словно поэт, что сочиняет множество притч с одной моралью. Какой-то тончайший дух, сокрытый в грубой материи, умеет сгибать её под свою волю. Самый крепкий алмаз плавится и принимает точную, но послушную форму, и, пока я смотрю, его очертания опять меняются. Нет ничего быстротечней формы, и всё же она никогда себя не отрицает окончательно. В человеке мы можем отыскать следы всего того, что мы называем «признаками подчинения» у низших форм жизни, – и это лишь усиливает его изящество и величие. Так Ио в трагедии Эсхила, обратившаяся в корову, оскорбляет наше воображение, но, когда она возвращается к человеческому облику под именем Исиды в Египте и встречает Осириса (Зевса), она прекрасна, и лишь лунные рога остались на её челе как блистательное украшение, хранящее память о метаморфозе.
История, как и природа, являет нам нерасторжимое внутреннее единство при очевидном внешнем многообразии. На поверхности – бесконечное разнообразие вещей, а в глубине – простота причины. Мы легко узнаём один и тот же характер в самых разных поступках одного человека. Приглядимся к тому, как мы познаём греческий гений: у нас есть летопись этой цивилизации в трудах Геродота, Фукидита, Ксенофонта и Плутарха – подробные рассказы о том, какими были эти люди и что они делали. Но затем тот же народ говорит с нами снова в своей литературе: в эпосах, лирике, трагедии и философии – и это уже иная, но столь же полная форма самовыражения. И опять в их архитектуре – в этой стройной, словно сама умеренность, геометричной красоте, которая стала осязаемой математикой. И вновь – в скульптуре, где мы видим бесчисленные фигуры в абсолютной свободе движения, не переступающей, однако, порога идеальной сдержанности: будто хористы совершают священный танец перед богами; даже если ими владеет агония боли или ярость смертного боя, они всё равно соблюдают величественный рисунок и ритм. Так гений одного блистательного народа явлен нам в четырёх ипостасях – в истории, литературе, архитектуре и скульптуре. Что может быть внешне непохожее, чем ода Пиндара, статуя кентавра, колоннада Парфенона и последние деяния Фокиона?
Каждый замечал лица и фигуры, которые, не имея явного сходства черт, производят на нас очень похожее впечатление. И бывает: некий пейзаж или стихи, даже не вызывая той же цепочки образов, всё равно рождают в нас схожее чувство, будто мы гуляем по диким горам; хотя разум не видит прямого сходства, оно существует где-то за пределами логики. Природа – это бесконечная комбинация и повторение нескольких очень простых законов. Она повторяет один знакомый мотив в неисчислимых вариациях.
Во всех творениях природы мы видим это величественное семейное сходство; ей доставляет удовольствие внезапно раскрывать его там, где мы и не ждём. Однажды я видел голову старого индейского вождя – она тотчас напомнила снежную вершину горы, а глубокие складки на лбу повторяли слои каменных пород. Бывают люди, чьи манеры несут то же величавое и простое благородство, что грозные барельефы на фризах Парфенона и древнейших памятниках греческого искусства. И во все времена находились произведения, в которых звучит эта же внутренняя мелодия. Посмотрите на знаменитую «Аврору» Гвидо Рени: это всего лишь утренний миф, кони в ней – не что иное, как утренние облака. Любой, кто порадуется выяснить, каким разнообразным делам мы готовы отдаться в одном состоянии ума и к каким мы непримиримы, увидит, до какой степени глубока эта цепь родства.
Один художник говорил мне, что невозможно изобразить дерево, не став на некий лад самим деревом; невозможно точно нарисовать ребёнка, если лишь копируешь его контуры, – нужно некоторое время наблюдать за его движениями, повадками, «вжиться» в его натуру, и тогда сумеешь запечатлеть его в любом положении. Так и художник Роос говорил о том, что «проникает в самую душу овцы». Я знал одного топографа, который не мог набросать форму горных пород, пока ему не объяснили их геологическое строение. Иногда общее состояние мысли лежит в основе самых разных проявлений. Не факт тождествен, а дух. Через более глубокое восприятие, а не только путём долгих технических навыков, художник достигает силы зажигать в других душах нужные образы.
Как-то сказали: «Заурядные натуры платят тем, что они делают, а более благородные – тем, что они есть». И почему? Потому что многослойная, глубинная сущность одними лишь своими словами, поступками, взглядами, манерами вызывает в нас ту же красоту и мощь, что и созерцание огромного собрания скульптур или картин.
Любая история – гражданская, естественная, история искусства или литературы – должна быть объяснена исходя из истории отдельной личности, или она так и останется набором мёртвых слов. Нет ничего, что не было бы нам родственно; нет ничего, что не трогало бы нас: от королевства до подковы на лошади, от университета до ветки дерева, – корни всего находятся в человеке. Базилика Санта-Кроче или Собор Святого Петра – всего лишь неуклюжие подражания некоему божественному образцу. Страсбургский собор – материальное отражение души его творца, Эрвина фон Штайнбаха. Настоящая поэма – это ум поэта, истинное судно – душа кораблестроителя. Загляни в глубь человека – и ты поймёшь, почему его работа оформлена так, а не иначе: как каждая рифлёная кромка или цветовая пядь в раковине изначально заложена в организме рыбы. Вся символика гербов и рыцарства сводится к чувству учтивости. Благородный человек одним лишь произнесением вашего имени придаст ему большую выразительность, чем любые титулы знати.
Наш повседневный пустячный опыт непрестанно подтверждает когда-то услышанные пророчества, воплощая в реальность знакомые слова и знаки, на которые мы не обращали внимания. Как-то, ехав через лес, я услышал от спутницы, что деревья будто бы замирают в ожидании, словно лесные духи приостанавливают свою работу, пока путник не отъедет подальше. Поэты пишут о танце фей, что обрывается, когда слышны шаги человека. И кто видел, как в полночь луна вдруг выходит из-за облаков, тот словно свидетельствовал рождение света и мира. Я помню летний день: мы шли по полю, и мой спутник указал на широкую тучу, тянувшуюся параллельно горизонту, – она была невероятно похожа на херувима из церковной росписи, словно кто-то оживил круглящийся «корпус» и расправил симметричные крылья. Раз такое увиделось в небе однажды, значит, оно может повториться, и вполне возможно, что именно это явление и вдохновило древнего художника. Однажды в извилистой молнии, промелькнувшей в летнем небе, я вдруг ощутил, как точно древние греки подметили природу молнии в руке Зевса. А снежные заносы вдоль каменной стены сразу напомнили мне о классическом завитке, с помощью которого часто оформляют угол башни.
Если бы мы сами окружили себя первозданными условиями, мы бы заново изобрели ордера и украшения архитектуры, как только поймём, что любой народ, в сущности, лишь украсил своё первое жилище. Дорический храм сохраняет вид деревянной хижины, где селился дориец. Китайская пагода – бесспорно, наследница кочевой палатки. В индийских и египетских святилищах сквозит форма насыпей и подземных жилищ их предков. «Обычай высекать жилища и гробницы прямо в скалах, – пишет Хирен в своих исследованиях об эфиопах, – вполне естественно придал нубийско-египетскому зодчеству колоссальный размах: ведь здесь, где глаз привык взирать на огромные природные полости, всё, созданное человеком, без грандиозных масштабов выглядело бы унизительно мелким. Что значат статуи привычных размеров, милые портики или изящные пилоны перед исполинскими залами, у порога которых только колоссы могут сторожить вход, а внутри опираться о гигантские колонны?»
Готическая церковь, по всему видно, берёт исток в простом подражании лесному своду деревьев с их ветвями, перекинутыми аркой для какого-нибудь торжественного шествия. Обвязки на «расколотых» колоннах в храме до сих пор похожи на зелёные ветви, которыми их связывали. Никто не пройдёт по дороге, прорубленной сквозь сосновый бор, чтобы не поразиться «архитектурному» виду этого пространства, особенно зимой, когда все прочие деревья стоят голыми, а сосны сомкнутся над головой, образуя невысокую «саксонскую» арку. В сумерках зимнего леса легко увидеть вдохновение для цветных витражей готического собора – это образы западного неба, проступающего сквозь переплетения голых ветвей. И разве любой, кто любит природу, войдя в древние постройки Оксфорда или английские соборы, не почувствует, что там дух леса одержал верх над умом зодчего, а его резцы, пилы и рубанки лишь воспроизвели мотивы папоротников, цветущих стрел, лик полыни, вяза, дуба, сосны, ели и пихты?
Готический собор – это каменный цветок, распускающийся под неустанной жаждой гармонии в человеке. Гора гранита зацветает вечным цветком, и в этом камне мы видим и воздушную лёгкость, и утончённую отделку, и ясную перспективу, свойственные красоте растений.
Так же, как мы должны обобщать личное, а общее придавать личностному звучанию, – только тогда История обретается текучей и истинной, а Биография глубокой и величественной. Подобно тому как в архитектуре персы, создавая стройные колонны и капители, вдохновлялись стеблями лотоса и пальмы, так и их великолепный двор оставался кочующим, перенимая привычки диких племён: весну проводили в Экбатанах, лето – в Сузах, а зиму – в Вавилоне.
В ранней истории Азии и Африки два противоположных начала – кочевье и земледелие. Климат и рельеф этих материков вынуждали народы к перекочёвкам, а осевшие, пользуясь плодородием почвы или выгодой торговли, строили города и боялись нападений кочевников. Отсюда земледелие становилось религиозным долгом, чтобы удерживать народ от опасной бродяжьей вольницы. И поныне в цивилизованных Англии или Америке эти инстинкты продолжают стародавний спор и в общественной, и в частной жизни. Кочевников Африки гнали с пастбищ бешеные оводы, загонявшие скот в безумство, и племена спасались бегством в засушливые высокие районы. Кочевники Азии странствовали в поисках пастбищ. В Европе и Америке кочевничество стало «торговым» или «познавательным» – это, конечно, прогресс по сравнению с оводами из Астабораса, но всё ещё остаётся mania путешествий – то ли англо-, то ли италофилия. Священные города, паломничество к которым предписывали обычаи и законы – вот что сдерживало древних кочевников. А сегодня много лет накопленных ценностей и удобств оседлой жизни сдерживают нашу тягу к странствиям. Борьба двух влечений – к движению и покою – не менее сильна и в душе каждого человека, поскольку у одного верх берёт жажда приключений, у другого – любовь к покою. Человек крепкого здоровья и широкой натуры легко приживётся где угодно – живёт в повозке и свободно кочует по всем широтам, как калмык. На море, в лесу, на заснеженных просторах – ему всюду достаточно уютно, он ест с аппетитом и просто радуется жизни. А может, и в глубине его ума есть способность видеть интерес повсюду, при встрече с любым новым явлением. Кочевники прошлого были голодны и бедны до отчаяния. Умственное «кочевничество», доведённое до крайности, тоже разоряет дух, распыляя его на все стороны. Тот же, кто «хранит дом», обретает некую «целомудренность» и довольство, находя в своей земле все элементы существования. Но и это влечёт опасность однообразия и упадка, если не вносить внешних освежающих струй.
Каждый предмет, который человек видит вовне, соотносится с его состоянием ума; и каждый предмет по очереди становится ему понятен, когда его собственная мысль расцветает истиной, к которой этот факт или явление принадлежит.
Первозданный мир, как говорят немцы – Urwelt, я могу постичь внутри себя, не только рыща по катакомбам и развалинам дворцов, не только листая архивы и фрагменты статуй.
В чём же корень всеобщего интереса к греческой истории, литературе, искусству и поэзии всех эпох – от Героического или Гомеровского века до быта афинян и спартанцев четырьмя или пятью веками позже? Просто потому, что каждый из нас проходит в своей жизни «греческий период». Греческий строй – эпоха телесности, совершенство чувств, при котором духовное естество развёртывалось в неразрывном союзе с телом. Вот откуда брали образы Геракла, Феба и Зевса скульпторы, а не из толпы современных улиц, где лица – неясное смешение черт. Те же греческие лица были ярко очерчены, пропорциональны, с такими глазницами, что глаза не могли бы бегать украдкой по сторонам – им приходилось поворачивать всю голову. Нравы той эпохи просты и суровы. Почитание оказывалось личным качествам – смелости, ловкости, самообладанию, справедливости, силе, быстроте, громогласности, широкой груди. Роскоши и утончённости они не знали. Скудность населения и нужда делали каждого и собственным слугой, и поваром, и мясником, и солдатом, и эта привычка самому себя обеспечивать вырабатывала поразительные способности тела. Таковы Агамемнон и Диомед у Гомера; и примерно ту же картину рисует Ксенофонт о себе и своих соратниках в «Анабасисе»: «Когда войско переправилось через Телебой в Армении, выпало много снега, и солдаты спали прямо на обледенелой земле. Но Ксенофонт встал, не имея на себе ничего, кроме собственной шкуры, взял топор и начал рубить дрова. И тут другие тоже встали и поступили так же». Во всём его войске царит ничем не стеснённая свобода высказываний. Они ссорятся из-за добычи, бранятся с начальством при каждом новом приказе; и сам Ксенофонт не отстаёт в горячности. Разве не видим мы в них компанию здоровых крепких парней, у которых кодекс чести и дисциплина – ровно такие, какие бывают у мальчишек?
Очарование древней трагедии, как и всей старой литературы, в том, что герои говорят прямо – говорят как люди, обладающие здравым смыслом, но не сознающие этого, ещё до того, как рефлексия стала основным занятием ума. Мы восхищаемся античностью не потому, что она стара, а потому что она естественна. Греки почти не предавались рефлексии, зато они были совершенны в своих чувствах и здоровье, будучи лучшими «физическими организмами» мира. Взрослые у них действовали с простотой и грацией детей. Они создавали такие вазы, трагедии и статуи, какие и должны возникать при здоровых ощущениях и хорошем вкусе. Подобные вещи и ныне рождаются повсюду, где встречается чистое телесное здоровье; но по превосходству своей организации древние греки сделали нечто особенное, объединив энергию зрелости с милой непринуждённостью детства. Их быт притягивает нас тем, что в нём узнаётся человек как таковой, мы видим в них то, чем были все мы, будучи детьми; и всегда найдутся люди, несущие эти черты и сегодня. Тот, кто от природы обладает детской непосредственностью и сильным характером, – по сути, грек и оживляет в нас любовь к Элладской музе. Я восхищаюсь гимном к природе в трагедии «Филоктет». Читая эти прекрасные воззвания к сну, к звёздам, к скалам, горам и волнам, я чувствую, как время отступает, словно утекающий прилив. Я ощущаю вечность человека, узнаю родство наших мыслей. Оказывается, греки были окружены теми же явлениями, что и я: солнце и луна, огонь и вода касались их душ ровно так же. И тогда много расхваленная разница между греческой и английской культурой, между классическим и романтическим стилем выглядит надуманной и педантичной. Когда мысль Платона загорается во мне, когда та же истина, что воспламенила душу Пиндара, воспламеняет мою, – времени не существует. Я понимаю, что мы с ними встретились на одном уровне восприятия, и наши души слились в один поток, тогда зачем мне считать градусы широты? Зачем мне считать египетские столетия?
Ученик нашего времени истолковывает век рыцарства, оглядываясь на свой собственный «рыцарский» период. Историю мореплаваний и кругосветных открытий – через свои личные, хоть и крошечные, походы за новизной. Тот же ключ действует и для «священной истории» мира. Когда из глубины древности звучит голос пророка, и он словно перекликается с ощущениями твоего детства, с мольбами твоей юности, ты сквозь обрывки предания и обрядовую громоздкость видишь живую истину.
Иногда к нам приходят редкие, неистовые умы, которые открывают новые стороны в природе. И с давних пор бывали на свете люди божьи, несшие своё послание, которое находило отклик даже у самого простого слушателя. Оттого мы и слышим о треножниках, пророках и жрицах, которым дан был божественный дар.
Для людей, живущих чувственными желаниями, Христос ошеломителен и непостижим. Они не умеют вписать Его в историю, не в силах согласовать Его с собой. Но стоит им возжелать жизни чистой, прислушаться к своим внутренним озарениям, – и их собственное стремление к святости всё объяснит, каждую деталь, каждое слово.
Как легко при этом воспринять «древние верования» Моисея, Зороастра, Ману, Сократа в собственном уме! Я не вижу в них седой старины. Они принадлежат мне так же, как им самим.
И первых монахов, анахоретов можно встретить, не покидая своей эпохи и не пересекая морей. Не раз я видел человека, чья внешняя отрешённость от всякого труда и властная сосредоточенность мысли делали его горделивым «подаяльщиком имени Божьего», и тем самым он вполне мог бы оказаться Симеоном Столпником XIX века, живым воплощением Фиваидской пустыни или первых капуцинов.
И восточное, и западное жречество – магов, брахманов, друидов, инков – всё это расшифровывается нашей личной жизнью. Жёсткий формалист, который в детстве подавлял вас, не давал вам смелости и свободы, сковывал разум и внушал не протест, а лишь страх и повиновение, да ещё и некое сочувствие к его власти, – всё это можно понять, лишь осознав, что он сам – ребёнок, над которым царили лишь некие имена, слова и правила, и он был всего-навсего орудием их влияния на нас. И это даёт нам более ясное представление, как люди поклонялись богу по имени Бел и как они строили пирамиды, чем расшифровка Шампольона, определившего имена их работников и стоимость каждого кирпича. Тут у нас, под боком, и Ассирия, и холмы Чолулы, а сами мы заложили эти «рядами камней».
В каждом обдуманном восстании против суеверий своей эпохи мы понемногу повторяем путь древних реформаторов и обнаруживаем, какие искушения подстерегают добродетель на этом пути. Вновь надо учиться тому, какой моральный порыв требуется, чтобы поддержать некое суеверие. Велика распущенность, которая идёт по пятам у реформы. Сколь часто в истории случалось, что Лютер своего времени горевал об утрате благочестия в собственном окружении! «Доктор, – говорила как-то жена Мартина Лютера, – как же так: под папской властью мы молились часто и пылко, а теперь – холодно и редко?»
Человек, делающий шаг вперёд, открывает, насколько глубоко он связан со всей литературой – и мифической, и исторической. Он понимает, что поэт – не чудной чудак, описывающий странные и невозможные ситуации, а голос универсальной души, что пишет через его перо всеобщую исповедь, одинаково искреннюю для каждого. В великих строчках, записанных ещё до его рождения, он узнаёт собственную тайную биографию. Ступень за ступенью он натыкается в своей судьбе на сказки Эзопа, Гомера, Хафиза, Ариосто, Чосера, Вальтера Скотта и подтверждает их собственной головой и руками.
Прекрасные греческие мифы, будучи подлинным творением воображения (а не капризной фантазии), хранят универсальную истину. Взять хотя бы историю о Прометее! Какое богатство смыслов и постоянное живое звучание в ней! Помимо её первичного значения – первого шага Европы на пути к изобретению ремесла и переселения народов, она ещё и во многом воспроизводит историю религий последующих эпох. Прометей – это Иисус древней мифологии: друг человечества, что встаёт между суровой «правдой» Небесного Владыки и простыми смертными, добровольно страдая ради них. Но в том, что он ослушался Зевса, проявилась та часть человеческого духа, которой трудно примириться с грубо внешним учением о Боге и которая, защищаясь, выказывает недовольство якобы существующим высшим существом и тяготится долгом благоговения. Она, если бы могла, похитила бы у Творца его огонь и жила бы без него, независимо от него. «Прикованный Прометей» – это роман о скептицизме. И не менее вечно звучат детали этой величавой притчи. «Аполлон пас стада Адмета», говорили поэты. Боги, являясь среди людей, не узнаются. Не узнали Иисуса, не узнали Сократа и Шекспира. Антей был задушен Гераклом, но всякий раз, когда он касался матушки-земли, его силы восстанавливались. Человек – это сам тот великан, которому важно прикасаться к природе. Сила музыки, поэзии, способная «окрылить» даже плотную материю, даёт ключ к разгадке Орфея. Философское осознание идентичности сквозь бесконечные изменения формы – это и есть Протей. Кто я, если вчера смеялся или плакал, если этой ночью спал, словно мёртвый, а утром хожу и бегаю? Да что вижу я повсюду, кроме метаморфоз Протея? Я могу любому созданию или факту дать образ своей мысли, ведь каждый из них – это человек, действующий или испытывающий действие. Тантал – лишь другое имя для тебя и меня. Тантал символизирует невозможность вкусить воды мысли, вечно мерцающей и колышущейся перед самой нашей душой. «Переселение душ» – не сказка: мужчины и женщины лишь наполовину человеческие. Каждое животное – из хлева, из леса, с земли и с вод – умеет оставить в нас свой отпечаток. «Брат мой, – хочется сказать, – останови отлив своей души, что утекает в привычные формы, в которые ты уже много лет соскальзывал». И столь же близка нам древняя басня о Сфинксе, что сидит у дороги и задаёт каждому прохожему свою загадку, и если человек не может ответить, она живьём его проглатывает. Но если он решит её задачу, Сфинкс гибнет. Разве жизнь наша не подобна бесконечному потоку крылатых явлений? Они сменяются в ослепительном многообразии и предъявляют человеческому духу свои вопросы. Те, кто не может ответить на них высшим разумом, становятся их рабами, они заваливают людей, властвуют над ними, превращая в рутинеров, в «здравомыслящих», способных лишь послушно следовать фактам, подавив во себе последний проблеск духовного света. Но если человек верен тому, что в нём выше, не допускает, чтобы факты брали над ним верх, помня, что принадлежит к более высокому роду, держится ближе к душе и ищет первопричину, – тогда и факты послушно становятся на свои места, зная, кто тут хозяин, и даже самый ничтожный из них прославляет его.
В «Елене» Гёте можно заметить ту же тягу к тому, чтобы каждое слово воплощалось в вещь. Эти персонажи – Хирон, Грифон, Форкия, Елена, Леда – в глазах поэта обладают своими чертами и влияниями, и в этой мере они вечны, столь же реальны сегодня, как в начале Олимпиад. Гёте долго обдумывает их, затем свободно выплескивает собственное вдохновение, придавая им зримое тело в своём воображении. И пусть эта поэма смутна и причудлива, как сон, всё же она гораздо увлекательнее многих стройных и выверенных драм того же автора. Почему? Потому что дарит уму чудесную передышку от привычных образов, будит наше воображение дикой свободой замысла и нескончаемым каскадом ярких сюрпризов.
Вселенская природа, слишком мощная для ограниченного «я» поэта, садится ему на плечи и пишет его рукою. И выходит, что когда ему кажется, будто он предаётся пустой выдумке или дикой романтике, на деле рождается точная аллегория. Недаром Платон говорил, что «поэты говорят великие и мудрые вещи, которым сами не до конца вдаются». Все выдумки Средневековья объясняются как маскированное, игривое выражение того, к чему люди той эпохи стремились со всей серьёзностью. Вся магия и то, что ей приписывают, – это глубокая предчувствие могущества науки. Сапоги-скороходы, меч-кладенец, власть над стихиями, умение пользоваться таинственными свойствами минералов, понимать птичий язык – всё это смутные, но верные метафоры движения человеческого ума. Чудесная сила героя, вечная юность и прочее – такие же попытки духа «заставить вещи являть желания ума».
В «Перкефоресте» и «Амадисе Гальском» у верной женщины на голове расцветают венки и розы, а у неверной они вянут. В сказании о «Мальчике и плаще» даже зрелый читатель не может сдержать радостного трепета за добрую Генелас, сумевшую выйти победительницей. И вообще все те эльфийские предания – о феях, которые не любят, когда их зовут по имени, о коварных и ненадёжных их дарах, о том, что, ступив на путь сокровищ, надо молчать, и прочее – я проверил у себя в Конкорде, и оказалось, они ничуть не менее справедливы, чем в Корнуолле или Бретани.
Разве в новых романах всё иначе? Я, например, читал «Ламмермурскую невесту»: сэр Уильям Эштон – лишь маска для распространённого искушения; замок Рэвенсвуд – красивое название для гордой нищеты, а «важное госзадание за границей» – чисто буньяновский приём для обозначения честного ремесла. Мы все можем «застрелить дикого быка, который готов растоптать всё доброе и прекрасное», если научимся противостоять несправедливому и чувственному. Люси Эштон – это всего лишь иное имя для верности, которая всегда чудесна и вместе с тем всегда на краю беды в этом мире.
Но ведь наряду с историями о человеческих нравах и мыслях каждый день пишется ещё одна история – внешнего мира, и человек тесно в неё вовлечён. Он – краткое изложение времени, но и «близнец» самой природы. Его сила в том, что он способен связать себя со всем сущим, все ниточки бытия косвенно или прямо вплетены в его жизнь. Как в древнем Риме все главные дороги начинались на Форуме и расходились на север, юг, восток и запад ко всем провинциям империи, открывая каждому крошечному поселению в Персии, Испании или Британии путь к войскам столицы, так и из человеческого сердца тянутся дороги к сердцу любой вещи – чтобы подчинить её владычеству человека. Человек есть связка отношений, узел корней, плодом которых служит мир. Его способности указывают на явления вне его самого и предвосхищают тот мир, в котором он будет жить, как плавники у рыбы говорят о воде, а крылья у орла в яйце – о воздухе. Без внешнего мира он жить не может. Посади Наполеона на крохотный остров, лиши его возможности действовать на людей, покорять вершины и ставить на кон судьбу – и он будет лишь беспомощно размахивать руками и покажется глупцом. Дай ему просторы, миллионы людей, противоречивые интересы и могущественных соперников – и ты увидишь подлинного Наполеона. То, что ты видишь на поверхности – только тень Тальбота:
«Сущность его не здесь:
Перед тобой лишь малая часть
И ничтожная крупица человечества;
Полная же его природа
Настолько необъятна и высока,
Что ни один чертог её не вместит.»
(Шекспир, «Генрих VI»)
Колумбу нужен был целый шар, чтобы прокладывать курс. Ньютону и Лапласу – бесконечные времена и густо усеянные небесные просторы. Скажи, разве сам разум Ньютона не предвещал уже гравитирующую Солнечную систему? Не предрекали ли мозг Дэви или Гей-Люссака с детства грандиозные законы организации частиц, когда они изучали их притяжение и отталкивание? Разве глаз человеческого эмбриона не пророчит, что есть свет, а слух Генделя – волшебную силу гармонии? Разве изобретательные пальцы Уатта, Фултона, Уиттимора, Аркрайта не предсказывали, что найдутся металлы, дерево и камень с их способностями к плавке и обработке? Разве чудесные черты юной девушки не указывают на всё богатство и утончённость будущей цивилизации? Тут мы вспоминаем и о том, как человек воздействует на человека. Ум может годами обдумывать свой опыт, и не узнать себя так глубоко, как узнаёт за один день, вспыхнув негодованием при вопиющей несправедливости или услышав пламенную речь, или разделив единый порыв в многотысячной толпе, охваченной восторгом или страхом за судьбу нации. Никто не может предугадать свой опыт или догадаться, какую способность откроет в нём новый «предмет» – всё равно что сегодня нарисовать по памяти лицо того, кого ты только завтра увидишь впервые.
Не стану сейчас углубляться в причину этой таинственной согласованности ума и природы. Достаточно нам, что при свете этих двух истин – о единстве Разума и о том, что природа ему созвучна, – нужно читать и писать историю.
Так душа, всеми способами, собирает и воссоздаёт свои сокровища для каждого ученика. И он тоже пройдёт весь кругозор опыта, сосредоточив в себе лучи всей природы. История перестаёт быть скучной книгой: она оживает в каждом по-настоящему мудром и справедливом человеке. Не нужно рассказывать мне о каталогах, языках и титулах прочитанных книг – покажи лучше, какими эпохами ты жил. Человек сам становится храмом Славы, ходит в пёстром одеянии с вышитыми на нём чудесными событиями и переживаниями; его ум и лицо, озарённые высоким сознанием, делают этот наряд ещё ярче. Я нахожу в нём прообраз древнейших времён: в его детстве – Золотой Век, Яблоко Познания, поход аргонавтов, призвание Авраама, постройку Храма, Рождество Христово, Тёмные Века, Возрождение, Реформацию, открытие новых земель, рождение новых наук и тайн в человеке. Он – жрец Пана, несущий в скромные обители благословение утренних звёзд и все записанные дары неба и земли.
Кажется ли этот взгляд на себя самих надменным? Тогда я готов отказаться от всего сказанного, ведь к чему притворяться знающим там, где мы не знаем? Но это порок нашего красноречия: чтобы выпукло выразить один факт, мы неизбежно принижаем другой. По сути же я очень скромно оцениваю наше действительное знание. Послушайте шорох крыс за стенкой, поглядите на ящериц на изгороди, на грибы у дороги и лишайники на пнях. Что мы о них знаем – сочувственно или нравственно? Они, может, ровесники или старше самого «белого» человека, и нет свидетельств, чтобы между нами и ими когда-либо промелькнуло хоть слово или знак. Где в книгах связь между пятьюдесятью или шестьюдесятью химическими элементами и историческими эпохами? И что же записала история о метафизических летописях человека? Как она проясняет тайны, что мы скрываем под именами «Смерть» и «Бессмертие»? А между тем каждая история должна быть сотворена с мудростью, постигшей всю глубину наших связей, и видеть в фактах нечто символическое. Прискорбно смотреть, во что вырождается наша так называемая «История» – в жалкие сельские сплетни. Как часто приходится повторять: Рим, Париж, Константинополь! Но что Риму ведомо о крысах и ящерицах? К чему эти Олимпиады и консульства для тех жизней, что соседствуют с нами в ином измерении бытия? И какую пищу или утешение они несут эскимосу, охотящемуся на тюленей? Жителю полинезийского каноэ, грузчику, грузщику, носильщику?
Чтобы по-настоящему выразить нашу внутреннюю, всем родственную природу, а не продолжать старое летосчисление, выросшее на эгоизме и гордости, нам надо шире и глубже писать нашу летопись – начиная с нравственного возрождения, с притока вечной живой совести. Такой день уже настал для нас, он незаметно сияет в нас, однако путь науки и учёной словесности сам по себе не ведёт к природе. Слабоумный, дикарь, ребёнок, неучёный деревенский парень куда ближе к тому свету, которым надо читать природу, чем учёный анатом или антиквар.
Список некоторых работ об «Истории» Эмерсона
• Hoch, David G. «„History“ as Art: „Art“ as History.» ESQ (IV, 1972), 288—293.
• Stein, William Bysshe. «Emerson’s „History“: The Rhetoric of Cosmic Consciousness.» ESQ (IV, 1972), 199—206.
• Van Cromphout, Gustaaf. «Emerson and the Dialectics of History.» PMLA 91 (Jan 1976), 54—65.
• Steinbrink, Jeffrey. «The Past as „Cheerful Apologue“: Emerson on the Proper Uses of History.» ESQ 27 (IV, 1981), 207—221.
• Richardson, Robert D. «Emerson on History,» in Porte, pp. 49—64.
• Saum, Lewis O. «Emerson’s „History“: From Biography to Autobiography.» North Dakota Review 50 (Spring 1982), 45—55.
• Hutson, Richard. «Two Gardens: Emerson’s Philosophy of History.» In The Green American Tradition, ed. H. Daniel Peck, pp. 21—38. Baton Rouge: LSUP, 1989.
• Makarushka, Irena. «Emerson and Nietzsche on History: Lesson for the Next Millennium.» In Gregory Salyer & Robert Detweiler (eds.). American Academy of Religion Studies in Religion, 72. Atlanta, GA: Scholars, 1995, pp. 89—101.
• O’Keefe, Richard R. «The Rats in the Wall: Animals in Emerson’s „History“.» American Transcendental Quarterly 10:2 (June 1996), 111—121.
• Shuffelton, Frank. «Emerson’s Politics of Biography and History.» In Mott, 53—65.
• Friedl, Herwig. «Fate, Power, and History in Emerson and Nietzsche.» ESQ 43:1—4 (166—169) (1997), 267—293.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
«Не ищи вовне себя самого.»
«Каждый сам себе светило, и душа, способная
Воплотить в человеке всю правду и чистоту,
Властно приказывает свету, влиянию, судьбе;
Для неё нет понятий «рано» или «слишком поздно».
Наши деяния – наши ангелы, добрые или злые,
Роковые тени, что всюду сопровождают нас.»
– Из эпилога к пьесе Бомонта и Флетчера Честное состояние человека
«Отбрось младенца на голые скалы,
Пусть волчица вскормит его,
Пусть он зимует рядом с ястребом и лисой,
И сила со скоростью станут ему руками и ногами.»
Недавно я читал стихи, написанные знаменитым художником. Они были свежи и оригинальны, не тонули в привычных шаблонах. Душа всегда улавливает в таких строках тихое, но твёрдое напутствие – как бы ни был обыден сюжет. Ценность тут не в самих мыслях, а в том чувстве, которое они пробуждают. Верить в собственную мысль, верить, что то, что истинно для тебя самого в глубине сердца, истинно для всех, – вот что такое гениальность. Озвучь свою неявную убеждённость, и она станет всеобщим чувством; ведь то, что сокрыто внутри, рано или поздно выходит наружу, и начальный наш помысел возвращается к нам гласом Страшного суда. Нам, каждому, до боли знакома своя собственная мысль, но величайшей заслугой Моисея, Платона и Мильтона мы считаем то, что они не слушали ни книг, ни традиции – они говорили не то, что «положено» людям, а то, что рождалось в их уме. Человек должен научиться узнавать и беречь тот луч, что вспыхивает внутри, ярче, чем сияние целого сонма поэтов и мудрецов. Но он обычно бездумно отмахивается от этой вспышки только потому, что она его собственная. А потом, встречаясь с поистине великим творением, мы вдруг узнаём в нём собственные некогда отброшенные мысли, вернувшиеся к нам в величественном, чуть ли не инопланетном обличье. Нет урока сильнее, чем этот, преподнесённый великими произведениями искусства: оставаться верным своему непосредственному впечатлению, когда весь мир гремит в противоположную сторону. Иначе завтра кто-то чужой, с поразительной ясностью и убедительностью, выскажет то самое, что мы давно думали и чувствовали; и нам придётся с досадой и стыдом признать собственную правоту, но услышанную уже от чужих уст.
В жизни каждого человека наступает момент, когда он постигает, что завидовать – бессмысленно, а подражать – равносильно гибели; он вынужден принять себя со всеми своими достоинствами и недостатками как собственную судьбу; что хотя вся вселенная полна благами, ему достанется только то зерно, которое вырастет на клочке земли, вручённом ему в пользование и возделываемом его же трудом. Сила, что живёт в нём, – нова для природы, и кроме него никто не знает, на что она способна, да и он сам не узнает, пока не попытается. Не случайно одно лицо, один характер, один факт глубоко западут ему в душу, а другой – нет. Эта избирательность в памяти не может быть без тайного соответствия. Глаз поставлен именно там, куда должен упасть тот единственный луч, чтобы свидетельствовать о нём. Мы сдержанно выражаем себя и стесняемся божественной идеи, которую в себе представляем. А ведь мы могли бы уверенно довериться тому, что она пропорциональна миру и принесёт хорошие плоды, если только мы передадим её честно, без страха. Но Бог не позволит, чтобы его труд проявлялся через трусов. Человек испытывает облегчение и радость, когда вкладывает в дело всю душу и делает всё, что может; но всё, к чему он прикасается без сердца, не даст ему покоя. Это кажущееся освобождение не освобождает. В такие минуты гений оставляет его: ни муза, ни вдохновение, ни надежда не придут на выручку.
Доверься себе: в груди каждого отзывается эта стальная струна. Прими то место, которое небесный промысл уготовал тебе, общество твоих современников и цепь событий. Так поступали великие люди, доверяя себя, по-детски открыто, гению своей эпохи, осознавая, что подлинная опора – у них в сердце, действующая через их руки, господствующая над всей их сутью. И мы тоже уже выросли, должны принять это возвышенное предназначение, а не оставаться недорослями и слабыми, прячущимися в защищённых уголках, не трусами, бегущими от бури перемен, а идти вперёд – в качестве вождей, освободителей, благодетелей, повинуясь всемогущему зову и побеждая Хаос и Тьму.
Сколько чудесных пророчеств природа даёт нам на эту тему – во взглядах и повадках детей, младенцев и даже животных! Их сознание не раздвоено, не бунтует само против себя, не умаляет свои чувства под предлогом «реальности» своих сил и средств. И поэтому в их глазах мы встречаемся с чем-то непобеждённым и чувствуем смущение. Младенчество ни под кого не подстраивается – все прогибаются под него, так что один малыш превращает в «нянек» сразу четверых или пятерых взрослых, щебечущих и играющих с ним. Так же Бог наделил юность и зрелость очарованием и силой, которые мы признаём и которым завидуем, если только эти возраста сами стоят на своей правде. Не думайте, что юноша бездеятелен только потому, что ему пока нечего сказать нам, старшим; прислушайтесь, как он общается со своими сверстниками – его голос звучит достаточно громко и отчётливо. Стыдливый он или дерзкий, он как-нибудь да сумеет обойтись без нас, увядающих.
Та небрежная уверенность мальчишек, которые точно знают, что ужин им обеспечен, – и которым, как и лорду, и в голову не придёт делать что-либо, чтоб угодить нам, – это здравая позиция человеческой природы. Мальчишка в гостиной подобен зрителю в театральном партере: независим, ни за что не отвечает, сидит себе в углу и оценивает всех, кто проходит мимо, – оценивает по быстрому, мальчишескому методу: хороший, плохой, интересный, глупый, красноречивый, надоедливый. Он не задумывается о последствиях и выгоде, а выносит неподкупный приговор. Хотите его расположения – извольте потрудиться; сам он ни к кому не набивается. Взрослый же как будто попадает за решётку собственного сознания: скажет или сделает что-то с блеском – и всё, он «упёк» себя во мнение толпы, которая теперь будет за ним следить, и её привязанности или вражда учтены в его расчётах. Забвения Леты тут не отыскать. Ах, если б можно было снова вернуться в состояние нейтральности! Тот, кто способен не давать обещаний и, наблюдая, наблюдать снова с такой же чистой, непредвзятой, неподкупной невинностью, всегда будет представлять внушительную силу. Его слова о любых делах, идущие не от личной корысти, а от внутренней необходимости, вонзаются, словно копья, в ухо людей и наводят на них страх.
Так звучат голоса, доносящиеся к нам в уединении, – но они становятся всё слабее и исчезают вовсе, едва мы погружаемся в общество. Ведь общество, где бы оно ни складывалось, действует заговором против человеческой зрелости каждого своего члена. Общество – это акционерное товарищество, где пайщики ради гарантии куска хлеба вынуждены пожертвовать свободой и внутренним развитием. Ценнейшая добродетель для него – это приспособление. Самостоятельность для него отвратительна. Ему не нужны реальные авторы и творцы, ему нужны имена да обычаи.
Кто хочет быть человеком, должен стать нонконформистом. Кто стремится к бессмертным венкам, не может отступать, услышав одно только слово «благодетель», а обязан сперва проверить, действительно ли это благо. Единственное, что по-настоящему свято, – целостность твоего собственного разума. Оправдайся перед самим собой – и получишь признание всего мира. Помню, когда я был юн, некто, дорожащий моим благом, донимал меня старинными церковными воззрениями. Я сказал: «Какая мне разница до святости традиций, если я живу целиком изнутри?» Мой собеседник возразил: «А если твои порывы – не свыше, а снизу?» – «Ну что ж, – ответил я, – если я дитя дьявола, значит, буду жить от дьявола.» Никакой закон не может быть для меня священен, кроме закона моей собственной природы. Понятия «хорошо» и «плохо» – это просто слова, которые легко менять местами. Единственно правильное – то, что созвучно моей природе; единственно неправильное – то, что ей противоречит. Надо держаться так, словно все звания и должности преходящи, а вечен только я. Стыдно, как легко мы капитулируем перед знаками и титулами, большими обществами и изжившими себя институтами. Любой приличный, хорошо говорящий человек воздействует на меня больше, чем должен. А надо бы идти прямо и жить полнокровно, говоря суровую правду во всех видах. Если злость и тщеславие завернутся в благотворительность, нам что, пропускать их беспрепятственно? Если заносчивый фанатик прикрывается бунтарским делом Отмены рабства и рассказывает мне последние новости с Барбадоса, отчего не сказать: «Иди люби своё дитя, люби своего дровосека, будь добродушен и скромен, обрети эту благодать; не прячь свою злобную, беспощадную амбицию за витиеватыми речами о сострадании к чёрным людям за тысячу миль отсюда. Твоя любовь к дальнему – это злость к ближнему»? Грубо? Да. Но правдивее, чем притворная нежность. Добродетель должна иметь свой острие, иначе её нет. Когда проповедь любви превращается в плаксивое хныканье, непременно нужно проповедовать «ненависть» – чтобы удержать равновесие. Я готов покинуть отца и мать, жену и брата, если голос моего гения зовёт. Я бы начертал на дверном косяке: «Каприз». Быть может, это в итоге окажется чем-то выше, чем просто каприз, но у нас нет времени всё объяснять. Не ждите, что я буду обосновывать, почему к одним людям я тянусь, а других сторонюсь. И не надо мне, как сегодня сделал один добрый человек, говорить, что я обязан пристроить всех бедняков в хорошие условия. Это не мои бедняки. Глупый ты филантроп, я и доллара, и цента жалею для тех, с кем не связан никакой духовной роднёй. Есть определённая группа людей, которым я принадлежу всем своим существом и которые принадлежат мне. Ради них я, если потребуется, пойду в тюрьму. Но все эти «народные» благотворительности, обучение пустоголовых в колледже, строительство самодовольных молелен, множество обществ «спасения»… Да, признаюсь, иногда я сдаюсь и даю доллар, и это дурной доллар, от которого я вскоре надеюсь отучиться, набравшись мужества.
С точки зрения толпы, добродетели – скорее исключения, а не правило. Есть «человек» и есть его «добродетели». Человек совершает добрый поступок, например, проявляет отвагу или жертвенность, – во многом так же, как платит штраф за то, что редко показывается на каких-то сборах. Его дела служат оправданием или смягчением вины за сам факт его жизни. Так, больные и умалишённые платят большие суммы за содержание. Их добродетели – это своёобразные покаянные практики. Я же не хочу каяться, а хочу жить. Пусть жизнь будет самой заурядной, лишь бы она была искренней и ровной, а не блестящей и рваной. Хочу, чтобы она была здоровой и чистой, не нуждаясь в принудительных диетах и кровопусканиях. Мне нужно главное подтверждение: ты человек, а не ссылка на твои поступки. Для меня лично неважно, совершаю ли я «образцовые» деяния или воздерживаюсь от них. Не могу согласиться платить за право, которое мне принадлежит от рождения. Пусть мои дары не слишком велики, но всё же я есть – и мне не нужно косвенных доказательств ни для себя, ни для окружающих.
Всё, что я обязан делать, – это то, что касается меня одного, а не то, что одобряют люди. Эта максима, одинаково строгая и для практической, и для интеллектуальной жизни, определяет разницу между «великим» и «малым». Особенно это нелегко, потому что всегда найдутся те, кто считает, будто лучше меня знает, в чём мой долг. В обществе легко жить по его правилам; в уединении легко жить по собственным; но велик тот, кто в гуще толпы сохраняет милую сердцу независимость уединения.
Основная беда в том, что следование тем обычаям, которые для тебя давно умерли, растрачивает твою энергию. Теряется время и стирается чёткий отпечаток твоего характера. Если ты поддерживаешь церковь, где давно нет жизни, или вносишь деньги в библейское общество, которое исчерпало себя, если голосуешь за крупную партию – за правящую или оппозиционную, или накрываешь стол, как принято у всякой мелкой буржуазии, – сквозь все эти «завесы» мне трудно разглядеть, каков ты на самом деле. И, конечно, так ты отвлекаешься от своей настоящей жизни. Но если ты займёшься своим делом, я тут же узнаю, кто ты. Займись делом, и ты сам укрепишься. Нужно понимать, какая это слепая игра – жить в рамках согласия с чьими-то «принятыми» догмами. Если я знаю, к какому сектантству ты принадлежишь, я наперёд могу сказать, какую речь ты произнесёшь. Услышав проповедника, выбравшего для «текста и темы» что-нибудь «в духе» заведённой в его церкви практики, разве я не предвижу, что он не скажет ничего действительно нового и живого? Разве не ясно, что, делая вид, будто анализирует какие-то основы, он на самом деле даже не собирается это делать? Разве не очевидно, что он сам связал себе руки и смотрит только с одной разрешённой стороны – не как мыслящий человек, а как приходской служитель? Его манерность, напоминающая независимую позицию судьи, – всего лишь пустое притворство. Но так поступают многие: повязывают себе на глаза чью-то повязку, чтобы видеть одну выбранную общину мнений. Это согласие делает их не просто неискренними в нескольких деталях, а лживыми во всём. Каждая их правда уже не вполне правда. Их «два» – это не настоящее «два», а «четыре» – не настоящее «четыре». И каждое их слово вызывает у нас досаду, и мы теряемся, с чего бы начать их «исправлять». Тем временем природа без промедления облачает нас в «тюремную робу» той партии, к которой мы примкнули. Мы приобретаем один тип выражения лица и телосложения, шаг за шагом заползая в самодовольную «ослиную» манеру. Есть один унизительный опыт, который потом отражается и в истории: «тупая улыбка одобрения», которой мы удостаиваем собеседника в компании, где не чувствуем естественного интереса. Мышцы лица двигаются не сами по себе, а «из-под палки» нашей вежливой воли, и это даёт самое неприятное ощущение.
За нонконформизм мир наказывает недовольством. Значит, нужно уметь оценивать хмурое лицо прохожего. Люди смотрят косо на тебя и на улице, и в гостиной у твоего друга. Если бы их враждебность происходила из такой же внутренней борьбы и сопротивления, что и у тебя, ты мог бы уйти домой с тяжёлым сердцем. Но тут всё гораздо поверхностнее: грубые или сладкие выражения лица они принимают и снимают по велению ветра или газет. И всё же возмущение толпы страшнее, чем неудовольствие сената или учёного совета. Человеку твёрдому, знакомому с мирскими нравами, нетрудно вынести бешенство «образованных» – оно аккуратное и осторожное, ведь сами эти люди уязвимы. Но если к их «женской злобе» прибавится гнев черни, когда поднимаются в негодовании невежественные массы, неосознанная грубая сила, лежащая на дне общества, начинает рычать и скалиться, то тут уж потребуется божественное величие души и искреннее благочестие, чтобы относиться к этому, как к пустяку.
Ещё один ужас, отгоняющий нас от веры в себя, – это мнимое «постоянство», которому мы рабски покоряемся из страха противоречить самим себе. Ведь окружающие не знают о нас ничего, кроме того, что мы уже сделали или сказали, – и мы не хотим разочаровывать их, отступаясь от прежних слов или поступков.
Но зачем нам всё время «оглядываться через плечо»? Зачем таскать за собой труп собственной памяти, чтобы, упаси бог, не попять что-то, сказанное в общественном месте? Ну и пусть я сам себе противоречу – что из того? Ведь, кажется, самое мудрое правило – не полагаться на одну лишь память, даже в простых воспоминаниях, а подвергать всё прошлое суду этого тысячеглазого настоящего, жить всегда в новом дне. Скажем, в своих метафизических рассуждениях ты отрицал личностный облик Божества, а если вдруг в душе поднимаются святые движения, почему бы не отдаться им всем сердцем и жизнью – пусть они и наделяют Бога формой и окраской? Оставь свою теорию, как Иосиф бросил одежду в руках блудницы, и беги прочь.
Глупая последовательность – пугало для слабых умов, кумир для мелочных политиков, философов и проповедников. Большая душа не имеет с этим делом. Что толку заботиться о тени на стене? Говори сегодня то, что думаешь прямо сейчас, пусть это звучит резко; завтра скажи то, что завтра сочтёшь верным, – пусть опять в резких словах, пусть оно всё противоречит сказанному накануне. – «О боже, тебя же неправильно поймут!» Ну и что? Это так плохо – быть непонятым? Пифагора неправильно понимали, Сократа, Иисуса, Лютера, Коперника, Галилея, Ньютона – всякого, чей дух оставался чист, мудр, и кто воплотился в нашей плоти. Быть великим – это быть непонятым.
Кажется мне, никто не способен нарушить свою глубинную природу. Все порывы воли ограничены законом нашего бытия, словно все бугры и провалы Анд или Гималаев теряются в линиях земной сферы. И не важно, как его мерить. Характер подобен акростиху или александрийскому стиху: читай его вперёд, назад или по диагонали, всё равно прочтёшь то же самое. В этой мирной и покаянной жизни среди лесов, которую Бог мне позволил вести, пусть я каждый день записываю свою подлинную мысль, не заглядывая ни вперёд, ни назад, – думаю, в итоге окажется, что всё это взаимосвязано, даже если я не пытаюсь и не вижу этого. Пусть в моей книге ощущается запах хвои и жужжание насекомых. Пусть ласточка, вьющая гнездо за моим окном, вплетёт в мою ткань ту соломинку, что носит в клюве. Мы являемся тем, что мы есть; наш характер учит громче наших намерений. Люди думают, что передают свою добродетель или порок лишь поступками, но они не замечают, что их нравственность или безнравственность непрестанно испаряются и ощущаются, словно аромат или яд.
Если наши действия честны и естественны в тот момент, когда мы их совершаем, между ними непременно установится согласие, сколь бы они ни казались разными. С высоты мышления видна их общая тенденция. Курс лучшего корабля – это ломаная линия из сотни галсов; если взглянуть на неё издалека, она выпрямится и покажет свою среднюю цель. Подлинное, искреннее деяние объяснит само себя, объяснит и прочие наши подлинные поступки. Конформизм же ничего не разъясняет. Действуй самостоятельно, и тогда то, что ты уже делал самостоятельно, оправдает тебя в настоящем. Великие души обращены в будущее. Если я сейчас достаточно твёрдо сделаю правильный шаг, плевать на чужое осуждение, – я, значит, и раньше уже столько раз поступал так же, что теперь меня это только укрепит. Как бы ни обстояли дела, делай сейчас правильно. Всегда презирай пустые «видимости», и тогда можешь это делать безбоязненно. Сила характера накапливается. Все добрые дни прошлого вливают свою оздоравливающую силу в настоящее. Что придаёт величавость героям парламента и поля битвы, почему они так будоражат наше воображение? Сознание целой череды славных вчерашних дней и побед. Они словно окружают действующего героя единой аурой. Кажется, его сопровождает целый полк ангелов. Вот откуда гром в голосе Чатема, благородство в облике Вашингтона и целая Америка во взгляде Джона Адамса. Честь внушает нам почтение, потому что она не явление сиюминутное. Она всегда воплощает древнюю доблесть. Мы чтим её сейчас потому, что она не пытается заискивать перед нами, а самодостаточна, исходит из самой себя, носит древнейшую и несомненную родословную – даже если проявляется в молодом человеке.
Надеюсь, в наше время пришёл конец всему этому преклонению перед «приспособлением» и «постоянством». Выкинем эти слова на посмешище. Пусть вместо стука обеденного гонга звучит у нас свист спартанской свирели. Хватит кланяться и просить прощения. Вот мне предстоит приём, и явится ко мне в гости «большой человек». Я не собираюсь ему угождать; хочу, чтобы он захотел угодить мне. Я постою здесь за человечество, и пусть это будет доброжелательно, но пусть это будет правдиво. Мы бросим вызов разглаженному посредничеству и убогому самодовольству современности, – швырнём обществу, торговле и чиновничеству в лицо ту великую истину, что есть повсюду, во все времена: там, где действует человек, там трудится могучий Разум и Деятель; что истинный человек не приписан к какому-то определённому времени или месту, а является центром бытия. Где он стоит, там и природа. Он мерка для каждого из нас и для каждого события. Обычно мы видим в людях лишь похожесть на кого-то другого. Но характер, подлинная реальность ни на что не ссылается; оно занимает всё поле творения. Человек должен быть настолько собой, чтобы остальные обстоятельства теряли всякий вес. Каждый истинный человек – это сам по себе причина, родина и эпоха; чтобы воплотить свой замысел, ему нужны бесконечные просторы, толпы людей и века; а последующие поколения идут за ним вереницей почитателей. Родится Цезарь – и на века у нас Римская империя; родится Христос – и миллионы сознаний так преобразятся, что он сливается в их глазах с самой добродетелью и возможностями человека. Любая общественная структура – это длинная тень одного человека: Реформация – Лютера, квакерство – Фокса, методизм – Уэсли, аболиционизм – Кларксона. Сципион для Мильтона был «высшей точкой Рима». И вся история легко сводится к биографии нескольких решительных и искренних личностей.
Пусть человек осознает собственное достоинство и подчинит себе вещи. Пусть не крадётся, как подёнщик, чужой ребёнок или пришелец, в этом мире, созданном для него. Но вот простой горожанин глядит на башню или на мраморную статую, не находит в себе той силы, что их сотворила, и начинает чувствовать себя бедняком. Ему кажется, дворец, статуя или дорога книга отпугивают его, как бы говоря: «А вы, сударь, кто такой?» Однако всё это, напротив, обращается к нему, просит его внимания, умоляет его способности проявиться и завладеть этой красотой. Картина ждёт моего вердикта: она не может властвовать надо мной, я решаю, достойна ли она похвалы. Известна притча о пьянице, которого подобрали на улице, отвели во дворец герцога, отмыли, одели, уложили в герцогскую постель, а проснувшись, он столкнулся со всей обслугой, кланяющейся и уверяющей, будто он сумасшедший герцог. Суть в том, что это прекрасно описывает состояние человека, живущего в мире как будто пьяного, но иногда пробуждающего свой разум и понимающего, что на самом деле он истинный князь.
Мы читаем, словно нищие и льстецы. В истории наше воображение обманывает нас. Мы возвеличиваем слова «королевство», «власть», «владения», тогда как «простой Джон и Эдвард», живущие в небольшом доме и занятые повседневным трудом, – это ровно то же самое по сути. И у одного, и у другого судьба несёт ту же сумму. К чему столько почтительности к Альфреду, Скандербегу, Густаву? Предположим, они были добродетельны, значит ли это, что их добродетель иссякла и больше ни на кого не хватит? Не меньшая ставка зависела от твоего сегодняшнего поступка, чем от их знаменитых свершений. Когда обычные люди научатся действовать с оригинальным прицелом, блеск перейдёт от подвигов королей к деяниям простых достойных людей.
Мир всегда учился у своих царей, что зачаровывали народы. Этот громадный символ излучал взаимное почтение человека к человеку. Радостная верность, с которой повсюду терпели царя, вельможу или крупного землевладельца, позволяли ему устанавливать свои собственные правила, оценивать людей и вещи по своей шкале и попирать их местные правила, платить за услуги не деньгами, а почестями, быть законом в собственном лице, – всё это было символом того, что в глубине души люди осознавали свою же правоту и благородство, признавая при этом права каждого.
Магнетизм всякого самостоятельного поступка можно объяснить, если разобраться в том, почему нам столь нужна вера в себя. Кто этот доверительный хранитель? В чём состоит изначальное «Я», которому всеобщая уверенность может быть оправдана? Что это за неизмеримая, неподвижная звезда, луч которой проникает даже в ничтожные и грязные поступки, если хоть чуть-чуть светит там независимость? Разобравшись, мы придём к тому источнику, к сути гения, добродетели и самой жизни, который мы называем спонтанностью или инстинктом. Мы зовём эту первородную мудрость интуицией, в отличие от всех «дополнительных» знаний – tuition. В этой глубокой силе – последний факт, за который нельзя заглянуть дальше. Все вещи находят в ней общее начало. Ощущение бытия, которое в тихие часы поднимается в душе неведомо как, не отделено ни от вещей, ни от пространства, ни от света, ни от времени, ни от человека, оно едино с ними и проистекает из того же источника, что порождает их жизнь и существование. Сперва мы приобщаемся к жизни, обитающей во всём сущем, а уже потом видим всё это как явления природы и забываем, что причастны тому же источнику. Здесь – родник наших действий и мыслей. Здесь – лёгкие того вдохновения, что дарует человеку мудрость и которое нельзя отвергать без кощунства и отрицания Бога. Мы лежим на коленях у безграничного разума, который вкладывает в нас свою истину и действует через нас. Когда мы различаем справедливость или истину, мы ничего не делаем сами, а лишь даём путь их лучам. Если спросить, откуда это исходит, если попытаться влезть в самую душу, всё философствование окажется бессильным. Мы можем лишь утверждать, что оно есть или его нет. Каждый отличит произвольные акты своего ума от непроизвольных восприятий, и знает, что его невольным восприятиям нужно полное доверие. Можно ошибаться в их выражении, но сами они столь же неоспоримы, как день и ночь. Мои сознательные волевые усилия и приобретения обычно беспорядочны; однако самая мечтательная грёза, самое робкое врождённое чувство вызывают у меня любопытство и уважение. Пустоголовые люди опровергают с одинаковой готовностью и чужие взгляды, и чужие наблюдения, даже скорее последние, потому что не различают «перцепцию» и «мнение». Им кажется, что я выбираю видеть то или иное. Но восприятие – не игра прихоти, а фатальная данность. Если я заметил какую-то особенность, увидят её и мои дети, а потом, со временем, всё человечество, – пусть никто до меня её не отмечал. Ведь то, что я видел, так же реально, как само солнце.
Связь души с Божественным Духом настолько чиста, что грех – вставлять сюда какие-то «посредники». Когда Бог говорит, Он даёт не одну вещь, а всё сразу: озаряет мир своим голосом, бросает лучи света, времени, природы и душ из центра нынешней мысли, заново творя всю картину. Когда сознание просто и открыто для небесной мудрости, ветхое уходит в прошлое: средства, учителя, тексты, храмы становятся ненужны; душа живёт сейчас, поглощая и прошлое, и будущее в одном настоящем мгновении. Всё делается священным, будучи соотнесённым с этим источником, – и одно не менее другого. Все вещи распадаются к своему центру, к своей причине, и в этом всеобщем чуде исчезают все мелкие и единичные чудеса. Если человек утверждает, что знает и говорит о Боге, но уводит вас к терминологии какой-то древней, истлевшей цивилизации, – не верьте ему. Разве желудь лучше дуба, в котором он раскрылся и достиг совершенства? Разве родитель лучше ребёнка, которому передал свою зрелость? Откуда же тогда берётся весь этот культ прошлого? Века сговариваются против ясного ума и верховной власти души. Время и пространство – это всего лишь физиологические краски, которые даёт нам глаз, а душа – это чистый свет: там, где она, там день; там, где она была, – уже ночь. История становится навязчивой и вредной, если она не более чем весёлая притча о моём собственном бытии и становлении.
Человек робеет и оправдывается; он уже не держится прямо, не смеет сказать «Я думаю» или «Я существую», а все время ссылается на мудрецов и святых. Ему стыдно перед любой травинкой или розовым кустом на ветру. Эти розы у меня под окном не вспоминают прежние розы и не ждут будущих – они целиком в том, чем являются сами, сегодня вместе с Богом. Им неведомо время. Это просто роза, она безупречна в каждом мгновении своего бытия. Пока не раскрылся её бутон, в нём уже есть вся жизнь; расцвев, она не становится «больше»; когда остаётся лишь корень без листьев, она не становится «меньше». Её сущность в полноте удовлетворена, и она во все моменты одинаково гармонирует с природой. А человек всё переносит на завтра или вчера; он не живёт в настоящем, он оглядывается на прошлое с сожалением и не замечает окружающих богатств, тянется на цыпочках в будущее. Он не может стать ни счастливым, ни сильным, пока не научится, подобно природе, жить в настоящем, над временем.
Вроде бы и так ясно, а вот как много сильных умов не решается услышать Бога, если Он не говорит цитатами из Давида, Иеремии или Павла. Но не всегда мы будем придавать так много значения кучке цитат, нескольким ярким биографиям. Мы похожи на детей, заучивающих наизусть наставления бабушек и учителей или, когда подрастаем, фразы встретившихся нам людей таланта и характера, а потом неловко пытаемся точно воспроизвести эти слова. Но стоит достичь того же взгляда на вещи, который был у тех, кто произнёс эти слова, – мы начинаем понимать их смысл и отпускаем их сами. Когда понадобится, мы и сами найдём такие же хорошие слова. Если мы будем жить подлинно, мы будем видеть по-настоящему. Сильному человеку быть сильным так же просто, как слабому – слабым. Когда мы открываем новые горизонты, мы охотно выбрасываем из памяти запылившиеся сокровища. Когда человек живёт в согласии с Богом, его голос звучит сладко, как шелест кукурузы или журчание ручья.
И вот, наконец, самая главная истина в этом предмете остаётся недосказанной, и, возможно, её вообще нельзя выразить словами, ибо всё, что мы говорим, – лишь далёкое воспоминание интуитивного озарения. А если попытаться приблизиться к ней, я бы сформулировал это так: когда рядом с тобой благо, когда ты ощущаешь полноту жизни в себе, оно не придёт по знакомым или привычным тропам; ты не увидишь чужих следов, не услышишь голосов людей; ты не узнаешь никакого имени; путь, мысль, добро – всё будет абсолютно новым и чуждым прежнему опыту. Ты уходишь прочь от людей, а не к людям. Все, кто когда-либо существовал, становятся забытыми слугами этого пути. И страх, и надежда остаются где-то внизу, они здесь неуместны. Даже надежда здесь выглядит чем-то низменным. В час видения нет ничего, что можно назвать благодарностью или истинной радостью. Душа, поднявшаяся над страстями, видит единое основание и вечную причину, созерцает само собой существующие Истину и Праведность и успокаивается в осознании, что всё идёт как надо. Огромные просторы природы – Атлантика, Южные моря, годы, столетия – не имеют значения. То, что я ощущаю сейчас, лежало в основе каждого прошлого состояния жизни и обстоятельств, как лежит и под настоящим, и под тем, что мы называем жизнью, и под тем, что мы называем смертью.
Важно только живое движение, а не то, что «было прожито». Сила оставляет нас в минуту застоя; она живёт в моменте перехода от прошлого к новому, в преодолении пропасти, в рывке к цели. Именно это-то и ненавидит мир – что душа становится; ведь это обесценивает прошлое, превращает все богатства в нищету, всю репутацию в стыд, уравнивает святых с преступниками, отодвигает и Иисуса, и Иуду. Зачем же мы говорим о самостоятельности? Потому что, пока душа пребывает в настоящем, её сила не столько «уверена», сколько действенна. Говорить «я на что-то полагаюсь» – слишком внешне. Говори лучше о том, что воплощает доверие, потому что оно действует и есть. Тот, кто исполняет принципы глубже, чем я, тот управляет мной, даже если ничего не предпринимает. Вокруг него я буду кружиться по закону духовного тяготения. Когда мы говорим о высшей добродетели, это кажется нам лишь образным словом. Мы пока не видим, что добродетель – это высота, и по естественному закону всякий человек или сообщество людей, пластичные и проницаемые для принципов, смогут превзойти города, нации, королей, богачей, поэтов, которые такой проницаемостью не обладают.
В конечном итоге в любом вопросе мы быстро доходим до того, что все явления сводятся к Единому Благословенному. Само-сущность – качество высшей Причины, и степень благости вещи определяется тем, насколько глубоко она приобщена к этой само-сущности. Всё в мире реально ровно настолько, насколько оно пронизано силой добродетели. Торговля, земледелие, охота на китов, война, ораторское искусство, личный вес – всё это нечто заслуживающее моего уважения, поскольку является примером присутствия и пусть не до конца чистого действия этой силы. Та же закономерность работает в природе ради сохранения и роста. Мера правоты в природе – это сила. Природа не даёт существовать тому, что не может себя поддержать. Возникновение и созревание планеты, её равновесие и орбита, дерево, выпрямляющееся после штормового ветра, жизненные резервы каждого животного и растения – всё доказывает, что душа, которая может опираться на себя, тем самым себя и поддерживает.
Так всё сходится к одному: давайте не скитаться, а останемся дома с нашей главной причиной. Давайте ошеломим толпу людей, книг и учреждений простым объявлением божественного факта. Пусть пришельцы снимут обувь: здесь живёт Бог. Пусть наша простота судит их, а наша покорность собственному закону покажет, как ничтожны природа и судьба рядом с нашим сокровенным богатством.
Но сейчас мы ведём себя как толпа. Человек не боится человека и не слышит в себе призыва к уединению – чтобы связаться с сокровенным океаном своего «я», – напротив, он бегает по миру, выпрашивая ковш воды из чужих кувшинов. Нам надо идти в одиночку. Мне больше по душе пустая церковь перед началом службы, чем самая вдохновенная проповедь. Как же всё выглядит просторно, прохладно и целомудренно: каждый сидит в своём особом святилище! Так и нужно нам сидеть всегда. Зачем мы должны перенимать слабости друга, жены, отца или ребёнка, только потому что они с нами у одного камина или в них течёт наша кровь? У меня общая кровь со всеми людьми, и это не повод приобщаться к их капризам или глупости, стыдясь того, что я не поддаюсь им. Но наша отчуждённость не должна быть механической, а духовной, то есть мы должны возвыситься. Порой весь мир, похоже, сговорился докучать тебе бессмысленными мелочами: друзья, клиенты, дети, бедность, страх, благотворительность – все разом стучатся к тебе в дверь и кричат: «Выйди к нам!» Но оставайся на высоте; не лезь в их беспорядок. Власть, которую люди имеют надо мной, я сам им даю своей слабостью любопытства. Никто не может приблизиться ко мне, если я сам не позволю этого. «Что мы любим, то уже имеем, а желанием лишь теряем любовь.»
Если мы не можем сразу взойти к святости покорности и веры, то хотя бы противостанем искушениям; объявим «состояние войны» и пробудим Тора и Одина – то есть мужество и твёрдость в наших саксонских сердцах. Как это сделать в такие спокойные времена? Говорить правду. Остановить лживое гостеприимство и лживую привязанность. Больше не жить в ожиданиях этих обманщиков, с которыми мы общаемся. Сказать отцу, матери, жене, брату, другу: «Я жил с вами по внешним приличиям. Отныне я служу истине. Имейте в виду, что теперь для меня никакие законы, кроме вечного, не писаны. Мне не нужны договоры – достаточно того, что мы близки. Я постараюсь заботиться о родителях, содержать свою семью, хранить супружескую верность одной жене – но все эти отношения я буду наполнять по-новому и беспрецедентно. Я апеллирую от ваших норм к самому себе. Я должен быть самим собой. Больше я не стану ломаться ради вас, ни ради тебя, ни ради тебя. Если вы сможете любить меня таким, как я есть, всем нам будет лучше; если нет – я всё равно буду стараться быть достойным вашей любви. Я не стану скрывать своих симпатий и отвращений. Буду верить, что глубина священна, что под солнцем и луной я вправе делать всё, что по-настоящему радует меня и велит мне сердце. Если ты благороден, я тебя буду любить; если нет, не стану обманывать нас обоих притворной лаской. Если ты искренен, но в другой правде, – держись своих товарищей, а я пойду к своим. И всё это я делаю не от эгоизма, а смиренно и честно. Так будет на пользу и тебе, и мне, и всем, как бы долго мы ни жили в обмане, нам пора жить в правде». – «Но ведь так ты огорчишь близких!» Да, возможно. Но я не могу продать им свою свободу и силу ради снисхождения к их чувствительности. Кроме того, у каждого из них наступают минуты, когда они тоже видят абсолютную истину. В такие мгновения они меня поймут и сами захотят сделать то же самое.
Толпа считает, что, отвергая её порядки, ты отвергаешь всякие правила и становишься антиномистом. А неистовый чувственник тут же прячется за слово «философия», чтобы оправдать свои пороки. Но закон сознания остаётся в силе. Существуют два «исповедальных места», в одном из которых нам придётся очиститься. Можно пройти круг обязанностей и оправдаться перед внешними людьми или перед совестью. Ты можешь проверить, доволен ли тобой отец, мать, кузен, сосед, горожанин, кот или пёс – есть ли им, что тебе упрекнуть? Но можно и пренебречь этой «зеркальной» оценкой и оправдать себя перед самим собой. У меня свои строгие требования и безупречный круг. Он отказывает многим поступкам в праве называться «долгом». Но если я сумею выполнить его веления, мне не нужно будет придерживаться народного кодекса. Если кто-то полагает, что этот закон «слишком мягок», пусть попробует исполнить его хотя бы день.
Конечно, человек, который отбросил обычные мотивы и решился полагаться лишь на себя, должен обладать в чём-то божественным. Пусть у него будет высокое сердце, верная воля и ясный взгляд, чтобы он мог, не притворяясь, быть сам себе и учением, и обществом, и законом, чтобы простая цель была для него столь же непреклонной, как для других железная необходимость.
Кто посмотрит на нынешнее состояние, которое мы привычно называем «обществом», увидит, как востребованы подобные принципы. Кажется, что у людей вынули и нервы, и сердце, и мы превратились в робких пессимистов. Боязнь правды, судьбы, смерти, боязнь друг друга. Наш век не даёт великих, цельных личностей. Мы ждём людей, которые обновят жизнь и общественный строй, но видим, что большинство неспособно удовлетворить даже собственные нужды, амбиции у них чрезмерны, а сил недостаёт, и они только день за днём просят или ищут подаяния. Наша домашняя жизнь, наши искусство, профессии, браки, религия – всё выбрано не нами, а за нас. Мы «солдаты» гостиной, избегаем суровых схваток с судьбой, где и рождается сила.
Наши юноши, едва потерпев первое поражение, тут же впадают в уныние. Если начинающий торговец разорится, говорят, что он «конченый человек». Если человек с тонким дарованием окончил колледж и за год не устроился на должность в Бостоне или Нью-Йорке, он и его друзья считают это крахом, и он имеет право на всю жизнь жаловаться. А какой-нибудь парнишка из Нью-Гэмпшира или Вермонта, который перепробовал и вождение грузов, и фермерство, и уличную торговлю, и учительство, и проповеди, и журналистику, и даже поработал конгрессменом, купил земельный участок, – всё это за разные годы, и всякий раз, как кошка, приземлялся на лапы, – он стоит сотни этих «кукольных» выпускников города. Он идёт вровень со своими днями и не стесняется отсутствием «профессии», ибо не откладывает жизнь на завтра, а живёт её прямо сейчас. У него не одна возможность, а сто. Пусть появится Стойкий, кто раскроет людям их внутренние ресурсы, скажет, что они не ивы, пригибающиеся к земле, а могут и должны выпрямиться; что, научившись полагаться на себя, они раскроют в себе новые способности; что человек есть живое Слово, призванное исцелять народы; что ему должно быть стыдно жалости к себе, и в тот миг, когда он поступает по-своему, вышвыривает законы, книги, идолов и традиции из окна, уже не нужно его жалеть, а следует ему благодарить и чтить. И такой учитель вернёт человеческую жизнь к сиянию, сделает его имя дорогим истории.
Нетрудно видеть, что усиление веры в себя произведёт революцию во всех областях – в религии, в образовании, в профессиях, в образе жизни, в объединениях, в собственности, в теоретических взглядах.
1.
Во что только люди не верят, особенно в молитве! Их так называемое «святое дело» не то чтобы храброе или даже достойное. Молитва обращена куда-то вовне, ища чего-то стороннего, и тонет в бесконечном хаосе природного и сверхъестественного, посреднического и чудесного. Молитва, просящая о какой-то конкретной милости – о чём-то меньшем, чем всеобщее благо, – порочна. Истинная молитва – это созерцание фактов бытия с высшей точки, монолог ликующей души, дух Божий, провозглашающий совершенство своих дел. Но молитва как инструмент достижения частного интереса – жалка и подла. Она подразумевает двойственность там, где есть единство природы и сознания. Лишь тогда, когда человек сольётся с Богом, он перестанет просить. Он увидит, что каждая работа пронизана молитвой: молитва фермера, опустившегося на колени в поле прополоть сорняки; молитва гребца, который синхронно с движением весла погружается в поток, – хотя и ради сиюминутных целей, но всё это молитвы, слышимые природой. В пьесе Флетчера «Бондука» герой Каратак, услышав совет узнать волю бога Аудата, отвечает:
«Его тайный замысел в наших поступках;
Наша доблесть – наши боги.»
Другая ложная молитва – это наши сожаления. Недовольство – признак того, что мы не верим в себя, слабость воли. Плачь о невзгодах, если ты сможешь этим помочь страдающему; если нет – занимайся своим делом, и беда уже начнёт отступать. Так же жалка наша «солидарность в сострадании»: приходим к плачущим, присоединяемся к их глупым слезам, вместо того чтобы встряхнуть их ударом правды и привести в контакт с собственным разумом. Секрет счастья кроется в том, чтобы радоваться делом. Человек, способный сам себе помочь, всегда будет желанен для богов и людей; перед ним все двери открыты, его встречают все языки и славят все почести, все глаза с завистью провожают. Мы любим и восхищаемся им, потому что он обходится без нашей любви и одобрения, напротив, он презирал наше неодобрение и шёл дальше своим путём. Боги любят его, потому что люди ненавидели. «К тому, кто упорно стремится к цели, – сказал Зороастр, – блаженные Бессмертные спешат навстречу».
Каковы молитвы человека, таковы и его убеждения: если первые – болезнь воли, вторые – болезнь ума. Люди, подобно глупым израильтянам, твердят: «Не говори с нами Бог, а то умрём. Говори лучше ты, говори кто-нибудь, и мы послушаемся». Везде я сталкиваюсь с тем, что мне мешают встретиться с Богом в моём ближнем, ведь тот запер двери своего храма и пересказывает лишь предания о Боге кого-то другого, или брата брата. Любой новый ум привносит новую классификацию. Если ум этот особенно силён, как у Локка, Лавуазье, Хаттона, Бентама, Фурье, то он навязывает свою систему другим, и вот – новое учение. Чем глубже мысль и чем больше фактов она охватывает и делает доступными ученикам, тем сильнее они довольны. Особенно очевидно это в доктринах и церквях: это тоже классификации могучих умов, интерпретировавших базовые идеи долга и связь человека с Высшим. Таковы кальвинизм, квакерство, сведенборгианство. Ученик испытывает восторг, подчиняя всю реальность новой терминологии, словно девочка, которая, изучив основы ботаники, видит, как мир вокруг преобразился. Некоторое время этот ученик ощущает прирост сил от созерцания учительской мысли. Но в негармоничных умах эта классификация обожествляется и превращается в цель, а не в быстро иссякающее средство, так что у них границы этой системы сливаются в глазах с границами вселенной, а звёзды небесных сводов мерещатся им висящими на арке, построенной их учителем. Им непонятно, как «чужаки» могут иметь право видеть и думать; они убеждены: «наверно, вы украли у нас этот свет». Они ещё не понимают, что свет, не загнанный в систему, неподатливый, в любой лачуге может вспыхнуть, хоть и в их собственной. Пусть пока щебечут, считая его своим. Если они честны и поступают хорошо, вскоре их уютный загончик окажется тесным и гнилым, он рухнет, а бессмертный свет снова будет, как в первое утро, юным и радостным, сияя бесчисленными гранями над всей вселенной.
2.
Недостаток культуры собственной души порождает суеверное почитание Путешествий – с их идолами: Италией, Англией, Египтом, которые так манят образованных американцев. Но Англия, Италия и Греция величественны в нашем воображении только потому, что те, кто их прославил, стояли на своём месте неколебимо, как ось земная. В мужские часы мы чувствуем, что наш долг – это и есть наше место. Душа не странница. Мудрец остаётся дома, и когда нужда или обязанность зовёт его в дальние края, он и там остаётся дома, и люди понимают, глядя на его лицо, что он прибыл как посланец мудрости и добродетели, как государь, а не как чужак или слуга.
Я не возражаю против кругосветных путешествий – для искусства, для науки, для благотворительности, при условии, что человек уже «обжит» дома и не бежит за рубеж в надежде найти там что-то большее, чем знает. Тот, кто путешествует ради развлечения или в поисках чего-то, чего при себе не имеет, уходит от самого себя и стареет, находясь среди «старых» вещей, даже будучи юным. В Фивах, в Пальмире, воля и разум его ветшают, как и те руины. Он таскает руины к руинам.
Путешествия – это рай для глупца. Первые же поездки показывают, что от перемены мест счастья не прибавляется. Дома я грезил, что в Неаполе или Риме утону в красоте и забуду свою тоску. Я собирал чемодан, прощался с друзьями, садился на корабль – и внезапно просыпался в Неаполе, где рядом со мной оказывался тот же жёсткий факт: унылое «я», столь же неумолимое и неизменное, от которого я бежал. Я брожу по Ватикану, дворцам, стараюсь «опьянеть» видами и впечатлениями – и не опьяняюсь. Мой «гигант» следует за мной повсюду.
3.
Но увлечение путешествиями – лишь симптом более глубокой болезни, поражающей умственную жизнь. Наш интеллект бродяжничает, а система воспитания поощряет эту беспокойность. Мы «уезжаем мысленно», даже если телу некуда деться. Мы подражаем другим – что это, как не «странствие ума»? Мы строим дома в чужом стиле, украшаем полки чужеземной утварью; наши взгляды, наши вкусы, наши способности тянутся к Прошлому и Далёкому. А ведь душа сама порождает искусства везде, где они расцветали. Художник искал свой образ в собственной голове, применяя свою мысль к делу и к условиям. Зачем нам повторять дорический или готический стиль? Красота, удобство, величие мысли и её самобытное выражение доступны и нам ничуть не меньше. Если американский зодчий будет с вдохновением и любовью изучать конкретное задание: наш климат, почву, продолжительность дня, нужды людей, особенности правления, – тогда он создаст такое здание, что удовлетворит всем этим требованиям, а заодно порадует вкус и чувство прекрасного.
Настаивай на своём, никогда не копируй. Свой собственный дар ты несёшь каждое мгновение, подпитывая его всем путём жизни, а «заимствованным» талантом другого человека ты владеешь лишь наполовину и временно. Никто, кроме Творца, не знает, в чём подлинное призвание человека, – до тех пор, пока он его не проявил. Кто бы мог «научить» Шекспира быть Шекспиром? Или наставить Франклина, Вашингтона, Бэкона, Ньютона? Любой великий человек – явление уникальное. Сципион был именно тем, чем не мог стать никто другой; Шекспира нельзя создать путём штудирования Шекспира. Делай то, что тебе назначено, и нет предела твоим надеждам и дерзаниям. Для тебя и сейчас существует столь же мощная и прекрасная форма выражения, как колоссальная резьба Фидия, как пирамиды египтян, как перо Моисея или Данте, – но это будет иная форма. Душа, богатая во всех аспектах, с тысячерассечённым языком, не станет себя повторять; но если ты слышишь, что говорили эти патриархи, уж конечно, ты можешь ответить им в том же регистре голоса, ведь ухо и язык – органы одного существа. Держись светлых и благородных областей жизни, слушай сердце, и ты сам воссоздашь первозданный мир заново.
4.
И вот – как в религии, образовании, искусстве мы смотрим наружу, так же мы поступаем и в общественных делах. Все хвалятся, что улучшают общество, а никто не меняется сам.
Общество не движется вперёд. Оно теряет на одном фланге столько же, сколько выигрывает на другом. Оно постоянно меняется: было варварским, стало цивилизованным, крестилось, разбогатело, увлеклось наукой, – но всё это не улучшение. За каждое приобретение мы чем-то жертвуем. Накопив новые умения, мы теряем врождённые инстинкты. Сравните благообразного, грамотного, мыслящего американца, у которого в кармане часы, карандаш и вексель, с голым туземцем из Новой Зеландии, владеющим дубиной, копьём, циновкой и одной двадцатой частью шалашика, – вы увидите: да, европеец приобрёл удобства, но утратил изначальную силу. Путешественники рассказывают, что если ударить дикаря топором, его рана через день-два затягивается, будто это удар по мягкой смоле, а европеец от этого же удара умирает.
Цивилизованный человек построил себе повозку, но потерял способность ходить пешком. Он держится на костылях, а не на собственных мышцах. У него дорогие швейцарские часы, но он не может ориентироваться по солнцу. Он обладает гринвичскими морскими таблицами, и, чувствуя, что при нужде их всегда поднимет, не знает ни одной звезды на небе. Он не различает солнцеворота, не знает толком даже равноденствия, и весь яркий годовой календарь не отзывается в его душе никаким «часовым механизмом». Его записные книжки ослабляют память, библиотеки перегружают остроумие, а страховые конторы словно бы увеличивают число несчастных случаев. Можно ли не усомниться, что машины не обременяют нас? Не утратили ли мы в изощрённости кое-что из энергии, а в христианстве, оформленном бюрократией и ритуалами, – кое-что от буйной первобытной добродетели? Каждый стойкий стоик был стоиком, а у нас, в христианском мире, где христианин?
Нравственный критерий не колеблется так же, как не меняется планка человеческого роста. Не бывало великих людей больше, чем было когда-то. Есть поразительное равенство между первыми и последними героями, и никакое наше «просвещённое» XIX столетие не в силах воспитать больше, чем те, о ком писал Плутарх за двадцать с лишним веков до нас. Человеческий род не совершенствуется во времени. Фокион, Сократ, Анаксагор, Диоген были велики, но они не создали «клана». Тот, кто и правда из их круга, не будет назван их именем, а станет самим собой и заодно основателем новой школы. Искусства и изобретения эпох – это лишь её наряд, и они не делают людей сильнее. Вред, нанесённый техническими «улучшениями», может перекрыть их пользу. Гудзон и Беринг совершили такие открытия, пользуясь простыми лодками, что восхитили Перри и Франклина, и те при всей роскоши научно-технических снаряжений не превзошли их. Галилей с одним «театральным» телескопом увидел более чудную картину звёзд, чем кто-либо после него. Колумб открыл Новый Свет на небольшом судне без палубы. Забавно видеть, как из употребления исчезают и гибнут те самые средства и приборы, которые ещё недавно были сенсационной гордостью. Великий гений возвращается к сути человека. Мы считали, что прогресс военной науки – один из триумфов, но Наполеон завоевал Европу с помощью бивуака, по сути вернувшись к «голой отваге» и отбросив все громоздкие приспособления. «Невозможно иметь идеальную армию, – сказал он Лас Казасу, – не отменив вооружений, складов, интендантов, обозов, до тех пор, пока, в подражание римским легионам, солдат не будет получать зерно, молоть его на ручной мельнице и печь себе хлеб сам.»
Общество – это волна. Волна движется вперёд, но вода, из которой она состоит, не поднимается с долины на гребень. Единство это лишь явление. Люди, составляющие нацию сегодня, завтра умрут вместе с их опытом.
И потому полагаться на Имущество (включая и доверие к государствам, которые его охраняют) означает не доверять самому себе. Люди столько времени смотрели «вовне», что привыкли считать религиозные, научные, гражданские институты стражами собственности, и любое посягательство на них вызывает у них ужас, словно это нападение на их добро. Они оценивают друг друга, исходя из того, что у кого есть, а не кто он есть. Но человек, обладающий культурой, начинает стыдиться своего имущества, проникшись новым почтением к собственной природе. Он особенно ненавидит то, что досталось случайно, – по наследству, даром или даже преступлением; оно представляется ему не настоящим владением, оно не укоренено в нём и лишь лежит без движения, пока никакая революция или вор не отнимет его. Зато то, чем человек становится, неизбежно переходит к нему, и всё, что он приобретает таким образом, – это «живая собственность», не зависящая от воли правителей, толпы, переворотов, огня, бури, банкротств. Она возрождается везде, где человек дышит. «Твоя доля жизни, – сказал халиф Али, – сама ищет тебя; будь спокоен и не ищи её». Из-за нашей зависимости от внешнего барахла мы так трепещем перед «числом». Политические партии собирают многолюдные съезды; чем больше собрание, чем громче возгласы «Делегация из Эссекса! Демократы из Нью-Гэмпшира! Виговцы из Мэна!» – тем более воодушевлённым чувствует себя молодой патриот. Также и реформаторы созывают конгрессы, голосуют, принимают резолюции толпой. А Бог не придёт к вам этим путём, ему угоден метод строго обратный. Лишь когда человек откажется от всякой внешней поддержки и останется в одиночестве, он становится сильным и способен превозмочь. С каждым, кто присоединится к его знамени, он, наоборот, становится слабее. Разве человек не лучше целого города? Не проси ничего у людей; в непрестанном круговороте всё исчезает, а ты один должен стать непоколебимой колонной, поддерживающей всё вокруг. Тот, кто знает, что сила – внутри, кто видит, что слаб, ибо ждал добра извне, и, осознав это, без колебаний отдаётся своей мысли, тот сразу выпрямляется, стоя ровно, обретает власть над телом и вершит чудеса, подобно тому, кто стоит на ногах, а не пытается стоять на голове.
Пусть всё то, что мы зовём Удачей, станет для тебя лишь материалом, а не игрой. Большинство людей азартно рискуют с ней: то выиграют всё, то потеряют всё, поскольку колесо её вращается. Ты же не принимай участия в этой игре, а заключи сделку с Причиной и Следствием – канцлерами Божьими. Пусть твоя Воля трудится и приобретает, и тогда тебе удастся сковать колесо Случая, сесть рядом без страха, наблюдая его обороты. Политическая победа, повышение арендной платы, выздоровление больного, возвращение отсутствующего друга или любой другой удачный случай поднимает тебе настроение, и ты считаешь, что впереди – хорошие дни. Не обманывайся. Ничто не принесёт тебе покоя, кроме тебя самого. Ничто не принесёт покоя, кроме торжества принципов.
Некоторые исследования о «Самостоятельности» Эмерсона
• Pattee, Fred L. «Critical Studies in American Literature. II. An Essay: Emerson’s Self-Reliance.» Chautauquan 30 (March 1900): 628—33.
• Klammer, Enno. «The Spiral Staircase in „Self-Reliance“.» Emerson Society Quarterly, no. 47 (II Quarter 1967): 81—83.
• Woodruff, Stuart. «Emerson’s „Self-Reliance“ and „Experience“: A Comparison.» Emerson Society Quarterly, no. 47 (II Quarter 1967): 48—50.
• Anderson, Quentin. The Imperial Self: An Essay in American Literary and Cultural History. New York: Alfred A. Knopf, 1971.
• Bottorf, William K. «„Whatever Inly Rejoices Me“: The Paradox of „Self-Reliance“.» ESQ 18 (IV Quarter 1972): 207—17.
• Bloom, Harold. «The Freshness of Transformation or Emerson on Influence.» In Levin, pp. 129—48.
• Bloom, Harold. «Emerson: The Self-Reliance of American Romancism.» In Figures of Capable Imagination, pp. 46—64. New York: Seabury Press, 1976.
• Ramaswamy, S. «Emerson: The Ambivalence of His Self-Reliance.» Literary Criterion 18 (1983): 98—107.
• Joswick, Thomas P. «The Conversion Drama of «Self-Reliance’: A Logological Study.» American Literature 55 (Dec. 1983): 507—524.
• Hughes, Gertrude Reif. Emerson’s Demanding Optimism. Baton Rouge: LSU P, 1984.
• Cavell, Stanley. «Being Odd, Getting Even: Threats to Individuality.» In Reconstructing Individualism, Thomas C. Heller ed., pp. 278—312, 350—351. Stanford: Stanford UP, 1986.
• Jacobson, David. «Vision’s Imperative: «Self-Reliance’ and the Command to See Things as They Are.» Studies in Romanticism 29 (Winter 1990): 555—570.
• Masur, Louis P. ««Age of the First Person Singular’: The Vocabulary of the Self in New England, 1780—1850.» Journal of American Studies 25 (Aug. 1991): 189—211.
• Hodder, Alan D. ««After a High Negative Way’: Emerson’s «Self-Reliance’ and the Rhetoric of Conversion.» Harvard Theological Review 84 (Oct 1991): 423—446.
• Harris, Kenneth Marc. «Emersonian Self-Reliance and Self-Deception Theory.» Philosophy and Literature 15 (Oct 1991): 286—294.
• Patell, Cyrus R. K. «Emersonian Strategies: Negative Liberty, Self-Reliance, and Democratic Individuality.» Nineteenth-Century Literature 48:4 (1994 Mar): 440—79.
• Kateb, George. Emerson and Self-Reliance. Thousand Oaks, CA: Sage P, 1995.
• Cavell, Stanley. «Betting Odd, Getting Even.» In Rosenheim, Shawn (ed.) & Rachman, Stephen (ed.). The American Face of Edgar Allan Poe, pp. 3—36. Baltimore, MD: Johns Hopkins UP, 1995.
• Stephenson, Will & Stephenson, Mimosa. «Emerson’s «Self-Reliance’.» Explicator 53:2 (1995 Winter): 81—82.
• Lyttle, David. «Emerson’s Transcendental Individualism.» CS 3 (1995): 89—103.
• Sloan, Gary. «Emerson’s «Self-Reliance’.» Explicator 55:1 (1996 Fall): 19—22.
• Mitchell, Verner D. «Emerson’s Self-Reliance.» Explicator 55:2 (1997 Winter): 79—80.
• Jin, Wenjun. «Cohesion and Emerson’s Prose Style.» L&L 21 (1996): 17—28.
• Vallins, David. «Self-Reliance: Individualism in Emerson and Coleridge.» Symbiosis: A Journal of Anglo-American Literary Relations 5:1 (2001 Apr): 51—68.
• Buell, Lawrence. «Emersonian Self-Reliance in Theory and Practice.» Глава 4 в книге Emerson. Cambridge: Belknap, 2003.
ВОЗДАЯНИЕ
Крылья Времени – чёрно-белые,
Пёстрые – сумраком и рассветом.
Горы высоки, океан глубок,
Но дрожащее равновесие всё удержит как должно.
В переменчивой луне, в приливе и отливе
Зреет вечная распря «Хочу – Имею».
Вселенский волшебный циркуль,
Электрическая звезда с огненным грифелем,
Меряет «больше» и «меньше» во всех пространствах.
Одинокая Земля среди мириадов сфер,
Кружится в безбрежных чертогах времени,
Словно лишний балласт, летит во мрак —
А может, добавочный астероид,
Или искра возмещения,
Пробивающаяся сквозь нейтральный Мрак.
Человек – могучий вяз, а Богатство – виноградная лоза:
Крепко, надёжно обвивают её усики —
И даже если хрупкие завитки обманут тебя,
Никому не вырвать ту лозу из самого корня.
Так что не трепещи, немощное дитя:
Ни один бог не осмелится обидеть и червяка.
Лавровые венки ложатся лишь на достойных,
И сила даётся тому, кто сам её являет.
Тебе не достаётся доли? Гляди, на крылатых ногах
Она уже мчится тебе навстречу;
И всё, что Природа заложила в твоё право,
Хоть витающее в воздухе, хоть скрытое в камне,
Проломит горы и переплывёт моря,
И, как твоя тень, неотступно пойдёт за тобой.
С юных лет я мечтал написать трактат о Воздаянии. Мне казалось, что в этой области сама жизнь опережает богословие, и люди давно знают больше, чем им внушают проповедники. Материалы, из которых вырастает данная доктрина, восхищали меня бесконечным разнообразием и всегда лежали перед глазами – даже во сне. Ведь они и есть наши орудия, наш повседневный хлеб, все дела улицы, поля и дома, все «приветствия» и «долги-кредиты», все, что связано с влиянием характера, природой и дарованиями людей. Мне казалось также, что через неё можно показать людям луч божественного света – действие мировой души здесь и сейчас, свободное от наслоений преданий, и тогда сердце человека окунётся в волны вечной любви, соприкоснувшись с тем, что, как он чувствует, было всегда и всегда будет, потому что реально существует сейчас. А ещё мне думалось, что если эту доктрину удастся изложить примерно в том сиянии интуиции, в каком она иногда нам открывается, то она станет для нас путеводной звездой во многих тёмных часах и извилистых дорогах, не давая сбиться с пути.
Недавно мои старые чаяния укрепились ещё сильнее, когда я услышал проповедь в церкви. Проповедник, известный своей правоверностью, разъяснял по привычной схеме учение о Страшном суде. Он исходил из того, что воздаяние не совершается на земле; что злые процветают, а добрые страдают; и делал вывод, опираясь на разум и Писание, что обеим сторонам всё воздастся, но уже в жизни будущей. Никто из прихожан не выказал неудовольствия этой доктриной. Когда служба закончилась, люди разошлись безо всякого обсуждения проповеди.
А что по сути значили его слова? Как понять заявление, будто добродетельные люди в настоящей жизни «несчастны»? Имеется в виду, что дома и земли, должности, вино и лошади, наряды и роскошь достаются беспринципным, а «святые» бедны и презираемы? И что в будущем им всё это компенсируют, даровав те же самые наслаждения – банковские акции, дублоны, дичь и шампанское? Выходит, именно в этом состоит воздаяние? А ведь что иное? Дадут ли им разрешение молиться и славить Бога? Служить людям и любить их? Но ведь всё это они и сейчас могут. Логично тогда ученик Евангелия рассудит: «Значит, у нас будет всё то веселье, что сейчас у грешников», или, доведя это до крайности: «Вы сейчас грешите, а мы погрешим потом; и мы бы грешили сейчас, да не умеем, зато отыграемся завтра».
Ошибку здесь сделали колоссальную: допущение, будто злой – «преуспевает», а правосудие сейчас не свершится. Слепота проповедника была в том, что он без спора принял низменные мерки успеха, навязанные миром, вместо того чтобы разоблачить их светом истины, объявить присутствие души и всемогущество воли, и тем самым указать, что есть истинное благо и что – ложь.
То же убогое настроение я встречаю в популярных религиозных книгах наших дней, и аналогичные идеи высказывают литераторы, когда невзначай затрагивают близкие темы. Думаю, что в «народном богословии» больше приличий, чем было в суевериях, которые оно вытеснило, но в сути не прибавилось. А между тем люди сами лучше этой теологии. Их повседневная жизнь ей противоречит. Каждый чистый и высокочувствующий человек опровергает церковные догмы собственным опытом; все люди время от времени чувствуют, что проповеданная схема ложна, хоть и не умеют это чётко выразить. Потому что люди мудрее, чем сами знают. То, что они слушают в школе и на проповедях без лишних мыслей, – услышь они то же самое в повседневном разговоре, им бы наверняка пришло в голову усомниться, пусть и молча. Если кто-то начнёт в смешанной компании говорить догматически о Провидении и божественных законах, ему ответят тишиной, которая, однако, ясно выдаёт неудовлетворённость слушателей, хотя они и не способны пока изложить собственную точку зрения.
В этой и последующей главе я хочу привести некоторые факты, указывающие на путь закона Воздаяния, и буду счастлив, если сумею хоть немного наметить дугу этого круга.
ПОЛЯРНОСТЬ, или «действие – противодействие», встречается повсюду: во тьме и свете, в жаре и холоде, в приливе и отливе, в мужском и женском, во вдохе и выдохе растений и животных, в равновесии количеств и качеств в жидкостях организма, в систоле и диастоле сердца, в волновом колебании жидкости и звука, в центробежной и центростремительной силе тяготения, в электричестве, гальванизме и химическом сродстве. Если на одном конце иглы навести магнетизм «юга», то на другом обязательно возникнет «север». Тут притягиваешь – там отталкиваешь. Если здесь опорожняешь, где-то уплотняешь. Неизбежный дуализм рассекает природу надвое, делая каждую вещь лишь половиной, требующей дополнения, чтобы стать целой: дух – материя, мужчина – женщина, нечёт – чёт, субъективное – объективное, внутреннее – внешнее, верх – низ, движение – покой, да – нет.
И если мир таков – двойствен, то и каждая его частица двойственна. В каждой крупице представлена вся система. Что-то напоминает прилив и отлив, день и ночь, мужчину и женщину даже в маленькой иголке сосны, в зёрнышке кукурузы, в любой особи из любого животного племени. Великое противодействие стихий повторяется и в этих узких пределах. Например, физиологи отмечают, что ни у одного существа нет «привилегий»: у каждой способности есть своя противовесная плата. Если одно качество у существа увеличено, то другое урезано. У кого выше шея, у того короче туловище.
Вот вам и механический принцип: выигрыш в силе оборачивается потерей во времени, и наоборот. Периодические, «компенсирующие» отклонения планет – ещё пример. Влияния климата и почвы в политической истории – тоже. Холодный край бодрит, а бесплодная почва не порождает ни болотных лихорадок, ни крокодилов, ни тигров со скорпионами.
Та же двойственность лежит в природе и условии человека. Каждый избыток ведёт к недостатку, каждый недостаток рождает избыток. Каждое сладкое имеет кислинку, каждое зло – долю добра. Всякая способность, способная дарить наслаждение, несёт себе равный штраф за злоупотребление. Её умеренность оплачивается самой жизнью. На каждую крупицу ума приходится крупица глупости. Всё, чего мы недополучили, даёт нам что-то взамен; и всё приобретённое заставляет что-то потерять. Если богатство растёт, умножается и число тех, кто его использует. Собиратель, кто складывает слишком много, теряет себя, ведь природа берёт у человека ровно то, что вложила в его сундук: она раздувает состояние, но губит его владельца. Природа не терпит монополий и исключений. Как морские волны стремятся выровняться, так и все условные неравенства тяготеют к нивелировке. Некая уравнительная сила всегда низводит надменных, сильных, богатых и удачливых на одну ступень с остальными. Если человек слишком свиреп и необуздан для общества, упрям и по своей сути дурной гражданин – мрачный грубиян, в котором есть что-то от пирата, – природа часто дарует ему целый выводок прелестных сыновей и дочек. Они пойдут в обычную деревенскую школу, а любовь и забота о них постепенно смягчают его дикость, преображая хмурое лицо в приветливое. Так природа выменивает «кабана» на «ягнёнка», удерживая баланс.
Фермер считает, что власть и положение – это чудесно. Но президент очень дорого платит за свой Белый дом: это обычно обходится ему во внутренний покой и лучшие мужские качества. Чтобы короткое время блистать перед миром, он готов унижаться перед истинными хозяевами, которые незримо стоят за троном. А может, кого-то манит «самое» величие – гений? И у него нет поблажек. Человек, что возвысился силой воли или мысли, стоит над тысячами, но платит за своё возвышение. При каждом новом приливе света его подстерегает опасность. Обрёл озарение – будь готов свидетельствовать в его пользу и идти дальше вперёд, вырываясь из круга сочувствия, которое прежде радовало, ибо ты остаёшься верен постоянному голосу души. Придётся «возненавидеть» отца и мать, жену и дитя. Есть у тебя всё, чем мир восхищается и что он жаждет? Придётся отринуть эти восторги, обидеть близких верностью своей истине и сделаться для них предметом насмешек и глума.
Этот закон вписан в кодексы городов и народов. Напрасно против него что-то строить и замышлять. Мир упорно сопротивляется неправильному управлению. Res nolunt diu male administrari – вещи не желают долго быть управляемы плохо. Пусть никакого противодействия злу пока не видно, но оно существует и рано или поздно проявится. Если правитель жесток, он сам не в безопасности. Слишком высокие налоги – и казна окажется пустой. Если ужесточить уголовный кодекс, присяжные откажутся выносить приговоры. Если закон слишком мягок, граждане будут мстить сами. Если в стране суровая демократия, то в ответ у рядовых граждан рождается избыток сил, и жизнь горит еще ярче. Подлинная жизнь и удовлетворение человека ускользают как от крайних тягот, так и от крайних удобств, обретаясь почти с равным равнодушием при всех переменах обстоятельств. При любом строе влияние характеров остаётся прежним – и в Османской империи, и в Новой Англии. А в Древнем Египте, при деспотах, история признаёт, что человек оставался настолько свободен, насколько достигла его культура.
Все эти явления указывают на то, что вся вселенная отражается в каждой её частице. В каждой вещи заложены все силы природы. Всё сотворено из одного таинственного вещества. Натуралист видит один и тот же «тип», скрытый за всеми метаморфозами, и рассматривает коня как «бегущего человека», рыбу как «плавающего человека», птицу – как «летающего человека», а дерево – как «укоренённого человека». Всякая новая форма не только повторяет общий характер типа, но и несёт ту же систему целей, препятствий и сил. Любое ремесло, занятие, искусство, сделка – это целый свод мироздания, соотносящийся со всеми прочими. Каждое – это эмблема человеческой жизни с её добром и злом, испытаниями, врагами, путем и концом. И каждая деятельность должна каким-то образом вместить в себя всего человека и пересказать всю его судьбу.
Целый мир заключён в капле росы. Даже самый сильный микроскоп не найдёт там микроба, который оказался бы «неполноценен» оттого, что он крохотный. У него есть глаза, уши, вкус, обоняние, движение, защита, аппетит и репродукция, тянущаяся к вечности – всё умещается в этом миниатюрном создании. Точно так же мы вкладываем всю свою жизнь в каждое наше действие. Подлинная доктрина вездесущия гласит: в каждом мхе и паутине Бог вновь появляется во всей своей целостности. Ценность мира изобретательно проецируется в любую точку. Где есть добро, там же заложено и зло; где связь, там и отталкивание; где сила, там и ограничение.
Так весь космос одушевлён. Всё носит моральную окраску. Душа, что внутри нас является чувством, вовне оборачивается законом. Мы вдыхаем её вдохновение, а глядя на историю, видим её неумолимую мощь. «Она в мире, и мир ею сотворён». Правосудие не откладывается на потом. Безупречное равновесие уравновешивает себя во всех измерениях жизни. Оi chusoi Dios aei enpiptousi – «кости Зевса» всегда подделаны так, чтобы выпадать справедливо. Мир похож на таблицу умножения или математическое уравнение, которое, как ни переверни, сведётся к балансу. Какой бы «числитель» ты ни взял, тебе вернётся ровно его истинная ценность, ни больше ни меньше. Любая тайна становится явной, любой порок наказывается, любая добродетель вознаграждается, всякая обида исправляется – без шума и неизбежно. То, что мы зовём «возмездием», – это всеобщая необходимость, скрепляющая проявление целого всякий раз, когда мы видим одну его часть. Если есть дым, должна быть и огонь. Увидел руку или ногу – знай, что за ней скрыт остальной организм.
Каждый поступок сам себя вознаграждает, или, иными словами, осуществляет себя в двоякой форме: во-первых, в самой сути (в реальности), а во-вторых, в сопутствующих обстоятельствах (в кажимости). Люди называют «обстоятельства» – воздаянием. Настоящее воздаяние лежит в самом деле и видимо душе. Воздаяние в обстоятельствах видимо рассудку – оно неотделимо от дела, но порой растягивается во времени и может не стать очевидным годами. Точные удары «розог» могут настигать нас через годы, но они лишь продолжение самого проступка. Преступление и кара вырастают из одного стебля. Наказание – это плод, зреющий внутри самого цветка удовольствия, что скрывал в себе семя расплаты. Причина и следствие, средство и цель, семя и плод неразделимы: ведь следствие уже расцветает в причине, результат существует в исходном действии, а плод – в семени.
Мир, таким образом, не желает делиться, а мы всё пытаемся действовать «частями», отрезать кусочек – скажем, ради чувственного наслаждения мы отделяем удовольствие от необходимых нравственных предписаний. Человеческая изобретательность издавна бьётся над одной задачей: как отсечь у «сладкого» его «мораль», у «сильного» – его «глубину», у «блистательного» – его «справедливость»; иначе говоря, как разрезать тонко-тонко верхний слой, чтобы там снизу осталась дыра. Как заполучить один конец, не получая другой. Душа говорит: «Ешь», тело жаждет пировать. Душа говорит: «Мужчина и женщина да будут одно плотью и одной душою», а телу мил «один только союз плоти». Душа говорит: «Властвуйте над всем, но во имя добродетели», а тело хочет владеть всем для своих похотей.
Душа стремится с разбегу жить и действовать во всём, быть единственной реальностью, к которой «прилагается всё остальное» – сила, наслаждение, знание, красота. А частный человек хочет быть кем-то заметным, выговорить себе некую частную выгоду, торговаться за пользу, скакать верхом, чтобы «всех перепрыгнуть», наряжаться, чтобы «взорвать» окружающих, есть – лишь чтобы «объедаться», управлять – чтобы «все видели». Люди мечтают о величии, желают должностей, богатства, власти и славы. Они полагают, что «быть великим» значит взять лишь сладкую сторону бытия, отбросив горькую.
Но это расщепление всегда обречено на провал. И доныне ни один прожектёр не преуспел в этом хоть немного. Разделённая вода сливается сзади нашей ладони. Стоит попытаться вырвать удовольствие из предмета, как оно исчезает; выгоду из «выгодного» – так тут же иссякает «прибыль»; силу из «могучего» – сила пропадает. Нельзя брать вещи пополам и получать чувственное благо отдельно, ровно так же, как нельзя получить «внутреннее» без «внешнего» или «свет» без «тени». Гони природу вилами, а она вернётся бегом.
Жизнь обросла неотъемлемыми условиями, от которых упрямцы стараются увернуться. Тот или иной хвастает, что они ему нипочём, что они его не касаются, – но это лишь на словах, а в его душе они живут. Если он и выворачивается в какой-то сфере, они ударят в другой, более уязвимой. Если ему удаётся обмануть форму и обличье, значит, он отверг саму жизнь и бежал от себя, и тогда «воздаяние» превращается для него в «мертвечину». Так очевидны и безнадёжны все попытки изъять «хорошее» без «налога» на него, что, казалось бы, никто бы их не предпринимал, – ведь это безумие. Но увы, заразившись желанием «побунтовать и отделиться», человек поражает и свой ум, так что он перестаёт видеть целостность Бога в каждом явлении, различает только чувственный соблазн, а не видит чувственного вреда. Ему чудится «русалочья голова», но не видно «драконьего хвоста». Он надеется отрезать кусок, который хочет, от того куска, которого не хочет. «О, сколь таинственен Ты, Господи, в безмолвных высях, рассыпая Своею неустанной волей карающую слепоту на тех, чьи желания безудержны!»
Человеческая душа хранит верность этим фактам в живописи притч, историй, законов, пословиц, будничных бесед. Она находит язык в литературе помимо воли автора. Так, греки назвали Зевса «Верховным Разумом», но приписав ему по преданию бесчестные деяния, невольно «компенсировали» разум, связав этому «нехорошему» богу руки. Он становится беспомощным, как король Англии. Прометей знает тайну, которую Зевс вынужден у него выкупать; у Афины своя тайна; свою собственную громовую силу Зевс взять не может: ключи от неё – у Минервы.
«Все боги, кроме меня, не ведают:
Как отпереть те засовы,
За которыми спят его громы».
(Эсхил)
Ясное признание, что во всём действует некий Всеобъемлющий, имеющий нравственную цель. Индийские мифы сходятся к таким же выводам. Кажется, невозможно выдумать сказание, которое бы не было глубоко нравственным. Аврора забыла попросить вечную молодость для любимого, и Тифон стал бессмертен, но состарился. Ахилл не был неуязвим до конца, ведь пятку, за которую его держала Фетида, священные воды не омыли. Зигфрид в «Песни о Нибелунгах» тоже не совсем бессмертен: лист, упавший ему на спину, когда он купался в крови дракона, оставил там смертное пятно. Видимо, всё устроено так. Словно в любую «красивую вольность» фантазии человека, решившего побезумствовать в мире поэзии и освободиться от старых законов, всё равно незаметно прокрадывается это мстительное условие, этот «откат», говорящий, что закон неотменим, что в природе нельзя ничего получить даром, всё приобретается за плату.
Такова древняя доктрина о Немезиде, которая смотрит за вселенной и не даёт безнаказанно совершать зло. Говорили, что Эринии сопровождают Правосудие и если бы солнце сбилось с пути, они наказали бы и его. Поэты рассказывали о некой «тайной связи» каменных стен, железных мечей и кожаных ремней с обидами, нанесёнными владельцам: пояс, который Гектору подарил Аякс, волочил героя за колесницей Ахилла; меч, который Гектор подарил Аяксу, стал тем клинком, на острие которого Аякс пал. Также они описывали, как на Тасосе был поставлен памятник победителю состязаний по имени Феаген; один из его завистников, приходя ночью, пытался опрокинуть статую, ударяя её снова и снова, пока та не рухнула и не раздавила насмерть самого злобного завистника.
В этом голосе притч действительно звучит божественное. Он исходит из глубины мысли, а не из волевого замысла писателя. Лучшее в каждом авторе – то, что не лично его, а идёт из природной сути, а не из избыточных выдумок. То, что, возможно, не сразу обнаружишь, изучая одного творца, но поймёшь, рассмотрев многих, – это и есть общая душа их всех. Мне интересен не столько Фидий, сколько «человек эллинского мира» той ранней эпохи. Хотя для удобства истории мы говорим о Фидии, но при глубоком анализе его имя и личность лишь затрудняют путь к высшей критике. Надо видеть, к чему человек «в целом» тянулся в эту пору, и как вмешивалась воля Фидия, Данте, Шекспира, через которых род людской тогда воплощал свои стремления.
Ещё сильнее эта мысль выражена в пословицах всех народов, которые всегда были «литературой разума» – абсолютной истиной без оговорок. Пословицы, как священные писания каждого народа, – святилища наших интуиций. То, что мир, прикованный к видимым формам, не позволит сказать напрямую, – он без возражений разрешит сказать пословицей. И этот «закон всех законов», отвергаемый с кафедры и в сенате, ежечасно провозглашается на рынках и в мастерских в виде туч пословиц, столь же верных и вездесущих, как птицы и мухи.
«Всё двоится, одно против другого.» – «Око за око», «Зуб за зуб», «Кровь за кровь», «Мера за меру», «Любовь за любовь», «Дай – и тебе дадут», «Тот, кто поит других, сам напьётся», «Что ты хочешь, Бог спрашивает: заплати и возьми», «Не рискнёшь – не выиграешь», «Ты получишь ровно столько, сколько сделал», «Кто не работает – пусть не ест», «Сидел на грехе – получай вдвойне», «Проклятия возвращаются на голову того, кто их произносит», «Если ты накинул цепь на шею раба, то другой конец цепи пристегнулся к твоей шее», «Дурной совет губит советчика», «Дьявол – осёл».
Так оно записано потому, что таков закон жизни. Наши поступки, даже вопреки нашему умыслу, выстраиваются по вселенской оси.
Человек не может говорить, не вынося себе суждения. Сознательно или нет, он рисует свой портрет перед слушателями каждым словом. Каждое мнение бьёт рикошетом в говорящего. Представьте, что это клубок ниток, брошенный в мишень, – только второй конец остаётся в мешке у самого метателя. Или, точнее, это гарпун, пущенный в кита. Он летит, сматывая верёвку с нашей лодки. Если гарпун плохо сделан или брошен неумело, он может перерезать рулевому тело пополам или потопить нас.
Ты не совершишь зла, не поплатившись за это. «Никто и никогда не гордился чем-то без вреда для себя», – сказал Бёрк. Человек, замкнувшийся в своём свете, не замечает, что сам отрезает себе путь к подлинной радости, пытаясь её присвоить. Религиозный фанатик, отвергающий «неправильных», не понимает, что сам себе захлопывает двери рая, стараясь не впустить туда других. Относись к людям как к пешкам или кеглям – и получишь ущерб сам. Исключишь их сердце – потеряешь собственное. Чувства хотят превратить любого, будь то женщина, ребёнок, бедняк, просто в «предмет». Просторечное: «Сдеру с него деньги, а нет – так шкуру» – на поверку мудро: ведь в глубине всё происходит по единому закону.
Любое нарушение любви и справедливости в наших взаимоотношениях быстро карается. Каратель – это страх. Пока я остаюсь с другим человеком в простых и честных отношениях, мне приятно его видеть. Мы сближаемся, как вода с водой или два потока воздуха, свободно смешиваясь. Но стоит лишь отойти от простоты и замыслить «половинчатость» – выгоду для меня, не совпадающую с его благом, сосед это почувствует и так же отстраняется: его глаза больше не ищут моих, между нами война: он проникается ненавистью, а меня терзает страх.
Все старые уродливые порядки в обществе, все несправедливые накопления власти и богатства наказываются тем же путём. Страх – мудрый советчик и вестник всяких переворотов. Он показывает, что там, где он появляется, есть гниль. Он – падальный ворон, и если ты ещё не понимаешь, над чем он кружит, знай, что там уже «смерть». Наши законы робки, наше имущество робко, образованные слои общества тоже робки. Веками страх насмехался и мертвенно каркал над властью и собственностью. Эта зловещая птица не вьётся без причины. Она указывает на великие беззакония, которые потребуют пересмотра.
Сюда же относится то предчувствие перемен, что возникает, как только мы перестаём действовать по собственной воле. «Жуткая тишина полудня безоблачного», «изумруд Поликрата», священный трепет удачи, а также инстинкт, побуждающий благородные души брать на себя суровые испытания вместо беспечного довольства, – всё это колебания весов справедливости в уме и сердце человека.
Люди, видавшие виды, знают, что лучше «расплачиваться по ходу». Иногда скупой расчёт обходится очень дорого. Заёмщик оказывается в долгу у самого себя. Что заработал человек, получивший сотню услуг и не отплативший ни одной? Что толку хитростью или ленью одалживать у соседа вещи, лошадей или деньги? В ту же минуту в этом договоре возникает признание: «одна сторона – в выигрыше, другая – в долгу», значит, «один выше, другой ниже». Это запечатлевается и в памяти должника, и в памяти кредитора. И всякая новая сделка меняет их взаимное положение. Скоро он поймёт, что лучше бы уж сломал себе кости, чем ездить в чужой карете, а «высшей платой за вещь может быть попросить её».
Мудрец распространит этот урок на все стороны жизни, понимая, что благоразумие требует отвечать любому, кто предъявляет к тебе законное требование, – временем ли, талантами или сердечной теплотой. Плати всегда, ведь рано или поздно придётся заплатить весь счёт целиком. Люди и события могут встать между тобой и справедливостью, но это лишь отсрочка. Всё равно твой долг тебя настигнет. И если у тебя есть ум, ты будешь бояться процветания, которое только нагрузит тебя ещё больше. Благо – цель природы. Но за каждое благо, которое мы получаем, взимается налог. Велик тот, кто раздаёт больше всего благ. А ничтожен (и это единственное истинное ничтожество во вселенной) тот, кто принимает милости и не отдаёт ничего. По естественному порядку мы редко можем вернуть благо именно тому, от кого получили, – зато мы обязаны вернуть его кому-то другому, так же, линия к линии, дело к делу, цент к центу. Берегись, чтобы хорошее не застаивалось у тебя в руках, иначе оно быстро протухнет. Скорее плати дальше, в каком-нибудь виде!
Тот же беспощадный закон надзирает за трудом. «Самая дешёвая работа обходится дороже всех» – говорят дальновидные. Когда мы покупаем веник, коврик, повозку или нож, по сути, мы покупаем умение применить здравый смысл к насущной задаче. Выгодно платить у себя за толкового садовника, или за здравый смысл, пущенный в садоводство; за умелого моряка – это здравый смысл в навигации; хорошая прислуга – это здравый смысл в кулинарии, шитье, домашней работе; твой агент – тот же здравый смысл в ведении счетов. Так мы множим своё присутствие, как бы расширяемся по своему владению. Но, ввиду двойственной природы вещей, здесь, как и в жизни, нет обмана. Вор обкрадывает самого себя. Мошенник обманывает самого себя. Ведь истинной ценой труда являются знание и добродетель, а богатство и репутация лишь знаки этого. Знаки, как бумажные деньги, могут быть сфальсифицированы или украдены, но вот их суть, то есть знание и добродетель, подделать или украсть нельзя. Эти цели труда не достижимы иначе, как через настоящие умственные усилия, предпринимаемые по чистым побуждениям. Ни шулер, ни вор, ни азартный игрок не выжмут тех знаний о материальной и нравственной природе, которые честный работник извлекает своими стараниями. Закон природы: «Сделай дело – и получишь силу», но кто дела не сделал, тот не получит и силы.
Весь человеческий труд, во всех формах – от заострённой палки до возведения города или написания эпоса, – подтверждает идею совершенной компенсации в мире. Абсолютный баланс «отдачи – принятия», доктрина о том, что всё имеет свою цену, и если эта цена не уплачена, то мы получаем не ту вещь, на которую рассчитывали, а нечто иное, да и нельзя ничего заполучить без платы, – столь же величественны, когда смотришь на бухгалтерские колонки в хозяйственных книгах, как и в законах света и тьмы, во всех взаимодействиях природы. Я не сомневаюсь, что высокие законы, которые человек видит в тех процессах, к которым он близок, строгая этика, что сверкает на лезвии его резца, вымеряется его отвесом и линейкой, проявляется и в магазине, и в истории народа, – всё это возвышает для него его ремесло, скрыто преображая его работу в его же глазах, хоть и редко называется по имени.
Союз добродетели с природой заставляет все вещи враждебно восставать против порока. Прекрасные законы и субстанции мира преследуют и бичуют предателя. Он видит, что всё в мире устроено ради истины и общего блага, а спрятаться негде. Соверши преступление – и земля сделается стеклянной. Соверши преступление – и словно белый покров снега укажет в лесу след каждой куропатки, лисы, белки или крота. Не отзовёшь произнесённого слова, не сотрёшь свой след, не уберёшь лестницу так, чтобы никто не проник. Фатальное свидетельство всегда всплывёт. Элементы природы – вода, снег, ветер, притяжение – станут карами для вора.
С другой стороны, этот же закон неотвратим и для дел праведных. Люби – и будешь любим. Всякая любовь справедлива, как две стороны алгебраического уравнения. Добрый человек обладает абсолютным добром: оно, подобно огню, всё преображает в свою природу. Никто не может причинить ему истинный вред. Наподобие царских армий, посланных против Наполеона, которые, увидев его, бросали знамёна и из врагов превращались в союзников, – все бедствия, вроде болезни, оскорбления или нищеты, становятся ему на пользу:
«Ветры дуют и воды катятся,
Принося храброму силу и божественность,
А сами по себе – ничто».
Даже слабость и недостатки другому становятся друзьями праведнику. Как никто не гордился чем-то без ущерба для себя, так никто не имел недостатков, которые не оказались бы где-то для него благом. Олень из басни хвалился своими рогами и ругал ноги, но когда пришёл охотник, именно ноги спасли его, а зацепившись рогами за кусты, он погиб. Каждый человек в своей жизни может поблагодарить и свои пороки. Кто не прочувствовал истину в борьбе против неё, тот не знает её до конца; кто не страдал от чужих талантов и не видел их торжества над собственными изъянами, тот не знает их силы. Если у кого-то такой нрав, что он не уживается в обществе, то ему придётся полагаться только на себя, научиться самоподдержке. И тогда он, словно раненая устрица, залатает раковину перламутром.
Сила наша возрастает из нашей слабости. Возмущение, которое призывает в нас тайные резервы, не пробуждается, пока мы не ужалены и не подверглись жёсткому нападению. Великий человек всегда готов быть «малым». Пока он сидит на «подушке достоинств», он засыпает. Но при нажиме, терзаниях и поражениях у него появляется шанс чему-то научиться, он пробуждает ум, человечность, берёт факты, узнаёт собственное невежество, избавляется от безумной самоуверенности, обретает здравую меру и реальное мастерство. Мудрец сам становится на сторону тех, кто обрушился на него. Ему это выгоднее, чем им, – найти своё слабое место. Рана заживает и отпадает, как мёртвая кожа, и когда враг радовался бы победе, оказывается, что человек пошёл дальше и уже неуязвим. Порицание безопаснее, чем похвала. Мне ненавистно, когда меня защищают в газете. Пока всё, что говорят, говорят против меня, я как бы уверен в успехе. Но стоит мне услышать сладостные слова похвалы, я чувствую себя беззащитным перед врагами. Вообще, всякое зло, которое нас не сломило, становится нашим благодетелем. Подобно дикарю с Гавайев, который верит, что сила и отвага убитого врага переходят к нему самому, мы приобретаем силу от каждого искушения, которое нам удалось отринуть.
Те же силы, что оберегают нас от бедствий, изъянов и вражды, защищают и от эгоизма и обмана – если мы хотим этого. Запоры и засовы – не лучшие наши охранные средства, и прозорливость в торговле не всегда признак истинной мудрости. Люди страдают всю жизнь от глупого суеверия, что их могут обмануть. Но мужчине (или женщине) невозможно быть обманутым никем, кроме самого себя, это все равно что «быть» и «не быть» в одно и то же время. Есть третий, молчаливый участник любой сделки: природа и душа вещей. Она берёт на себя гарантию исполнения каждого договора, так что честная услуга не останется без воздаяния. Если служишь неблагодарному хозяину – служи усерднее. Долг несёшь не ему, а Богу. Каждый твой удар будет оплачен. И чем дольше откладывается плата, тем лучше: ведь здесь проценты на проценты набегают согласно божественному «банковскому обычаю».
История гонений – это история попыток «обмануть природу», заставить воду течь вверх, свить верёвку из песка. Не имеет значения, много ли гонителей или один, будь то тиран или разъярённая толпа. Толпа – это сообщество, которое добровольно отказывается от разума, идя против его законов. Её время – ночь. Её деяния безумны, как и весь её строй. Она преследует принцип, хочет высечь саму Правду, намазать дёгтем и обвалять в перьях Справедливость, обрушивая огонь и бесчинство на дома и тела тех, кто ей носит эти качества. Она напоминает мальчишек, которые мчатся с пожарными шлангами тушить багровые сполохи северного сияния. Неуничтожимый дух лишь обращает злобу против самих гонителей. Мученика нельзя обесчестить. Каждый удар кнута оборачивается языком славы, каждая тюрьма – более сияющей обителью, каждая сожжённая книга или дом озаряет мир, каждое вычеркнутое и запрещённое слово гулко разносится по всей земле. Часы трезвости и размышления приходят к общинам, как и к людям, и тогда Истина выходит на свет, а мученики оправдываются.
Так всё вокруг проповедует относительную несущественность «внешних обстоятельств». Всё решает человек. Каждая вещь двустороння – в ней есть добро и зло. Любое благо несёт налог. Я учусь довольствоваться. Но учение о воздаянии – не учение о равнодушии. Бездумные, услышав такие доводы, скажут: «И зачем тогда быть хорошим? Всё равно в итоге всё одно: если я наживу что-то хорошее, я заплачу за это; если чего-то не получу, взамен обрету другое; значит, все действия равны?»
Но есть нечто более глубокое в душе, чем компенсация, – её собственная природа. Душа не замещает что-то иное, она живёт сама по себе. Она есть. Под всем этим бушующим морем обстоятельств, волны которого уравновешенно качаются вперёд-назад, скрывается изначальная бездна реального Бытия. Сущность, или Бог, – это не часть и не соотношение, а целое. Бытие – великое утверждение, исключающее отрицание, самодостаточное и поглощающее все соотношения, части и времена в себе самом. Природа, истина, добродетель – исходят из Него. Порок – это отсутствие и отдаление от Него. Ничто и Ложь могут выступать как великая Ночь или тень, на фоне которой живое мироздание проступает ярче, но сами по себе они не рождают фактов; не могут действовать, ибо не существуют. Они не могут содействовать добру или злу. Они и есть зло – в том смысле, что «хуже, чем быть» – «не быть вовсе».
Нам кажется, что зло в мире недополучает должной кары, потому что преступник упорствует в своём зле и не предстоит никакого суда на наших глазах. Нет громогласного опровержения его чуши перед людьми и ангелами. Значит ли, что он перехитрил закон? Раз он носит в себе злобу и ложь, он уже оторван от природы. Как-то это станет очевидным и для ума, но даже если мы не увидим, этот «убыль в жизни» уравновесит вечный счёт.
И нельзя сказать, что приобретение праведности обязательно оплачивается какой-то «утратой». Добродетель не влечёт штрафа, как и мудрость. Это прирост бытия. Совершая добрый поступок, я истинно существую. Я приращиваю мир; завоёвываю пустыни, отбитые у Хаоса и Ничто, и вижу, как тьма отступает к горизонту. Нельзя переусердствовать в любви, или в знании, или в красоте, если понимать их в чистом смысле. Душа не признаёт границ, утверждая всегда оптимизм, а не пессимизм.
Её жизнь – движение, а не остановка. Её инстинкт – это доверие. Мы говорим «больше» или «меньше» применительно к тому, насколько душа присутствует в человеке, а не к её отсутствию. Храбрец больше человек, чем трус; правдивый, милосердный, мудрый более человек, чем глупец и негодяй. Никакого «налога» на добро добродетели нет, ибо оно – само пришествие Божие, абсолютное бытие, без сравнений. Внешние блага облагаются налогом, и если они пришли без нашего труда и заслуг, то у них нет корня во мне, и первый же ветер их унесёт. Но все богатства природы принадлежат душе и доступны, если платить законной монетой – трудом, который признаёт сердце и ум. Я не хочу больше находить благо, которого не заслужил, например, не желаю наткнуться на кувшин с закопанным золотом, зная, что вместе с ним придёт груз новых забот. Не хочу «увеличивать» внешние дары – ни имущество, ни почёт, ни власть, ни людей, в услужении мне. Видимый выигрыш неизбежно оборачивается налогом. Но знания о том, что воздаяние существует, и что не стоит раскапывать сокровища, «налога» не требует. И в этом моё мирное и вечное радование. Я ограничиваю поле возможной беды. Я постигаю мудрость св. Бернара: «Ничто не может нанести мне вред, кроме меня самого; урон, который я несу, я ношу внутри, и по-настоящему страдаю лишь по собственной вине».
В самой сущности души заложено «возмещение» за неравенства судьбы. Главная трагедия природы кажется в различии «Больше» и «Меньше». Как «Меньше» не испытывать боли? Как не ненавидеть «Большее»? Глядя на тех, у кого способностей меньше, чувствуешь тоску и смущение, даже избегаешь их взгляда, страшась, что они упрекнут Бога. И что им остаётся делать? Несправедливо, подумаешь ты. Но если всмотреться ближе, эти «огромные различия» тают. Любовь их преодолевает, как солнце топит айсберг в море. Раз у всех одно сердце и душа, исчезает вражда «моё – твоё». Моё становится твоим, а твоё – моим. Я есть мой брат, а он – это я. Если мне кажется, что меня заслоняют и затмевают «более великие» соседи, я всё равно могу любить, могу принимать. И тот, кто любит, присваивает величие того, кого он любит. Так я открываю, что мой брат – мой опекун, действует в моих интересах, и то владение, которое я ему завидовал, на самом деле моё собственное. Душа всё приручает. Иисус и Шекспир – фрагменты моей души, и через любовь я покоряю и присоединяю их к своему сознательному царству. Его доблесть – разве не моя? Его остроумие – если я не могу им распорядиться, значит, оно и не остроумие вовсе.
Таким же естественным путём объясняется бедствие. Всякий крутой слом благоденствия – это сигнал к росту. Каждая душа вынуждена внутренней необходимостью покидать старую систему вещей – друзей, дом, обычаи, веру, как моллюск выползает из своей прекрасной, но тесной раковины, чтобы вырастить себе новую (ср. «Наутилус» Оливера Уэнделла Холмса). И чем активнее человек, тем чаще он переживает такие перевороты, а в самой счастливой голове они происходят непрестанно, так что все мирские связи висят на ней легко, словно прозрачная плёнка, сквозь которую видна сама живая сущность, а не то застывшее разнородное образование, в котором большинство из нас «застревают». Тогда возможны подлинные расширения личности, и человек сегодняшнего дня едва узнаёт себя вчерашнего. Так должна выглядеть внешняя биография: мы каждый день снимаем с себя отжившие обстоятельства, как меняем одежду. Но мы, погрузившиеся в бездействие и сопротивляющиеся божественному расширению, получаем этот рост через удары.
Мы не желаем расставаться с друзьями, не желаем отпускать наших «ангелов». Не видим, что они уходят, чтобы их место заняли архангелы. Мы – идолопоклонники прошлого. Не верим в богатство души, её вечность и вездесущность. Не верим, что и сегодня у неё есть сила, равная или превосходящая вчерашнюю красоту. Мы упорно остаёмся в развалинах старой палатки, где когда-то были хлеб, покров и органы чувств, и не хотим признать, что Дух способен снова питать, одевать и укреплять нас. Ничто уже не кажется нам таким милым, сладким и изящным, как прежде. И мы впустую сидим и плачем. Но голос Всемогущего говорит: «Вставай и иди вперёд, вечно!» Мы не можем застрять в развалинах, но и не решаемся опереться на новое, вот и бредём, оглядываясь назад, как чудовища, смотрящие в прошлое.
Однако компенсация трагедий становится ясна нашему уму тоже, но лишь по прошествии времени. Жар лихорадки, увечье, жёсткое разочарование, утрата богатства или друзей кажется в ту минуту необратимой гибелью. Но надёжные годы вскрывают глубокую целительную силу под этими фактами. Смерть близкого – друга, жены, брата, возлюбленного, что была лишь невосполнимой потерей, спустя время вырастает в образ проводника или гения, ибо она обычно приносит перевороты в нашем образе жизни, завершает отрочество или юность, давно требующие конца, срывает привычный уклад или дом, и прокладывает дорогу к новому, более благоприятному для духовного роста. Она принуждает к новым знакомствам, к принятию новых влияний, которые в следующие годы окажутся бесценными; и тот, кто мог остаться «парниковым цветком» без простора для корней и с лишним солнцем над головой, – когда стены рушатся, а садовник перестаёт ухаживать, – становится мощным баньяном в лесу, под чьей сенью и плодами находит приют много людей.
Некоторые исследования о «Воздаянии» Эмерсона
• Pommer, Henry F. «The Contents and Basis of Emerson’s Belief in Compensation.» PMLA 77 (June 1962): 248—53.
• Panek, Le Roy Lad. «Imagery and Emerson’s «Compensation’.» 18 (IV, 1962): 218—221.
• Lee, Roland F. «Emerson’s «Compensation’ as Argument and Art.» New England Quarterly 37 (Sept 1964): 291—305.
• Riepe, Dale. «Emerson and Indian Philosophy.» Journal of the History of Ideas 28 (Jan—March 1967): 115—22.
• Bottorff, William K. «„Compensation,“ Emerson’s Ebb and Flow.» American Studies [Taiwan] 9 (March 1979): 1—9.
• Hughes, Gertrude Reif. Emerson’s Demanding Optimism. Baton Rouge: LSU P, 1984.
• Lasch, Christopher. The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W. W. Norton, 1991.
• Jacobson, David. ««Compensation’: Exteriority Beyond the Spirit of Revenge.» ESQ 33 (II, 1987): 110—119.
• Larson, Kerry. «Justice to Emerson.» Raritan: A Quarterly Review 21:3 (2002 Winter): 46—67.
ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ
Живое Небо почтительно внимает твоим мольбам:
Дом и строитель в одном лице,
Оно отсекает у человека отвергнутые им часы
И воздвигает из них башни вечности,
Проекты, которыми правит лишь оно само,
Не страшится подкопа времени,
Только крепнет, уходя в руины,
И той таинственной мощью, что таится
В каждом ответном рывке,
Заставляет пламя леденеть, а лёд – кипеть,
И, сквозь мрачные оковы Зла,
Кует серебряный трон для Невинности.
Когда наше сознание совершает акт отражённой мысли – когда мы оборачиваемся к себе сквозь луч ума, мы видим, что вся наша жизнь погружена в красоту. Позади, по мере нашего движения, вещи принимают прелестные очертания, точно далёкие облака. И не только то, что мы привыкли считать привычным и неинтересным, но и трагическое и ужасное обретает своеобразное изящество, когда занимает своё место в картинах памяти. Берег реки, сорняк у воды, старый дом, смешной человек – насколько они казались ничтожны, когда мы проходили мимо, но в прошлом и для них находится своя грация. Даже мёртвое тело, которое лежало в комнатах, придаёт дому некую торжественную красоту. Душа отказывается признавать уродство или боль. Если бы в минуты ясного разума сказать самую суровую правду, то оказалось бы, что мы никогда ничего не жертвовали. В эти часы ум так велик, что отнять у нас можно лишь то, что кажется малостью. Любая потеря, любая боль – это частность; вселенная остаётся для сердца целой. Ни утомительные хлопоты, ни беды не умаляют нашей уверенности. Никто не рассказывает о своих печалях так легко, как мог бы. Даже самый терпеливый мученик не избежит преувеличения. Ведь все страдания и труды принадлежат «конечному», а «бесконечное» покоится безмятежно в улыбке.
Человек может сохранить чистоту и здоровье своего духовного бытия, если будет жить в ладу с природой и не станет загружать свой ум чуждыми ему трудностями. Никто не обязан теряться в умозрительных лабиринтах. Пусть он творит и говорит лишь то, что по праву принадлежит именно ему, и даже если он мало знает из книг, его собственная природа не поставит перед ним интеллектуальных тупиков. Молодые люди надрываются над богословскими вопросами: первородный грех, происхождение зла, предопределение и тому подобное. Но эти проблемы никогда не встают перед человеком на его жизненном пути – только если он сам не полез их искать. Это вроде «свинок», «кори» и «коклюша» души – тому, кто ими не переболел, не объяснить своего здоровья и не прописать лечение. Простой разум даже не узнает таких «врагов». Другое дело, уметь дать отчёт в своей вере, пересказать кому-то принцип своей «целостности» и свободы. На это нужны редкие дары. Однако и без подробного самоанализа в человеке может жить природная силу́шка и чистота. Нам вполне хватит «нескольких крепких инстинктов и нескольких ясных правил».
Моя воля никогда не расставляла образы в уме по тому чину, в каком они стоят сейчас. Формальный курс учёбы, все годы академической и профессиональной подготовки не дали мне более существенных фактов, чем те, что я случайно вычитал в «бесполезных» книгах на задней парте латинской школы. То, что мы не называем образованием, порой дороже того, что мы им называем. Когда мы воспринимаем новую мысль, мы не догадываемся о её истинном весе. А «система» часто растрачивает усилия, пытаясь мешать этому естественному «магнетизму» души, которая со стопроцентной точностью притягивает то, что ей «родственно».
Точно так же и наша нравственная природа искажается всяким вторжением воли. Люди представляют добродетель как усилие, хвалятся своими «достижениями» в ней; повсюду идут споры: если восхваляют возвышенную натуру, не лучше ли тот, кто преодолевает искушение трудным путём? Но это суета. Или Бог пребывает в человеке, или Его нет. Мы любим характеры пропорционально их импульсивности и естественности. Чем меньше человек задумывается или знает о своей добродетели, тем больше он нам по душе. Победы Тимолеона, говорит Плутарх, были самыми лучшими, потому что они «текли и лились», словно гекзаметры Гомера. Если мы видим душу, для которой каждая поступь царственна, изящна, радостна, как роза, нам остаётся лишь благодарить Бога, что такое возможно и существует, а не хмуриться на ангела и восклицать: «А вот у некоего Крампа „вся жизнь – борьба“ с армией собственных бесов, и он лучше, потому что хоть ворчит, но их побеждает».
Не менее очевидна ведущая роль природы над волей и в житейской практике. Мы приписываем истории куда больше «намерений», чем есть на самом деле. Нам кажется, что у Цезаря и Наполеона были хитроумные, прозорливые планы; но их основная сила была не в них самих, а в объективном течении природы. Люди поразительного успеха в минуту искренности всегда говорили: «Не нам, не нам». В соответствии с верой своей эпохи, они воздвигали алтари Фортуне, Судьбе или святому Иулиану. Их успех рождался от того, что их личные траектории шли в унисон с мировым потоком мысли, который, найдя в них незаблокированный канал, творил чудеса, кажущиеся делом их рук. Разве провода производят электричество? Иногда в них самого-то содержания меньше, чем в других людях – труба хороша, когда она гладкая и полая. То, что внешне кажется волевой неколебимостью, на деле оборачивается внутренним согласием и самоотречением. Мог ли Шекспир дать теорию самого себя? Мог ли человек с колоссальным математическим гением научить других проникать в его методы? Если бы он мог сообщить этот секрет, тотчас всё волшебство растаяло бы, слившись со светом дня и той «витальной энергией», что позволяет нам стоять и идти.
Из всего этого следует прозрачный урок: наша жизнь могла бы быть проще и легче, чем мы её делаем; мир мог бы быть счастливее, чем есть; нет необходимости в болезненных терзаниях, судорогах и отчаяниях, в заламывании рук и скрежете зубами; мы сами изобретаем себе беды. Мы мешаем прирождённому оптимизму мира; ведь когда мы оглядываемся назад или обращаемся к более мудрой голове, мы способны увидеть, что окружены законами, осуществляющимися сами собой.
То же внушает внешний лик природы. Ей не нужно, чтобы мы кипели страстями. Ей наше «благодеяние» и наша «учёность» не милее, чем наши «мошенничества» и «войны». Выйдешь из совещания политических фракций, банка, аболиционистской конференции, собрания трезвенников или клуба трансценденталистов, – и, попав в поля и рощи, услышишь, как природа говорит: «Такой жар в тебе, дружочек?»
Мы полны «механических» действий, неизменно вмешиваемся, всё пытаемся устроить «по-своему», отчего «жертвы» и «добродетели» общества становятся только отвратительнее. Любовь должна дарить радость, но наша «доброта» несчастна. Наши воскресные школы, церкви, богадельни – тяжёлые ярма. Мы мучаемся, чтобы никого не порадовать. Между тем существуют естественные пути к тем же целям, которых эти учреждения не достигают. Зачем всем добродетелям действовать одним-единственным способом? Зачем всем жертвовать доллары? Нелепо для деревенских людей, и мы не думаем, что выйдет толк. У нас нет долларов, у торговцев – есть, пусть они и жертвуют. Фермеры поделятся зерном, поэты споют, женщины пошьют, рабочие подставят плечо, дети принесут цветы. И зачем влачить этот мёртвый груз воскресной школы по всему христианскому миру? Природный и чудесный порядок – когда дети задают вопросы, а зрелые отвечают; и достаточно говорить тогда, когда спрашивают. Не нужно силой сажать молодых в скамьи и заставлять их час спрашивать против их же воли.
