Последний чекист
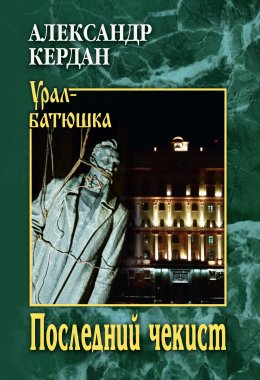
© Кердан А.Б., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Последний чекист
Бди!
Козьма Прутков
Глава первая
Вызрели на яблоне груша и апельсин.
«Такого не бывает!» – успел подумать Сазонов и проснулся.
Он открыл глаза, прислушался к ровному дыханию спящей жены, но вставать не стал – рано еще. Осторожно, чтобы не потревожить Татьяну, поглядел на светящиеся стрелки часов «Командирские», которые не снимал даже ложась спать. Стрелки показывали пять утра. Можно еще подремать чуток. Сазонов закрыл глаза, попытался уснуть. Не вышло – в голове крутился странный сон про яблоню с необычными плодами.
Чего-чего, а яблонь за свою жизнь Сазонов перевидал немало. Только в отцовском саду в родном селе Пузос росло сортов пять, а то и больше: и китайка, и белый налив, и антоновка, и боровинка, и анис полосатый… Саженец канадской мелбы привез из Львова и лично посадил в саду двоюродный брат отца Макар Григорьевич, майор КГБ, а в прошлом сотрудник легендарного НКВД и МГБ, гонявший по лесам и селам Западной Украины бандеровцев и прочих фашистских недобитков… Сазонов тогда только в школу пошел. Плоды у мелбы крупные, округло-вытянутые, желто-зеленые с красноватым румянцем, а мякоть – белая, сочная, нежная, отдает хорошо настоянной брагой. Как-то еще в младших классах вместе с другими пацанами Сазонов стащил бутыль у деда Василия и попробовал этот дурманящий напиток. Но мелба показалась гораздо вкуснее. А вот у соседки бабы Мани рос пепин шафранный, выведенный селекционером Мичуриным. И непонятно зачем лазали мальчишки к ней в сад за этой кислятиной, когда свои яблоки и слаще, и ароматней! Наверное, только ради приключений: перелезть через забор, тайком пробраться к соседке в сад, набрать за пазуху яблок и сделать ноги, не получив от бабы Мани жгучей крапивой…
Сазонов улыбнулся этим счастливым воспоминаниям. А память тут же унесла его в восемьдесят четвертый.
Он учился тогда на Высших курсах КГБ СССР в Алма-Ате, где даже воздух был пропитан насквозь ароматом апорта. Учебные корпуса и общежитие располагались в огромном яблоневом саду, который тщательно пестовал, привлекая всех свободных от занятий слушателей, начальник курсов генерал-лейтенант Василий Тарасович Шевченко. Старого генерала несколько лет назад с поста председателя КГБ Казахской ССР, не без помощи тогдашнего партийного босса Кунаева, почему-то сняли, но тут же доверили руководство курсами. И Шевченко на новом месте развернул самую бурную деятельность: построил общежитие, учебный корпус и полигон, заложил яблоневый сад. Он оказался прирожденным мичуринцем – росли в этом чекистском саду яблоки самых невиданных сортов. Но ни у генерала-садовода, ни у самого академика Мичурина никогда не получилось бы вырастить на яблоне грушу и апельсин.
«К чему же мне такое диво приснилось? – размышлял Сазонов. – Ну приснилось и приснилось: чекисту обращать внимание на всякую мистику, эзотерику и прочую хренотень вообще-то не положено… Хотя почему бы и нет: может быть, как раз и стоит настоящему чекисту обращать внимание и на эзотерику, и на мистику, и даже на упомянутую хренотень. Ибо во всякой хренотени какое-то рациональное зерно или малая толика этого зерна обязательно имеется. Особенно в такое времечко, в которое выпало теперь жить. Иначе с чего бы в Службе безопасности самого президента целый генерал медитациями и телепатией занимается, и весьма успешно, между прочим… Да, если уж генералы гороскопы составляют, за привидениями гоняются, паранормальные явления ищут, то нам, простым смертным, сам Бог велел!»
На этом оптимистичном выводе Сазонов еще раз попытался заснуть, и тут неожиданно пришла разгадка сновидению: «Да это ж про нашу Контору Глубокого Бурения, и метаморфозы с нею». Только за время его службы секретное ведомство страны переименовывали столько раз, что сами сотрудники путались в наименованиях.
Эта катавасия с самой закрытой организацией Советского Союза началась шестого мая девяносто первого года, когда Ельцин убедил председателя КГБ СССР Крючкова в необходимости образования КГБ РСФСР. И КГБ в КГБ был образован. У председателя российского КГБ генерала Иваненко долгое время не было ни штата, ни нужного числа сотрудников, но его кадровик активно агитировал коллег из общесоюзной Конторы переходить к ним и многих с пути истинного если и не сбил, то серьезно поколебал…
Преобразование Конторы продолжилось уже после августовского неудачного путча. Путч этот, как вскоре выяснилось, никаким путчем не являлся, но оказался одним из главных гвоздей, забитых в крышку гроба уже дышащего на ладан, но еще живого СССР! Победивший в августовском противостоянии Ельцин тут же издал указ о приостановлении деятельности коммунистической партии, благодаря которой и совершил свою головокружительную карьеру от инженера-строителя до первого секретаря Московского городского комитета КПСС.
В ночь с 22 на 23 августа 1991 года толпа его сторонников снесла с постамента памятник первому чекисту, железному Феликсу – символу Лубянки, а 22 октября двурушник Горбачев, справедливо заслуживший в народе кличку «Мишка-меченый», подписал Постановление Госсовета СССР, по которому на месте единого КГБ Советского Союза образовались три самостоятельных учреждения: Межреспубликанская служба безопасности СССР, Центр службы разведки СССР и Комитет по охране государственной границы. И хотя Контора в тот момент вроде бы устояла, но перестала быть монолитом. Опытные аналитики ведомства уже тогда прогнозировали, что одной внешней атрибутикой дело не ограничится – упразднение руководящей роли партии в советском обществе и раскол единого КГБ – это шаги к полному развалу системы безопасности и правопорядка, и, значит, прямой путь к скорому краху самого Советского Союза…
Сазонов именно в ту пору и начал забрасывать руководство Управления Особых отделов КГБ СССР по Внутренним войскам, где он служил, рапортами с просьбой перевести в ГУБОП – Главное управление по борьбе с оргпреступностью.
Коллеги отговаривали: «В такие времена лучше не рыпаться, а держаться за насиженное место». Место у Сазонова и правда было неплохим – он служил старшим оперуполномоченным отдела кадров… Но Сазонов рвался на «землю», хотел заниматься не штабной, а настоящей оперативной работой. Рвался, рвался и вырвался под очередной Указ…
19 декабря 1991 года, в самый канун главного чекистского праздника и в день особых отделов, его наконец перевели старшим оперативным работником в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Агентства Федеральной безопасности России (АФБ) – так КГБ РСФСР стал именоваться с некоторых пор. И в этот же день на Лубянке зачитали Указ Ельцина «Об упразднении МСБ СССР и создании Министерства безопасности и внутренних дел РФ (МБВД)».
Это «чудище обло, озорно и лаяй» одним махом объединило «Младших Внуков Дзержинского» из МВД и «Старших братьев» из КГБ. Видимо, именно этот «монстр» МБВД и приснился сегодня Сазонову в виде раскоряченной яблони с вызревшими на ней грушей и апельсином. Это соединение несоединимого – контролирующих и подконтрольных, надзирающих и проверяемых – и вызвало у него полное ощущение нереальности происходящего.
И на Лубянке, и на Житной, где располагалось МВД, восприняли тогда новость без энтузиазма. Новые коллеги Сазонова невесело шутили: «Теперь нам кроме плаща и кинжала выдадут еще и милицейские свистки». Ну, до свистков дело, конечно, не дошло, а вот путаницы и неразберихи в работе новоявленного «монстра» было так много, что он не просуществовал и одного месяца. 14 января 1992-го решением Конституционного суда Российской Федерации объединение было признано незаконным, и через десять дней появился новый Указ Первого лица об образовании Министерства безопасности России на базе АФБ.
Все эти преобразования и переименования происходили так стремительно, что управление кадров Конторы не успевало менять удостоверения личности сотрудников. Дело доходило до курьезов.
Четвертый отдел, где служил Сазонов, поехал на задержание бандитов из «чеченского криминального сообщества». Случилось это еще при бывшем начальнике отдела, офицере не робкого десятка и любителе шашкой помахать, самому впереди всех на задержание ломануться и весь отдел за собой увлечь, хотя для таких операций специально обученные силовые группы существуют. Впрочем, в тот памятный раз они и силовиков вызвали, и сами пистолетами обвешались, как ковбои из вестернов (хотя с оружием и так не расставались никогда!), и «броники» на себя напялили, и затрещавшие по швам куртки и плащи поверх надели, и двинули прямиком в элитную еще с советских времен гостиницу «Украина».
Швейцар в ливрее, очевидно, из БС – бывших сотрудников, на красные корочки отреагировал правильно, мгновенно пропустил их в помпезный вестибюль и лишних вопросов задавать не стал. А вот барышня-администратор навалилась высоким бюстом на стойку регистрации, называемую на западный манер – «рецепшн», и на требование дать ключи от номера 509, в котором, по сведениям «наружки», находились упомянутые «злодеи», строго потребовала документы и ордер на обыск и стала изучать их с въедливостью опытной сотрудницы прокуратуры.
– Ключи от номера я вам не дам, – возвращая документы, довольно дерзко заявила она, хлопая огромными, как у Мальвины, накладными ресницами.
– Это почему? – наглость администраторши обескураживала.
– А у вас документы недействительные…
– Как это недействительные? – возмутился бывший начальник. Он был выходцем из особистов знаменитой дивизии имени Дзержинского и не привык, чтобы всякие «мальвины» с ним так разговаривали.
Администраторша надула ярко накрашенные губы:
– Ну, посмотрите сами. Постановление на обыск – на бланке Министерства безопасности, печать на нем – Агентства федеральной безопасности. А у вас лично – удостоверение несуществующего КГБ! Вы, господа, сами-то понимаете, кто вы, откуда и зачем? Будьте добры немедленно покинуть гостиницу, иначе я вызову службу безопасности… – она потянулась к телефону, но Серега Нефедьев, могучий, как атланты, что держат небо на каменных плечах, нежно положил на ее руку свою тяжелую длань, а бывший начальник (тогда еще не бывший, а вполне себе действующий) вежливо, но твердо повторил:
– Ключи от номера и пройдемте с нами, гражданочка…
– Да никуда я с вами не пойду! Вы – самозванцы! – взвизгнула администраторша, вырывая руку. – Да вы хоть знаете, кто там живет?! Да у него охраны десять мордоворотов, таких, как ваш… – гневно зыркнула она на Нефедьева.
– А мы вот с вами туда сейчас пройдем и посмотрим на эту охрану… – Нефедьев шагнул за стойку, обхватил администраторшу за оплывающую жирком талию и развернул лицом в нужном направлении.
Всей группой они двинулись к лифту. Администраторша еще вяло упиралась и тихонько повизгивала, и только на пятом этаже, когда рядом с лифтом увидела бойцов из группы «Альфа», экипированных, как пришельцы с другой планеты, она несколько успокоилась и сумела безо всякого ущерба для собственного здоровья выполнить отведенную роль – коротко постучать в нужную дверь и попросить открыть ее для обслуживания номера…
С помощью «Альфы» Сазонов с коллегами быстро «упаковали» не успевших ничего сообразить чеченцев и вызвали в гостиницу коллег из МУРа – для транспортировки задержанных в СИЗО. С МУРовцами бывший начальник хорошо ладил: доблестная милиция никогда не отказывала в помощи, ибо и самим галочка шла в строку, да и «старшим братьям» оказанная вовремя помощь непременно когда-нибудь зачтется. Устройство задержанных в камеры, сдача вещдоков – процедура непростая. Милиционеры с ней справлялись куда быстрее, чем чекисты, и грех было этим не воспользоваться.
В номере честь по чести, с понятыми и составлением протокола, провели обыск. Отправили злодеев на нары. Во время обыска наткнулись на бар с баррикадой невиданных заморских напитков и не удержались: со старшим из ментов – майором – хорошо вмазали по случаю реализации. Посиделки затянулись. Домой ехать было уже поздно, да и бессмысленно: пока доберешься, уже рассвет. Как были в бронежилетах и при оружии, завалились на роскошные гостиничные диваны… И пока еще не захрапели, изрядно выпивший милицейский майор вдруг заныл:
– Ну вот мы же с вами недавно одной-единой конторой были. Вы вроде бы мужики порядочные, я лично ничего против вас не имею, но скажите, зачем вы мою жену вербуете?.. Хотите, чтобы на меня стучала?..
– Да нет, мы про тебя и так все знаем!
– Тогда и от жены моей отвяжитесь…
– Да ты что – с дуба рухнул? Кто она такая, твоя жена, чтобы мы ее вербовали!
– Она бизнес открыла… Туристов российских в загранку отправляет!
– Ну и что с того?
– Да вот повадился к ней один из ваших… Склонял к сотрудничеству…
– Ну, склонял – еще не значит, что склонил, – хмыкнул Сазонов. – А скажи-ка, друг любезный, твоя жена туристов перестала отправлять после подходов к ней, как ты выразился, нашего сотрудника?
– Нет, отправляет по-прежнему…
– Значит, спи спокойно. Никто твою жену не завербовал!..
Утром этот майор с бодуна никак не хотел просыпаться, стали его расталкивать, а он – ни в какую, тут Нефедьев и заорал благим матом:
– Подъем, мент, такой разэтакий! Просыпайся! Не позорь жену – агента службы безопасности!..
Над ухом Сазонова резко зазвенел будильник, напоминая, что у нового дня новые заботы. Останавливая назойливую трель, Сазонов нажал на кнопку и тяжело прошлепал в ванную.
Пока он мылся, брился, одевался, поднялись домочадцы: жена и дети – старшая Леночка и младший Денис.
Заспанная дочь чмокнула его в щеку и ушла в свою комнату досыпать – она училась во вторую смену, а Татьяна, собирая третьеклассника Дениса в школу, спросила:
– Доведешь?
– Прости, уже не успеваю… Да и что его отводить? Школа – в трех шагах. Денис у нас уже взрослый мужчина, сам дойдет… Правда, сын?
«Взрослый мужчина» кивнул:
– Угу, – и спросил: – Папуль, а в воскресение в зоопарк пойдем? Ты уже давно мне обещал…
Надевая реглан – кожаную куртку, подаренную знакомым вертолетчиком, Сазонов улыбнулся:
– Конечно, сынуля, обязательно сходим, – при этом он успел поймать себя на мысли, что, если бы Дениска знал, в каком «зверинце» ему приходится каждый день работать, наверное, лучше бы в московский планетарий сходить предложил.
Татьяна расценила его улыбку по-своему и неожиданно взорвалась:
– Ты бы хоть сыну не врал! Только все обещаешь… А самого месяцами дома не видим… Вчера вот опять за полночь явился, и амбре такое, как будто сутки пил, не просыхая… Что это за служба такая? Каждый день – одно и то же! И что на этот раз? Успешная поимка очередного шпиона, новое звание сослуживца или снова чей-то день рождения?
Сазонов попытался приобнять жену: ну, не при ребенке же выяснять отношения…
Но она отстранилась и, подтолкнув Дениса к кухне, мол, иди завтракать, продолжала выстреливать в лицо Сазонову злым полушепотом:
– В доме лишнего рубля нет, а на пьянку где-то деньги ты находишь… Лучше бы о нас подумал, о своей семье… У Ленки вон выпускной скоро, ей платье нужно. Дениска ходит в пальто, из которого давно вырос. Я уже про свои демисезонные сапоги просто молчу: каблуки все стоптались – глядеть стыдно…
Сазонов, не дослушав жену, вышел из квартиры, плотно закрыв за собой дверь.
Из подъезда новопеределкинской многоэтажки Сазонов вышагнул в раннее, необычно холодное майское утро. Птиц не было слышно, на зеленой траве – иней, изо рта – пар. А ведь уже двадцать второе число! Значит, пришли «черемуховые» или Николины холода. Он вдохнул полной грудью стылый воздух и как будто впрямь уловил запах черемухи.
«Хорошо, что реглан надел», – похвалил себя Сазонов и направился к безлюдной автобусной остановке: основной поток пассажиров здесь появится минут через тридцать. Этим Сазонов обычно и пользовался, чтобы добраться до метро пораньше и избежать там утренней толкучки.
За несколько лет службы в столице он приноровился, понял, что в суетливой московской жизни побеждает тот, кто на полголовы обгоняет толпу. Коренной москвич экономит каждое мгновение: знает, в какую дверь автобуса зайти, чтобы у ближайшей станции метро очутиться первым, в какой вагон необходимо сесть, чтобы на станциях пересадок оказаться поближе к нужному переходу, как двигаться в потоке людей, чтобы тебя не смяли и не сбили с темпа… Обязательно учитывается, из какого вагона лучше выйти на станции назначения, чтобы, обгоняя остальных, метнуться к эскалатору и подняться наверх, не простаивая длинную очередь внизу. Эти малые мгновения, складываясь на протяжении дня в минуты, а то и в часы, экономили массу сил, а значит и жизненной энергии, которой столичное людское скопище, как некое мистическое тысячеглавое чудище, питается. И этот вампиризм толпы, безо всякой мистики, вполне реально ощущал на себе Сазонов.
Вот и теперь на остановке, поеживаясь и ожидая, какой из двух проходящих здесь автобусов подойдет первым, он заранее прикинул, как поедет в каждом из возможных вариантов, где сядет, где перебежит, экономя пресловутую жизненную энергию, которая ему сегодня еще ой как понадобится.
Первым подошел практически пустой восемьсот десятый.
«Значит, поеду до проспекта Вернадского, а там по красной линии до самой Лубянки…» – входя в салон, определился он с маршрутом. Сунув под нос сонному кондуктору «мурку» – удостоверение сотрудника МУРа – один из имевшихся у него документов прикрытия, который к тому же еще давал право бесплатного проезда в общественном транспорте, Сазонов плюхнулся на свободное место в конце салона и уставился в окно.
Дорога до службы занимала полтора часа, что по московским меркам не так много. Но и это время Сазонов пытался использовать рационально. Сидя в автобусе и в поезде метрополитена, по оперативной привычке не выпуская из внимания переднюю и заднюю полусферы, он мог себе позволить думать обо всем, что душе угодно. Как правило, «дорожные мысли» были о службе, о том, что предстоит сделать с утра пораньше, а что потом… Такое планирование – сержантский навык, усвоенный еще со срочной службы и закрепленный в военном училище, где четыре года он был замкомвзвода курсантов, – сегодня как-то не пошло впрок. В голове Сазонова, как бы ни хотелось их сразу забыть, крутились в общем-то справедливые и оттого еще более обидные слова жены про безденежье и службу – без выходных и проходных.
«Права, конечно, Татьяна: мало бываю я дома и ей с детьми внимания почти не уделяю…» – запоздало согласился он с женой.
Во рту было сухо. Вчера с новыми коллегами из нового отдела, где служит Сазонов с прошлого года, в самом деле слегка усугубили по поводу: практически завершили дело «оборотней». И новый начальник Сазонова – Виктор Леонардович, курирующий его нынешний отдел в переименованном в очередной раз старом управлении, сказал, что теперь можно готовить дело к передаче в суд и даже пообещал Сазонова, как разработчика операции, к госнаграде представить. «Ну, представит или нет – это еще бабушка надвое сказала, но нечастая похвала начальника сама по себе стоила того, чтобы пропустить стопарик-другой в доброй компании… Вот и пропустили… Только в одном Татьяна не права: никаких семейных денег он не пропивал. Невозможно пропить то, чего нет! Вот и вчера глушили с ребятами спирт, который от чистого сердца и по доброй памяти подогнали земляки из Петровского спиртзавода. Закусывали яблочками из родительского сада и пирожками из буфета – их взяли вскладчину… Скромно, но душевно посидели прямо в служебном кабинете… Зажевали зернами кофе спиртовой выхлоп – и по домам. Хорошо еще, что догадался сегодня с утра водички не попить! А то спирт – штука коварная: вода на старые дрожжи попадет – и снова захмелел!» И еще подумал Сазонов в связи с этими, не шуршащими в его карманах дензнаками о том, сколько раз ему за постсоветские годы приходилось в руках держать изъятые на разных обысках упаковки, а то и мешки с валютой и с родными «деревянными» – в крупных и мелких купюрах. И ничего ведь к рукам не прилипло, и главное – мысли ни о чем таком ни разу не возникло – так крепко вошел в плоть и кровь наказ про чистые руки, горячее сердце и холодную голову, данный незабвенным Феликсом Эдмундовичем советским чекистам…
В новый отдел, под крыло к новому начальнику, перешел Сазонов не только потому, что здесь предложили подполковничью должность – он майором все положенные сроки уже года два как перехаживал, а скорее оттого, что надоело уже до чертиков гоняться по Москве за качками в малиновых пиджаках с золотыми цепями на бычьих шеях, и замаячила впереди настоящая чекистская деятельность в управлении по борьбе с контрабандой и коррупцией.
Поманил его тогда новый начальник «активными мероприятиями» по реальному противнику, тому самому забугорному «мистеру Ланкастеру», о котором пел когда-то Высоцкий, ибо Сазонову обрыдло уже на упреки руководства, дескать, мало результатов в работе, дерзко отвечать:
– Дайте мне, Виктор Леонардович, двух штатных понятых, и я вам каждый час буду спекулянтов и их бандитскую «крышу» прямо к кабинету доставлять… Вон их сколько в Москве толчется… А нам надо настоящей коррупцией заниматься! Ее на рынке среди утлых старушек и бандюганов не найдешь… Коррупция – в элитных банях и ресторанах, в министерских апартаментах и высоких начальственных кабинетах прописалась. Она с иностранными фирмами и холдингами связана, от которых тянутся щупальца к иноземным спецслужбам.
Да, переходя в новое управление, повелся Сазонов на то, что «активные мероприятия» – это вербовки, подставы, разработки, комбинации, что, наконец, он, как настоящий контрразведчик, будет заниматься безопасностью государства и доберется до иностранных советников и специалистов, среди которых немало штатных сотрудников ЦРУ. Эти новоявленные «партнеры» проникли в органы государственной власти и с ее же разрешения и при ее попустительстве чувствуют себя сейчас в правительстве России и даже в администрации Первого лица страны вольготнее, чем в родном Лэнгли… Да и как им себя вольготно не чувствовать, если считают они российское правительство уже колониальным, а Центробанк России – филиалом МВФ!..
Словом, поверил Сазонов, что Контора еще способна творимый в России своими и чужими беспредел если не прекратить, то хотя бы приостановить… Наивный! Едва только подал он новому начальнику Виктору Леонардовичу план оперативной разработки, в котором один из таких забугорных советников косвенно упоминался, как замахал на него руками новый начальник и даже отпрянул в сторону:
– Ты что, ты что, Михаил Иванович! Не лезь туда и из головы выбрось всякие подобные мысли! Не нашего это с тобой ума дело… Тут большая политика замешана…
– А что нашего ума дело? – включил «простака» Сазонов.
– А вот это! – не заметил скрытой иронии новый начальник и сунул в руки Сазонова дело «оборотней».
Дело еще – и не дело вовсе, а так, несколько листочков с оперативной информацией, из которой следует, что в Шереметьево группа сотрудников аэропорта и какие-то сержанты милиции занимаются контрабандой.
«Вот так опустил: со шпиона в министерстве на сержанта-мента… Все, как в учебнике по оперативной работе – переключение внимания на негодный объект», – подумал Сазонов и вопросительно посмотрел на нового начальника:
– Виктор Леонардович, ну нам же по статусу с коррупцией бороться надо, а не с сержантами… Какие из них коррупционеры? Это ж мелочь пузатая…
– А ты сядь и подумай! Коррупционеры – не коррупционеры, а контрабанда налицо… Наше управление как называется? Правильно – коррупции и контрабанды! Ну, что ты стоишь? Иди, работай!
Сазонов хотел было переспросить: так садиться ему и думать или идти и работать, но понял, что новый начальник подобного юмора не поймет, что принцип «стой там – иди сюда» в центральном аппарате столь же всесилен, как и в пехотной роте. Он сказал: «Есть!» – и поехал в Шереметьево, чтобы «определиться на местности», как учил его первый наставник в чекистском ремесле, старший оперуполномоченный майор Морозкин…
В аэропорту, в этом краю «непуганых дураков», как сразу окрестил Шереметьево Сазонов, обстановка для оперативной работы была самая благоприятная – целая куча потенциальных помощников из самых разных родственных структур: отряд погранконтроля, где свой разведотдел и особый отдел имеются; транспортная контрразведка и представитель родного управления по борьбе с коррупцией и контрабандой, которое выросло из управления «В» Третьего главного управления КГБ, курировавшего милицию и Внутренние войска… И в каждой из упомянутых структур у Сазонова, как будто специально, нашлось не по одному даже, а по несколько бывших сослуживцев… С одними встречался в особом отделе пограничного округа в Алма-Ате, с другими – во Внутренних войсках, с третьими – уже в Конторе…
И первые, и вторые, и третьи сразу дали наводки, помогли с контактами: с кем нужно поговорить, с кем в перспективе плотно поработать, на кого обратить особое внимание… Естественно, и первую, и вторую, и третью информации пришлось ему проверять и перепроверять. И не из недоверия к источнику, а потому, что без таких проверок никакой оперативной работы не бывает. Но все это происходило в одном, сравнительно небольшом здании аэропорта, где все друг у друга на виду, где, к вящему удивлению Сазонова, многие службы и процессы были уже компьютеризованы – такого еще и на Лубянке-то не было!
Немудрено, что, «роя копытом землю», изучив материалы в базе аэропорта о вылетах лиц оперативной разработки за рубеж и их возвращении в Россию, беседуя с сотрудниками шереметьевских служб и местной таможни, опрашивая милиционеров и пограничников, наблюдая, анализируя, сопоставляя и делая выводы, Сазонов вскоре обладал практически всей полнотой информации по ДОУ, то есть делу оперативного учета, которое вскрывало в аэропорту целую систему отлаженного контрабандного канала для вывоза за рубеж икры, лекарств и драгметаллов. Через несколько месяцев интенсивной работы ему стали поименно известны почти все участники криминальной цепочки: «крышующие» этот нелегальный бизнес сотрудники милиции и связанные с ними представители бандитской группировки. Обозначились выходы и на предприимчивых дельцов из числа иностранцев, торгующих с Турцией, что открывало для Сазонова перспективу уже в ближайшее время прокрутить комбинацию, позволяющую подставить своего агента представителям турецких спецслужб (вот они долгожданные «активные мероприятия»!) и через эту подставу, возможно, выйти на вербовку турецких коллег…
Так предполагал Сазонов, но все пошло вопреки его планам. Не зря учили Сазонова в молодости бывалые опера Морозкин и Моисеев, что всякий план чреват провалом. Возникла ситуация, про которую в армии говорят: все было хорошо, пока не вмешался генштаб…
Однажды, когда новый начальник, уже упомянутый Виктор Леонардович, находился в отпуске, заглянул в кабинет к Сазонову полковник, один из заместителей начальника службы Павел Михайлович, и с порога начал его выстраивать:
– Михаил Иванович, почему у вас преступники на свободе разгуливают?
Сазонов такие «наезды» не любил, поднялся из-за стола и довольно недипломатично ответил:
– Прошу вас выражаться яснее, Павел Михайлович. Какие преступники и где разгуливают?
– Вы занимаетесь проверкой?.. – полковник назвал фамилию одного из шереметьевских милиционеров.
– Я.
– Так что же вы тянете с реализацией?
– Жду, когда начальник вернется. Начнем вербовать…
– А куда вы их готовите? – немного сбавил тон заместитель начальника службы.
– Подстава турецким спецслужбам… План у меня имеется. Нужна виза начальника.
– Да какая подстава? – снова взъерепенился полковник. – Он – обычный контрабандист и его немедленно сажать надо!
Сазонов попытался разъяснить, что турки, то есть их спецслужбы, тоже знают, что имярек – контрабандист, а мы его завербуем и сделаем им подставу…
Полковник рукой махнул и головой покачал недоверчиво:
– Да нет, это – лишнее. Завтра же этого контрабандиста брать надо!
Сазонов взмолился:
– Павел Михайлович, дайте несколько дней, пусть хоть начальник мой вернется… Ему-то я что скажу?..
Полковник снова махнул рукой, мол, делай, что хочешь, и выскочил из кабинета.
Сазонов выдохнул: пронесло, а утром девчата из ОТМ – службы техподдержки – звонят:
– По вашим объектам в Шереметьево аресты какие-то непонятные пошли…
Сазонов метнулся в аэропорт, а там вовсю МВД и прокуратура орудуют, задержали несколько грузчиков и водителей, которые проходили у Сазонова по делу оперативного учета. Они, эти расхитители «криминальной собственности», вместе с дежурным нарядом милиции вскрыли несколько ящиков с нелегальной икрой, готовящихся к отправке за границу, взяли себе по десятку банок и решили их вынести из аэропорта. На этом их и повязали и лепят им теперь «контрабанду».
Следствие вела молоденькая и весьма симпатичная сотрудница прокуратуры. Сазонов стал ей объяснять, что контрабанда – это не тогда, когда что-то выносят из аэропорта, а когда икру за границу большими партиями переправляют:
– Вот вы сейчас, товарищ следователь, задержали несколько расхитителей, и один раздербаненный ящик им «шьете», а сколько тонн этой икры за бугор ушло, не знаете и знать не хотите, и нам, понимаете ли, всю малину портите…
У «следачки» аж слезы на глазах выступили – это у нее оказалось первое дело, как, впрочем, и у Сазонова в новом отделе:
– Что же мне делать?
Сазонов растолковал ей, отгоняя при этом тревожную мысль, что вовсе не его ипостась – учить уму-разуму пусть и неопытную, но все же сотрудницу прокуратуры, у которой в отличие от него самого высшее юридическое образование имеется:
– Вы главное – правильно протокол составьте и в нем отразите: так значит и так, икра не здесь, в аэропорту, производится и в банки расфасовывается. Как именно попала партия данной икры в Шереметьево, следствию пока не ясно. Но совершенно точно установлено, что собирается эта партия покинуть аэропорт незаконным образом, то есть – контрабандой. А контрабанда – это уже наша подследственность. Через три дня вы дело нашим следователям передадите, а мы уж как-нибудь разберемся, что да к чему…
– А мне в эти три дня чем заниматься? – изо всех сил попыталась улыбнуться юная сотрудница прокуратуры.
– Допрашивайте задержанных. Но при этом главных злодеев не спугните. Ведь грузчики и водители сейчас на допросах начнут свою «крышу» называть… Вы всех сразу станете арестовывать, а это пока делать не надо, поскольку именно эта «крыша» и есть предмет нашего пристального чекистского интереса.
– Так вы меня, товарищ майор, в случае чего защитите? Прикроете? – попыталась найти хоть какую-то опору своей дальнейшей деятельности следовательница.
– Защитим! Прикроем! Для этого и предназначены, – пообещал Сазонов.
Через несколько дней уже «конторские» следователи взялись за дело, и расследовалось оно быстро и как будто даже легко, обогатив Сазонова неоценимым опытом тесного взаимодействия и сотрудничества со следствием…
Хотя без курьезов и тут не обошлось.
Вернулся из отпуска новый начальник Виктор Леонардович и сразу начал с упрека:
– Ты зачем двадцать пять человек арестовал?
Сазонов пожал плечами, мол, не я арестовывал, а МВД. И удивился про себя, что этот новый начальник, который прежде огорчался, что раскрытых дел и зачетных «палок» мало, теперь спрашивает с него про арестованных милиционеров так, как будто он, Сазонов, у них замполитом является и за их политико-моральное состояние ответственность несет, как будто вовсе не его, Сазонова, дело – этих коррупционеров в погонах на чистую воду выводить и к ногтю прижимать.
Виктор Леонардович, словно на немой вопрос подчиненного отвечая, разволновавшись, заговорил вдруг не своим, высоким голосом и даже руками всплеснул:
– Если все они – контрабандисты, то есть государственные преступники, с нас же с тобой завтра и спросят: куда, мол, вы раньше смотрели? Они же менты, то есть наши с тобой непосредственные подопечные. Соображаешь? Вот что, Михаил Иванович, – перешел он почти на дружеский тон, – сядь и подумай, да поезжай-ка в «Лефортово», проинструктируй там своих арестованных ментов, пусть они больше друг друга не сдают! Иначе мы запурхаемся!
Сазонову и самому жалко было молоденьких сержантов и младших лейтенантов, попавших как кур в ощип и по причине собственной дурости и жадности оказавшихся «госпреступниками». Их не пришлось даже пугать расстрельной статьей – все рассказывали сами, добровольно и охотно, да так рьяно, что некоторым бы и остановиться в своем простодушном и покаянном словоизвержении не мешало бы…
Сазонов поехал в Лефортово и стал беседовать с каждым задержанным в отдельности, внушать по-отечески, мол, если сам попался, колись, как арбуз, а сдавать товарищей – это в общем-то не по-офицерски и не по-сержантски, особенно если сдавать не за что…
Одного младшего лейтенанта Сазонов спросил:
– Зачем ты своему коллеге Васе деньги давал?
Тот простодушно ответил:
– Так Вася очень бедно живет, вот решил ему помочь… Но он честный мент. Он никого не «крышует».
– Зачем же ты тогда его сдал, если он честный?
– Вы же сами сказали всю правду говорить…
– А ты, дурья твоя башка, разве не понимаешь, что безвинного коллегу в дело втягиваешь? Теперь придется на допросе признаться, что ты его оговорил…
– За что же я могу оговорить Васю, если он человек хороший? Мы с ним еще со школы милиции дружим…
– Вот и скажи на допросе, что оговорил Васю в отместку за то, что он тебе когда-то в школе милиции подножку на кроссе поставил…
Или еще смешнее. Стали этого Васю выпускать как невинно оговоренного. Позвонил Сазонову следователь конторский, предложил:
– Этот Вася в самом деле парень совестливый и служить дальше хочет. Может, пригодится тебе на будущее. Подойди, побеседуй…
– Добро, подойду. Но ты ему намекни, что своим освобождением он одному хорошему человеку обязан… Если, мол, этот человек обратится, будь любезен, ответь добром на добро…
Выпустили Васю. А Сазонов как-то завертелся, сразу побеседовать с ним не смог. Разыскал этого лейтенанта через неделю. Дескать, ты помнишь, что освобождением обязан одному хорошему человеку. Вот он, дескать, я…
Вася серьезно ответил:
– Я вас давно уже жду. Все делаю, как вы сказали, вашу литературу среди сотрудников аэропорта распространяю добросовестно…
– Какую литературу?
– Баптистскую.
Сазонов аж позеленел, как пограничная фуражка, вспомнив, как еще служа в погранавиации замполитом эскадрильи, сталкивался несколько раз с солдатами-баптистами, которых по указанию особистов приходилось срочно переводить куда-нибудь в стройбат, дабы остальной личный состав не разлагали:
– Дурило ты тещино, какие баптисты? – взвился он на Васю. – При чем здесь они? Вместо их книжечек ты мой портрет носить в кармане обязан и каждый день на него молиться!
Но Вася упрямо настаивал на своем:
– Я вам, конечно, благодарен, товарищ майор, но и баптисткой церкви тоже весьма признателен…
Оказалось, не успел этот Вася домой прийти, как теща ему выложила, что надо ему завтра с ней пойти в баптистскую церковь, отблагодарить тех, кто молился о его освобождении:
– Мне сегодня наш проповедник сказал, что ты вернешься… А потом, дескать, его отблагодаришь!
Вася и отблагодарил – снял с книжки все свои накопления и к баптистам отнес…
Сазонов только головой покачал – экую шутку с его потенциальным агентом баптисты сыграли. Пришлось ему намечавшуюся Васину вербовку отложить, дабы самому, как невесело шутил потом Сазонов, в сети сектантов не угодить…
И таких случайных персонажей, как этот непутевый Вася, оказалось среди арестованных «оборотней» предостаточно. Немало усилий пришлось потратить, чтобы их на свободу вернуть и на путь истинный наставить, равно как и добиться того, чтобы те, кто по-настоящему виновен, дошли в конце концов до скамьи подсудимых.
…Сазонову снова вспомнился вчерашний вечер и обещание Виктора Леонардовича представить его к госнаграде. И память, эта неуемная странница во времени и пространстве, уже собралась было подкинуть ему случай из далекого прошлого, когда начальник политотдела авиаполка Трубицын в сердцах порвал готовый к отправке наградной на него, тогдашнего замполита авиаэскадрильи Сазонова, но в этот самый момент репродуктор женским, с металлическими нотками голосом объявил: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Лубянка».
Вынырнув из метро, Сазонов оказался на Лубянской площади, которая вместе с ближайшими ее окрестностями всегда представлялась ему некой планетой, где существуют вроде бы независимо друг от друга, но накрепко друг с другом связанные континенты, материки и острова – все эти, находящиеся на некотором отдалении или стоящие впритык и образующие целые комплексы, здания и сооружения. Прежде скрытые от чужого интереса под условными номерами – от одного до пятнадцати, они в эпоху перемен всплыли из глубин «холодной войны», точно межконтинентальные подводные лодки, и находящиеся в них команды разных управлений, центров и служб теперь через окна, словно через перископы, озирают знакомую издавна округу. Смотрят и не узнают ее.
Такая фантасмагорическая картинка всего на мгновение встала перед глазами Сазонова, и он тут же отмел ее, ибо и он сам, и его сослуживцы, которых среди утренней еще не густой толпы сразу узнавал по неброским одеждам, деловой походке и сосредоточенно-хмурым лицам, ни в какой «подлодке» никогда не находились. Они постоянно крутились, вертелись, варились в самом центре этой новой, не укладывающейся в мозгу реальности, в которой нет уже перед домом-два памятника создателю ВЧК, а оставшийся после его свержения постамент стыдливо заколочен нестругаными досками.
Да и сама Лубянская площадь – центр служебной вселенной Сазонова, превратилась за прошедшие два года в подобие рынка, о котором хриплым голосом из всех репродукторов распевала с надрывом Маша Распутина. И Москва, некогда златоглавая и православная, а потом краснозвездная и вознесшаяся ввысь сталинскими высотками, точно птица, раненная в сердце, задыхалась и трепыхалась в сетях этого, чуждого ей «дикого» рынка, скукоживалась от въехавших на ее улицы и площади, словно танковые колонны «западных партнеров», многочисленных железных «комков» и валютообменников, стихийно возникающих торговых рядов, где продавалось все – от диковинных заморских «сникерсов» и «марсов» до самопальной водки и пива непонятного разлива, от поношенных вещей и до настоящего антиквариата…
Вот и сегодня, несмотря на зябкое утро, вдоль витрин «Детского мира» десятка два интеллигентного вида старушек и женщин помоложе уже расставили ящики из-под яблок и, расстелив на них газетки, раскладывали свой нехитрый товар: вязаные носки, шапки, банки с прошлогодними соленьями и вареньями. Между ними с видом «хозяев жизни», сплевывая шелуху от семечек на тротуар, прохаживались крепкие молодчики в однотипных спортивных костюмах «Адидас», пошитых явно в какой-то армянской мастерской.
Сазонов на ходу огляделся: и со стороны Мясницкой и Пушечной улиц, и со стороны Лубянского проезда происходило то же самое – в ожидании покупателей уже повсюду толклись продавцы и смотрящие за ними, открывались точки обмена валюты и «комки»… Спустя час-другой на улицах вокруг площади новоявленные торгаши и торгашки выстроятся в несколько рядов, и будут сновать меж ними туда-сюда толпы обнищавших и обездоленных сограждан в поисках того, не знают чего…
«Если бы не кольцевое движение машин, – промелькнуло в голове Сазонова, – так эти рыночники и вокруг постамента расположились бы, обвили его петлей Мебиуса, позволяющей мгновенно попадать из одного временного пространства в другое – из социализма да в полуфеодальный капитализм! И все это творится перед святая святых – его, некогда самой авторитетной, Конторой! Как будто в насмешку или, напротив, с немым упреком нам: мол, спасовали чекисты в девяносто первом, а теперь вот нате – базар под окнами, открытая, наглая торговля “зелеными”, за одно обнаружение которых в кармане в прежние годы советскому гражданину можно было запросто угодить в места не столь отдаленные, сколь мало населенные…»
Эх, была бы его воля, Сазонов мигом бы очистил площадь и вернул Феликса на его законное место. Хорошо, хоть лично Сазонова обошла стороной эпопея, когда после августовского путча только что назначенный руководить КГБ СССР бывший партийный бонза и министр внутренних дел Вадим Бакатин начал борьбу с портретами Дзержинского в кабинетах ведомства.
– Я пришел на Лубянку, чтобы навсегда покончить с «чекизмом»! – заявил он, вступив в должность, в первом же телеинтервью. И тотчас, прямо на камеру, приказал снять портрет «железного Феликса» в своем кабинете, а затем с маниакальным усердием, требующим совсем иного применения, стал еженедельно обходить кабинеты подчиненных и проверять выполнение этого своего дурацкого распоряжения.
В кабинете одного из сотрудников Второго главного управления Бакатин неожиданно напоролся на резкий отпор. На его приказ немедленно убрать портрет Дзержинского сотрудник встал из-за стола и, тяжело роняя слова, отчеканил:
– Феликс Эдмундович Дзержинский для каждого из нас есть незыблемый пример беззаветного служения своему народу и нашей Родине. А вы чей портрет хотите, чтоб я повесил на стену? Может, ваш? Или Ельцина?!
Бакатин почувствовал: этот и по скуле сможет врезать.
– Немедленно уволить грубияна! – завизжал борец с портретами, выбегая из кабинета в сопровождении свиты. А вдогон ему полетели слова, которые потом из уст в уста передавали чекисты:
– Да с таким дерьмом я и сам служить не стану… Рапорт хоть сейчас напишу!..
В те дни Сазонов еще числился в особом отделе внутренних войск МВД СССР, который располагался в отдалении, на Красноказарменной улице. И Бакатин до них доехал не сразу, а когда доехал, в кабинет к Сазонову не заглянул… И портрет Феликса Эдмундовича так и остался висеть у него на стене, а небольшой бюст первого чекиста, когда-то на день рождения подаренный ему сослуживцами, Сазонов забрал с собой, переходя на Лубянку. Он и сейчас стоит в его кабинете, невзирая на новую моду не помнить о прошлом.
Сазонов не однажды спрашивал себя, а как бы он поступил, загляни тогда новоявленный председатель КГБ и «борец с чекизмом» в его кабинет и прикажи снять портрет основателя ВЧК? И положа руку на сердце не находил честного ответа.
Скрепя сердце, чтоб не выругаться вслух по поводу безобразий, творящихся на его «Лубянской планете», Сазонов как-то пролетел мимо «церквушки», так называли сослуживцы проход в здание Конторы через бывшую Софийскую церковь, и на «автомате» свернул на Большую Лубянку, ведущую к парадному входу, которым обычно не пользовался. Пройдя вдоль серого цоколя дома один шагов пятьдесят, запоздало спохватился, что видел у одной из торгующих возле «Детского мира» теток женские осенние импортные сапоги.
«Может, Татьянин размер?.. Ну, да разве без нее купишь?.. Возьмешь, а они не подойдут – тогда вместо примирения еще больше надуется… Имел ведь уже печальный опыт: к новому году самостоятельно купил на толкучке две теплые байковые рубахи, так жена засмеяла: дескать, такие и в твоей родной деревне никто из стариков теперь носить не станет! Нет, рисковать не буду», – решил он и вошел в парадный подъезд.
Через двойные мощные двери с разделяющим их большим «тамбуром» Сазонов попал в холл и предъявил удостоверение прапорщику-контролеру, который знал его в лицо, но скрупулезно, как будто видел впервые, стал сверять его облик с фотографией в удостоверении и тщательно проверил наличие в нем необходимых отметок, дающих право входить в это здание через этот вход в определенные дни и часы.
Сазонов терпеливо дождался, пока процедура определения «свой – чужой» завершится, прапорщик вернет ему удостоверение и приложит руку к виску, пропуская вперед.
В огромном холле, с лифтами и лестницами с двух сторон, Сазонов принял влево и, проигнорировав лифт, не спеша поднялся на второй этаж по ступеням крутой лестницы, повернул направо и двинулся по коридору, застеленному широкой красной ковровой дорожкой. Дорожка была новой и идеально натянутой, надежно закрепленной по краям, чем выгодно отличалась от таких же дорожек в доме два, потертых и закрепленных кое-как, отчего временами они сбивались в складки, заставляя спешащих по делам сотрудников ненароком спотыкаться. Эта новая дорожка пружинила под ногами, заглушая звук шагов, и всем своим видом подчеркивала выпавшую ей почетную долю находиться в главном здании Конторы, где располагались и кабинеты руководства, и самые важные управления, среди которых на особом месте в прежние годы была «пятерка» – Пятое управление КГБ СССР, ответственное за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника.
Так вышло, что вновь созданному управлению, куда перевелся Сазонов, достались кабинеты «пятерочников». И хотя ремонт был в них сделан первоклассный и мебель в кабинетах оказалась поновее той, какой пользовались сотрудники его бывшего отдела, особого восторга это обстоятельство у Сазонова и его новых коллег не вызвало: сотрудников «пятерки» в Конторе недолюбливали: полагали, что именно эти борцы с идеологическими диверсиями в советское время и просмотрели врага в зоне своей ответственности. Это они заставляли тех, кто работал на «земле», на каждый роток набрасывать платок за неосторожное слово или анекдот, якобы порочащий советский строй и советскую социалистическую действительность. А сами своим попустительством и сюсюканьем породили всех этих солженицыных, синявских, даниэлей, рыбаковых, коротичей, которые из года в год целых шесть лет гласности и перестройки промывали мозги согражданам россказнями о «кровавой гэбне» и отсутствии свободы в СССР… Причины просчетов в деятельности «пятерочников» виделись Сазонову в плохом подборе кадров. Будучи сам выходцем из политработников, он знал, что в Пятое управление, в этот «боевой резерв КПСС», сотрудников набирали нередко из бывших партработников, а как бывший кадровик – понимал, что выбирали в общем-то не самых лучших – лучшие продолжали руководить райкомами и горкомами, парткомами крупных предприятий и колхозов… Кто же хорошего партработника от себя отпустит? В КГБ партийные структуры отдавали кадры по остаточному принципу, зачастую – на тебе боже, что нам негоже! Вот незадачливые секретари и пропагандисты, попав в «пятерку», и наработали здесь, как умели, доведя сначала по собственной дурости и непрофессионализму борьбу с критиками советской идеологии до тупика, а после и всю страну до краха… Разбирая выделенный ему в новом кабинете сейф, нашел в нем Сазонов предметы интереса прежнего хозяина кабинета – борца с идеологическими диверсиями: какие-то ведомости по кассе взаимопомощи бывшего Пятого управления, несколько старинных икон, кассеты с порнофильмами и пачку журналов «Плейбой»…
Все это вспомнилось Сазонову ненароком, когда, минуя вход в столовую, он повернул еще раз направо и через переход оказался в своем корпусе, именуемом Башней, где прежде пресловутая «пятерка» и размещалась. Причем очутился Сазонов не на втором, а на третьем этаже Башни, и ему пришлось спуститься на один этаж ниже, чтобы попасть к двери своего кабинета.
Он явился на службу первым. Открыв дверь своим ключом, окинул кабинет быстрым взглядом: уборщица Дуся здесь уже прибралась – на столике, где вчера накрывали «дастархан», – ни единой крошки, и пол поблескивает после недавней помывки – еще не успел просохнуть.
«Опять наверняка Дуся ворчала, что мы в туалете вчера пустые бутылки оставили… Как будто не понимает, что мужикам надо стресс снимать! А ведь она же – чья-то теща…» – он прошел к шкафу, снял реглан и повесил его на плечики в отделение для верхней одежды.
Сазонов еще раз окинул тесный кабинет внимательным взглядом: четыре стола, четыре сейфа по числу сидящих здесь сотрудников, стулья, два кресла, массивная персональная ЭВМ – одна на всех, сейчас занимающая один из столов, но зачастую использующаяся вместо стремянки, чтобы достать что-то с верхних полок встроенного во всю стену шкафа.
Рабочий стол Сазонова располагался в правом углу, у окна, из которого хорошо был виден Дом работников искусств и помойка рядом с ним. Несмотря на раннее утро, возле помойки толкались несколько бомжей и бомжих, рылись в мусорных баках, ссорились меж собой, но как-то вяло, без особых эмоций. Это у них – излюбленный уголок. Некоторые тут, возле баков, и ночевали, соорудив себе из упаковочных картонных коробок спальные места. Здесь же пили, вступали в брачные союзы, дрались, что-то не поделив, и мирились…
И снова сердце Сазонова заныло: это же прямо перед его ведомством. «И никому нет дела ни до помойки, ни до бомжей… – пришла в голову шальная мысль, – а ведь под прикрытием рубища вполне может наблюдать за Конторой какой-нибудь иностранный агент, если, конечно, не испугается зловония, исходящего от помойки».
Сазонов уселся за стол с телефонами всех видов связи – от оперативной и закрытой до городской и внутриведомственной – и с огромным цветком с широкими развесистыми листьями, доставшимся ему от прежнего хозяина кабинета. Определить, что это за цветок, Сазонов так и не смог, хотя и перерыл весь цветочный раздел Большой советской энциклопедии: то ли планторама, то ли филодендрон или же совсем диковинный замиокулькас? Но за цветком старательно ухаживал: поливал, протирал тряпочкой пыль на листьях.
Сазонов потянулся за лейкой для полива и заметил, что к его цветку наведывался недруг – земля у корней была разрыта и один из мясистых побегов основательно подгрызен.
«Опять Лариска нашкодила! Точно ее лап и зубов дело… Кого же еще!..» – Лариской сотрудники прозвали крысу, поселившуюся в соседнем кабинете, где обитал подполковник предпенсионного возраста Володя по прозвищу Ключник: у него хранились ключи от явочной и конспиративной квартир, которые он выдавал сослуживцам при одном только условии, если не отказывались от стопаря спирта «Рояль», не переводившегося у него в шкафу.
– Выпей, получишь заветный ключик, – скалился Володя. А когда проситель выпивал, кивал на обгрызенный с двух сторон беляш или пирожок, лежащий на тарелке: – Закуси! Это не Лариска обгрызла, а я…
Но никто почему-то не закусывал. Этими недоеденными пирожками и беляшами из служебного буфета Володя, наверное, и привадил крысу. И ладно бы жила Лариска у него в кабинете, но эта хищная тварь прогрызла дээспэшную перегородку между кабинетами, сделала дыру в задней стенке встроенного шкафа и стала в кабинете Сазонова разгуливать, как у себя дома, облюбовав, между прочим, для своих набегов его любимый цветок.
Что только он не делал, чтобы осадить это ушлое чудовище: насыпал в шкаф крысиный яд, плотно затыкал дырку в перегородке банкой из-под импортного пива…
Все впустую. Лариска умудрялась как-то банку выбить и яд нетронутым оставить. Вот и опять набезобразничала…
Сазонов покосился на выглядывающий из-под листьев бюст Дзержинского: «А ты, Феликс Эдмундович, что же не бдишь?.. Так Лариска мне весь цветок на корню изведет, и сам ты без прикрытия останешься», – листья цветка, действительно, надежно скрывали бюст от случайных взоров: мало ли какой очередной высокий начальник из числа либералов в кабинет заглянет… Так что лучше уж пусть славный рыцарь революции в засаде посидит, пока наши не вернутся!
Сазонов строго погрозил бронзовому изваянию пальцем:
– Бди! – эту краткую и сочную формулу чекистского поведения когда-то подарил ему наставник в оперативном ремесле подполковник Моисеев – большой знаток изречений Козьмы Пруткова. За Моисеевым можно было ходить с блокнотом и мудрые изречения записывать. Например: «Завел корову, так дои ее сам, а то будет молоко по чужим заборам разбрызгивать!», или «В оперативной работе главное – спокойствие, естественность и хладнокровие», и уж совсем актуальное, коль речь зашла о крысе: «Деньги, выделенные на оперативные расходы, используй по назначению, а не на себя и на своих любовниц, а то крысой прослывешь».
Сазонов крыс, ни диких, ни ручных, не любил, а Лариска, которую он однажды застукал на месте преступления, своею мордочкой и повадками ему и вовсе напомнила бывшего сослуживца капитана Саню Литвиненко, заслужившего кличку Пургомет за то, что плел своим языком что ни попадя, и к тому же любившего крысятничать во время обысков: то понравившуюся красивую вещицу в карман сунет, то из пачки изымаемых долларов бумажку-другую тиснет: «Вот бы изловить гадкую Лариску и Пургомету подарить…», – Сазонов открыл отсек шкафа, где была дыра, проделанная крысой, загнал в нее пивную банку и вдруг улыбнулся неожиданному открытию: если Лариска до сих пор не покинула наш «корабль», значит, рано списывать Контору со счетов, мы еще не тонем окончательно, как бы это порой ни казалось…
Вот вчера Виктор Леонардович сказал, что нужно дело «оборотней» поскорее в суд готовить, а сегодня девчонки из ОТМ, словно услышали их вчерашний разговор, не трезвонят с новыми докладами, о чем говорили арестованные или находящиеся на подписке объекты его разработки. Значит, и правда дело подошло к концу.
Стоило только Сазонову про звонки подумать, как зазвонил телефон оперсвязи и в трубке раздался голос Виктора Леонардовича.
– Ну, что, Миша, приплыли мы с твоими «оборотнями»… – В дребезжащем голосе начальника опять прозвучали высокие и слезливые интонации, говорящие о том, что он сильно возмущен или встревожен.
– Здравия желаю, Виктор Леонардович, – отозвался Сазонов, еще не зная, радоваться ему или огорчаться такому началу разговора.
Начальник быстро ввел его в курс дела:
– Мне только что звонил начальник следствия. Прокуратура не утверждает обвинительное заключение по контрабанде и по валютным операциям. Контрабанду следствие доказать не смогло, потому что в Конторе не нашлось денег для командировки следователей за границу, а валютные операции с недавних пор вообще – не преступление. Остается только взятка.
– Так взятка – ведь не наша подследственность, а Прокуратуры? – пробормотал Сазонов.
– Так точно, не наша, но дело-то начинали мы! Значит, нам его и закрывать. Ясно? В общем, сядь и подумай, как мы из этой ситуации выкручиваться будем и чем следакам нашим поможем… И план дополнительных мероприятий мне на стол! – резюмировал начальник.
Вернув трубку на место, Сазонов открыл сейф, достал ежедневник и стал перелистывать старые записи, отогнав промелькнувшую мысль, что госнаграды ему в очередной раз не видать: «Да шут с ней, с наградой, не получить бы взыскание за напрасно потраченные усилия и неэффективное расходование сил и средств всех технических служб. Прав, конечно, Виктор Леонардович: прокурор дело о взятке без взяткодателя точно не утвердит!» – Он еще раз пролистал сообщения коллег, наблюдавших за шереметьевскими «оборотнями», прослушивавших их разговоры друг с другом, и несколько раз наткнулся на упоминание о некоем иностранце восточного типа, которого подельники называли между собой Майклом. Вспомнил также, что о Майкле упоминала и любовница одного из подследственных милиционеров, которую бывший ухажер попросил собрать деньги для найма хорошего адвоката и с которой Сазонову пришлось немало повозиться, прежде чем выудить из нее нужную для него информацию.
Теперь, вчитавшись заново в эти сообщения и быстро прокрутив их в мозгу, он хлопнул себя по лбу: «Почему же я сразу не понял, что этот Майкл у них за главного? Он – единственная ниточка, связывающая шайку “оборотней” с заграницей… Он и есть, по всей видимости, главный взяткодатель?» – Сделав логичный вывод, Сазонов сел писать план дополнительных мероприятий.
Отредактировав и переписав его набело, направился к выходу из кабинета. В дверях столкнулся с сослуживцами – майорами Сергеем и Андреем (четвертый их сосед – Николай с нынешнего дня находился в отпуске, который, кстати, вчера заодно и обмыли).
Сазонов на ходу пожал майорам руки:
– Привет! Привет!
– Здорово! Как дела?
– Кэгэбычно… – отшутился он.
– Куда летишь спозаранку?
– К Леонардычу… План дополнительных мер подписать.
– Ни пуха тебе! – в голос пожелали майоры.
Виктор Леонардович бегло просмотрел план и подписал, даже без своей обычной присказки «сядь и подумай»:
– Дерзай, Михаил… Найди мне этого иностранца-взяткодателя, да побыстрей!
Выйдя от начальника, Сазонов сразу же отправился к Володе-Ключнику, ибо первым пунктом только что утвержденного плана дополнительных мероприятий значилась «встреча с оперативным источником в заранее обусловленном месте», а для этого нужен был «волшебный ключик», которым и заведовал подполковник.
Володя в кабинете был один. Его сосед, тоже подполковник, по имени Григорий, уже привычно отсутствовал. Этот Григорий, или в обиходе – Гриша Андерсен, пришел в отдел вместе с новым начальником и пользовался непонятным с его стороны благорасположением. Был этот Гриша Андерсен сказочником, каких свет не видывал… Неделями он мог не показываться в Конторе, пропадая неведомо где, потом появлялся и приносил, как сам тут же публично объявлял, ценную информацию, которая на деле оказывалась переписанной статьей из какой-нибудь желтой газетенки, обещал, что завтра будет еще более крутая информация, которая позволит засадить самых крутых коррупционеров на самом крутом верху, после чего опять исчезал на неделю, чтобы вновь прийти на службу с новой сказкой или с загипсованной рукой, якобы после нападения некоего злоумышленника… И все Грише было как с гуся вода…
Володя, напротив, почти не покидал кабинет в течение дня. Сидел сиднем за рабочим столом, перекладывая из угла в угол какие-то бумаги. На этот раз он встретил Сазонова не традиционным: «Выпьешь – дам ключ!», а категоричным отказом:
– Опоздал ты, Сазонов, «кукушечка» нынче занята. Так что при всем уважении ничем помочь не могу, дуй на точку, но сначала все-таки – замахни! – вспомнил он запоздало и полез в заветный шкафчик, где хранил свой «рояль в кустах».
– Извини, коллега… Нет ключика от конспиративной квартиры, значит, и пьянству – бой! – Сазонов невольно обрадовался тому обстоятельству, что можно обойтись без «Рояля». Он хотел было пожаловаться Ключнику на Лариску и призвать его, в который уж раз, положить конец ее набегам, но передумал и возвратился к себе.
Сделав пару нужных звонков, он предупредил соседей-майоров:
– Я – на территории, – и отправился туда, куда послал его Ключник, то есть на точку, другими словами – на место конспиративных встреч.
В гостинице «Россия» один из номеров был приписан к Конторе. Сазонов поначалу любил назначать встречи информаторам именно здесь. Во-первых, от его кабинета на Лубянке до Зарядья минут двадцать-двадцать пять неторопливого хода. Во-вторых, в гостинице всегда толчется много народа: можно и самому незаметно прийти и уйти, и доверенному лицу проще появиться здесь, не привлекая к себе повышенного внимания окружающих. Так и было до тех пор, пока однажды вечером дежурная по этажу, очевидно «оборзевшая от мирной жизни» (именно так Сазонов и определил ее поведение), не начала стучаться в номер с требованием немедленно освободить его, ибо рабочий день уже закончен и ей надо заселить в номер нового постояльца.
«Денег хочет на карман срубить! Левого постояльца до утра поселит, а выручку прикарманит…» – Сазонов, конечно, такой наглости спустить не мог: выставил наглую дежурную за дверь, и, хотя номер ему был уже не нужен (разговор с «источником» закончен, и они уже собирались уходить), ключ дежурной не отдал, выйдя из гостиницы по служебному выходу. Наутро занес ключ от номера регистратору и хотя о вечернем происшествии прикомандированному к гостинице сотруднику сообщать не стал, но ходить в «Россию» как-то разлюбил.
Он и сегодня не пошел бы сюда, если бы «кукушка» не оказалась занятой и если бы встречу он назначил кому-то другому, а не Маркизе… Под таким оперативным псевдонимом проходила у него Анжелика – «ночная бабочка», путана, а проще – валютная проститутка, которую на самом деле звали Машей. Еще два года назад работала Маша инструктором в секторе учета одного из подмосковных райкомов комсомола. Была она стройная, миловидная, сообразительная и инициативная (иначе бы в райком и не взяли). Но поскольку с особистской юности уяснил Сазонов одно главное правило: источник информации надо беречь пуще собственной любовницы, а если таковой нет, то – жены, и ни в коем случае не подставлять и не раскрывать его ни при каких обстоятельствах, он относился к Маше-Анжелике с должным уважением, никогда не напоминал ей о славном комсомольском «вчера» и не акцентировал внимание на не совсем славном «сегодня».
Анжелика работала по вечерам здесь же в ресторане гостиницы «Россия» или в других злачных местах, где паслись иностранцы или так называемые «новые русские», у которых всех этих «гринов», «фунтов», «марок», «тугриков» и «шекелей» водилось, пожалуй, побольше, чем у любого заграничного гостя. Но любила она всегда и по-настоящему, как сама признавалась Сазонову в доверительной беседе, не эти денежные знаки и не их обладателей, а только Витю-милиционера – одного из фигурантов Шереметьевского дела, в котором Анжелика выступала свидетельницей. Так и попала она в поле зрения Сазонова и однажды сама выразила готовность сотрудничать. Все-таки от комсомольского прошлого остались в Анжелике некоторые принципы, никак не сочетающиеся с ее новым, довольно беспринципным, ремеслом. И поэтому информировала его Анжелика охотно, регулярно, да еще с таким усердием, как будто передаваемой информацией заглаживала свою вину перед страной и как-то пыталась оправдать перед собой свое нынешнее, сытое, но незавидное положение.
Сазонов появился в гостинице на полчаса раньше назначенного Анжелике времени. По дороге он купил бутылку «Советского шампанского» и «Сникерс» – все-таки к барышне на свидание идет, но на большее скромных средств, выделяемых на оперативные расходы и подлежащих строгой отчетности, не хватило. Пришлось даже какие-то рубли в своих карманах наскрести и добавить.
Анжелика неспроста заслужила свой почти королевский псевдоним – постучала в дверь номера точно в назначенный срок. Она стремительно впорхнула в номер, одарив Сазонова дежурной, но лучезарной улыбкой, скинула меховое манто на кровать и, оставшись в алой блузке и черной мини-юбке, без приглашения уселась в свободное кресло, закинув ногу на ногу и покачивая остроносой туфелькой на высокой шпильке.
Сазонов невольно залюбовался стройными ножками в черных колготках, на которых – ни складочки. Анжелика любила повторять: «Лучше иметь три морщинки на лбу, чем одну на колготках», – и всегда строго следила, чтобы так оно и было.
С профессиональным кокетством, но без свойственного ее товаркам жеманства она спросила:
– Кавалер угостит даму шампанским? – и подвинула к нему бокалы, загодя поставленные Сазоновым на журнальный столик.
Пока он открывал бутылку, Анжелика, источая аромат духов «Пуазон», вынула из дамской сумочки длинную женскую сигарету «More» и зажигалку, но прикуривать не стала, подождала, пока он нальет шампанское и высечет огонь, глубоко затянулась и выпустила струйку ароматного дыма.
«А ведь красивая баба… – в который раз отметил про себя Сазонов. – Ей бы замуж за настоящего мужика да детишек рожать таких же красивых, как сама. А она…» – дальше продолжать размышления в том же духе он не стал: не батюшка ведь, да и она не на исповедь пришла. Впрочем, последнее – это как посмотреть…
А еще подумал Сазонов, что пропахнет весь ее духами и табаком, и Татьяна опять будет ревновать и задавать глупые вопросы, хотя ведь много лет уже жена чекиста и понимать все должна. Как только Сазонова назначили особистом, начальник особого отдела Середа инструктировал Татьяну и просил к мужу не принюхиваться, а если возникнет какое-то непонимание, обращаться за разъясненьями непосредственно к нему, к руководителю, а не устраивать супругу сцены, ибо работа особиста специфическая и связана в том числе с женским контингентом. Но разве женщину такой инструктаж остановит или избавит от назойливых ревнивых мыслей?..
С Анжеликой у Сазонова ничего интимного не было и быть не могло. И не только потому, что служба службой, а все остальное потом, но и оттого, что ему как мужчине трудно было бы преодолеть природную брезгливость к женскому телу, находящемуся в столь постоянном употреблении. Хотя Анжелика как будто и не возражала бы перевести их отношения на более близкий уровень. Сазонов уверен, прояви он хоть малейший соответствующий интерес, и отдалась бы она ему, в соответствии со своим профессиональным статусом, самоотверженно и с осознанием патриотического долга, несмотря на то что любит, по ее собственным словам, только Витю-милиционера…
Он чокнулся с ней, сделал глоток шампанского и по-деловому спросил:
– Анжелика, скажи-ка мне, а твой Витя никогда не заикался при тебе о мужчине по имени Майкл?
Анжелика прищурила густо подведенные глаза:
– Он что, американец?
– Не знаю. На вид откуда-то с Востока…
– Значит, вьетнамец или камбоджиец… – Она смешно наморщила аккуратный носик, словно пытаясь что-то вспомнить, и вдруг пристукнула ладошкой по столу. – Слушай, точно! Однажды мы с Витей катались по Москве, и он заезжал в общагу, ну знаешь, этого института имени Патриса Лумумбы…
Она сделала паузу, снова затянулась, выпустила дым и отпила шампанское из бокала.
Сазонов не торопил ее. По опыту работы он знал, что торопить собеседника – значит заставить его фантазировать на ходу. Умеющий слушать терпеливо больше услышит.
И Анжелика не обманула его ожиданий.
– Меня Витюша тогда оставил в машине, а сам пошел в общагу, сказал, что ему к Джексону надо заглянуть… – Она усмехнулась. – А ведь Джексона звали Майклом…
«Ну, хорошо что хоть не Джоном Ленноном, которого двенадцать лет назад убили…» – подумал Сазонов и поблагодарил:
– Спасибо, это важная информация. Только мне нужен мужчина восточной наружности, понимаешь? А Майкл Джексон – негр.
– Так в этой общаге только восточной наружности мужчины и проживают. Мне наши девчонки рассказывали, они к ним часто на вызов ездят. Вся общага – вьетнамцы и камбоджийцы. Мелкие, но старательные… – хихикнула она. – И неутомимые…
Сазонов чуть заметно поморщился:
– Ну, эти подробности оставим. А ты не могла бы у своих девочек поразузнать что-то об этом Майкле… Может, это кличка у него такая, а имя совсем другое…
– Спрошу, – отозвалась Анжелика. Она все-таки была удивительно понятливой. – Могу даже сегодня спросить…
– Буду весьма тебе признателен. Узнаешь что-то, позвони мне по городскому телефону… Номер, надеюсь, не забыла?
– Никак нет, товарищ начальник! – вставая, она одернула юбочку, потянулась, демонстрируя все свои прелести, и отдала пионерский салют: – Партия сказала надо, комсомол ответил: сделаем!
Когда за ней закрылась дверь, Сазонов заткнул бутылку пробкой, зафиксировал ее проволочкой и убрал в холодильник, а так и не тронутый Анжеликой «Сникерс» засунул в карман реглана – будет Дениске подарок. Он еще с полчаса просидел в номере, выдерживая паузу из конспиративных соображений, чтобы не столкнуться внизу с только что покинувшей его Маркизой и ее подругами.
Глядя в окно на кремлевские рубиновые звезды, которые, как говорят, скоро заменят двуглавыми орлами, он размышлял над тем, что дает ему полученная информация о Майкле и сможет ли Анжелика разузнать о нем что-то еще.
К обеду Сазонов вернулся на службу, наскоро перекусил в столовой и стал ждать звонка. В кабинете никого не было, все «сокамерники», как он называл сослуживцев, работали сегодня вне Конторы. Пользуясь тишиной, Сазонов написал отчет о встрече с Маркизой, усмехнувшись пришедшим в голову воспоминаниям.
Когда его только перевели в особый отдел Уч-Аральского гарнизона, на вопрос тамошнего начальника, почему решил перевестись с партийно-политической работы в особисты, Сазонов простодушно ответил: «У политработников писанины слишком много, а бумажной волокиты я не люблю, предпочитаю живую работу с людьми». Знал бы он тогда, сколько писанины у особиста! На все случаи жизни подай план, схему, справку, аналитическую записку, донесение, отчет, характеристику, рапорт и так далее, и тому подобное… Словом, без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек.
Анжелика не подвела. В начале седьмого в кабинете Сазонова зазвонил городской телефон.
– Слушаю, – сняв трубку, сказал Сазонов.
– Твоего Джексона зовут Иенг Манго, – прошелестел в трубке знакомый голосок и раздались короткие гудки.
«Хорошо хоть не Иенг Сари… Еще нам только красных кхмеров не хватало», – заключил Сазонов: значит, разыскиваемый им иностранец – камбоджиец, а прозвище Майкл, возможно, взято в честь популярного американского певца. Тоже мне меломан выискался! Сазонов усмехнулся в усы не столько собственному предположению о музыкальных пристрастиях Иенга, сколько тому, что использовал новомодные словечки «фанат» и «меломан», только-только вошедшие в постсоветскую жизнь…
Еще он прикинул, что теперь, обладая именем и фамилией главного взяткодателя, разузнать, где он находится, будет куда проще: «Надо же, имечко Иенг, а фамилия, как у дерева, – Манго. Вот посажу это “дерево”. Останется – только сына вырастить да дом построить и книгу написать…»
«Ну, сына-то точно выращу: в нашем отделе куда меньше возможности на бандитскую пулю нарваться! А вот дом пока строить негде, хотя мечта такая в сердце и живет, недаром родился в селе, в своем доме вырос… Только вот как эту землю в Москве или в ближнем Подмосковье получить? Значит, пока что дом – это только мечта! Впрочем, как и написание книги».
Книгу о своем дяде-чекисте Макаре Григорьевиче Кленове Сазонов задумал написать, когда только окончил военно-политическое училище. Причин для увековечивания дядиного имени было немало: Макар Григорьевич в семье Сазонова был легендой, и судьба у него была легендарной, и Сазонов мечтал себя посвятить чекистской службе, надеясь стать таким, как дядя.
Но как подступиться к написанию книги, он не знал. К тому же видел дядю Макара Сазонов лишь однажды, будучи еще дошкольником. Дядя приехал в родное село в отпуск, и ему в общем-то было не до маленького Миши… Что еще знал о нем Сазонов? Немногое. Отец с матерью на вопросы о знаменитом родственнике отвечали как-то уклончиво, а других сведений почерпнуть оказалось негде…
Да и времени свободного, честно говоря, для того чтобы заняться писательством, у Сазонова не было. Конечно, он ходил в офицерские отпуска, но тратил отпускные дни на сугубо земные дела: то родителям по хозяйству помочь, то жену с детьми на курорт свозить. А на курорте с малыми детьми разве до писанины? Да и то, как пресловутые книги пишутся, Сазонову, честно говоря, тоже было невдомек. Одно дело написать оперативное донесение или сводку, и совсем иное – роман, повесть или даже обыкновенный рассказ… Он пока не представлял, в каком жанре будет книга о дяде Макаре: в художественном или документальном…
Скорее всего, Сазонов так никогда бы и не решился начать писать, если бы не представился случай…
Осенью девяносто первого, когда в Конторе царили разброд и шатание, а сам Сазонов еще служил в Особом отделе КГБ по Внутренним войскам СССР, многие его сослуживцы, не понимая, чем им в такой обстановке заняться, просто-напросто били баклуши и балду гоняли: в кабинетах разгадывали кроссворды, дурачась, звонили по газетным брачным объявлениям и беззлобно разыгрывали пышнотелых бухгалтерш и отчаявшихся вдовушек, пытающихся устроить свою личную жизнь на фоне разрушающейся советской империи.
Тут какой-нибудь досужий писатель-беллетрист, доведись ему описывать, почему вдруг именно в этот момент вновь заинтересовала Сазонова история его дяди М.Г. Кленова, непременно выдумал бы, что в ту пору, когда рушилась великая страна и реформировалась Контора Глубинного Бурения, надо было душе простого опера на что-то опереться. А опираться человек в таких условиях может только на свой род, на семейную традицию, на что-то очень личностное и дорогое… И, наверное, то, что написал бы досужий писатель, было бы близко к правде, но Сазонову тогда некогда было даже подумать о таких высоких материях.
Он, служа в это смутное время в отделе кадров, судорожно пытался помочь нескольким бывшим сослуживцам перебраться из отделяющихся от братского Союза национальных республик в Российскую Федерацию. И некоторым успел помочь! И хотя размышлять о высоких материях ему в эти месяцы в самом деле было некогда, но давняя мысль о книге все же вновь возникла в нем, закрепилась и толкнула его на шаг, на который он прежде никогда бы не решился.
Пользуясь творящейся в его ведомстве неразберихой, Сазонов подготовил запрос и за подписью своего начальника отправил в Киевский архив КГБ УССР, испрашивая личное дело майора Макара Григорьевича Кленова, якобы для уточнения неких обстоятельств его биографии… Отправил и не надеялся даже, что получит ответ. Но, несмотря на творящуюся вокруг неразбериху и предчувствие краха советской системы, а может быть, именно благодаря этой неразберихе и тягостным предчувствиям, коллеги из Киева неожиданно быстро отреагировали на запрос, и дело дяди Макара пришло в Москву и попало в руки Сазонова.
Тогда-то он впервые прочел и узнал, чем занимался дядя Макар Григорьевич в годы войны и после нее, а прочитав, понял, как именно будет писать о нем свою книгу.
…Сазонову до конца было не ясно, каким образом дядя Макар Григорьевич Кленов стал чекистом. У самого дяди не спросишь, ибо давно уже нет его в живых…
Ответ на свой вопрос Сазонов надеялся найти в личном деле М.Г. Кленова.
Дело начиналось с заявления о приеме на работу в особый отдел НКВД Калининского фронта, которое Макар Григорьевич Кленов, курсант армейских курсов младших политруков, написал 8 июля 1942 года. В заявлении значилось: «Обязуюсь данную работу выполнять честно и добросовестно» – и ничего не было сказано о личном желании дяди работать в НКВД. Шла война не на жизнь, а на смерть, и о личных желаниях отдельного человека речи в ту пору просто не шло. Сказали: надо идти в особый отдел – и он пошел!
Да и вся предшествующая трудовая и военная жизнь Макара Григорьевича, отраженная в его послужном списке, была ярким подтверждением принципа: партия поручила, коммунист – выполняет.
М.Г. Кленов родился 22 июля 1914 года в семье крестьянина-бедняка. В 1930 году вступил в комсомол и с этого же времени начал свою трудовую деятельность. Работал в Пертовском совхозе разнорабочим и счетоводом, продавцом сельпо и председателем рабочего комитета совхоза, заведующим магазином, бригадиром полеводства и снабженцем. В 1936–1937 годах служил в РККА курсантом школы артиллерийской инструментальной разведки и артиллеристом в одной из частей Белорусского военного округа. После службы устроился завхозом, потом работал завскладом и председателем завкома на Пертовском спиртзаводе, а перед самой войной был назначен заместителем председателя колхоза «Красное знамя» и одновременно избран секретарем первичной партийной организации. С этой должности и ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны.
С 24 июня сорок первого по июнь сорок второго года Макар Григорьевич служил фотолаборантом и заведующим делопроизводством вещевого обозного отделения 660-го батальона аэродромного обслуживания Калининского фронта.
В боевой характеристике, выданной Кленову при направлении на армейские курсы младших политруков и подписанной батальонным комиссаром военкомом Чернявским и секретарем парторганизации 660-го БАО батальонным комиссаром Сычом, сообщалось: «Товарищ старший сержант Кленов М.Г. идеологически выдержан, морально устойчив, во время пребывания в БАО проявил себя как дисциплинированный младший командир, с работой справлялся хорошо, активно участвовал в общественно-политической жизни, был агитатором и парторгом отдела интендантской службы. Среди товарищей общителен и пользуется хорошим авторитетом. Дисциплинарным и партийным взысканиям не подвергался и под судом не состоял, родственников за границей и репрессированных не имеет. Делу партии Ленина – Сталина предан».
Что же способствовало отбору дяди Макара в НКВД? Вероятнее всего, пролетарское происхождение, практически ничем не запятнанное, принадлежность к партии и склонность к партийно-политической работе, дисциплинированность и честность, ответственность и трудолюбие… Все это, действительно, было у него в наличии. И по состоянию здоровья М.Г. Кленов был признан годным для работы в чекистских органах. Об этом свидетельствует справка, выданная в июле сорок второго года начальником санитарной службы курсов военврачом 2-го ранга Демьяненко.
Что могло помешать переводу в органы? Отсутствие профессиональной подготовки и невысокий уровень общего образования. У дяди Макара Григорьевича за плечами была только семилетка. Впрочем, в стране, где еще в 1939 году оставались безграмотными восемнадцать и восемь десятых процента всего населения, а среди взрослых людей почти одиннадцать процентов, такое обстоятельство явно не являлось определяющим. Куда как более сдерживающим мог оказаться факт судимости тестя Макара Григорьевича – Сергина Александра Ивановича, который являлся председателем колхоза «Красный путь» и кандидатом в члены ВКП(б), но в 1939 году из партии и из колхоза был исключен за пьянство и плохую работу доверенного ему хозяйства. Советский суд приговорил Сергина к одному году принудительных работ, и в том же году он этот срок отбыл. Однако судимость оставалась несмываемым пятном на биографии тестя и вполне могла отразиться на чекистской карьере Макара Григорьевича. По счастью для него, кадровик особого отдела НКВД СССР Калининского фронта, проверявший биографию Кленова, не признал компрометирующим для проверяемого факт судимости его тестя.
19 июля 1942 года Макар Григорьевич Кленов, как всякий поступающий в органы НКВД заполнил обстоятельную анкету, содержащую пятьдесят два вопроса и более трех десятков подвопросов к ним со множеством уточнений и замечаний.
Эти вопросы касались буквально всех сторон биографии и поставлены были таким образом, что просвечивали кандидата на службу в органы НКВД как будто рентгеном, не позволяя скрыть даже малейший эпизод его жизни. Важно заметить, что переход дяди Макара Григорьевича в НКВД совпал с одним из самых напряженных периодов Великой Отечественной войны, когда враг рвался к Волге, а наши войска отступали. В эти самые дни появился знаменитый приказ № 227, известный еще как приказ: «Ни шагу назад!» В таких условиях, казалось, было совсем не до того, чтобы кандидата в чекисты заставлять столь подробно излагать историю своей довоенной жизни и так пытливо проверять ее с разных сторон. Но заведенный еще в первые годы существования ВЧК порядок соблюдался свято: без «чистой анкеты» дорога в органы НКВД любому из претендентов была закрыта.
Особое внимание уделялось идейно-идеологической проверке. Чекистом мог стать только человек, принимающий политику коммунистической партии без колебаний. Макар Григорьевич написал, что в оппозиционных и антипартийных группировках не участвовал, в других партиях не состоял. Участия в революции, как, впрочем, и в контрреволюционном движении не принимал. С 1931 года он состоял в союзе рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленности СССР, а в 1938 году был избран членом областного комитета этого Союза. В Красной гвардии и в партизанских отрядах М.Г. Кленов не служил, под судом и следствием не находился, осужден, выслан или раскулачен не был, права голоса не лишался. Иностранными языками не владеет, за границей не был и родственников там не имеет. На территории, занятой белыми, не находился. В царской, белой и иностранных армиях не служил. В боях против Красной армии не участвовал. Не был он в плену и интернированным, на захваченной врагами территории не проживал ни одного дня.
Среди родственных связей М.Г. Кленова им были указаны мать и родители жены, как лица, с которыми поддерживается переписка, обусловленная семейными связями. На момент заполнения анкеты Макар Григорьевич был женат, но детей не имел. Его мать, жена и ее родители, как свидетельствовала анкета, в другом подданстве тоже не состояли, до революции наемной рабочей силы не имели и в своем хозяйстве труд батраков не использовали. И далее по списку на родственников распространялись все те же вопросы, что и на самого кандидата в органы. Из ответов следовало, что и они оппозиционерами и контрреволюционерами не являлись; в других партиях не состояли; в Белом движении не участвовали; не служили ни в старой, ни в новой царской, ни в белой, ни в какой иностранной армиях, ни в полиции, ни в жандармерии; ни при царе, ни при временном или ином буржуазно-национальном или интернациональном правительстве не находились в тюрьме…
Анкета все дотошно фиксировала и любые несовпадения и разночтения в ней могли трактоваться не в пользу проверяемого. В конце анкеты М.Г. Кленов расписался в том, что предупрежден об ответственности за дачу ложных и неправильных сведений, и на самый последний вопрос: «Что еще желаете сообщить о себе, жене, родителях и родственниках?» написал – «добавить нечего».
Пятнадцатистраничная анкета самым подробным образом освещала все стороны жизни и деятельности не только самого опрашиваемого и всех его близких, кровных родственников, но и родню жены…
Современное тестирование и проверка на детекторе лжи будущих сотрудников спецслужб и всевозможные психологические собеседования, по мнению Сазонова, на фоне той давней рукописной анкеты выглядели всего лишь жалким подобием…
После окончания проверки М.Г. Кленов был принят на службу в органы госбезопасности и направлен на ускоренные курсы подготовки оперативных работников при Высшей школе НКВД СССР.
Глава вторая
Разыскиваемый Сазоновым главный взяткодатель «оборотней» Иенг Манго по прозвищу Майкл действительно оказался гражданином Камбоджи.
Сазонов тут же запросил сведения у погранконтроля. Оказалось, что Иенг Манго на протяжении последних лет неоднократно бывал в России и благополучно возвращался к себе на родину. Последний раз Майкл (Сазонов про себя называл его именно так) въехал в Российскую Федерацию пару месяцев назад и как будто растворился на ее бескрайних просторах.
Запросы, разосланные Сазоновым по гостиницам Москвы, ничего не дали. «Наружка», или на профессиональном сленге «ноги», выставленная к общежитию, о котором упоминала Маркиза, в течение двух недель Майкла тоже не обнаружила, и анализ продажи авиабилетов по внутренним линиям не принес ожидаемых результатов. Трудность была в том, что у Сазонова не было фотографии Майкла – и раздобыть ее ему никак не удавалось, да и со временем рождения у этого иностранца была какая-то путаница.
В таких обстоятельствах Сазонову ничего иного не оставалось, как ждать. Но ждать не пассивно, а подобно пчелке в медоносную пору, собирая по крупице информацию от всех задействованных служб, анализируя ее, очищая от лишнего, наносного и накапливая сущностное и полезное. Он неоднократно пересмотрел всю фото- и видеосъемку, проводимую «наружкой», перечитал, и не единожды, все отчеты и материалы допроса свидетелей, но никаких новых зацепок для себя не обнаружил…
Проводимая работа напоминала ему труд реставратора, который слой за слоем, медленно и осторожно, стараясь не повредить первоисточник, смывает почерневшие от копоти свечей и времени лакокрасочные покрытия, чтобы добраться до подлинного изображения. Сазонову вдруг пришла мысль, что так же работает и память у человека: чтобы заглянуть в прошлое, необходимо освободиться от наслоений ненужных воспоминаний, тогда, возможно, станут заметны детали давнего события, раскрывающего истину.
Сазонову удалось узнать, что мать у Майкла была вьетнамкой, а отец – китайцем. И что оба они оказались в Камбодже в 1978 году, где и познакомились. Невольно вспомнилось, что именно в тот самый год, когда Сазонов выпустился из Курганского высшего военно-политического авиационного училища и был назначен помощником начальника политотдела авиационного полка по комсомольской работе, а в 1979-м началась война между Китайской народной республикой и Вьетнамом.
Полк пограничной авиации, где служил Сазонов, базировался на аэродроме в урочище Бурундай под Алма-Атой и был оснащен самолетами Як-40 и вертолетами Ми-8. Внезапно полк подняли по тревоге и перебросили в Уйгурский район на границу с Китаем.
Оказалось, что шестисоттысячная группировка Народно-освободительной армии КНР только что вторглась в дружественный СССР Вьетнам. Два месяца продолжались ожесточенные боевые действия в северных провинциях этой страны, в ходе которых китайцы потеряли более шестидесяти тысяч своих солдат, сотни бронетранспортеров и орудий. И все это время вертолеты и самолеты сазоновского полка непрерывно барражировали вдоль границы с Китаем, проводя боевые стрельбы и сбор разведданных, мозоля глаза китайским военным наблюдателям и демонстрируя готовность к началу широкомасштабных боевых действий. Шесть военных округов СССР были приведены в боевую готовность, две воздушно-десантные дивизии перебазированы из западных областей на восток, одна из них – в Монголию, с аэродромов которой до Пекина не более полутора часов лету. В это же время выдворили из Москвы китайское посольство и нарочно отправили его персонал, среди которого были, конечно, и штатные сотрудники китайской разведки, в Пекин не самолетом, а по железной дороге. Китайские дипломаты смогли воочию увидеть идущие от Уральского хребта на восток железнодорожные составы с танками и другой боевой техникой. Активность боевой учебы на советско-китайской границе и мобилизационные приготовления СССР, несомненно, подтолкнули руководство КНР к прекращению агрессии против Вьетнама и отводу своих войск на исходные позиции.
В течение этих напряженных месяцев с Сазоновым произошел один показательный случай, научивший его тому, что в работе пограничников, как структуры Комитета государственной безопасности СССР, мелочей не бывает. Однажды, с разрешения начальника заставы, он взобрался на вышку, где нес службу коренастый сержант-пограничник, курносый, веснушчатый, с торчащими из-под фуражки волосами цвета соломы и слегка оттопыренными, загорелыми до черноты и местами облезшими ушами. Он время от времени припадал к окулярам ПДНК – прибора дальнего наблюдения – и озирал границу и подступы к ней с обеих сторон. О визите лейтенанта Сазонова сержант был заранее предупрежден, потому, поприветствовав, охотно уступил ему место у окуляров. Сазонов стал с любопытством новичка рассматривать сопредельную территорию КНР, до которой было не более трехсот метров. Активно вращая ПДНК, обладавший прекрасной оптикой, Сазонов смог до мельчайших подробностей разглядеть китайскую вышку с дежурившим на ней пограничником, строения китайской погранзаставы, нескольких китайских солдат у продовольственного склада, которые перебирали картошку и играючи перебрасывались ею… Вдруг до ушей Сазонова донеслись глухие звуки сирены, китайские солдаты оставили свое занятие и куда-то побежали, а сержант попросил уступить место у ПДНК ему. У китайцев началась какая-то суматоха. Тут на вышке зазвонил телефон, и дежурный передал, что Сазонову надо немедленно прибыть к начальнику заставы.
На столе у начальника заставы непрестанно трезвонили телефоны. Капитан, отвечая на очередной звонок, жестом указал Сазонову на стул. Положив трубку, посетовал:
– Наряды с границы докладывают, что китайцы по тревоге покидают места постоянной дислокации, расползаются по укрытиям, артиллерию выводят на боевые позиции… С чего бы это, е-кэ-лэ-мэ-нэ? У нас ведь договоренность с их погранцами, по которой ни мы, ни они активных мероприятий на границе сейчас обязуемся не проводить… Ничего понять не могу! До сего дня не было никаких поползновений… И чего это они всполошились?
Сазонов в легкой растерянности вертел в руках фуражку…
– Послушай, лейтенант, – вдруг спросил капитан, – а ты что, в этой фуражке на вышку поднимался?
– Так точно! У меня другой нет…
На смуглых щеках капитана проступили багровые пятна:
– Е-кэ-лэ-мэ-нэ, лейтенант… Так это же из-за тебя весь сыр-бор поднялся! Наши желтолицые соседи тебя за авианаводчика приняли! Наверняка подумали, что фиксируешь цели на их территории! – он указал на авиационные крылышки на зеленой тулье фуражки Сазонова. – Вот что, авиация, бери-ка мой уазик и дуй поскорее в гостиницу погранотряда. Сиди там, как мышь, пока офицеры разведки и комендатуры не нагрянули и не поняли, кто спровоцировал маоистов на активные действия… Да гляди, держи язык за зубами, а то и тебе, и мне за нагнетание обстановки на границе достанется на орехи…
И еще один случай навсегда запомнился Сазонову. Во время сборов комсомольских работников пограничного округа их повезли в музей погранотряда, рассказывали о подвигах пограничников на советско-китайской границе, а после на заставе «Чиндалы» радушный замполит приготовил для гостей баню и накрыл «дастархан».
В самый разгар комсомольских посиделок в баню влетел старлей, начальник заставы, и ошарашил завернутых в солдатские простыни и попивающих сухое винцо комсомольцев:
– Ребята, вы ключи от моего сейфа не брали?
Все отрицательно замотали головами, мол, в кабинет заходили, но только в его присутствии, никаких ключей не видели и, само собой разумеется, не брали…
– Значит, особист взял… – как-то сразу сник начальник заставы. – Плакал мой капитан…
Товарищи по посиделкам как-то стушевались и заерзали, стали прятать под стол бутылки с «сухарем», как школяры, впервые закурившие за углом школы, прячут за спину окурки, когда появляется строгий школьный завуч. Оказалось, что следом за комсомольскими работниками на заставу приехал майор Руденко, старший оперуполномоченный, обслуживающий эту часть. А при нем распивать спиртное – себя не любить. Сазонову тут же растолковали, что на границе даже самое безобидное сухое вино запрещено, здесь действует строгий сухой закон.
А ключи, действительно, незаметно унес из кабинета начальника заставы особист, проведя таким суровым образом практическое занятие по бдительности: в сейфе начальника заставы хранились совсекретные документы, а он оставил ключи без присмотра на рабочем столе и вышел из своего кабинета, не закрыв дверь.
К чести майора Руденко, провинившийся начальник заставы не пострадал. Особист после строгой нотации вернул старлею ключи от сейфа и не стал о происшествии сообщать по команде, дав тем самым и Сазонову урок на будущее: чекист – не слепое орудие возмездия, а советский человек, для которого главное – не карать, а профилактировать, а если уж поступать сурово, то только во имя бдительности и безопасности государства.
И еще одна памятная встреча состоялась тогда. В восьмидесятом году Сазонову довелось быть участником форума советской и вьетнамской молодежи в городе Алма-Ата. Его поразили молодые вьетнамцы – вчерашние дети. Все они в свои шестнадцать-семнадцать лет уже участвовали в боевых действиях с китайскими агрессорами, совершали подвиги, были награждены…
Все эти воспоминания, конечно, не имели прямой связи с Майклом – вьетнамцем и китайцем одновременно, к тому же – не героем, а преступником, которого Сазонов должен был непременно найти. Но заставили его задуматься над национальными особенностями представителей этих народов, поискать в них те самые подсказки, которые помогли бы ему в поисках неуловимого взяткодателя…
Как-то, анализируя снова и снова документы по делу «оборотней», Сазонов в очередной раз засиделся допоздна в своем кабинете. Он, наверное, просидел бы так всю ночь, не загляни к нему Виктор Леонардович.
Начальник окинул кабинет зорким взором:
– Чего домой не идешь, Михаил Иванович?
– Работаю, – привстал из-за стола Сазонов.
– Давай закругляйся… Мне надо, чтоб у тебя с утра голова свежей была… – то ли отчитал, то ли похвалил его начальник и прикрыл за собой дверь.
Сазонов сложил бумаги в папку, вышел из-за стола, потянулся, расправляя усталые мышцы, положил папку в сейф, достал из него вальтер – немецкий миниатюрный газовый пистолет, который носил с собой на всякий пожарный… Привычными движениями надел кобуру для скрытного ношения оружия, сунул в нее вальтер и потянулся за пиджаком, но ему показалось, что курок у пистолета взведен.
Сазонов удивился этому обстоятельству, ибо по давней, армейской еще, привычке всегда оставлял оружие в сейфе, поставленным на предохранитель. Он вынул вальтер из кобуры: так и есть – предохранитель не снят, а пистолет на взводе.
Сазонов извлек магазин, и так как затвор он не передергивал, посчитал, что патрона в патроннике нет, снял предохранитель и нажал на спусковой курок.
Хлопнул выстрел. Кабинет наполнился едким слезоточивым газом, от которого сразу в носу засвербело и слезы брызнули из глаз. Сазонов опрометью выскочил из кабинета и захлопнул за собой дверь, помчался в туалет, где долго промывал глаза и лицо под струей холодной воды из-под крана.
Затем, намочив носовой платок и закрыв им нос, он вернулся в кабинет, распахнул окно настежь и снова выскочил в коридор.
По счастью, в управлении уже никого не было, и его выстрел не устроил переполоха.
Прохаживаясь по коридорчику перед дверью в кабинет, Сазонов, хлюпая носом и вытирая слезящиеся глаза, размышлял, как могло случиться такое происшествие: «Кто же меня так проучил и дослал патрон в ствол? Неужели кто-то из сослуживцев?»
Он припомнил, что выбегал за какой-то бумагой в соседний кабинет, оставив свой сейф открытым, но в кабинете в это время были оба майора, которые никому чужому рыться в его сейфе не позволили бы…
«А вдруг это так глупо подшутил кто-то из них? Нет! На Сергея и Андрея совсем не похоже… – но, видать, неспроста вспомнился ему сегодня майор Руденко и случай с начальником заставы. – Да, чекисту расслабляться никогда нельзя: ни на работе, ни дома! Равно, как безоговорочно верить тем, кто рядом… Но как же без доверия? Нам ведь приходится не только в кабинете сидеть, но и навстречу настоящей опасности идти».
Выждав полчаса, Сазонов вернулся в кабинет. Газ уже выветрился.
Сазонов закрыл окно. Оделся и поехал домой, продолжая прокручивать в голове тот же вопрос: кто все-таки заставил его умыться слезами и соплями?
Дома на кухне, когда домашние уснули, он разобрал вальтер и нашел-таки причину. Виноватым оказались вовсе не люди, а конструкция самого пистолета и его очень тесной кобуры.
У затворной рамы оказалась слишком слабая пружина, а предохранитель и вовсе снимался от одного прикосновения к нему.
«Выходит, я сам передернул затвор, когда прятал вальтер под мышку!» – с облегчением подумал Сазонов, но выговор себе все же сделал: быть внимательней и заповедь «Бди!», сколько бы ни прослужил, не забывать!
В детстве Сазонов играл с соседскими мальчишками в «стукалочку». Незатейливая забава состояла в том, чтобы к длинной леске привязать металлическую гаечку, затем это нехитрое приспособление незаметно прикрепить к ветке дерева под окном у бабы Мани, гонявшей их крапивой при набегах на ее сад, а вечером спрятаться в отдалении и, то натягивая, то отпуская леску, стучать в окно и хихикать, когда баба Маня выглянет и, никого не обнаружив, огласит округу возмущенным криком: «Кто тут? Кто озорничает?» – и захлопнет окошко. А они снова постучат, и все повторится опять: распахнется окно, выглянет баба Маня, закричит… И так до тех пор, пока старушка не обнаружит «стукалочку» и не пойдет по леске прямо к их укрытию, которое надо успеть, ломая кусты, с диким гоготом быстренько покинуть и скрыться в темноте, пока не узнан, не пойман и не отдан отцу на «расправу».
Но игра – игрой, как ты ее не назови, а то, что доносить и наушничать, жаловаться и ябедничать на товарищей (да и не на товарищей тоже) – дело последнее, это Сазонов запомнил с детства. Когда он учился во втором классе, одна учительница, всегда такая ласковая и улыбающаяся, застукала его с пацанами-одноклассниками за школой, пытающимися раскурить сигарету «Памир». Она прошла мимо и даже замечание им не сделала, но тут же доложила обо всех курящих директрисе. А у той был такой нрав, что школяры давали кругаля, если видели, что она идет навстречу по дорожке, только бы с ней лицом к лицу не столкнуться. Директриса, конечно, сразу вызвала их в кабинет, стала выпытывать, откуда сигареты, откуда спички… Один из товарищей Сазонова признался, что сигарета была одна, и ту они подобрали у местной туберкулезной больницы, а спички Миша Сазонов принес из дома.
Что тут началось…
– Да вы с ума сошли: подбирать что-то возле туберкулезной больницы, да еще – в рот к себе тащить! – ужаснулась директриса. – Как вы туда попали? А ты, Сазонов, – сын уважаемого человека, заведующего колхозным складом, разве не знаешь, что спички брать из дому нельзя? От спичек пожар случается! Огонь может все уничтожить! А табак уничтожает ваши легкие, выжигает их, как самый настоящий пожар…
Но как директриса ни разорялась, как мозги им ни промывала, а родителям ничего не сообщила, чем заслужила себе немалое уважение в их мальчишеском кружке. Ведь расскажи она о происшествии отцу Сазонова и другим отцам, те в сердцах могли кого ремнем, а кого и дранкой поперек спины отходить…
А вот наябедничавшую на них миленькую с виду учительницу они с той поры невзлюбили… Нечего было стучать!
С презрением к стукачеству и доносительству, пронесенным через юность и срочную службу, Сазонову не сразу, но удалось примирить главные принципы работы с агентурой, когда он перешел служить в особый отдел энского погранотряда.
Старшие товарищи быстро разъяснили ему разницу между стукачеством и добыванием информации при помощи источника. Стукач или доносчик – это тот, кто информирует начальство или органы, преследуя шкурные цели, и делает это инициативно, поставляя, как правило, малоинтересную и зачастую недостоверную информацию. Негласный источник, находящийся в максимальной близости от объекта оперативного интереса, сотрудник разыскивает сам, затрачивая на это массу усилий и времени. Далеко не каждый из тех, кто может быть полезным органам безопасности, под воздействием бытующего в обществе стереотипа о доносительстве, воспринимает предложение о сотрудничестве с восторгом. Искусство оперативника в том и заключается, чтобы убедить человека негласно поработать на свою страну и не потерять при этом уважение к себе самому и к органам безопасности. Именно поэтому приобретение надежного источника – настоящий праздник для оперативника. И чтобы этот «праздник» был долгим, сотруднику приходится непрестанно заботиться о своем источнике, учить его, оберегать, сопровождать по жизни…
Сазонов все это зарубил себе на носу. И все-таки, приняв разумом работу с источником как суровую профессиональную необходимость, он некоторое время, пока не обвыкся, чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Наверное, нечто подобное испытывают первокурсники мединститута, которых обязательно водят в анатомичку, чтобы посмотрели, как препарируют тела умерших. Кое-кто после таких посещений отсеивается, понимает, что медицина – не его призвание. Молодых же оперов никто в анатомичку не водил и подобным суровым образом на профпригодность не проверял… А и стоило бы. И дело тут не в наблюдении за препарированием мертвой плоти (Сазонов к этому времени уже не однажды побывал «за речкой», то есть – в Афганистане, и вдоволь нагляделся на убитых и изувеченных войной пограничников), а в том, что сами приемы чекистской работы, несмотря на наказ про «чистые руки и горячее сердце», не всегда чисты и моральны с точки зрения обычного человека. И вот с этой специфической «аморальностью» Сазонов как бывший политработник, воспитанный на моральных принципах строителя коммунизма и пацанско-солдатских представлениях о чести и достоинстве, примирился не сразу. Не будь профессия чекиста его собственной, еще детской мечтой, а согласие перейти служить в особый отдел добровольным, он мог бы даже усомниться в верности такого поведения. Но высокие цели защиты государственной безопасности обязывали специфику новой службы принять, несмотря на все былые представления о сущем и должном.
Он, конечно, и виду не показывал, что у него на душе кошки скребут, когда его наставник Морозкин рассказывал ему о правилах вербовки и взаимоотношений с информаторами, предупреждая, что лучшими агентами, как правило, являются казарменные хулиганы, а вовсе не комсомольские и партийные активисты, которых по негласной установке вообще привлекать к агентурной работе нельзя. Сазонову же с такими солдатами, на кого имеется какой-то крючок или ниточка, за которую можно подергать, доверительное общение давалось на первых порах непросто. Но действовать по принципу «цель оправдывает средства» не хотелось, а пришлось…
Однажды возникла острая оперативная необходимость приобретения источника информации в негативной среде. Старший опер поставил Сазонову задачу подобрать и подготовить такого помощника из числа военнослужащих, склонных к нарушению воинской дисциплины. Изучая одного из кандидатов, он установил, что этот солдат является неформальным лидером группы земляков, призванных из Казахстана и Киргизии, уже здесь, в части, умудрился поучаствовать в хищении наркотических средств из аптеки, вел себя нагло, провокационно: дерзил старшим начальникам, демонстративно нарушал воинскую дисциплину и всеми способами добивался перевода в другое, не чекистское подразделение, дескать, «ему западло здесь служить, что лучше прийти домой с зоны, как два его подельника по воровству, которых осудили, а его почему-то нет»…
Сазонов долго доверительно беседовал с ним и сумел добиться откровения, что именно этот солдат и сдал своих подельников по воровству наркотиков. Бравируя перед Сазоновым, он признался, что они тогда не только наркотики похитили, но и проститутку привели в часть и надругались над нею, пригласив еще нескольких сослуживцев. Факт изнасилования проститутки он вообще преступлением не считал: дескать, проститутка – она и есть проститутка… Сазонов попросил его письменно зафиксировать все сказанное, а когда корчивший из себя этакого уркагана молодой дебил изложил на бумаге и обстоятельства кражи, и случай с девицей легкого поведения, сменил тон разговора с ним, пообещал обратиться в военную прокуратуру и ходатайствовать о направлении дела на пересмотр и доследование. Тут же он нарисовал в цветах и красках перспективу, которая ждет этого «героя» и всех его подельников в местах не столь отдаленных, когда выяснится неуважаемая статья, по которой они будут осуждены, и еще намекнул, что подельникам обязательно станет известно, кто дал на них показания. Несостоявшийся урка тут же задергался и сник: «Что же мне делать, товарищ капитан? Я на все готов, только бы они не узнали…» – и согласился сотрудничать. Впоследствии Сазонов не только регулярно получал от него ценную информацию о состоянии дел в роте, но и передал этот «источник» коллегам-территориалам, которые уж точно нашли, как использовать его с пользой для Родины.
В другой раз Сазонов обратил внимание на молодого солдата, призванного в погранвойска после окончания техникума. Парень был коммуникабельный, общительный, имел обширные земляческие связи в разных подразделениях. Но первые встречи и попытки поговорить с ним, заинтересовать и склонить к сотрудничеству ни к чему не привели. Солдат начинал замыкаться, щетинился, как еж, и наотрез отказывался выполнить любые, даже самые безобидные просьбы, скажем, дать самую обычную характеристику своим сослуживцам.
Сазонов направил запрос по месту жительства и выяснил, что коллеги – территориалы (или «театралы», следуя сленгу) в том самом техникуме, где этот солдат учился до призыва, выявили и провели профилактирование некой молодежной группы неофашистской направленности… С каждым из студентов техникума чекисты проводили долгие беседы, давили на них, запугивали и угрожали… Вот у кандидата, изучаемого Сазоновым, и сложилось устойчивое представление, что от сотрудников органов госбезопасности добра не жди! Долго и безуспешно Сазонов пытался переубедить его на предмет сотрудничества, для этого оставил в гарнизоне, переведя в одно из курируемых им инженерных подразделений, и даже попросил однажды своего наставника Морозкина поприсутствовать при беседе с кандидатом.
Опытный Морозкин выбор Сазонова сразу одобрил:
– Кандидат что надо! Работай с ним!..
И Сазонов стал работать, неторопливо и внимательно. Занимаясь своими повседневными задачами, он не упускал этого кандидата из вида. Снова и снова беседовал с ним на отвлеченные темы, прощупывал его настроение. Солдат постепенно становился разговорчивее, но по главному вопросу чувствовалось, что он все еще не готов к сотрудничеству. Время шло, и надо было выводить инженерные подразделения на границу, а кандидат продолжал держать глухую оборону…
– Что мне делать с ним, Александр Васильевич? – спросил Сазонов у Морозкина.
– Активизируй процесс, – посоветовал наставник и на пальцах объяснил, как именно это сделать.
Следуя мудрому совету, Сазонов через одного офицера попросил назначить выбранного им кандидата водителем на новую машину. А вскоре после этого уговорил другого офицера, с которым по стечению обстоятельств жил по соседству и находился в приятельских отношениях, найти предлог и снять упрямого кандидата с этой машины и пересадить его на старую, стоящую в ангаре без колес…
Спустя какое-то время Сазонов встретился с кандидатом, спросил участливо:
– Ты понимаешь, что происходит, солдат? Почему служба у тебя не складывается? Все твои однопризывники уже автотракторную технику к выходу на границу готовят, а ты все со старой развалюхой возишься… Может, чем-то надо помочь?
Тот в ответ только усмехнулся:
– Чем вы мне поможете? – и сказал, как отрубил: – А если и возьметесь помогать, я все равно стукачом ни за что не буду!
В конце концов, опять же не без участия Сазонова, оказался его кандидат на гарнизонной гауптвахте для наведения там порядка, уборки в камерах, пока в них нет арестованных, так сказать, на своеобразной экскурсии. И эта «экскурсия на губу» вдруг повлияла на него, ибо попадание на губу навсегда закрывало любому солдату дорогу на границу – кандидат знал эту непреложную истину. А на границе служить он очень хотел!
Беседа, состоявшаяся с ним после рабочего дня на гауптвахте, принесла нужный результат, и Сазонов приобрел себе ценного информатора, которому присвоил оперативный псевдоним Сынок.
В дальнейшем из Сынка вырос отличный помощник, участвовавший во многих проверках и разработках солдат, склонных к нарушению воинской дисциплины. Благодаря информации, полученной от Сынка, многих из потенциальных нарушителей перевели с заставы в гарнизон и не допустили больше к несению службы на границе, предотвратив тем самым не одно правонарушение. Сынок хорошо проявил себя и во время ЧП, случившегося в работавшей на границе инженерно-саперной роте летом восемьдесят третьего.
Это происшествие стоило Сазонову первых седых волос. Тогда сержант Сериков, над которым издевались старослужащие, изготовил и взорвал в палатке самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли два солдата второго года службы, около десятка было ранено и получило контузии. Сериков скрылся, и о его местонахождении ничего не было известно. Сазонова срочно отозвали из отпуска. Он приехал к месту происшествия тогда, когда там уже работали следователи военной прокуратуры.
На месте бывшей большой ротной палатки громоздились искореженные и причудливо переплетенные друг с другом солдатские двухъярусные кровати, на земле перемешались пепел, битое стекло, личные вещи военнослужащих и обломки табуреток, повсюду – кровь. Сазонов немедленно начал опрос уцелевших саперов, среди которых был и Сынок. Все солдаты в голос утверждали, что наблюдали незадолго до взрыва метеоритный дождь. Сазонов понимал, что это – бред сивой кобылы и никакого дождя видеть они не могли, так как в три часа ночи спали без задних ног, а вовсе не любовались красотами звездного августовского неба. Но опрашиваемые все, как один, стояли на своем: видели метеоритный дождь. И только Сынок в конфиденциальной беседе прояснил ситуацию.
– Михал Иваныч, – по-свойски обратился он к Сазонову, который разрешал своим подопечным наедине называть его по имени и отчеству – так беседа получалась более задушевной. – За два часа до вашего приезда сюда примчался какой-то майор из погранотряда. Он всех, кто уцелел после взрыва, собрал и строго проинструктировал, что палатка загорелась от метеоритного дождя, а мы это видели своими глазами…
Сазонов тут же проверил эту информацию. В самом деле, первым на месте происшествия оказался майор Максимов, офицер инженерного отдела погранотряда, курирующий эту роту. Он вроде бы человек с высшим инженерным образованием и неглупый, а выдумал сущую нелепицу, пытаясь списать на «метеоритную версию» случившуюся трагедию, за которой, как был убежден Сазонов, стояли не только неуставные взаимоотношения в роте, но и безалаберность в хранении боеприпасов, в частности, аммонала, выделенного роте для проведения взрывных работ. А это ни много ни мало, а десять тонн!
Сазонов еще полмесяца назад в своей информационной записке командованию погранотряда сообщал о том, что взрывчатые вещества в роте хранятся с нарушением инструкций, что выдачу их для ежедневных взрывных работ никто должным образом не учитывает. Проведенная сразу же после ЧП ревизия этот факт подтвердила. Так что немудрено, что злополучному сержанту Серикову легко удалось спрятать утаенную взрывчатку и сделать из нее самодельную бомбу.
К вечеру удаленная горная застава стала напоминать крупный штаб перед решающим сражением. Из Москвы и Алма-Аты прилетели высокие чины с лампасами, начала работу специальная комиссия. Причиной столь пристального внимания к ЧП стало то обстоятельство, что главный виновник – сержант Сериков после взрыва сразу не был найден. Прочесывание окрестных гор ничего не дало. Собаки след сержанта взять не смогли, так как вокруг было пожарище, да и солдаты носили бушлаты, пропитанные едко пахнущим креозотом, к тому же зачастую менялись ими. Местные начальники предположили худшее: Сериков, совершив преступление, рванул за границу. А такой побег – это уже деяние по «Ивану Романовичу» (так шифровали между собой особисты статью «Измена Родине»), то есть – особо опасное государственное преступление, напрямую относящееся к подследственности КГБ. Потому-то и понаехало столько высоких чинов, и стали разбираться в происшествии они с таким пристрастием.
Уже глубокой ночью Сынок нашел способ сообщить Сазонову о случайно услышанном им разговоре сослуживцев, что кто-то ходит по территории заставы в грязной форме. Это Сазонова насторожило, так как к приезду начальства всех солдат переодели в новую… Сазонов тут же пошел на заставу и, обследуя все помещения одно за другим, нашел сержанта Серикова в котельной:
– Сергей, ты меня узнаешь? Помнишь, мы с тобой беседовали недавно?..
– Да, товарищ капитан, узнаю, – ответил Сериков и внезапно всхлипнул. – Простите меня, что я вам не сказал, что меня деды бьют. Решил сам за себя постоять, по-мужски отомстить им…
– Ну, вот отомстил по полной программе… – Сазонов и без Серикова знал, что происходит в роте. Сынок и другие информаторы подробно и не раз уже сообщали ему о казарменных хулиганах, да и собственные задушевные беседы с саперами не оставляли сомнений, что в подразделении вовсю царит дедовщина, к тому же поощряемая ротным. Сазонов полмесяца назад специально приезжал в эту роту, чтобы решить с ее командиром вопрос об отправке распоясавшихся «дедов» с границы. Ротный тогда уперся, мол, мне план взрывных и дорожных работ выполнять надо. И хотя нескольких ярых хулиганов он все же откомандировал в гарнизон, но с десяток их сообщников и подражателей оставил в подразделении. Они-то и стали жертвами мести Серикова.
– Теперь плакать бесполезно, Сергей! Пошли со мной, – Сазонов с жалостью посмотрел на сержанта, взял его, как маленького, за руку и повел к выходу из котельной. Сериков не сопротивлялся, покорно поплелся следом.
– Где же ты прятался, что тебя найти не могли? – спросил Сазонов.
– Когда все вышли окрестности прочесывать, я пробрался в кочегарку. А потом, когда поиски закончились, ушел в горы и бродил там. Сюда вернулся снова, когда совсем стемнело…
В канцелярии заставы, где восседали члены высокой комиссии и куда Сазонов привел виновника ЧП, их появление вызвало нечто похожее на немую сцену в конце гоголевского «Ревизора». Сазонов доложил, что это и есть тот самый сержант Сериков и что он во всем раскаивается и готов дать показания. Генералы с явным облегчением переглянулись – теперь происшествие сводилось только к общеуголовному преступлению, но не к измене Родине.
– Идите, капитан, – сказал начальник особого отдела округа, – теперь мы сами… С вами будем разбираться позднее…
Служебное разбирательство и расследование ЧП в особом отделе округа и в прокуратуре шло долго. Сериков был осужден на пятнадцать лет, сняты со своих должностей начальник политотдела и начальник штаба, а начальник погранотряда был предупрежден о неполном служебном соответствии.
Сазонов же тогда отделался легким испугом, так как в его действиях нарушений выявлено не было. Он дважды и, главное, своевременно информировал командование погранотряда и свое прямое руководство по фактам неуставных отношений в роте. Но должных и эффективных мер по устранению недостатков принято не было. Более того, на момент совершения ЧП информация Сазонова находилась в сейфе начальника политотдела и была там обнаружена проверяющими. А вторая информационная записка по тому же вопросу находилась в сейфе у начальника особого отдела погранотряда, который посоветовал молодому оперу не торопиться с выводами и тоже не предпринял ничего, чтобы на факты, изложенные Сазоновым, отреагировать…
Почему вспомнил об этом Сазонов десять лет спустя, летом 1993 года? Наверное, от обратного: нынешний его руководитель Виктор Леонардович рвал и метал, требуя скорее разыскать иностранца-взяткодателя, а это у подчиненных никак не получалось, несмотря на все предпринимаемые меры. Были эти меры по своему характеру – профессиональными и далеко не «чистоплюйскими». Доведись подполковнику Сазонову теперь рассказать о них себе самому, образца 1983 года, вряд ли бы он, тогдашний, себя, нынешнего, за некоторые шаги и предпринятые меры одобрил бы…
Но Сазонов был теперь уже тертым калачом и мог бы многое рассказать себе – молодому оперативному сотруднику в назидание. Например, о том, что вычитал у запрещенного в СССР, а сейчас очень даже модного эмигрантского философа и монархиста Ивана Ильина, о противостоянии злу силой. И это философское суждение многое объяснило Сазонову в его понимании профессии чекиста и весьма четко обосновало ее суровую необходимость. Сила, останавливающая зло, не может в конце концов не напитаться им и не стать в какой-то мере злою силою, так как использует для борьбы со злом все формы противостояния, в том числе и не всегда вяжущиеся с общечеловеческой моралью. Но являясь злом, вынужденным и неизбежным, эта сила способна остановить зло куда большего размера, зло, могущее нанести непоправимый ущерб его Отечеству и всем живущим в нем людям. Ведь и вторжение скальпеля в тело пациента приносит боль и страдание, но при этом спасает ему жизнь, удаляя злокачественную опухоль или пораженный ею орган. Чем-то похожим на такое оперативное вмешательство занимались Сазонов и его сослуживцы, выполняя при этом свою главную профессиональную задачу – обеспечение государственной безопасности страны, которой они присягали.
Почти месяц искал Сазонов неуловимого Майкла. За это время успел вернуться из отпуска Николай – сосед Сазонова по кабинету, и тут же по его наводке улетел в Сочи, где «территориалы» заприметили иностранца, напоминающего Иенга Манго. Сазонов предположил, что именно через их аэропорт камбоджиец может вылететь из страны, но иностранец при проверке оказался гражданином Таиланда.
Чтобы перекрыть другие возможные каналы вылета Майкла из России, Сазонов послал ориентировки в Санкт-Петербург, Калининград и даже во Владивосток. Вместе с майорами Сергеем и Андреем он ежедневно просматривал оперативные милицейские сводки и несколько десятков раз выезжал в районные управления милиции, где задерживались выходцы из Юго-Восточной Азии. Проверка этих личностей тоже не дала положительного результата.
Сазонов под прикрытием легенды, по которой он представлял интересы сидящих в СИЗО «оборотней», несколько раз встречался с представителями «ореховской» организованной преступной группы. Эта ОПГ крышевала в Москве иностранцев-бизнесменов. Выходить на криминальных лидеров Сазонову пришлось хитроумным способом. В московских милицейских ВУЗах учились отпрыски криминальных авторитетов. С некоторых пор у братвы стало модным пристраивать своих детей в такие учебные заведения, дабы в будущем иметь своих людей в правоохранительных органах. Через сотрудников Конторы, курирующих эти учебные заведения, Сазонов сначала познакомился с сыном одного авторитета и через него установил контакт с его отцом и его окружением. Осторожно выспрашивал у бандитов о Майкле, сетовал, что у этого «косоглазого» денег «куры не клюют» и эти деньги надо у него вытрясти для благой цели выкупа подельников. Как бы невзначай задавал вопросы о связях Майкла с другими московскими преступными группировками, с ментами и представителями таможни, рассчитывая при помощи новых фигурантов напасть на след… Выяснилось, что один из «ореховских» оказался недавно призванным в погранвойска. Факт сам по себе вопиющий и в прежние времена немыслимый: каждый призываемый на границу проходил строжайшую проверку. Но теперь нужно было воспользоваться и этим обстоятельством. Пришлось Сазонову звонить своим старым сослуживцам по пограничному ведомству. Однако и доверительная беседа с этим «ореховским» ничего нового о Майкле не принесла.
В пору было опустить руки. Но последовательно проводимая оперативно-разыскная работа даром не пропала. Все казавшиеся на первый взгляд напрасными командировки, выезды, проверки, беседы и допросы в конце концов принесли результат. Правда, он оказался не совсем таким, какой ожидал получить Сазонов.
Однажды, отправляясь в очередное РУВД на проверку задержанного вьетнамца, Сазонов захватил с собой слушателя академии, находившегося у них в отделе на практике. Этот младший лейтенант знал южноазиатские языки, в том числе и камбоджийский, и вьетнамский. Поприсутствовав на допросе, он сообщил Сазонову:
– Товарищ подполковник, а приглашенный милицией переводчик делает весьма приблизительный перевод… Не знаю, умышленно или по незнанию, но он допускает неточности… – И прочитал Сазонову целую лекцию, объясняя, чем отличаются друг от друга языки жителей разных провинций Вьетнама и соседних с ним стран.
Из объяснений этого полиглота Сазонов мало что понял – для него все азиатские языки с их мяукающими, плавающими интонациями и изменяющимися тембрами голоса в зависимости от того, о чем и по какому случаю говорит их носитель, представлялись чащобой непролазной, но сторожок себе все же поставил: а так ли точно расшифрованы записи «прослушки» по делу «оборотней». И еще одно неожиданное открытие сделал для него стажер – знаток юго-восточных языков:
– Настоящие вьетнамцы не считают день, в который они родились, достойным для запоминания. По традиции во Вьетнаме все жители страны отмечают свои дни рождения в Новый год, который они называют Тет. Именно Тет и считается днем рождения всей вьетнамской нации и каждого вьетнамца в отдельности. Празднуя Тет, все вьетнамцы поголовно добавляют к своему возрасту еще один год. Поэтому они измеряют свой возраст по количеству прожитых лунных Новых годов.
– Но ведь дата лунного Нового года ежегодно меняется…
– Так точно, меняется. Но это не важно: Тет есть Тет!
– Спасибо тебе, лейтенант! Просветил… – поблагодарил Сазонов стажера, смекнув: «Так вот почему мы никак не могли определиться с датой рождения Манго… Надо будет непременно посадить этого лингвиста на проверку перевода результатов прослушки… Ведь кого-то же из иностранцев мои менты-«оборотни» поздравляли с годом Голубого Водяного Петуха… Может, именно Майкла? А мы внимания на этот факт не обратили, зацикленные на том, что по документам дата рождения у Майкла 20 февраля 1964 года…»
В тот же день позвонил Сазонову конторский следователь из Лефортово:
– Михаил Иванович, тут наши «оборотни» в голос поют мне про одну квартиру в Орехово-Борисово, где якобы с взяткодателем встречались и посиделки устраивали с девочками и спиртным… – он назвал адрес, который показался известным Сазонову.
Сазонов нашел в оперативно-разыскном деле задание, которое давал установщику. Так назывался сотрудник, занимающийся проверкой адреса и установлением личности подозреваемых. Установщик отчитался о работе по адресу и сообщил, что ничего важного не обнаружено. Тогда Сазонов снова поднял все отчеты о результатах прослушек, сравнил их с магнитофонными записями и обнаружил, что отдельные контролеры ПТП просто не сообщали ему, как инициатору, информацию о вызове на этот адрес девушек легкомысленной профессии… И непонятно, поступали они так по девичьей скромности, ибо большинство контролеров службы техподдержки были представительницами прекрасной половины человечества, или по недомыслию.
Сазонов немедленно связался с Маркизой и поинтересовался у нее, известен ли ей упоминаемый адрес. Маркиза тут же подтвердила, что девочки по этому адресу выезжали, и неоднократно.
Удивительно, как это не зафиксировала «наружка»? Как сказал Конфуций, порой мы видим многое, но не замечаем главного.
Судя по данным, обычная пятиэтажка на рабочей окраине – хрущоба, похожая на десятки таких же вокруг. Обычный подъезд, обычный этаж, на котором четыре квартиры: две однокомнатные, двухкомнатная и трехкомнатная. Установщик по заданию Сазонова проверял двушку. Однако выяснилось, что он отработал по адресу формально, использовал для проверки только данные жилконторы, а не личный сыск: своими ногами не потопал, глазами не посмотрел, ушами не послушал. Отписался, что адрес чист и никто из подозреваемых его ни разу не посещал. Доверившись установщику, коллеги Сазонова (да и он сам!) к записям прослушки и к результатам видеонаблюдения отнеслись недостаточно внимательно.
Попеняв себе за нарушение принципа «доверяй, но проверяй», Сазонов лично поехал в адрес. Представляясь сотрудником МВД и используя свою безотказную «мурку», он под предлогом проверки паспортного режима обошел все квартиры в подъезде и поразился сделанному открытию. То, что он считал четырьмя отдельными квартирами на интересующем его этаже, оказалось одной большой коммуналкой. То есть юридически четыре квартиры существовали в документах ЖЭКа как отдельные жилые площади, а де-факто были скуплены земляками Майкла и объединены в одну квартиру, занимающую целый этаж. Внутри квартир были прорублены двери, позволяющие переходить из одной в другую, не выходя на лестничную площадку. Сбивая наружное наблюдение с толку, войти в эту общую квартиру можно было безо всякого труда через любую из четырех дверей и выйти обратно совсем из другой.
Обогащенный этим новым знанием, Сазонов вернулся в Контору и стал заново просматривать кадры видеозаписей и материалы фотосъемки. Просмотрел все с предельным вниманием, но никаких камбоджийцев или вьетнамцев, кроме тех, кто прописан в адресе, на фото и видео не обнаружил. Однако его внимание привлек статный темноволосый мужчина, однажды зашедший в подъезд и спустя какое-то время вышедший из него обратно. Он был явно восточного типа, но чертами лица скорее напоминал таджика или узбека, да и ростом был значительно выше всех известных Сазонову представителей Юго-Востока – все они были низкорослыми, не выше метра шестидесяти, то есть едва доставали Сазонову до плеча. А этот незнакомец, судя по снимкам, был вровень с любым рослым европейцем…
И еще одна молодая женщина с рыжими волосами показалась Сазонову подозрительной. Она тоже была довольно рослой, большеглазой и тоже смахивала на жительницу Средней Азии.
Ни на что особо не надеясь, Сазонов предъявил фото незнакомца и незнакомки трем «оборотням» и Маркизе.
Арестованные менты, помявшись, признали в мужчине так долго разыскиваемого Майкла – Иенга Манго. А Маркиза, хотя самого Майкла в глаза ни разу не видела, сказала, что девушка на фото – это землячка камбоджийца и его возлюбленная по имени Анна, которую ей как-то издалека показал ее любимый мент Витя.
Во время опознавания фотографий Сазонов вдруг вспомнил, что видел однажды этого рослого черноволосого парня с милиционерами из Шереметьевского линейного управления внутренних дел. Этот парень сел к ним в «жигули», и Сазонов с операми долго висели у них на «хвосте», пока на подъезде к аэропорту их самих не тормознул гаишник. Чтобы не потерять «жигули» из виду, Сазонов торопливо предъявил гаишнику спецпропуск с красной полосой. Гаишник козырнул и отпустил их, но когда они нагнали жигуленок, черноволосого парня в нем уже не было. Менты успели где-то незаметно его высадить.
Только теперь Сазонов сопоставил, что «наружку» слил тот самый гаишник, видевший его удостоверение. Он и сообщил ментам, что у них на «хвосте» висит Контора. А что менты «свои», объяснялось просто: у шереметьевской милиции было свое собственное подразделение ГАИ, а Сазонов на тот момент этого не знал, вот и засветился с удостоверением по-глупому…
Вспомнив это обстоятельство, Сазонов встретился с арестованными «оборотнями» и взял у них письменное объяснение. Они подтвердили, что в «жигулях» с ними находился именно Иенг Манго, он же – Майкл, что обсуждали они с ним вопросы получения взятки за оказанные услуги и высадили его из машины по звонку знакомого гаишника, предупредившего их о «хвосте». Объяснения ментов вместе с копиями фотографий «наружки» Сазонов передал следователю, ведущему дело, пообещав ему, что взяткодатель будет в ближайшее время найден и доставлен к нему.
Конечно, давая такое обещание, Сазонов проявил некоторую самоуверенность, но то, что зовется шестым чувством, подсказывало ему, что, обладая фотографией Майкла, он его вскоре задержит.
По горячему следу Сазонов написал новое техзадание всем службам, разослал им фото и новые приметы взяткодателя и его подруги, и сам стал «рыть землю копытом» еще азартнее, чем прежде, анализируя информацию, поступающую со всех сторон, активизируя свою агентуру и коллег по отделу. Работал, прямо сказать, на износ. Благо домой можно было не торопиться: жена с детьми уехала в ведомственный санаторий. И душа у него была на месте: за прошедший месяц они с Татьяной помирились, и Сазонов наконец-то купил ей новые сапоги. Много ли надо женщине? – Подарок и внимание…
Теперь Сазонов круглые сутки пребывал на службе: днем метался по Москве, отрабатывая поступившие сигналы, а утром и вечером анализировал сводки и даже ночевал в рабочем кабинете.
И результат не замедлил себя проявить.
«Наружка» сначала вышла на след Анны – подруги Майкла. Удалось зафиксировать номер такси, в которое она села у одного из магазинов, а по нему выйти на таксопарк, куда сразу и отправился Сазонов. В таксопарке ему сообщили, что автомобиль сдан в аренду одной иностранке и по первому же звонку предоставляется ей в распоряжение хоть на целый день. Это сообщение ничуть не удивило Сазонова: многие московские таксопарки подобным образом сводили концы с концами. Он выяснил фамилию водителя такси и поговорил с ним с глазу на глаз. Водитель сначала на контакт не шел – не хотел подставлять дорогую клиентку, но когда Сазонов предъявил ему конторские корочки, делая упор на то, что отказ будет расценен, как содействие иностранной разведке, быстро согласился сотрудничать, пообещал сразу же позвонить Сазонову, как только получит очередной вызов от Анны, и не замечать за собой «хвост». Поводив такси несколько дней по Москве, «наружка» выяснила адрес, по которому Анна снимала квартиру. А еще спустя день по этому адресу зафиксировали и неуловимого Майкла. Выяснили, что офис его торговой компании расположен прямо в камбоджийском посольстве. Майкл постоянно работает там и там же имеет жилье, выходит в город очень редко, поэтому коллеги из техподдержки и не могли его так долго разыскать и выставить за ним наружное наблюдение.
Сазонов удовлетворенно потер ладонь о ладонь и пошел к начальнику с докладом. Виктор Леонардович взбодрился, как будто это он лично разыскал взяткодателя, и отдал указание – брать немедленно!
Взяли Майкла и Анну на следующий день после того, как они вышли из посольства и сели в такси. Взяли их без шума и пыли, соблюдая все правила конспирации: внезапно заблокировали движение служебными автомобилями, быстро пересадили задержанных из такси в одну из машин. В случаях подобных захватов консульских работников страны, чьих граждан задерживали, предварительно не извещали. Так же не требовался для подобной операции и адвокат. Задержанных сразу доставили в Лефортово. Развели по разным допросным. Стали беседовать.
Поначалу разговор ни с Майклом, ни с Анной не складывался. Они завели вечную песню задержанных иностранцев – моя твоя не понимай!
– Как же так, господин Иенг, вы – филолог-русист с высшим образованием и по-русски не понимаете? – с улыбкой вопрошал Сазонов.
Майкл только головой в разные стороны мотал: мол, ни бельмеса не понимаю, требую представителя посольства.
– Ну, ладно, посидите пока, подумайте, сейчас я для вас персонального переводчика вызову… – Сазонов прошел в соседнюю допросную, где следователь пытался разговорить Анну.
Та тоже только головой мотала: я – не я, по-русски не говорю, не понимаю ничего, и тоже требовала вызвать дипломата ее страны.
Сазонов обошел Анну со всех сторон с видом цыгана, разглядывающего сноровистую кобылку, хмыкнул да так противно, что самому стало тошно, и мерзостным голоском прогнусавил:
– А что, классная телка! А ну-ка, Юра, выйди, попытай ее ухажера… А я с нею уединюсь и займусь по полной программе… Что ж такие эротические мощности без дела простаивать будут…
Тут Анна и заверещала по-русски:
– Не хочу, не можете, это нельзя, права не имеете… А-а-а-а, я буду на вас жаловаться в прокуратуру!
– О! – обрадовался Сазонов, – так вы, барышня, оказывается, все хорошо понимаете и даже нюансы типа «уединюсь и по полной программе» растолковать можете… Ну что, будем сотрудничать?
– Да, будем! Дайте мне с Майклом переговорить три минуты… Я его уговорю…
Майкл в самом деле после разговора с Анной перестал упираться и написал чистосердечное признание, к вящей радости и Сазонова, и следователя. Казалось бы, безнадежное дело, которое сначала было переквалифицировано из контрабанды в незаконные валютные операции, а затем в дачу и получение взятки должностными лицами органов МВД, неожиданно легко сдвинулось с места.
Довольным результатами работы остался и Виктор Леонардович.
Он сдержанно похвалил Сазонова:
– Ну, вот, Михаил Иванович, можешь ведь, когда захочешь! – и не отказался поучаствовать в небольшом сабантуе по поводу ареста главного взяткодателя, устроенном вечерком в их служебном кабинете. Благо Николай вернулся из Сочи, хотя и с отрицательным результатом по поводу пребывания там Майкла, но с сеткой мандаринов и двумя бутылками абхазской чачи, пахнущей дурно, но по мозгам бьющей хорошо. А именно это ударное качество серому веществу оперов для разрядки и необходимо.
Майкл оказался парнем не только симпатичным и понятливым, но и весьма прагматичным. Его отец – камбоджийский дипломат – и мать – профессор ведущего университета – дали сыну блестящее образование. Он отличался редкой начитанностью и широтой кругозора, умел быстро ориентироваться в обстановке и делать из нее правильные выводы. После нескольких доверительных бесед со следователем из Конторы Майкл вдруг заявил о готовности долговременно сотрудничать с российскими спецслужбами на взаимовыгодной основе при условии, конечно, облегчения его теперешней участи. Следователь сообщил об этом желании Сазонову, а тот – дальше по команде.
Виктор Леонардович, выслушав Сазонова, отправил его в управление контрразведки:
– Сообщи коллегам. Вдруг их это заинтересует…
– Есть сообщить коллегам! – нарочито звонко прищелкнул каблуками Сазонов. Знал ведь, что то, чему учили в сержантской учебке, в Конторе при общении руководителей с подчиненными не приветствуется, но, коль скоро и сам вышел из «сапог» и начальник оттуда же, иногда, дурачась, позволял себе вспомнить строевые приемы.
Но Виктор Леонардович, обычно на такие шалости внимания не обращавший, на этот раз урезонил:
– Давай, Михаил Иванович, без этого солдафонства. Мы не на плацу, да и сапоги нам не к лицу… – улыбнулся начальник нечаянно родившейся у него рифме.
– Есть без солдафонства! – усмехнулся Сазонов, не замечавший прежде у начальника тяги к стихоплетству.
Перекатывая в мозгу родившийся у Виктора Леонардовича слоган, Сазонов отправился к контрразведчикам, а они удивили его своей реакцией на предложение передать им Майкла:
– Не нужен нам твой Манго! Еще мы с уголовниками и контрабандистами не связывались! – так, не мудрствуя лукаво, ответили коллеги-контрразведчики на совет Сазонова присмотреться к Майклу повнимательней.
– Да вы что, мужики? Потенциальный агент, молодой, грамотный – ценный кадр, сам, можно сказать, в руки идет… Посмотрите только, из каких кругов вышел, какими семейными связями, немереными возможностями получения информации он обладает…
– Иди, иди, Михаил Иванович, не мешай работать… Мы со своими агентами как-нибудь сами разберемся…
Сазонов пожал плечами, мол, дело ваше – не понимаете привалившего счастья, и поехал в Лефортово к Майклу.
По дороге продолжал размышлять, почему контрразведчики отказались от «ценного кадра»: «Может быть, бывшие контрабандисты, в самом деле, не представляют теперь для контрразведки никакого оперативного интереса?.. А может, просто профессиональная ревность равная гордыне: дескать, не мы этого кадра раздобыли, а от вас никакая помощь нам не требуется, мы и сами с усами».
В Лефортово у него состоялся долгий разговор с Майклом. Приложив все дипломатические способности и навыки партийно-политической работы с личным составом, Сазонов постарался втолковать потенциальному агенту, что его разносторонней личностью в Конторе заинтересовались, но сейчас, для конспирации, лучше, чтобы все шло своим чередом: суд, этапирование в Явас – лагерь в Мордовии, где содержатся осужденные иностранцы.
– Там, Майкл, – пообещал Сазонов, в знак особого доверия переходя на «ты», – я тебя обязательно навещу, и наше долговременное сотрудничество будет поставлено на официальную основу. Со своей стороны я лично предупрежу сотрудников в Мордовии, чтобы они создали тебе самые благоприятные условия пребывания…
Поверил ли Майкл Сазонову, сказать трудно, но Сазонов так старался быть убедительным, что готов был поверить самому себе.
Когда он на дежурной машине возвращался из Лефортово в Контору, то заметил знакомую фигуру. Анна – девушка Майкла, отпущенная под подписку о невыезде, переставляя красивые ножки на тонких каблучках, грациозно шла по тротуару вдоль белой стены следственного изолятора. В руках у нее была сетка с продуктами, очевидно, для передачи возлюбленному. Она шла, слегка опустив голову. Красивое, грустное лицо Анны было подсвеченным изнутри каким-то неясным светом.
«Любит своего Манго… Переживает», – догадался Сазонов, проводив ее взглядом. Он невольно задался вопросом: а когда последний раз видел такое же выражение лица у своей Татьяны? Да и видел ли когда-то вообще?..
Все у них с Татьяной сложилось как-то по-простому, по-будничному, без того романтического ореола, каким любят окружать любовные истории поэты, писатели и кинорежиссеры.
Да и откуда романтике было взяться? В родном селе Сазонова, как и в родной деревне Татьяны, романтика в отношениях была не в особой чести. Хоть и говорят, что любовь – не кашель, ее не спрячешь. Но и демонстрировать напоказ свои чувства было не принято. Вернее сказать, их никто никогда и не демонстрировал – стеснялись: вокруг – односельчане, они все и так насквозь видят и все друг про друга знают. Сазонов, например, ни в детстве, ни в юности припомнить не мог, чтобы отец у него на глазах не то чтобы поцеловал мать, а хотя бы приобнял. И мама тоже никогда не сюсюкалась ни с отцом, ни с ними – детьми, не лезла с объятиями и поцелуями. И сама любовь в их семье понималась просто, как добрая совместная жизнь и общий труд по хозяйству и в огороде – от зари и до зари. Какая уж тут романтика!
С Татьяной Петровой, круглолицей и темноволосой девушкой, они учились в одной группе Сасовского технологического техникума. Встречались на занятиях и на студенческих посиделках. Она ему нравилась. Он ей, похоже, тоже. Но назвать это любовью язык как-то не поворачивался. Скорее всего, это была простая юношеская увлеченность. Так ведь и не одной Татьяне, честно сказать, Сазонов в ту пору оказывал знаки внимания… И другим девушкам из группы он тоже нравился.
Потому, когда Сазонова провожали на службу в армию, пришли его проводить все одногруппницы. И писали ему в Среднеазиатский военный округ, в танковую учебку, сразу несколько знакомых девчонок. И он всем честно и доброжелательно отвечал.
С Татьяной у них закрутилось в его первом курсантском отпуске, в январе семьдесят пятого года. Сазонов ехал тогда домой на поезде вместе с ребятами-однокурсниками, живущими в Москве. Прямого поезда на Рязань не было, и пришлось ехать через столицу. Они весело проводили время в вагоне-ресторане. Пожилая официантка необъятных размеров, в белом передничке, не вынимающая папиросу «Беломорканал» из ярко накрашенных губ, называла курсантов «мои генеральчики» и на всем протяжении дороги усиленно подливала им портвейн «777». И только предстоящая встреча со строгими патрулями московской комендатуры удерживала их от безудержного разгула. Душе хотелось праздника, и душа его искала и находила во всем окружающем.
В Москве Сазонов задерживаться не стал, взял билеты на местный поезд и уехал на станцию Чучково, откуда на попутной машине благополучно добрался до родного села. Обнял отца и мать и тут же направился в сельский клуб на танцы. Но там было невесело, потому что ребята, его ровесники, служили в армии, а с теми, кто помоложе, ему было уже неинтересно и даже поговорить, казалось, не о чем.
На следующий день Сазонов отправился в Сасово, где продолжали учебу его одногруппники, в том числе и Татьяна. У студентов была пора подготовки дипломных проектов и их защиты. Многих вообще не удалось увидеть, поскольку они разъехались по домам. Но с Татьяной встретиться получилось. Они немного погуляли, и она пообещала вскоре приехать к нему в гости в Курган.
И слово свое сдержала. Неожиданно приехала и прогостила около недели. Сазонов устроил ее пожить к родителям своего однокурсника. А дальше иначе как судьбой все случившееся и не назовешь. Отец товарища по училищу оказался директором Курганского мебельного цеха. Узнав, что Татьяна – без году неделя дипломированный специалист по обработке древесины (а ему как раз такого специалиста в цехе и не хватало), он пригласил ее после окончания техникума приехать в Курган. Пообещал сразу выделить квартиру, как молодому специалисту, нарисовал перспективы для дальнейшего карьерного роста.
Татьяна уехала на защиту диплома. А на Сазонова началась массированная атака: хорошая девушка, женись!
С одной стороны выступали однокурсники в лице секретаря комитета комсомола Коли Димитрова и закадычного друга сержанта Саньки Белика:
– Ты, Миша, давай, ваньку-дурака не валяй! – увещевали они. – Девушка к тебе издалека приехала! Жила здесь, ты к ней ходил на свидания… Слова, наверное, какие-то про любовь говорил… Ты просто обязан теперь жениться! Мы же тебе недавно рекомендацию в кандидаты в члены КПСС дали! А это значит теперь твой моральный облик должен быть на недосягаемой высоте! К тому же ты – замкомандира взвода. Какой пример подчиненным показываешь?.. – и дальше в том же разрезе, и почти такими же словами, с одним и тем же выводом, что свадьба неизбежна.
Отец однокашника тоже подливал масла в огонь – очень уж ему нужен был специалист по обработке древесины.
Одногруппницы по техникуму зачастили с письмами, намекая, как Татьяна ждет окончания учебы, как она переживает об их будущей встрече, как она его любит, какая из нее замечательная жена выйдет…
Сазонов отписывался и отбивался, как мог. А тут, после окончания техникума и сама Татьяна приехала в Курган, да не одна, а с матерью – так сказать, на смотрины…
Словом, обложили его плотно и со всех сторон. Он подумал: а что, может быть, и правда жениться пора… И уже в летнем отпуске Сазонов женился, зарегистрировав брак с Татьяной в сельском совете родного села Пертово.
Фотографии на свадьбе не удались, так как брат Василий, который вызвался быть свадебным фотографом, напортачил что-то с проявителем и закрепителем. Но на единственном, более или менее получившемся снимке у жениха и у невесты вид вышел совсем неромантическим, а строгим и собранным, как перед сдачей экзамена по марксистко-ленинской философии.
Надо сказать, что офицерская жена из Татьяны получилась хорошая. Вместе с Сазоновым она «служила», меняла отдаленные гарнизоны и не самое комфортное служебное жилье, стойко переносила все тяготы и лишения воинской службы, хотя присяги вроде бы и не давала. Родила сначала дочь Леночку, потом сына Дениску… Была и осталась по сей день хорошей матерью их детям и преданной женой ему… Разве только вот романтизма в их отношениях особого никогда не было…
Хотя Сазонов вдруг вспомнил, как светилось Танино лицо изнутри, когда забирал он ее с Леночкой из Алма-Атинского роддома… И еще однажды озарял его неземной свет, когда шесть часов они тряслись по высокогорному пустынному плато в рейсовом пазике, идущем в Уч-Арал, куда Сазонова только что перевели оперуполномоченным в особый отдел.
Пазик был забит вахтовиками. Они пили водку, горланили русские и казахские песни. А Татьяна с Леночкой на руках сидела смиренно, как Рафаэлева Мадонна, и лицо ее изнутри озарялось тихим ровным сиянием, каким освещены иконы в сельском храме. Не будь в ту пору Сазонов коммунистом и атеистом, уверовал бы в метафизику, глядя, как этот свет, излучаемый лицом жены, отражается на лице спящей дочери и, казалось, заполняет собой весь автобус, сводя на нет и тряскую дорогу, и крики пьяных вахтовиков, делая осмысленным и значимым и нелегкую службу Сазонова, и все человеческое бытие…
Воспоминание об этом вернуло Сазонову доброе настроение, всеми предыдущими событиями и разговорами этого дня, казалось бы, напрочь вытесненное из души. Не случайно он помянул метафизику – в очередной раз убедился: «Она существует! Вот ведь, подумаешь о хорошем, и оно – тут как тут».
Едва Сазонов вошел в кабинет, как по внутренней связи позвонил знакомый кадровик и сообщил добрую весть, что его дочь Леночка прошла проверку и допущена к сдаче экзаменов в Академию.
О своем решении поступать в высшее учебное заведение Конторы дочь сообщила Сазонову еще год назад. Проверка ее как кандидата длилась все это время – и вот ведь, именно сегодня завершилась благополучно.
Сазонов обменялся взглядом с бронзовым Феликсом, зорко взирающим на него из-за раскидистых листьев кабинетного цветка, и удовлетворенно прищелкнул языком: «Может быть, хоть дочь получит настоящее чекистское образование, какого не довелось получить ни мне, ни дяде Макару Григорьевичу».
После окончания курсов «Смерш» Макар Григорьевич Кленов попал служить в региональную структуру НКВД. Сазонов удивился, почему не в органы военной контрразведки?
Вчитавшись в личное дело дяди с пристрастностью кадровика и разобравшись в деталях такого назначения с придирчивостью оперативника, Сазонов нашел единственное объяснение этому факту дядиной биографии: направлял М.Г. Кленова на курсы особый отдел фронта, подчиненный в тот период НКВД, и сами ускоренные курсы подготовки оперативных работников находились при Высшей школе НКВД СССР, следовательно, кадровики Наркомата внутренних дел считали выпускников курсов своими выдвиженцами и не стремились отдавать их военной контрразведке. В связи с очередной реорганизацией спецслужб секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 19 апреля 1943 года военная контрразведка передавалась в ведение Народного комиссариата обороны СССР и получила новое наименование – Главное управление контрразведки «Смерш». Согласно этому Постановлению, органы «Смерш» комплектовались за счет оперативного состава бывшего Управления особых отделов НКВД СССР и специального отбора военнослужащих из числа командно-начальствующего и политического состава Красной армии и подчинялись теперь непосредственно Верховному главнокомандующему.
При распределении М.Г. Кленова сработал давний принцип кадровиков всех времен и народов: придерживать в своем ведомстве ценные кадры, а во вновь созданные структуры «Смерша» передать тех, кто такой ценностью для Наркомата внутренних дел не обладал.
О том, что Макара Григорьевича Кленова считали «ценным кадром», говорила сохранившаяся в его личном деле аттестация, полученная накануне выпуска весной 1943 года. В ней отмечалось, что «выпускник курсов подготовки оперативных работников при Высшей школе НКВД СССР, старший сержант Кленов М.Г. характеризуется как дисциплинированный, выдержанный товарищ. В ходе учебы показал заметный рост идейно-теоретического уровня. Учебные агентурно-оперативные задачи решал правильно. Принимал участие в партийно-массовой работе курса».
И еще один известный прием кадровиков заметил Сазонов, вчитываясь в дядину характеристику. Дабы старшие проверяющие инстанции не упрекнули впоследствии НКВД в том, что лучшего выпускника курсов они оставляют в «территориалах», а не отдают во фронтовую контрразведку, в характеристике Макара Григорьевича были указаны некоторые недостатки: «учиться мог бы лучше, мало работал над собой. Во время выступлений на классных занятиях ответы были не всегда исчерпывающими. Документы составлял недостаточно грамотно. В вопросах основ марксизма-ленинизма и текущей политики разбирается посредственно».
Характеристика на М.Г. Кленова, утвержденная начальником Высшей школы НКВД СССР старшим майором госбезопасности Баштаковым, несмотря на то что имела всего несколько машинописных строк, объективно являлась первым основным документом в новой для Макара Григорьевича системе – в органах государственной безопасности.
При всей недостаточности базовой теоретической подготовки у М.Г. Кленова по сравнению с другими, более грамотными выпускниками, имелось одно, пожалуй, самое главное преимущество – фронтовой опыт. Именно поэтому, догадался Сазонов, его дядя Макар Григорьевич и был направлен в резерв кадров НКВД Украинской ССР, а не передан в распоряжение Управления особых отделов военной контрразведки.
Сразу по выпуске Макару Григорьевичу было присвоено специальное звание – младший лейтенант государственной безопасности. Звания в органах госбезопасности – от сержанта до майора, несмотря на созвучие со званиями комсостава РККА, фактически были на две ступени выше. То есть младшему лейтенанту госбезопасности соответствовало звание армейского старшего лейтенанта.
И еще одну особенность в личном деле своего родственника обнаружил Сазонов: с момента выпуска с курсов документально подтвержденных сведений о его службе и участии в Великой Отечественной войне содержалось совсем немного. С марта по сентябрь 1943 года М.Г. Кленов находился в резерве кадров НКВД – НКГБ УССР и работал в Кременском и Ново-Астраханском райотделах НКВД по Ворошиловградской области. Там, судя по сухим строкам личного дела, он выполнял спецзадания на освобожденной от немецких оккупантов территории по отселению населения с передовой линии фронта, проходившего по селам в районе реки Северский Донец.
Отселением мирного населения в тыл, как правило, занимались войска НКВД. Проводилось оно из тех районов, где проходили активные боевые действия, а также из территорий, по которым проходили основные фронтовые коммуникации, дабы лишить возможности агентов противника фиксировать передвижение войск и боевой техники.
В мемуарах старых сотрудников госбезопасности Сазонов нашел упоминание о том, что передовые заставы войск НКВД двигались вслед за боевыми порядками стрелковых соединений на расстоянии до десяти километров. В освобожденных от фашистов районах региональными органами НКВД создавались оперативно-чекистские группы из числа сотрудников с целью захвата вражеской агентуры, выявления пособников немецких оккупантов: старост, полицаев, доносчиков. Эти группы начинали свою оперативно-разыскную работу сразу, как только боевые порядки РККА освобождали территорию, и продолжали ее в более глубоком тылу, в зоне от пятидесяти до ста километров. Их первичными задачами было проведение проверок и регистрация населения. При этом учитывалось, что граждане, которые покидали свои населенные пункты во время боев и прятались в целях личной безопасности в лесах и оврагах, как правило, возвращались к месту проживания через пять – десять суток после освобождения населенных пунктов от оккупантов. Под видом мирных жителей в прифронтовой полосе могли перемещаться вражеские агенты, представители различных бандформирований и небольшие группы отставших солдат противника.
В случаях, когда наступление Красной армии на том или ином участке фронта приостанавливалось, отселение граждан производилось в десятикилометровой зоне, а особый режим устанавливался в двадцатипятикилометровой прифронтовой полосе. При восстановлении местных органов советской власти перерегистрацию и проверку органами НКВД проходило все взрослое население поголовно. Называлось все это фильтрационной работой.
Именно в таких специфических условиях и проходила в сорок третьем году служба М.Г. Кленова. Как было отмечено в личном деле, в районе города Лисичанска он, как сотрудник НКВД, входил в состав войсковой группировки, созданной из военнослужащих 279-й Лисичанской стрелковой дивизии и 1003-го стрелкового полка той же дивизии. Эта войсковая группа вела борьбу с дезертирами и бандами в прифронтовой полосе, проводила отселение населения из района боевых действий.
В этот период сотрудники НКВД только накапливали опыт разоблачения и задержания агентуры, диверсантов и террористов из спецслужб противника, пособников немецких оккупантов, других подозрительных лиц, в отношении которых имелись данные об их связях с немецкой разведкой. По мере приобретения навыков работы основные результаты стали приносить преимущественно агентурно-разыскные, чекистско-войсковые и другие оперативные мероприятия.
Свидетельством участия Макара Григорьевича в таких мероприятиях в прифронтовой полосе служили подшитые в личном деле воспоминания его сослуживцев и пять пожелтевших от времени, истрепанных удостоверений, где зафиксированы его служебные перемещения.
В удостоверениях сообщалось, что предъявитель сего, сотрудник М.Г. Кленов, направляется для выполнения специальных заданий на освобожденной территории Ворошиловградской области. Согласно одному командировочному удостоверению, он убывал в распоряжение УНКГБ УССР по Сталинской (ныне Донецкой) области в составе группы. И больше никаких подробностей.
Чтобы хоть как-то восполнить пробелы в познаниях о чекистской работе дяди Макара Григорьевича в указанный период времени, Сазонову пришлось вспомнить лекции по истории разведки, которые читал слушателям на курсах повышения квалификации при Высшей школе КГБ полковник в отставке и известный писатель Михаил Петрович Любимов – отец того самого молодого журналиста, который в пору перестройки вовсю расшатывал устои СССР в телепередаче «Взгляд».
В одной из лекций М.П. Любимов рассказывал о заданиях, которые давались немецким агентам, оставленным на советской территории.
Сазонов законспектировал тогда их перечень: «1) Осуществление террористических актов против крупных партийных, военных работников, и в первую очередь против работников НКВД, используя бесшумные пистолеты, яды, толченое стекло и так далее. 2) Осуществление диверсионных актов, как-то: взрывы мостов, стратегически важных железных дорог, взрывы железнодорожного полотна в момент прохождения воинских эшелонов, подрывы водонапорных башен, электростанций, заводов оборонного значения, поджог колхозного имущества. 3) Антисоветская агитация среди колхозников, рабочих и красноармейцев. Антисоветскую агитацию среди колхозников вести в разрезе невыполнения хлебозаготовок государству и о роспуске колхозов; среди рабочих в разрезе саботирования ими госплана; среди красноармейцев своей агитацией добиваться, чтобы последние отказывались воевать далее границ СССР 1939–1940 годов. 4) Вести шпионскую работу, интересоваться прежде всего политико-моральным состоянием военнослужащих, имеют ли стремление продвигаться вплоть до Берлина, какими резервами располагает Красная армия, дислокацией воинских частей, наличием оборонных предприятий и их производственной мощностью. 5) Проводить дискредитацию крупных партийных, советских, военных работников и работников НКВД. Для этой цели использовать метод посылки провокационных писем в их адреса. Антисоветскую агитацию рекомендовано осуществлять путем личного общения с населением, с лицами из числа неблагонадежных практиковать вербовки. Распространять листовки антисоветского содержания через завербованных лиц путем расклейки на витринах в общественных местах или якобы случайного оставления в этих местах. Агитацию проводить в основном в населенных пунктах со значительной плотностью населения».
Главными противниками чекистов в ту пору являлись: абвер – немецкая служба разведки и контрразведки, полевая жандармерия и Главное управление имперской безопасности РСХА, а также военные разведки союзников гитлеровской Германии. Это были профессионалы своего дела, дотошные, опытные. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на инструкцию, выданную агентам по правильному пользованию документов прикрытия. Сазонов законспектировал и ее в свою тетрадь во время учебы на курсах, как будто знал, что когда-то она ему пригодится…
«Примечания: 1) На удостоверениях личности, в вещевой книжке и расчетной книжке – должна быть личная подпись владельца книжки или удостоверения. 2) В удостоверении личности необходимо пометить огнестрельное оружие: система, номер, когда и кем выдано – не обязательно. 3) В вещевой книжке иногда практикуется расписка владельца книжки об им полученных вещах – расписка за каждую вещь. 4) Компостерную пометку прокалывать одновременно на командировочном предписании и воинском билете – ставить (прокалывать) число выезда в командировку со станции. Справка о санитарной отметке необязательна для начальствующего состава. 5) Все документы надо делать на вид поношенными, в зависимости от того, как долго они находились у владельца. Для чего необходимо поносить их в кармане, немного засалить, измять и загрязнить. 6) Расчетную и вещевую книжки предъявлять только при надобности. Они только дополняют другие документы, а именно – удостоверение личности и командировочное предписание».
Прочитав эти инструкции, Сазонов не смог сдержать усмешку. Все вроде бы предусмотрели педантичные немцы: что предъявлять, что не предъявлять, что показывать, а что не показывать… Только одно упустили из вида – скрепку, которой скреплялись документы: красноармейская книжка и удостоверение личности. Специалисты абвера, готовя документы прикрытия, использовали немецкие стальные нержавеющие скрепки, а в РККА скрепка была обыкновенной, железной и обязательно оставляла ржавый след на бумаге… На этом и попадались бдительным советским чекистам заинструктированные до предела немецкие агенты.
Вот и полковник Любимов, читая лекцию, обратил на этот пример особое внимание, давал понять слушателям, что в оперативной работе чекиста и в годы войны, и в мирное время мелочей не бывает!
Глава третья
Полковник Трубицын, начальник политотдела авиационного полка, где лейтенант Сазонов начинал службу помощником по комсомолу, заглянув поутру в кабинет и не увидев в руках подчиненного газету, выходил из себя:
– Запомни, лейтенант! Утро у настоящего политработника должно начинаться с чтения главной партийной газеты «Правда»!
Любил Трубицын Сазонова по-отечески, растил и продвигал его по карьерной лестнице. Потому и осерчал зело, когда узнал, что его выдвиженец, к тому времени уже замполит авиаэскадрильи старший лейтенант Сазонов, переходит служить в особый отдел погранотряда. Посчитал такой шаг Сазонова предательством не только лично его, своего благодетеля, но и всей партийно-политической работы в целом. Трубицын долго не мог успокоиться и даже порвал в сердцах наградной на Сазонова, который сам же накануне и подписал, да не успел отправить в округ…
А в особом отделе молодого сотрудника Сазонова – на службе всегда так: куда бы ни назначили, будь хоть капитаном, хоть майором, хоть самим генералом, но пока шишек не набьешь на новой должности, все молодым будешь считаться, – учили совсем другому:
– Утро у настоящего оперативника начинается с обхода территории! – наставлял старший опер Александр Морозкин.
А начальник особого отдела майор Середа гнул свою линию и строго требовал:
– Утро у настоящего оперативника начинается в кабинете с изучения оперативной обстановки по подведомственным частям, по противнику и по окружающей территории при помощи донесений и шифротелеграмм…
Так оно в самом начале чекистской карьеры и складывалось: пронесется, бывало, Сазонов по территории военного городка, как лось в период гона, обмолвится несколькими фразами с кем нужно, попинает спичечный коробок на плацу, давая тем самым сигнал своему источнику, что готов к встрече с ним и что встреча состоится в заранее условленном месте, заглянет к дежурному по части и бегом к себе в кабинет: пока не явился Середа, надо прочесть все сводки и ориентировки и усвоить, как Отче наш, оперативную обстановку, дабы перед лицом начальства не выглядеть круглым идиотом и незнайкой. Но это, так сказать, на заре оперативной работы.
В центральном аппарате Конторы к ежедневному утреннему прочтению сводок и ориентировок добавилось еще и прослушивание звуковых записей, просмотр видео- и фотоматериалов, поставляемых техническими службами по той или иной разработке.
Как только усаживался Сазонов в свое кресло и начинал читать, слушать и просматривать эти материалы, так к месту или не к месту ему вспоминалась песенка, исполненная артисткой Московской оперетты на концерте в клубе Дзержинского. В свое время слушателей курсов повышения чекистской квалификации при Высшей школе КГБ не только снабжали необходимыми профессиональными знаниями, но и водили на разные экскурсии по выставкам и музеям, устраивали им концерты и творческие встречи с известными людьми…
– И было три свидетеля: река зеленоглазая, черемуха душистая да звонкий соловей… – во все горло распевала артистка популярную эстрадную песенку…
Вот и у Сазонова тоже имелись три главных «свидетеля» – «наружка», «прослушка» и «видеонаблюдение», – другими словами, спецмероприятия, проводимые службами и подразделениями поддержки и взаимодействия. Данные от этих служб стекались к нему – разработчику и инициатору.
Разработчик – персона в Конторе уважаемая. Это человек, который собирает весь материал о преступной группе или объекте, попавшем в поле зрения спецслужбы. Таким лицом может быть персонаж, который подозревается в ведении шпионской или иной противоправной деятельности, в руководстве устойчивыми преступными сообществами, в подготовке и совершении террористических акций. Им может оказаться и сотрудник подконтрольных Конторе силовых ведомств, замешанный в коррупции. Разработчик тщательно изучает этого персонажа и его связи. Если им разрабатывается группа лиц, то он определяет роль и место каждого в инкриминируемых им преступлениях, в том числе выявляет организатора – главаря. Как правило, разработчиком назначается наиболее опытный, инициативный и упертый в достижении цели офицер из числа старших оперов или консультантов, у которых пара-тройка сотрудников в подчинении имеется. Разработчик дает указания младшим коллегам и офицерам, приданным ему из других отделов. Он ставит задачи агентам и выдает поручения доверенным лицам, на специальном бланке расписывает задание наружному наблюдению – кого вести, за кем следить… По его инициативе получают задания специальные подразделения для проведения ОТМ – оперативно-технических мероприятий, а проще говоря, кого им прослушивать, чью переписку отслеживать, какие технические каналы (факс, ксерокс) проверять. Все взаимодействующие службы работают на него, и только он один знает все и об объекте, и о ходе разыскной деятельности. По результатам всей этой работы следствием возбуждается уголовное дело, и группа, возглавляемая разработчиком, ведет оперативное сопровождение его вплоть до суда.
Словом, разработчик – это высший уровень доверия в Конторе. Говоря армейским языком, это и командир полка, и начальник штаба, и начальник разведки в одном лице: к нему сходятся все нити, он планирует всю работу, он же несет всю полноту ответственности за принимаемые решения, выданные указания и возможные неблагоприятные последствия.
Разработчиком был Сазонов в деле «оборотней». Разработчиком оказался он и в деле Сатрапа.
Это новое дело свалилось на него внезапно, не успел он даже выдохнуть после завершения предыдущего.
С утра, как всегда стремительно, ворвался в кабинет Виктор Леонардович:
– Собирайся! Поехали! – даже не поздоровавшись, с порога приказал он.
– Куда? – от неожиданности задал Сазонов глупый вопрос, забыв, что начальникам такие вопросы не задают – это только их прерогатива.
– Не тупи! Все в свое время узнаешь, – вдруг рассердился Виктор Леонардович, но тут же сменил гнев на милость. – Едем к моему источнику… Он обещает информацию для будущей премии дать, а может, и госнаграды… Впрочем, – начальник тут же снова заменил пряник на кнут, – бабушка еще надвое сказала, получим ли мы по итогам премию или вместо этого огребем…
Сазонов, не сделав даже малой попытки огрызнуться, что служит не за награды и не за премии, а следуя долгу перед Отечеством, и поэтому не стоит ему, как эскимосской лайке, мозговую косточку перед мордой держать, тут же вскочил со своего места, закрыл сейф, не забыв засунуть туда лежавшие на столе бумаги со служебным грифом, двинулся вслед за начальником.
Источником оказался весьма важный чин из подведомственной Конторе силовой структуры.
Усадив Виктора Леонардовича и Сазонова в массивные кожаные кресла в углу просторного, на цековский лад, отделанного полированными панелями кабинета, важный чин вышел из-за своего необъятного рабочего стола, тяжело плюхнулся в третье кресло напротив и, скорчив озабоченную физиономию, обратился к ним едва ли не панибратски:
– Тут такое дело, мужики…
Это обращение заставило Сазонова напрячься. По собственному опыту он знал, что если важные чины таким образом начинают служебный разговор, то это ничего хорошего в дальнейшем не сулит…
А важный чин продолжил излагать диспозицию в столь же доверительной манере:
– Позвонила мне на днях бывшая одноклассница. Она – кандидат химико-технологических наук и старший сотрудник одного закрытого НИИ. Сынок у нее, раздолбай великовозрастный, по глупости, как она говорит, попал в передрягу: оказался задержан на бандитской разборке с гранатой Ф-1 в кармане. Гранату, как заверяет меня его мамаша, ему более опытные дружки сунули… Дескать, ты молодой и без судимостей, тебе ничего не будет. И он, великовозрастный дурак, тут же подтвердил, дескать, граната – его… Поскольку разборка была с пальбой и несколькими ранеными с обеих сторон и милиция сработала четко – всех задержала на месте, и все улики – налицо: и гильзы, и оружие, и пресловутая граната и отпечатки на ней, то дело тотчас же и возбудили, и сынку этой моей знакомой светит немалый срок…
Сазонов и Виктор Леонардович переглянулись, не понимая, они-то здесь каким боком: бандиты, перестрелка, оружие – это дело того самого ведомства, в котором хозяин кабинета занимает не самое последнее положение. Мог бы и сам все разрулить, зачем ему Контора?
Словно почувствовав этот немой вопрос, важный чин разъяснил:
– Одноклассница моя, конечно, заерзала, тут же наняла адвоката, которого ей подельники сынка посоветовали, а тот, как мне известно, эту группировку давно обслуживал. Адвокат сделал ей предложение, подкупающее своей новизной, – дать взятку судье и назвал посредника, который сможет все это организовать, естественно, не даром… Вот этот посредник, как мне кажется, вас и должен заинтересовать. Он – из системы исполнения наказаний, майор, служит в московском областном ГУИНе. Но человечишко не простой, а мутный и скользкий, как сазан… Фамилия его Сафронов, а зовут так же, как вас, Михаил Иванович, – усмехнулся важный чин, повернув крупную, тыквообразную голову в сторону Сазонова.
Сазонов от такой параллели заерзал в своем кресле, а Виктор Леонардович, все еще не до конца понимая сути дела, поинтересовался:
– И чем же нам этот Сафронов должен быть так интересен?
Важный чин выложил свой главный аргумент:
– Он, этот Сафронов, до ГУИНа, служил в уголовном розыске и там из уголовников создал банду, которая под его «крышей» грабежами и разбоями промышляла. Их пару лет назад повязали и посадили, а он верткий оказался, стал писать во все инстанции, мол, это все подстроили спецслужбы, оперчасть и его бывшие начальники, это все – подстава, провокация и так далее, и тому подобное… Так как в обращениях к прокурору этот умник использовал такие термины, как «спецслужба» и «агентура», то дело тотчас засекретили и передали в военный суд Московского гарнизона. А там у этого Сафронова родственник судьей служит. Нетрудно догадаться, что военный суд вскоре Сафронова оправдал! Компенсацию даже назначил и на службе восстановил. Но поскольку в угрозыске его все как облупленного знают, перешел этот деятель в управление исполнения наказаний. И там, как вы уже поняли, не успокоился, стал разными темными делами заниматься… К этому Сафронову мою одноклассницу и направили, а он с нее такие деньги запросил, что она за голову схватилась, тут обо мне и вспомнила. Позвонила, рассказала все, слезно о помощи просила. А чем я помогу в таком коррупционном вопросе? Вот и решил вам позвонить… У вас лучше получится с межведомственной коррупцией разобраться!
«Интересно, как это он себе представляет нашу помощь потенциальной взяточнице и ее сынку-отморозку?..» – подумал Сазонов.
– Ну, не мне вас учить, – заключил важный чин. – Пообещайте заполошной мамаше решить вопрос с ее сынком, если поможет прижучить вам этого Сафронова… Полагаю, что она согласится – у нее выхода иного нет! – важный чин написал на листочке адрес своей одноклассницы и сунул его Виктору Леонардовичу, давая понять, что аудиенция окончена.
Сазонов и его начальник вышли из важного кабинета.
Виктор Леонардович, повинуясь присущей ему быстрой смене настроений, включил Чапаева совсем как бывший начальник Сазонова: «Где должен быть командир в бою? Впереди, на лихом коне!» Не мудрствуя лукаво выхватил Виктор Леонардович чапаевскую шашку, пришпорил коня и погнал Сазонова и себя самого прямо по указанному в записке адресу, надеясь с ходу, с лету смять «вражеские заслоны», наскочить на убитую горем мамашу, кандидата химико-технологических наук, и принудить ее к немедленной сдаче коррупционера Сафронова. В Конторе это называется взять на «хапок», то есть без особых усилий, с лету добиться желаемого результата!
Но, как потом проанализировал итоги их неподготовленного «похода в адрес» Сазонов, Виктору Леонардовичу иногда хорошо было бы вспоминать собственный совет: «Сядь и подумай», а не нестись сломя голову туда, где тебя не ждут.
Взять одноклассницу важного чина с кавалерийского наскока не удалось, несмотря на рекомендацию и на громогласные заверения, что они пришли помочь решить вопрос, который ее так волнует.
Накрученная адвокатом и криминальными дружками сыночка, дама встала в дверях квартиры в боевую стойку и даже за порог их не пустила. Идти на контакт она наотрез отказалась, заявив, что лучше ее сыну спокойно отсидеть свой срок, чем весь век потом ходить и оглядываться, что никакого посредника Сафронова она знать не знает и никто ей решить вопрос с судьей не обещал, и никому она взятку не предлагала, потому что у нее никаких денег нет, и что вообще она требует, чтобы ее саму и ее сына оставили в покое…
Несолоно хлебавши они вернулись в Контору, и Виктор Леонардович, которого неудачи только подзадоривали, у двери своего кабинета отдал Сазонову знакомый приказ:
– Сядь и подумай! Чтобы завтра с утра у меня на столе был детальный план оперативной проверки Сатрапа…
– Какого Сатрапа? – приподнял брови Сазонов.
– Ну, этого твоего тезки из ГУИНа…
– А почему Сатрапа? – спросил Сазонов, хотя уже все понял: кличку объектам пристального интереса Конторы принято давать по аналогии с фамилией: Сафронов – Сатрап.
– Михаил Иванович, что ты все вопросы задаешь, как будто первый год служишь? Сказано, что по делу Сатрапа, значит, будет дело называться так и не иначе.
– Есть, по делу Сатрапа! Так и не иначе! – мысленно глухо пристукнул пятками кроссовок Сазонов и отправился думать.
Методы агентурной или оперативно-разыскной деятельности стары как мир. Сазонову как-то пришла в голову крамольная мысль, что сам Спаситель человечества, посылая Апостолов для проповеди христианства на новые, неизведанные земли с сочными пастбищами и тучными агнцами, говоря профессиональным языком, маршрутировал источники, то есть направлял своих агентов по определенному пути с традиционными разведывательными целями: осмотреться на месте, собрать необходимую информацию о будущей пастве, проанализировать ее, сделать необходимые выводы, обзавестись апологетами и последователями…
Методы ОРД, конечно, стары как мир, а вот способы получения необходимой информации значительно усовершенствовались, появились новые технические возможности. Впрочем, три источника и три важнейших составных части оперативной работы уже много десятилетий остаются неизменными: «наружка», «прослушка» и агентура…
Но никто не отменял и личный оперативный сыск. Как твердил Сазонову его первый начальник в особом отделе Середа, настоящего опера, как и волка, ноги кормят. А вот другой наставник, подполковник Алехин, учил прямо противоположному: ноги кормят только плохого опера, а хорошего – голова и надежные источники информации! Личный сыск хорош в большей степени для начинающих сотрудников. Но Сазонов никогда им не пренебрегал, особенно в начале нового дела.
Действовать приходилось под неусыпным контролем руководства. А оно бывало разным. Одни начальники давали подчиненным свободу в принятии решений, другие норовили все контролировать. Скажем, Виктор Леонардович сам покоя не знал и офицерам отдела продыху не давал. Не успел Сазонов завести дело на Сатрапа, как начальник стал нетерпеливо теребить:
– Давай, Миша, давай! Срочно тетку эту, кандидатку химико-технологических наук, додавливай, уговаривай, чтобы она нам Сатрапа слила…
Но Сазонов посчитал уговоры перепуганной мамаши бесперспективными и даже опасными – сегодня на нее надавишь, а завтра она тебя тому же Сатрапу и сдаст. Он решил достоверные данные по своему преступному тезке Михаилу Ивановичу Сафронову получить методом личного сыска и отправился в суд Московского военного округа, где, рискуя засветиться перед судьей – родственником Сатрапа, взял несколько уголовных дел. Используя документы прикрытия, по которым он представился соискателем академии МВД, собирающим материалы для написания диссертации, изучил дело Сафронова.
С фотографии из дела на Сазонова взирал толстощекий мужчина средних лет, лысый и в очках. Про таких бабушка Сазонова говаривала – мурдастенький. И хотя на нем был милицейский мундир с майорскими погонами, ничего харизматичного, властного и уголовного в Сатрапе не было. Разве что маленькие, глубоко посаженные глазки. Сазонов сразу представил, как они бегают и меняют окраску как у хамелеона. Да, объект оперативной разработки был явно не из простых. Во-первых, он сам – бывший опер уголовного розыска и, значит, хорошо осведомлен о методах и способах оперативно-разыскной деятельности. Во-вторых, проживал Сафронов в милицейском доме по улице 8 Марта, где все жильцы – или действующие сотрудники, или БС: все знают друг друга как облупленных, и у всех глаз профессиональный – наружное наблюдение за кем-то из своих соседей на раз срисуют, и прослушивающую и видеотехнику там запросто не установишь. Сазонов в этом убедился лично.
Он выехал на адрес и попытался заговорить с сидящими у подъезда старушками, которые вместо обычной старушечьей откровенности забросали его самого встречными вопросами, а кто он такой и с какой целью интересуется их соседом из квартиры на первом этаже. В-третьих, связи у объекта его оперативного интереса остались не только в МВД, но и в прокуратуре, и в судах, о чем свидетельствует то, как ловко Сатрап выкрутился из дела, где вина его была полностью доказана. Примечательно, что он не только вышел сухим из воды, но и на службе восстановился, и хотя перешел в другое ведомство МВД, но на хорошую должность инструктора отдела воспитательной работы и спецучета службы по исправительным делам и социальной реабилитации ГУВД Московской области. Значит, и в исправительной системе у него все теперь схвачено…
Через своих знакомых в уголовном розыске Сазонов разыскал нескольких бывших сослуживцев Сатрапа. Выдавая себя за кадровика ГУИНа, получил от них несколько независимых характеристик. Все собеседники подтвердили, что за невзрачной личиной Сафронова скрывается умный, хитрый и осторожный человек. И уж совсем неожиданной стала для Сазонова информация, что этот толстячок и коротышка заслужил славу этакого донжуана и покорителя женских сердец.
«Вот ведь ни рожи, ни кожи, а любимец женщин! – с невольно промелькнувшим чувством мужской ревности подумал Сазонов. – И чем только внимание к себе привлекает? Неужели деньгами? Но ведь к Сафронову, судя по рассказам бывших сослуживцев, вполне приличных женщин как магнитом тянуло…»
Интересно, а что бы сказала о нем Маркиза? Она однажды обронила, что главный эротический орган у мужчины – это его мозги… Только вот повернуты они у Сатрапа были явно в преступную сторону.
Виктор Леонардович согласился с Сазоновым:
– Да, Сатрап – тертый калач! Поэтому, Михаил Иванович, не расслабляйся, помни: это тебе не шереметьевские сержанты-«оборотни»! Против нас с тобой воюет совсем не дурак, а противник опытный и изворотливый! У него небось и собственная контрразведка имеется, и свои конфиденциальные источники информации… Не исключаю, что даже в нашей Конторе кто-нибудь ему стучит. Так что, смотри, будь поосторожней и чаще проверяйся, если куда-то выходишь…
Что такое «проверяться» при выходе, Сазонов знал хорошо. Еще в старом отделе по борьбе с оргпреступностью кто-то один выходил из подъезда дома два, а другой по подземному переходу перебегал в дом один/три и выныривал на улицу с противоположной стороны, чтобы посмотреть за товарищем со спины. Потом обгонял его и подставлял свою спину сослуживцу. Так и двигались, друг за другом, в сторону метро, останавливаясь и проверяясь, нет ли «хвоста». И это была не шуточная игра, а суровая необходимость. Виктор Леонардович был прав: в деле Сатрапа, со всеми его связями в системе правоохранительных органов, такие проверки явно не были лишними.
С учетом полученной информации, Сазонов составил подробные задания службам поддержки. «Наружка» через пару дней выставила за объектом «топтунов». Для установки необходимой аппаратуры по месту жительства Сатрапа технарям пришлось поломать голову, как отвлечь внимание обитателей двора от их тайной работы. Разыграли целый спектакль: организовали ремонт в подъезде и устранение «аварии» в подвале… Установка прошла благополучно. Дворник, хотя и поглядывал на технарей подозрительно, но с расспросами не подошел.
Чтобы установить прослушивание по месту службы Сафронова, затратили немало усилий. Туда специалисты прибыли под видом установки охранной и пожарной сигнализации. Сазонов поехал вместе с ними. Ему пришлось провести доверительную беседу с генералом, прямым начальником Сафронова. Этот генерал был непростым «вертухаем», а выходцем из центральных партийных органов, знакомым Сазонова еще по времени службы в особом отделе КГБ СССР по Внутренним войскам. Сазонов проинформировал его о том, что берет Сафронова «под колпак», и по-товарищески намекнул, что тот плохо о нем, о своем начальнике, отзывается в разных ведомствах и в телефонных разговорах. Это, к слову, было чистой правдой: уже в первой из сводок, полученных от «прослушки», отмечалось, что Сатрап в разговоре с неустановленным собеседником разносил свое руководство и в хвост, и в гриву. Это обстоятельство произвело на генерала впечатление: он пообещал лично расправиться с зарвавшимся майором… Сазонов еле уговорил его не подавать вида о своей осведомленности и потерпеть еще самую малость… Разгневанный генерал пообещал держать язык за зубами и оказывать всяческое содействие Конторе в проверке его подчиненного и дал добро на установку прослушивающей аппаратуры в служебном кабинете Сафронова.
Благодаря предпринятым мерам, к Сазонову ежедневно начала стекаться информация, да такая полезная, что Виктор Леонардович только в ладоши прихлопывал и даже перестал гнать его к тетке-кандидату наук, с которой все дело и закрутилось.
– Ну, ты с этим Сатрапом попал на золотую жилу, Сазонов… Рой глубже! Не спеши… – наставлял он.
Впрочем, терпения начальнику надолго не хватило, и спустя несколько дней он снова начал подгонять:
– Давай, давай, активизируйся!.. Работай на результат!
Впрочем, Сатрап и так жил жизнью активной и изобилующей разными контактами – телефонными переговорами, короткими и продолжительными встречами с самыми разными людьми. Он ежедневно раскатывал по Москве на такси. К нему в квартиру заявлялись разные женщины, некоторые оставались до утра. Квартирный телефон Сатрапа не умолкал в выходные дни, и в утренние часы, и поздней ночью. И все эти личные контакты фигуранта, и его телефонные разговоры фиксировались и докладывались Сазонову.
«Наружка» сообщала, что 13 августа 1993 года в 17.00 объект разработки Сафронов встретился в коммерческом кафе «Ритм», расположенном в поселке Переделкино Солнцевского района Москвы с двумя неустановленными лицами. В ходе приватного разговора ими было предложено объекту организовать дачу взятки соответствующему должностному лицу Тимирязевского межмуниципального суда, от которого бы зависело непризнание особо опасным рецидивистом подсудимого Папия, ранее неоднократно судимого и обвинявшегося в покушении на кражу чужого имущества. Неустановленные лица особо напирали на то, что срок наказания Папии не должен превышать два с половиной года лишения свободы. Сафронов дал согласие на это предложение, сказав, что сумму, необходимую для решения проблемы, назовет позднее.
15 августа в 15.00 Сафронов провел встречу в юридической консультации № 24 Московской городской коллегии адвокатов с адвокатом Осинцевой Марией Михайловной и обменялся с нею визитными карточками.
«Прослушка» доложила, что вечером того же дня на домашний телефон Сафронова с таксофона позвонил неустановленный мужчина. Разговор шел о рулонах обоев. Называлась цифра пять метров. Сафронов и его собеседник согласились, что такого количества метров будет достаточно.
Поток сообщений от техподдержки все нарастал.
По данным наружного наблюдения, 20 августа в 18.30 Сафронов встретился с адвокатом Осинцевой в Манеже. В разговоре он предложил ей взять на себя защиту подсудимого Папии и подыскать должностное лицо Тимирязевского межмуниципального суда, которое согласилось бы за вознаграждение вынести необходимый приговор. Осинцева дала согласие выступить в качестве адвоката, но стоимость своих услуг, очевидно из осторожности, не назвала.
23 августа зафиксирована встреча адвоката Осинцевой с адвокатом той же коллегии Петровым Николаем Егоровичем, который пообещал Осинцевой, что его однокурсница по юридическому институту легко решит волнующую Осинцеву проблему. Фамилия однокурсницы Петровым не называлась. Дальнейшее наблюдение позволило установить контакт Петрова и судьи Тимирязевского межмуниципального суда Склонных Людмилы Павловны, действительно учившейся с ним в одно время в Московском юридическом институте. Склонных пообещала, что возьмет дело Папии к себе у ведущего его в настоящее время судьи Жукова.
25 августа в 22.00 состоялся разговор по домашнему телефону между Сафроновым и адвокатом Осинцевой. Говорили о рулоне обоев. Фигурировала та же цифра пять метров. Осинцева сказала, что нашла нужного мастера, который обои поклеит. Сафронов обещал, что задержки с обоями не будет.
26 августа к адвокату Осинцевой в юридическую консультацию № 24 Московской городской коллегии адвокатов пришла супруга подсудимого Папии – Ламзира Бардувелидзе и заключила договор по защите Папии в суде.
28 августа в 21.30 состоялся очередной телефонный разговор между Сафроновым и Осинцевой. Последняя сообщила, что изучила дело «грузина». Оправдать его невозможно, так как он задержан на месте преступления и следствием все оформлено юридически грамотно. Сафронов спросил: «Можно ли помочь клиенту в суде?» На что Осинцева ответила, что попытаться можно и человек ей пообещал. Надо только не затягивать по известному Сафронову вопросу. Сафронов ответил, что задержки не будет и он уже обо всем договорился.
7 сентября в 18.15 у магазина «Балатон» по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 8 Сафронов встретился с неустановленными лицами и получил от них пакет. На такси он приехал домой и больше в этот вечер из своей квартиры никуда не отлучался.
Однако в 20.00 он позвонил Осинцевой и сообщил ей, что наконец получил те самые обои в количестве пяти метров. Один метр он оставит себе на личный ремонт, а остальные готов передать ей хоть сегодня. Осинцева пообещала, что приедет прямо сейчас.
«Наружка» подтвердила приезд Осинцевой к Сафронову по адресу: Москва, улица 8 Марта, дом 2-а, квартира 4 и пребывание ее в квартире с 21.00 до 22.30.
Видеонаблюдение и «прослушка» также подтвердили передачу Сафроновым Осинцевой пакета и зафиксировали разговор, в котором Сафронов пояснил, что четыре метра Осинцевой надо использовать по собственному разумению, но сделать это необходимо оперативно, ибо те, кто передал обои, люди – опасные и шутить не будут. Осинцева заверила, что один метр, по его примеру, оставит себе, а три в импортном варианте передаст нужному человеку завтра же. Она развернула пакет и проверила его содержимое.
Исходя из анализа этих встреч и бесед, Сазонов сделал вывод, что под словами «обои», «рулон», «метры», «импортный вариант» фигуранты подразумевали суммы в рублях и валюте. В данном случае разговор между Сафроновым и Осинцевой шел о пяти миллионах рублей, что и было зафиксировано на фото и на видео.
Восьмого сентября наружное наблюдение засняло покупку Осинцевой долларов США на сумму равную трем миллионам рублей и ее встречу с адвокатом Петровым, которому она передала конверт с валютой.
Прочитав это сообщение, Сазонов, несмотря на приказ активизироваться, решил, что тот, кто долго ждет, может подождать еще немного, ибо реализация, то есть захват с поличным части участников преступной группы, пока ничего не даст. Чтобы она была успешной, нужно вскрыть всю цепочку. Для пущей наглядности своих выводов он решил начертить схему.
В «Детском мире» Сазонов купил лист ватмана, тушь и пачку плакатных перьев. Вспомнив, чему его учили в военно-политическом училище на занятиях по техническим средствам пропаганды, тушью, большими печатными буквами старательно написал на листе заглавие: «Дело оперативного учета Сатрап». В центре циркулем нарисовал круг и написал в нем фамилию главного фигуранта этого дела – Сафронов Михаил Иванович.
В сентябре девяносто третьего Москва снова забурлила.
Сазонов как-то столкнулся в одном из подземных переходов «планеты Лубянка» со своим бывшим начальником.
– Россия снова беременна революцией… – поставил он происходящему точный диагноз.
Бывший начальник находился в приподнятом настроении – революционная стихия его всегда возбуждала. Придержав Сазонова за рукав ветровки, он, слегка приглушив голос, стал перечислять все, что не так сделал «уральский сувенир ЕБН, который продался америкосам», и что этот «пьяница погубит Россию», ибо человек, облеченный в государстве высшей властью, должен думать о государстве, а не о том, как эту власть удержать. Проходящие мимо сотрудники начали оглядываться на них. А бывший начальник, продолжая удерживать заерзавшего Сазонова рядом с собой, заявил, что Верховный Совет в ближайшие дни отрешит предателя интересов государства от власти, а пока, в критической обстановке двоевластия, должны сказать свое веское слово настоящие чекисты…
Бывший начальник Сазонова, и впрямь, был верным продолжателем чапаевской традиции – первым в бой ломануться на лихом боевом коне, в развевающейся на ветру черной бурке. Причем даже тогда, когда командиру надо бы стоять поодаль и с холма наблюдать за своими подразделениями, идущими в атаку. Сазонов уже ждал, когда же бывший начальник задаст ему вопрос из легендарного фильма: «А ты за кого, Михаил Иванович: за большевиков али за коммунистов?» – и решил ответить уклончиво, мол, мы, сотрудники органов государственной безопасности, стоим за соблюдение законности и вообще с сентября девяносто первого года мы – вне политики…» Но бывший начальник не поставил его перед выбором: за Президента он или за Верховный Совет, но огорошил известием:
– Дело серьезное. ЕБН готовит переворот. За подготовку и организацию отвечает начальник его личной охраны. Начнется все двадцатого или двадцать первого сентября… – Он перешел на звенящий шепот: – Я получил информацию, что в Москву через Кишинев прибыло около сотни молодых людей из Израиля. Многие в прошлом – граждане СССР, все хорошо знают русский язык. Прибыли они небольшими группами, самолетами и разными поездами. Здесь расползлись по гостиницам. В «Космосе» я с ребятами из нашего отдела решил задержать одну из таких групп и проверить, кто и что… Рядом же – Останкинский телецентр, объект государственной важности. Однако несмотря на внезапность нашего визита и все меры конспирации, кто-то успел израильтян предупредить. В номерах мы застали только недопитые, еще теплые чашки с чаем и кофе… Кто предупредил – догадаться нетрудно, хотя прямых доказательств у меня нет. Ведь привезли эту группу в гостиницу люди из охраны гаранта конституции… Бывший сотрудник Конторы из службы безопасности «Космоса» сказал, что один из сопровождающих свои корочки перед ним засветил… Ничего не боятся, гады! Приезжие – все короткостриженые, накачанные, по выправке – спецназовцы… Поутру всей группой организованно делали пробежку и зарядку… Вежливые и молчаливые. Неукоснительно слушаются старшего. И приехали явно не на экскурсию в Третьяковку! А фамилия-то у их старшего известная – Яков Кезик, бывший советский диссидент, а ныне – генерал, глава одной из спецслужб земли обетованной…
Сазонов слушал бывшего начальника с легким недоверием: плохо укладывалось в голове то, что он рассказал, хотя и повода не верить ему не было.
– Наше дело теперь, Михаил Иванович, не допустить в столице кровопролития… Надо собирать общее собрание офицеров министерства безопасности и заявить о своей позиции открыто… Я сейчас иду в Белый дом налаживать мосты. Вернусь – договорим! – неожиданно оборвал разговор бывший начальник и умчался в здание мятежного Верховного Совета. Сазонов пребывал некоторое время в состоянии ступора. Он не знал, как поступить: идти ли немедленно, согласно заведенному правилу, к новому начальнику с докладом о необычном разговоре с бывшим начальником, или все же выждать немного, сесть и подумать.
Сазонов в конце концов выбрал второй вариант, посчитав значимым аргументом в пользу такого выбора хорошо известный ему факт, что бывший и новый начальники знакомы друг с другом уже давно, еще задолго до того, как с ними обоими познакомился он сам. И если уж бывший начальник не побоялся поделиться такой информацией с ним, Сазоновым, то со своим старым сослуживцем и товарищем Виктором Леонардовичем точно обменяться ею успел.
Успокоив себя таким образом, Сазонов вернулся в рабочий кабинет и занялся привычным делом – изучением сводок и донесений. Но разговор с бывшим начальником покоя ему не давал, навевал грустные аналогии двухгодичной давности.
Летом девяносто первого в Москве стояла невыносимая духота, мешающая дышать и думать. Но даже не эта природная аномалия, а какая-то наэлектризованная политическая атмосфера тогда повисла над столицей и всей страной: полемика в газетах и на телевидении, выборы первого президента России и последовавший за ними указ Ельцина о департизации всех государственных и хозяйственных структур, явное безволие Горбачева и его окружения, непрекращающиеся митинги и собрания простых людей, уже переставших верить в обещание власть предержащих навести порядок, и уже упомянутое ощущение взрывоопасности сложившейся ситуации и назревающих неотвратимых перемен…
В один из таких душных летних дней в клуб Дзержинского на встречу с партактивом военной контрразведки прибыл секретарь ЦК недавно созданной коммунистической партии РСФСР Геннадий Андреевич Зюганов. Коммунисты-контрразведчики встретили его тепло, как одного из подписантов «Обращения к советскому народу», опубликованного в «Советской России». В обращении, адресованном в первую очередь к армии и КГБ, говорились правильные слова о Родине и государстве, данном современникам для сбережения славными предками, критиковалась неразумная политика схлестнувшихся друг с другом в борьбе за власть Горбачева и Ельцина, вследствие которой страна разрушается, погружается во тьму и небытие.
– Эта погибель происходит при молчании и попустительстве нас, коммунистов… – подтвердил Зюганов свою позицию во время пламенной речи. Эти слова были встречены аплодисментами, но, когда они утихли и в свете перестройки и гласности разрешили задавать оратору вопросы, Сазонов вскочил с места в зале:
– Что же нам делать, товарищ секретарь ЦэКа? Мы, чекисты и коммунисты – меч партии и ее щит. Вы прямо, а еще лучше – поименно укажите нам врагов, которых нужно арестовать. Только дайте распоряжение – мы выполним приказ партии, возьмем предателей в ежовые рукавицы!
Реплику Сазонова сослуживцы тоже встретили бурной овацией.
Но Зюганов, до этого момента такой решительный, как-то вдруг растерялся, заюлил, стал бормотать что-то невнятное, дескать, он не уполномочен центральным комитетом на какие бы то ни было заявления, и быстро-быстро покинул сцену.
После собрания партактива начальник управления генерал Казимир вызвал Сазонова к себе и отчитал за недопустимое поведение на встрече с высоким партийным руководителем:
– Ты, конечно, Сазонов говорить умеешь, аж звенит! Не зря, видать, в свое время политическое училище окончил. Но язык твой, он же – злейший твой враг! Скажи, какого рожна ты к Зюганову с вопросом полез? Нельзя аппаратчику такого ранга… – генерал закинул голову с высокими залысинами к потолку, – такие провокационные вопросы задавать… Да еще свое мнение при этом высказывать! Ты и себя подставляешь, и все наше управление! Ведь вроде же опытный кадровик, а ведешь себя, как молодой опер: сам в дерьмо с размаху вступаешь и коллег с панталыку сбиваешь, аж звенит!
Сазонов и рта не успел раскрыть, чтобы объяснить генералу, что ничего такого он партийному вождю не сказал.
Казимир не дал ему этого сделать:
– И не оправдывайся… Лучше молчи! – приказал генерал. – И давай-ка рапорт мне на стол, с завтрашнего дня ты – в отпуске… Да смотри там, где отдыхать будешь, поосторожнее с высказываниями, лишнего не болтай… Но при этом помни: мы все готовы встать на защиту страны, вплоть до самопожертвования!
В отпуске, свалившемся как снег на голову, Сазонов поехал в родную деревню. Помогал родителям по хозяйству, ездил с другом детства Александром, ставшим директором сельского клуба, на рыбалку, встречался с родней и одноклассниками, беседовал с односельчанами.
Запомнился ему разговор с соседом дядей Ваней – фронтовиком. Он, как и Макар Григорьевич Кленов, служил в конце войны на Западной Украине и тоже в ведомстве госбезопасности, только не офицером, а солдатом – возил на машине начальника районного управления НКВД. Дядя Ваня очень гордился своей «секретной» службой и полученной медалью «За боевые заслуги», не забывая, когда выпьет, а абсолютно трезвым он бывал редко, похвастаться, что он тоже – настоящий чекист и с бандеровцами имеет свои счеты, ибо их, гадов, из схронов выковыривал и к ногтю прижимал.
Как-то, будучи уже изрядно под турахом, дядя Ваня подсел к Сазонову на завалинку и выдал такое, от чего у генерала Казимира, будь он свидетелем их разговора, последние волосы на голове встали бы дыбом:
– Мишка, ты же там в Москве, около Кремля крутишься… Со служебным наганом, поди, за пазухой ходишь… Так вот, ежели бы ты из револьвера долбанул этого Мишку-«меченого», весь народ тебе бы в ножки поклонился…
– Дядь Вань, что ты такое говоришь? – профессионально озираясь, попытался урезонить фронтовика Сазонов. – Забыл, что ли, где я служу? Ты же сам чекистом был – понимать должен, что мне по долгу службы тебя арестовать надо за такие антигосударственные речи…
– А заарестуй! – взъерепенился вдруг дядя Ваня. – Может быть, в тюрьме хоть кормить будут по-человечьи… И слышь-ка, Мишка, пока меня не заарестовал, сделай еще одно доброе дело: Борьку Эльцына заодно с Горбатым к стенке поставь! Он хоть водку и пьет вроде бы по-нашему, крепко – даже вон, окосев, с моста в речку жахнулся, но чую – толку от него простым людям не будет никакого… Вот попомнишь мое слово, Мишка, энтот Эльцын – всех продаст!
Еле угомонил тогда Сазонов соседа, проводил, нетвердо стоящего на ногах, до его дома и тетке Зинаиде, его супруге, на руки передал. Но сам долго не мог успокоиться: была в словах соседа вовсе не пьяная боль за страну, которую он защищал в годы войны и которую защищать теперь доверено Сазонову. И своим, конечно же, абсурдным призывом разобраться с разрушителями этой страны по-чекистски дядя Ваня от лица всех фронтовиков прямо взывал к Сазонову воздать разрушителям страны по справедливости, остановить таким образом грядущую катастрофу…
Отпуск Сазонов до конца не догулял. Его отозвали на службу так же неожиданно, как и отправили отдыхать. В управлении сразу вручили командировочное удостоверение, согласно которому он направлялся в Алма-Ату для проверки подведомственных особых отделов.
Во время этой командировки Сазонов облетел столицы всех среднеазиатских союзных республик, побывал в нескольких областных центрах, где дислоцировались внутренние войска, и по результатам своей инспекционной поездки подготовил докладную записку, в которой отметил, что все проверенные части верны присяге и готовы стоять за Советский Союз до конца и вплоть до самопожертвования, как требовал генерал Казимир.
В Москву Сазонов прилетел накануне августовских событий, которые впоследствии окрестят «путчем». Хотя какой же это путч, если в нем, с негласного одобрения самоустранившегося президента СССР, участвовали все высшие сановники страны и высший генералитет всех силовых ведомств?
Утром, услышав по радио обращение к народу вице-президента страны Янаева, возглавившего Чрезвычайный комитет национального спасения, Сазонов тут же включил телевизор. Из пяти каналов работал только один, и по нему транслировалось «Лебединое озеро» Чайковского.
«Началось…», – подумал Сазонов. Он с трудом дозвонился до дежурного по управлению и его уведомили, что он включен в созданную оперативную группу и ему надлежит срочно прибыть на службу, но не на Красноказарменную улицу, а прямо на Лубянку.
В Третьем Главном управлении КГБ, куда Сазонов прибыл незамедлительно, опергруппу из шестидесяти пяти человек разбили на двадцать троек, а Сазонова назначили старшим резерва из пяти человек. Вскоре на Лубянку прибыл заместитель Казимира – генерал со смешной украинской фамилией Брага. Он сказал, что вся оперативная группа переподчиняется лично ему и им поручена охрана Ельцина.
Сазонов и тут не удержался от уточняющего вопроса:
– Товарищ генерал-майор, поясните: мы – охрана или конвой?
Брага погрозил ему кулаком и коротко приказал:
– Получить всем автоматы и боекомплекты. Через десять минут выезжаем к Белому дому…
В автобусе Сазонов, сжимая АКМ, припомнил слова своего земляка дяди Вани и поймал себя на мысли, что одной меткой очереди, действительно, будет достаточно, чтобы народ «спасибо» чекистам сказал. Но тут же мысленно сам себя приговорил к «расстрелу»: законность – превыше всего. Что будет со страной, если каждый, кто считает себя патриотом, самосуд без суда и следствия устраивать будет?..
Вся Москва стояла в пробках. В центре не ходили троллейбусы и другой наземный общественный транспорт. Главные улицы, по которым двигались колонны боевой техники, для движения гражданских автомашин были перекрыты. Но их автобус со спецпропуском сравнительно быстро добрался до гостиницы «Украина». Там, на берегу Москвы-реки, его и оставили. Сазонов и Брага направились к Белому дому по пешеходному мосту.
В Белый дом их не пустила охрана. Брага, размахивая красными корочками, потребовал пригласить к ним председателя недавно созданного КГБ России Иваненкова. Генеральские лампасы, а пуще того – гневный генеральский рык сыграли свою роль, и генерала Иваненкова вызвали.
Генералы обменялись рукопожатиями, и Брага доложил коллеге, что их группа сформирована для оказания помощи по охране Президента России.
Иваненков кивнул в знак того, что задачу прибывших уяснил, но отказался пропустить группу в здание:
– Троянский конь нам здесь не нужен! – довольно жестко заявил он. И они вернулись к своему микроавтобусу.
Несколько часов зачем-то ожидали прибытия к Белому дому батальона десантников во главе с генералом Лебедем. Не дождавшись, выехали ему навстречу в сторону МКАДа, но разминулись с военными и снова вернулись к гостинице «Украина». Узнали, что Лебедь за время, пока они отсутствовали, привел сюда батальон и снова увел его, ссылаясь на то, что якобы не получил от своего руководства из Министерства обороны боевой задачи…
Когда стемнело, опергруппа генерала Браги вернулась на Лубянку, так и не выполнив поставленную ей утром задачу: проникнуть в Белый дом, взять под свою охрану цокольный этаж и легендировать проход туда офицеров из группы «Вымпел» и «Альфа» под видом саперов, якобы для разминирования находящихся в здании подозрительных предметов.
Как выяснилось только теперь, «альфовские» легендарные спецы должны были без применения оружия вежливо вывести Ельцина и его ближайших сторонников из здания и транспортировать их в Подмосковье, в одну из подчиненных Конторе воинских частей, где и содержать до тех пор, пока ситуация не успокоится и окончательно не прояснится… Но генерал Брага проявил нерешительность. Такую же нерешительность проявили и руководители на Лубянке. Время было упущено, и демократы в Белом доме сумели подготовиться к возможному штурму.
Наутро для опергруппы, в которую входил Сазонов, повторилась та же неразбериха с выездом к Белому дому, бесцельным стоянием поблизости и полной невозможностью как-то повлиять на происходящее.
И на третий день они до обеда проторчали на набережной, наблюдая за Белым домом и его окрестностями. Там, где Калининский проспект пересекался с Садовым кольцом и далее до Москвы-реки, улица была перегорожена тяжелым автотранспортом. У бывшего здания СЭВ все развязки моста и эстакады перекрыли баррикады, сложенные из строительных блоков, арматуры и металлических листов. Толпы людей сновали туда-сюда, заполоняя все пространство. Сам Белый дом по всему периметру тоже обзавелся баррикадами, у которых выстроилось много бронетехники: БМП, танки и БТР. Возле них толпились солдаты и офицеры в полевой форме. В бинокль Сазонову было видно, что москвичи, именующие себя «защитниками демократии», братаются с военными, подкармливают фастфудом, бесплатно доставленным из «Макдональдса». В стволах орудий и крупнокалиберных пулеметов торчали букетики цветов, и над всем этим скопищем техники и людей висел в небе белый аэростат с огромным триколором – новым российским флагом…
