Об исполнении доложить
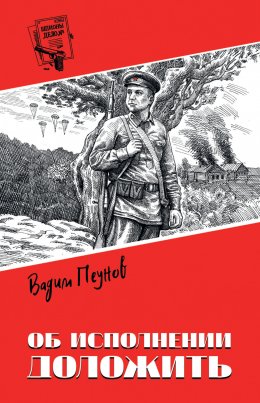
© Пеунов В.К., наследники, 2024
© Хлебников М.В., составление, предисловие, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
«…Теперь предстоит затяжная война»
Наверное, самое ценное для нашей «шпионской серии» – возвращение из плена времени писательского имени, которое казалось прочно осталось в прошлом и может привлечь к себе внимание лишь редких знатоков и ценителей шпионского жанра. В прошлом году мы представили роман донбасского писателя Вадима Пеунова «Последнее дело Коршуна». Книги серии не обделены читательским вниманием, но даже на фоне самого благожелательного отношения реакция на роман оказалась неожиданно бурной. Причина тому, помимо литературного качества романа, кроется и в драматической судьбе самого писателя, и в явной исторической актуальности книги. Слова «бандеровцы» и «украинские националисты» сегодня наполняются особым смыслом и содержанием. Мы решили продолжить знакомство с наследием Вадима Константиновича, благо что любовь к шпионскому жанру писатель сохранил на всю жизнь.
Скажем несколько слов об авторском пути Пеунова после публикации в 1955 году «Последнего дела Коршуна». Молодой писатель очутился перед выбором. С одной стороны, знание жизни индустриального, шахтёрского Донбасса могло помочь в написании книг о рабочем классе, востребованных с позиции социального заказа. Но в то же время фронтовой опыт также требовал своего осмысления. Пеунов решил соединить две темы в следующей большой книге. В 1958 году в Сталинском областном издательстве выходит его объёмный роман «Друзья и враги». Переработанный вариант романа через три года увидел свет под названием «Любовь и ненависть». Такой приём – доработка, расширение текста характерен для писательской работы Пеунова. Сложное, многоплановое произведение соединяет в себе черты производственного романа и военной эпопеи. Два молодых лейтенанта – лётчик Антон Сысойко и артиллерист-политрук Владимир Гремячий – приезжают в родной донбасский город. Они полны сил, их ждут любимые девушки. На календаре лето 1941 года… Друзья уходят на фронт, оставшиеся в тылу родные и близкие люди продолжают работать, готовить шахтовое оборудованием к эвакуации. Не все персонажи выдерживают испытания огнём: слабость, проявленная сегодня, оборачивается предательством завтра…
Попробовав себя в качестве автора широкого, эпического полотна, писатель во второй половине 1960-х годов решил вернуться к тому, с чего начался его путь в литературу. Увы, в то время шпионский роман переживал острый кризис. Несколько раз я уже говорил о его причинах – борьбе с наследием сталинизма не только в культуре, но и в политике, установке на идею мирного сосуществования с Западом, которая, по сути, означала постепенную, шаг за шагом, сдачу позиций под видом «соревнования систем». Не будем забывать и о зависти со стороны профессионального писательского сообщества. Советский читатель 1950—1960-х годов любил и ценил книги о шпионах, тиражи поглощались мгновенно и без следа. В качества эрзаца читателю был предложен милицейский роман. Его «единственная» беда была в том, что содержательно он безоговорочно, сразу и зримо проигрывал тем же западным детективам. Если имена Агаты Кристи, Раймонда Чандлера, Рекса Стаута известны и сегодняшнему читателю, то советский милицейский роман в наши дни попросту забыт. Как бы странно это ни звучало, авторы советского детектива всячески открещивались от таких «родимых пятен» жанра, как увлекательность и остросюжетность. Занимательность отодвигалась на вторые, а лучше на пятые-шестые планы. Упор делался на «поднятие серьёзных нравственных проблем», создание «портрета нашего современника». Приведу показательные рассуждения двух соавторов на эту тему, которые поджидали отечественного читателя во № 2 альманаха «Поединок», выпущенном в 1976 году. Фамилия одного из них, думаю, прозвучит неожиданно для ценителей и знатоков жанра:
«Что питает детективный жанр в сюжетном смысле? Преступление. Но тогда по мере дальнейшего развития нашего общества, по мере его приближения к Коммунистическому Завтра преступление как социальное явление будет все больше и больше сходить на нет. Соответственно пропадет и сама нить реальности, питающей данный жанр. Некие признаки этого оптимистического процесса просматриваются уже сейчас. Поэтому, когда читаешь какую-нибудь ремесленно «сляпанную» книгу, становится неинтересно, глубоко безразлично, кто совершил это зло и каким образом будет он наконец изловлен. Что-то в самом читателе отвергает уже игрища лукавства и злодейств.
Речь идет, однако, отнюдь не об исчезновении жанра – пусть даже в самом отдаленном будущем. Речь идет о том, что на смену традиционному противоборствованию «сыщика» и «преступника» придут и уже приходят в литературу иные, пожалуй, значительно более сложные коллизии, в первую очередь этического порядка. Что же касается приключения как формы отношения человека к ситуациям своего бытия, к жизни, то будущее не только не сузит рамки этого, но, наоборот, раздвинет их невообразимым сегодня образом. Выход человека в космос, фантастические возможности науки завтрашнего дня, социальное преобразование общества – вот области, причастность к которым немыслима без подвига, без приключения».
Текст называется не менее основательно «Раздумья над жанром». Его авторы – Юлиан Семёнов и Александр Горбовский. Тут остаётся только развести руками.
Писатели, пытавшиеся работать в то время в шпионском жанре, должны были обставить своё обращение к теме некоторыми условностями. Одно из них – перенос действия книг в годы Гражданской войны и первых лет советской власти. Там можно обойтись без выхода в космос, использовав вволю «игрища лукавства и злодейств». Также неплохим приёмом считалось использование соавторов – свидетелей и участников тех далёких событий. Этим путём и пошёл Вадим Пеунов. Соавтор нашёлся достаточно быстро. Им стал подполковник государственной безопасности в отставке Иосиф Ионович Чернявский. Свою службу он закончил в должности заместителя начальника 2-го отдела УНКГБ по Сталинской области. Вместе с ним Пеунов пишет большую повесть «Чекист Аверьян Сурмач», которая вышла в 1969 году. В ней рассказывается о противостоянии чекистов с контрабандистами на западных границах Советской Украины в начале 1920-х годов. Молодой борец за советскую власть Аверьян получает назначение на должность уполномоченного экономгруппы Турчиновского окротдела ГПУ. Молодой чекист верит в силу маузера и шашки:
«Он вспомнил, как долдонили тринадцать шахтарчуков-сыновей горнорабочих: «аз», «буки», «веди»… Прописать «ижицу» – это не букву вывести тупым карандашом в тетрадке в клеточку, а высечь нерадивого привселюдно розгами, спустив холщовые штаны до колен. У батюшки с дьячком – лихим мастером по части «ивовых поучений», вымоченных специально в горячей соленой воде, – всего две книжки: «Часослов» и «Божий закон». Аверьяну больше нравилось читать по «Божьему закону»: буквы покрупнее, и картинки есть такие смешные, – летит херувим в длинной, до пят, рубахе и белыми крыльями, словно бабочка-капустница, машет. А над кудрявой головой колечко – нимб.
Не с той ли поры всех образованных Аверьян заранее относил в разряд «контры» и только для учителей и врачей делал скидку, да и то не для всех»
Проблема в том, что за банальными мелкими экономическими преступлениями постепенно вырисовывается картина нешуточной политической борьбы с участием польской разведки, петлюровского подполья, за которыми маячат размытые фигуры настоящих серьёзных врагов. Аверьяну приходится признать силу и необходимость «образования», без которого одержать победу над хитрым и изворотливым врагом будет крайне сложно. Книга – «возвращение к жанру» – получилась удачной, и Пеунов, почувствовав уверенность, берётся за сольный проект, работа над которым растянулась на несколько лет. Её итогом стал роман «Об исполнении доложить», изданный в 1974 году.
Книга без раскачки бросает читателя в гущу событий:
«Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов положил передо мною копию немецкого документа и сказал:
– Что ж, одним ударом Германия с нами не справилась, теперь предстоит затяжная война. Начинают работать факторы длительного действия. Это очевидно для всех. И вот один из первых ходов нашего с вами противника – гитлеровской контрразведки».
А ход врага оказался серьёзным. Поздним летом 1941-го он нацелился на северные районы Донбасса, ставя перед собой сразу несколько целей. Во-первых, немцы пытались отсечь магистрали, связывающие Днепр с Доном, лишить нашу оборонную промышленность мощного индустриального потенциала этого развитого и обжитого региона:
«Бывало, летишь ночью, а под крылом море огней. Крупные города, не уступающие многим областным центрам, идут почти один за другим, порою граница между ними чисто условная. Раскидистые, привольные села и старые, оставшиеся от столыпинских времен, хутора».
Да, сегодня мы знаем, как непросто вернуть и защитить донбасские крупные города и привольные села. Вторая задача – провоцирование националистического движения с привлечением участников антисоветских восстаний 1920-х годов. Третья часть – таинственная миссия «Сыск». Координатор немецкого плана в советском тылу – неуловимый резидент гитлеровской разведки с кодовым «Переселенец».
Команду советских контрразведчиков возглавляет полковник Пётр Дубов – вариант повзрослевшего Аверьяна Сурмача. Пётр отправляется в район активности вражеской агентуры, который ему хорошо знаком ещё со времён Гражданской войны. И в этой части романа Пеунов отдаёт дань шпионской романтике 1920-х годов. Оказывается, что во вражеских планах значительная роль отводится остаткам банды батьки Чухлая, к разгрому которой причастен и Дубов. Чекист встречает Надежду Сугонюк – бывшую невесту бандитского атамана. Пётр подробно вспоминает о событиях двадцатилетней давности, когда сотрудники ОГПУ пытались добиться мирной сдачи «чухлаевцев». Сразу скажу, что подробное повествование о борьбе с бандитским подпольем несколько тормозит развитие сюжета. Кажется, что история начинает буксовать, писатель чрезмерно погружается в прошлое. Но подобная «заминка» связана с расстановкой персонажей, среди которых и муж Надежды – бывший чухлаевский подельник по кличке Шоха, и сам неутомимый атаман. Действие набирает обороты не сразу, требуется раскачка, но затем писателю удаётся поймать удачный темп повествования. Прошлое неумолимо прорастает в настоящем. Ситуация углубляется тем, что гитлеровские войска наступают и возникает необходимость перехода чекистов на нелегальное положение.
Вернусь к операции нацистской разведки «Сыск». Она связана с поиском советского разведчика «Сынок», работающего в Германии долгие годы. Дубов знает его по тем же лихим двадцатым годам:
«Иногда нам с Сергеем давали особые задания, и мы, переодевшись в форму белогвардейцев, отправлялись во вражеский тыл. Скрябин превосходно говорил по-французски и по-немецки. Это не раз нас выручало. Обычно он представлялся белогвардейцам: «Князь Скрябин». Вначале я думал, что он так именует себя для маскировки. Но однажды узнал, что Сергей действительно знатного рода – его мать настоящая княгиня. Впрочем, княжеского у Скрябина ничего, кроме титула, не осталось».
Теперь он не Сергей Скрябин, а высокопоставленный немецкий офицер Генрих Вильгельм фон Менинг. Читатель, конечно, догадывается о том, с именем какого другого советского разведчика связан этот сюжетный поворот. Юлиан Семёнов в нашем тексте поминался не просто так. Как и в шпионском романе, все персонажи должны раскрыться в неожиданных связях и отношениях между собой. Насколько Пеунову удалось соблюсти баланс между разными видами шпионского романа: классического, исторического, политического, – решать читателю. Если кто-то решил, что я в предисловии «открыл все карты», то спешу успокоить: самые коварные планы асов немецкой разведки скрыты до поры от ваших глаз. Полковнику Дубову и его товарищам предстоит непростая схватка с врагом на донецкой земле.
С чем книге Вадима Пеунова не повезло точно, так это с тем, что в один год с его книгой выходит роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого». Публикация в трёх последних номерах «Нового мира» за 1974 год перевернула представление о том, как нужно рассказывать о работе фронтовых контрразведчиков. Без скидок великий роман Богомолова, конечно, «заслонил» собой книгу донбасского писателя. Но прошедшие юбилейные полвека со времени публикации этих двух книг показывают, что в литературе места хватает всем. К сожалению, сегодня мы снова вынуждены говорить о злободневности романа Пеунова. Его герои доказывают, что сила и коварство врага разбиваются не только о мощь нашего оружия. Победа невозможна без спокойной уверенности в правоте своего дела. Этим чувством обладают как полковник Дубов с товарищами, так и те, кто сегодня встал на пути исторической тьмы, снова наползающей на нас с Запада.
М.В. Хлебников, канд. философских наук
Задание на контрразведку
Светлой памяти моей матери Зои Ивановны Пеуновой.
Автор
Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов положил передо мною копию немецкого документа и сказал:
– Что ж, одним ударом Германия с нами не справилась, теперь предстоит затяжная война. Начинают работать факторы длительного действия. Это очевидно для всех. И вот один из первых ходов нашего с вами противника – гитлеровской контрразведки.
Я внимательно прочитал документ.
«Секретное распоряжение
Отдел иностранной контрразведки
№ 63/14
Контрразведка 11/ЛА
Секретное дело штаба Берлин
(Только через офицера)
Во исполнение полученных от оперативного отдела военно-полевого штаба указаний приказано:
1) создать оперативную группу «Есаул»;
2) руководителем ее назначить майора Хауфера, его заместителем – капитана фон Креслера;
3) в качестве отправного пункта оперативной группы «Есаул» избрать лесистые районы Северного Донбасса, где проходят важные железнодорожные магистрали и шоссейные дороги, связывающие Днепр с Доном.
Оперативной группе «Есаул» вменяются следующие обязанности:
I. а) сообразуясь с имеющимися оперативными и агентурными данными, провести акцию «Сыск», возложив при этом личную ответственность за результаты акции на майора Хауфера и капитана фон Креслера;
б) подготовка акции «Сыск» и поддержание связи с майором Хауфером возлагаются на отдел контрразведки.
II. Учитывая большое значение промышленного потенциала юга Советской России, оперативный отдел военно-полевого штаба считает возможным согласиться с рекомендациями Переселенца и использовать в интересах рейха противоречия, которые должны возникнуть в сложной прифронтовой обстановке между национальностями, проживающими на данной территории. В связи с этим необходимо: а) в широких масштабах организовывать саботаж всюду, где это позволяют условия, и прежде всего на оборонных предприятиях, на транспорте, на базах, где скапливаются товары первой необходимости; б) конечной целью этих акций должны явиться антисоветские восстания недовольного возникшими трудностями местного населения, особенно казаков; в) в дальнейшем из этих лиц желательно сформировать отряды для несения караульной службы в районе тыла группы армий «Юг» после выхода наших войск на линию «Дон».
III. Учитывая опыт первых месяцев войны, можно сказать, что, как только нашими войсками будут заняты промышленные области юга Советской России, особенно Донбасса, русскими будет непременно организовано коммунистическое подполье на этой территории. Поэтому необходимо: а) используя группу Переселенца, а также личные знания майором Хауфером и Переселенцем условий и политической обстановки на указанной территории, выявить людей, которым, возможно, будет поручена организация подполья; б) своевременно установить места явок, баз и сосредоточений будущих партизанских отрядов и подпольных групп; в) в нужный момент одновременно и повсеместно обезглавить подполье».
Прочитав документ дважды, я вернул его дивизионному комиссару.
С Андреем Павловичем мы расстались несколько месяцев назад, незадолго перед войной, когда меня из отдела военной контрразведки перевели в распоряжение Киевского военного округа, поближе к западной границе. Я получил назначение на должность начальника контрразведки корпуса. Впоследствии наш корпус принял на себя один из первых танковых ударов врага. Потом с кровопролитными боями отступал через западные районы Украины, прорвался к Киеву и влился в общую оборону. После выхода из окружения я, как это и полагалось, написал рапорт о проделанной работе за период боев на границе и во время отступления. Рапорт попал к Борзову, и он вызвал меня срочно в Москву. До столицы я добирался с превеликими трудностями.
Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов, один из соратников Феликса Эдмундовича Дзержинского, был первым моим учителем. Под его началом я проработал шестнадцать лет. И вот мы снова вместе.
За время, что мы не виделись, Борзов, что называется, сдал. Столько лет Андрей Павлович был для нас, молодых чекистов, образцом неувядаемости и вечной молодости. Поджарый, энергичный, напористый, он мог неделями работать по двадцать часов в сутки. А сейчас выглядел вконец уставшим. Глаза красноватые. Веки припухли. Это от бессонницы.
– Вот, Петр Ильич, – положил он на стол документ, – оперативный отдел гитлеровского военно-полевого штаба планирует нашу с тобой работу. – Он постоял, подумал. Заговорил уже официально, по старой служебной привычке обращаясь к подчиненному на «вы». – Я отозвал вас с фронта как специалиста по промышленному югу страны. В Донбассе родились, там боролись с бандитизмом, там работали, вернее, начинали с Сынком…
Такое предисловие взволновало меня. Какое же меня ждет назначение? Вспомнил одного из лучших разведчиков своего отдела, работающего за границей с давних времен.
Борзов глянул на секретное распоряжение гитлеровской разведки, лежащее на столе, и спросил:
– Что вы можете сказать по поводу содержания этого документа?
«Что сказать»! Зная манеру комиссара работать с подчиненными, я ждал этого вопроса.
– Мне думается, что гвоздь всего задания для группы «Есаул» – акция «Сыск». Даже в сверхсекретном приказе цель ее осталась зашифрованной. Но тут же подчеркивается личная ответственность за результаты ее проведения руководителей оперативной группы «Есаул». Кстати, о фамилиях: Хауфер мне ни о чем не говорит, но это, судя по приказу, опытнейший разведчик. А вот фон Креслер…
Креслеры – военная династия. Начиная со времен Фридриха Великого Креслеры играли не последнюю роль в битвах за «великую Германию». Генрих фон Креслер – штабист, теоретик, полковник, стратег бронированного кулака. Иоганн фон Креслер, старший из братьев, прусский генерал крайне консервативных взглядов, перед войной в должности командира дивизии проживал в Кёнигсберге. В своих мемуарах «Война как она есть», вспоминая четырнадцатый год, писал: «Россия – огромная страна, глубина ее тыла практически беспредельна, людские и материальные ресурсы колоссальны. Нельзя забыть и о боевом духе русского солдата. В мире есть три нации, которые умеют бесспорно побеждать: немцы, русские и японцы. Опыт прошлого учит, что нам нужно быть рука об руку с русскими». Капитан доктор фон Креслер был третьим Креслером, имя которого стоило знать контрразведчику.
– Показательно, – говорю Борзову, – выходец из такой знатной семьи, имеющий, вне сомнения, самых влиятельных покровителей, доктор – всего лишь второе лицо. Представляю себе, каким крупным специалистом контрразведки является Хауфер, коль ему, а не доктору фон Креслеру доверили возглавить группу «Есаул».
Сумрачное лицо Борзова подобрело, глаза просветлели.
– Мы, – продолжал комиссар, – рассматриваем задание, которое получила группа «Есаул» от своего центра, как моральную диверсию с далекоидущими целями: разжигание национальной розни в таком многонациональном крае, как промышленный юг Украины и РСФСР, и антисоветское восстание. Ни больше ни меньше. Но решается эта политическая задача методами контрразведки. Вот и перед нами стоит политическая задача – сорвать планы гитлеровцев и при возможности навязать им свою контригру. Сегодня я вас, Дубов, познакомлю с Федором Николаевичем Белоконем. Интереснейший человек. Сами в этом убедитесь. Он занимается организацией партийного подполья на Украине. А вам предстоит охранять и это подполье, и прифронтовую зону.
В 17.35 мы с Борзовым вошли в просторное здание ЦК. Здесь было тихо и прохладно. Мы поднимались по широкой лестнице, шли по сложным лабиринтам коридоров и молчали: обоими владело сложное чувство значимости происходящего.
В просторном кабинете, у стола, в широких креслах сидели и беседовали двое. Друг против друга. Один – невелик ростом, суховатый, как говорят в народе, поджарый. Волосы ежиком. Лобастый. С шустрыми, все примечающими светлыми глазами. Ему на вид было лет сорок пять. В военной гимнастерке, но без знаков различия. Догадаться труда не составляло: Федор Николаевич Белоконь. Другой, Вячеслав Ильич, постарше лет на десять. Полный. Лицо уставшего, измученного долгой бессонницей человека. Перепахали лоб морщины. Под глазами они – мелкой сеткой, которую не в состоянии скрыть даже тяжелая черепаховая оправа очков.
Он поднялся нам с Борзовым навстречу.
– Говорю Федору Николаевичу: проверь свой хронометр: Борзов в дверях, значит, 17.40. – Он поприветствовал комиссара, которого сегодня уже видел, затем тепло поздоровался со мной. Привычным движением руки поправил очки, «посадив» их на место. – Знакомьтесь, – представил он меня, – Петр Ильич Дубов.
Белоконь резким, решительным движением пожал мне руку.
Вячеслав Ильич предложил всем сесть, а сам подошел к карте, занявшей почти всю стену, и отодвинул шторки.
Карта была перечеркнута красно-синей спаренной линией, которая начиналась где-то у Ленинграда, опускалась к югу, добиралась до Днепра. Голубая полоска реки разлучала синюю черту с красной, но кое-где, перебравшись на восточный берег, они вновь соединялись, застывали.
– Трудно нам сейчас, – с грустью сказал Вячеслав Ильич. – В данный момент противник развернул против нас 182 дивизии, не считая четырнадцати дивизий, которые находятся в резерве главного командования сухопутных войск. Наши части, к сожалению, пока укомплектованы лишь наполовину. Свежие дивизии мы вынуждены сосредоточивать в основном на Западном фронте, перекрывая подступы к Москве, хотя крупные мероприятия и проводятся по обороне Ленинграда и Киева. Но там противник имеет четырехкратное превосходство в авиации. Мы оставили Таллин: Балтийский флот потерял хорошую базу. Это скажется на обороне Ленинграда. Ну а то, что делается в районе Чернигов – Киев – Нежин, вы видели своими глазами…
Обстановка на Юго-Западном фронте была напряженная. Я знал, что немцы у Остра вышли к Десне, окружили, можно считать, Киев и севернее его, у Горностайполя, начали наводить стационарную переправу. Наша авиация ее неоднократно бомбила.
Вячеслав Ильич не мог оставаться спокойным, рассматривая карту. Задернул шторки, вернулся к столу.
– Ко всему прочему и у командиров, и у красноармейцев не хватает опыта ведения войны таких масштабов. Мы его приобретаем. Вот под Ельней провели удачно большую наступательную операцию. Но за приобретение этого опыта пока платим невероятную цену.
Я вспомнил бои, которые вел наш корпус на илистой небольшой речке Рате. При первом же артобстреле полковых казарм бойцы растерялись. А когда показались вражеские танки, кое-кто решил искать спасение в ближнем лесу. А вот в одном батальоне, которым командовал участник боев в Испании, взялись за гранаты и подбили несколько танков. К сожалению, позже мы не смогли узнать даже имен многих героев. Шли тяжелые бои, мы отступали. И не всегда планомерно. Опыт! Как он нужен в таком большом и сложном деле, как война!
Вячеслав Ильич продолжал рассказывать об общем положении на фронте.
– Противнику удалось захватить и расширить плацдармы у Днепропетровска, Борисполя и Кременчуга. Война пришла на восточный берег Днепра.
Он замолчал. И мы трое тоже удрученно молчали. Каждый из нас тяжело переживал несчастье, обрушившееся на Родину.
Вячеслав Ильич снял очки, начал протирать их желтой замшей, которую специально для этого носил в футляре. Без очков он близоруко щурился, поэтому выглядел старше своих лет.
– Вот на сложность обстановки, в которой мы очутились, и рассчитывают стратеги военно-полевого штаба, – заметил Вячеслав Ильич. – Антисоветское восстание! Ни больше ни меньше! Каково! – Он подосадовал, затем уже в спокойном, деловом тоне продолжал: – ЦК считает, что идея крупных антисоветских выступлений, основанных на национальной розни, – идея бредовая. Но найти определенное количество деклассированных отщепенцев гитлеровская агентура, пожалуй, сможет. Есть у нас тайные враги и среди союзников, которые хотя и в одной с нами коалиции, но радуются в душе каждой нашей неудаче, надеясь, что те неудачи приведут нас к катастрофе. По имеющимся данным, гитлеровская контрразведка нацелилась на Крым, на Кавказ и вот теперь – на промышленный юг страны, где проживает тоже неоднородное по национальному составу население. Юг страны: Днепропетровская область, Харьковская, Сталинская и Ростовская – прежде всего важный промышленный потенциал в системе обороны. Это кузница рабочих кадров, родник пролетарской сознательности. Вот почему ЦК ВКП(б) рассчитывает на то, что здесь будет создано сильное подполье, способное решать сложные военные, политические и экономические задачи. И вот уже сейчас гитлеровская контрразведка замахивается на это будущее подполье. Поэтому и нам надо срочно предпринимать ответные меры. Давайте определимся в целях и методах врага. Андрей Павлович, – обратился он к комиссару, – вам слово.
Борзов кивнул слегка: «Понял».
– Исходя из секретного распоряжения гитлеровской контрразведки, – начал он, – перед группой «Есаул» ставятся три задачи. Первая: акция «Сыск». В отношении сути этой акции у меня одно предположение есть, но оно требует уточнений… По-видимому, это обычная контрразведывательная операция, связанная с выявлением нашей разведсети в Германии. Вторая задача имеет чисто политические цели, но решение ее предполагается контрразведывательными методами: с помощью саботажа, диверсий и распространения ложных слухов накалить атмосферу. И третье: подготовка исходных данных для борьбы с нашим подпольем на оккупированной территории.
– Федор Николаевич, – обратился Вячеслав Ильич к Белоконю, – наматывай на ус. Не примем действенных контрмер, и людей подставим под удар, и задание партии не выполним.
Белоконь, сделав заметку в блокноте, ответил:
– Надеюсь на Петра Ильича, он чекист опытный: подскажет, а уж мы его замыслы реализуем.
– Один в поле не воин, ему помогать надо.
– Это само собою: всех коммунистов и тех, кто считает себя беспартийными большевиками, поднимем на ноги.
– Какими возможностями мы располагаем? – обратился вновь к комиссару Вячеслав Ильич.
– Вначале, как вы помните, была наметка создать три группы, с тем чтобы каждая занималась разработкой своего вопроса. Этакая углубленная специализация. Но вы отсоветовали.
– Если у гитлеровцев всеми тремя проблемами занимается одна, пусть даже многочисленная, группа, значит, все три задачи как-то связаны одна с другой. Так что и наши силы не стоит дробить, иначе появится ненужный параллелизм.
– И все-таки пока у нас будут действовать две группы, – продолжал Борзов. – Почему? Этого требуют исходные данные. Отправным пунктом для группы «Есаул» избран лесистый район Северного Донбасса. Почему, к примеру, не Харьковская область? Там тоже леса, и там проходят не менее важные шоссейные дороги и железнодорожные магистрали. Видимо, на севере Донбасса у гитлеровцев есть какая-то база, какие-то люди, способные обеспечить прием десантной группы. Поисками в этом направлении будет заниматься группа полковника Дубова. Пока немногочисленная, но по мере надобности мы ее усилим специалистами разного рода. У себя в отделе мы разработали план для этой группы. Но, к сожалению, отправные данные слишком скупы.
– Но все-таки что-то есть? – поинтересовался Белоконь.
– Ниточка тянется в прошлое. В гитлеровском распоряжении упоминается резидент по кличке Переселенец… Когда-то Переселенец имел отношение к розентальскому делу.
Года за два перед войной нам удалось раскрыть небольшую прогерманскую группу «Дон» из Розенталя, которая пыталась наладить сбор военной информации. Главным осведомителем в этой группе была молодая жена одного из командиров танковых бригад. Формирование крупных бронетанковых частей в то время было новинкой в мировой военной стратегии. Гитлеровская разведка пыталась выяснить детали этого новшества. Применили древний и все же действенный способ – обычный шантаж. Смазливая молодая женщина, хорошо обеспеченная, изнывающая от безделья, «случайно» познакомилась с «талантливым ученым из Ленинграда, который приехал на побывку к родителям». Роль «соблазнителя» играл мелкий жулик Архип Кубченко, парень с хорошо развитыми бицепсами и редким нахальством. Произошла обычная для неравного брака история. Ей – двадцать три, мужу – за сорок. Никаких общих интересов. Все разное: вкусы, привычки, наклонности, внутренне чуждые друг другу.
Интимные встречи дамочки с «молодым ученым» были зафиксированы опытным фотографом. После этого жена комбрига стала проявлять к профессии мужа несвойственный ей ранее интерес. Запутавшись вконец, она покончила жизнь самоубийством. Но после нее остался дневник, в который она скрупулезно заносила подробности своей, в сущности, пустой и пошлой жизни. Довольно наблюдательная, закончившая три курса истфака, она оставила неплохой перечень примет, имен, адресов, в том числе подробное описание своего возлюбленного и его «родителей»: бывшего попа Пряхина, который после НЭПа переквалифицировался в парикмахера. Трагическая кончина соучастницы насторожила розентальцев. Некоторые сумели скрыться. Розентальцами занимался мой заместитель майор Яковлев.
– Не очень удачное дело, – вспомнил я. – Не размотали до конца клубок, взяли не всех и не главных.
– А вот я теперь об этом думаю чуточку иначе, – возразил Борзов. – Среди обнаруженных тогда нами документов имеется небольшая записка от руки. Писали ее, надо полагать, в спешке, на обрывке квитанции по приемке зерна от колхозов. Комиссар, недавно просматривавший документы, знал на память содержание перехваченной депеши: «Переселенец предупредил: за дочерью установлена слежка». Мы тогда так и не выяснили, кто такой Переселенец, розентальцы о своем резиденте ничего конкретного не знали. Но он или его агент использовал для записки квитанцию конторы «Заготзерно», где работал Кубченко, которому и была адресована записка. Ее принес парикмахер Пряхин, утверждавший позднее, что записку бросили в открытую форточку и постучали. «Кто принес?» – «Видел лишь со спины. Сутулится, а ноги кренделем, и шаркает». Все поведение парикмахера Пряхина во время процесса натолкнуло нас на мысль оставить этого человека на свободе в надежде, что Переселенец вновь выйдет на него.
– А что с участниками? – поинтересовался Белоконь.
– Кубченко, работавший в конторе «Заготзерно», так-таки угодил в тюрьму. Получил пять лет за воровство. Сейчас просится на фронт. Я подумываю: не удовлетворить ли его просьбу? Этапировать в Ростов, отпустить домой, пусть явится в военкомат. Поболтается недельки две. Может, на кого-то наведет или кто-то им заинтересуется.
Я хорошо помнил и Кубченко, и Пряхина. Кубченко – из породы воришек. Он как-то хвастался приятелю: «Если я не принесу домой хотя бы пару килограммов пшенички, то считаю такой день напрасно прожитым». Нам надо было как-то отделить Кубченко от остальных розентальцев, и мы посоветовали местной прокуратуре взять на проверку работу конторы «Заготзерно». Они там обнаружили большие злоупотребления. Пряхин – человек иного склада. На семнадцать лет старше Кубченко. У него были, как он сам говорил, «идейные расхождения с Советской властью на почве отношения к религии». Бывший поп считал, что без бога Россия не проживет. В розентальской группе его роль была минимальной, он предоставил Архипу Кубченко и его любовнице свою квартиру. Пряхина из общего дела выводил я.
– Где сейчас второй поднадзорный?
– Пряхин был на Юго-Западном фронте. Ушел добровольцем, хотя возраст и не призывной, – пояснил Андрей Павлович. – Воюет неплохо, и речи ведет вполне патриотические.
– Надо помочь ему вернуться в родные места. Конечно, не одному, а с кем-то из ваших.
Борзов прищурился – признак доброго настроения. Карие глаза весело заблестели, сузились.
– Мы над этим уже потрудились. Бывшего служителя культа в свое время определили ординарцем к командиру, который перед войною окончил наше училище. Пряхин к нему привязался. Во время боев на Днепре Истомина контузило. Сейчас он в госпитале. Пряхин – при нем сиделкой.
– Но розентальцы вместе с невыявленным Переселенцем, – размышлял Вячеслав Ильич, – проживали в Ростовской области. Дубову предстоит работать в Донбассе.
– Область – понятие чисто административное, – пояснил комиссар. – В документах гитлеровского военно-полевого штаба нет такого термина «область», они берут шире: край, промышленный юг. Я убежден, что надо использовать группу Переселенца. Допустим, что он сам обитает в районе Ростова, но на севере Донбасса у него, судя по всему, есть своя агентура. Ее выявлением и будет заниматься группа Дубова. А группа подполковника Яковлева уже выехала в Ростов. Где-то в том районе появился кочующий передатчик. Работает на разных волнах, в разное время, из разных мест.
– А может, это несколько передатчиков? – предположил Белоконь.
– Радист один, это определено нами по почерку. У каждого радиста он свой, специалисты не спутают. По-видимому, опытнейший конспиратор. Есть основания предполагать, что это активизировался Переселенец или кто-то из его агентуры. Пока поиски группы «Есаул» и ростовского радиопередатчика – два самостоятельных направления. Но позже, думаю, они обернутся одним делом. И тогда Дубов все возьмет под свое начало.
– Убедительно, – согласился Вячеслав Ильич. – Будем, Андрей Павлович, полагаться на ваш чекистский опыт и профессиональное чутье. Федор Николаевич, – обратился он к Белоконю. – Помоги на месте Петру Ильичу. Обеспечьте транспортом, надежной связью, подберите в помощники людей из проверенных коммунистов. Из думающих. От успехов его группы, как я понимаю, будет зависеть судьба не только подполья… Эта сверхсекретная акция «Сыск»…
– Мы в этом направлении работаем, – заверил Борзов, – появятся первые результаты – обязательно доложу.
– Этими результатами интересуюсь не только я, – многозначительно сказал Вячеслав Ильич.
Он вновь подошел к карте, раздвинул шторки. Глянул на красно-синюю извилистую линию, на маленькие флажки, воткнутые в черные кружочки городов, тяжело вздохнул. Задернул шторки.
Пожимая мне руку, Вячеслав Ильич на прощание сказал:
– Петр Ильич, помните: каждое ваше сообщение Борзов будет немедленно передавать мне. И конечно, не для коллекции сведений…
– Сделаю все, что в моих силах, – заверил я его.
Вячеслав Ильич не согласился:
– А вы сделайте то, что необходимо.
В его словах жила тревога. В моем сердце она обернулась чувством огромной ответственности.
Мы вышли, и в коридоре Федор Николаевич подхватил меня под руку.
– Когда собираетесь в Донбасс? Может быть, вместе?
Я замялся, не зная, когда он едет или летит. Дело в том, что Борзов обещал мне увольнение. Вернувшись в Москву после стольких передряг, я еще не побывал дома.
– Петр Ильич готов выехать завтра, первым поездом, – ответил за меня комиссар.
– Вот и отлично. У меня тоже есть еще дела. Я остановился в гостинице ЦК. Кто за кем заезжает?
– Машина заберет Петра Ильича, затем заедет за вами, – сказал Борзов, прикинув, кто из нас был ближе к гаражу.
В скверике неподалеку меня четвертый час поджидала жена. Мы с нею расстались еще в мирное время, когда согласно рапорту я отбыл в распоряжение Киевского военного округа.
Работы на новом месте назначения оказалось много, и в деловой суете как-то не сразу удосужился написать своим. Таня засыпала меня письмами: «Когда заберешь нас с детьми? Скучаем по тебе». Но обстановка на границе была сложная. Написать Тане, что не может быть и речи о переезде, я не мог, поэтому отмалчивался. Зря, конечно. Таня у меня умница, все бы с полуслова поняла. И вот я снова в столице. Добирался транспортным самолетом, пристроившись на каких-то ящиках и кулях. По пути нещадно болтало. Устал. Подташнивало. Это сказывалось ранение в голову. Затекли ноги. На земле очутился – возрадовался. Если не считать, что службы аэропорта были окрашены под зебру – в черно-белую полоску, то здесь войны еще не чувствовалось, вернее, мне так показалось. Тишина, простор, подернутый первым легким багрянцем лесок за взлетной полосой, голубое сентябрьское небо. И в дополнение к этой идиллии – бежит навстречу моя Татьяна. Я ее узнал издали по цветастому зеленовато-желтому платью, по той стремительности, с какой она неслась по серой асфальтированной дорожке. Зажала в правой руке косынку – и мчится.
У чекиста служба хлопотная. Порою я уезжал далеко и надолго. Таня научилась не спрашивать, я привык не рассказывать, куда еду, когда вернусь. На вокзалы не провожала, по возвращении не встречала. Расставаясь со мною в коридоре квартиры или открывая дверь вернувшемуся, обычно была сдержанной. Подставит для поцелуя щеку, скажет что-то ироническое и вместе с тем доброе, ласковое. «А вид-то у тебя… Ай-ай. Но ничего, откормлю до средней упитанности… Если сразу вновь не сбежишь».
А в этот раз приехала на аэродром. Борзов прислал за нею машину и предупредил: «Времени у него в обрез».
Таня налетела на меня, припала к груди и стояла так долго-долго. Я поднял ее голову – в серых глазах стынут слезы. Улыбается. «Я знала, что еще увижу тебя… Мне предложили эвакуироваться, а я отказалась, говорю, он сюда приедет!»
Долго, внимательно рассматривала меня, притронулась пальцем к виску. Сняла фуражку и сказала: «А седина тебе идет…»
В машине сидела притихшая и затаившаяся.
По счастливой случайности я прилетел в день ее рождения: сегодня Тане – тридцать шесть. Поцеловал ее:
– Поздравляю именинницу!
Она мягко, благодарно улыбнулась:
– Я так рада твоему возвращению.
Вечерело. Солнце уже зашло за горизонт, вернее – спряталось где-то за домами, окна которых были густо исчерканы полосками бумаги. Впрочем, эта мера предосторожности была крайне ненадежной.
Я любил шум московских улиц, любил сливаться с неукротимым ритмом их жизни, подчиняться особой столичной стремительности. Все спешат, все экономят время. Город огромный, пока доберешься с работы домой… Сейчас город онемел, потерял свой голос. И улицы опустели.
Таня смотрела на меня во все глаза. Она хотела хоть что-то знать о моей будущей судьбе.
– Предстоит дорога, – ответил я на ее немой вопрос. – Не очень дальняя, не очень близкая.
– Домой-то зайдешь? Костик так и не увидит тебя. – (Старший сын со своими сверстниками рыл где-то окопы). – Вымахал за полгода. Поехал, твои сапоги надел. Оказались впору. А Санька ночами на крыше сидит, зажигалки караулит…
Вот так во все война вносила свои коррективы. В доброе-то старое время какая мать позволила бы десятилетнему сыну шастать по крутогорбым крышам!
Мне не хотелось говорить о предстоящей разлуке, и я переменил тему разговора:
– Можно сейчас в Москве достать цветы?
– Не знаю.
Я взял ее руку в свою и с удивлением почувствовал, что некогда мягкие, нежные руки моей жены огрубели. Она показала ладони. Мозоли на них.
– Кончились занятия в школе, пошла на завод. Сейчас у меня рабочая карточка. – В голосе Тани прозвучала нотка гордости.
…В моем распоряжении было семь часов. Это вместе с дорогой от дома до вокзала.
В купе, кроме нас с Федором Николаевичем, никого не было. И мы разговорились. Первое время о делах – ни слова, знакомились.
– Домой, – с растяжкой сказал Белоконь, наблюдая, как медленно проплывает мимо окна пригород с его небольшими, одноэтажными домиками, окна которых были перечеркнуты полосками бумаги; с многочисленными корпусами длинных, приземистых заводов и мастерских; с обилием дорог и железнодорожных веток – подъездных путей. Кое-где в садах стояли зенитки, накрытые маскировочными сетями. Раза два где-то в глубине мелькнули длинноухие установки «звукачей», которые старательно прослушивали столичное небо.
– Возвращаюсь в Донбасс – всегда волнуюсь, – продолжал Белоконь смотреть в окно. – Чувство Родины – удивительное чувство… Стоит подумать о минувшем или о будущем, и вмиг всего тебя охватывает трепет. Потомственный шахтер! – постучал он себя в грудь пальцем. – Вот так! С самим Никитой Изотовым соревновался. И не без успеха. – Федор Николаевич гордился своим прошлым. Стремительным движением левой руки прочесал колючий «ежик» на голове. Заискрились озорно глаза. – Был бригадиром. Но вот сбежал начальник, бывший штейгер, по фамилии Бергман, меня и назначили вместо него. Красным директором. Выдвиженец. Ни черта у меня вначале на этой должности не получалось. Грамотешки не хватало. Главный инженер – из бывших спецов. Прямо издевался надо мной. Принесет маркшейдерский план и говорит: «Уважаемый товарищ красный директор, проверьте мои расчеты». А сам ехидно улыбается в кошачьи усы. Злюсь, нутром чувствую, что контра, а доказать не могу. И пошло у нас одно несчастье за другим: то пласт потеряем, то людей привалит, то газ пойдет. Однажды он мне приносит план разработки новых полей. Говорю: «Оставьте». Он ушел, а я с тем планом – к старикам. На каждой шахте есть такие деды, которые пласт на семь верст в породе видят. Один из них говорит: «Что-то, Николаич, твой старшой нас на старые выработки выводит. Новый-то горизонт старых штолен коснется. А они наверняка по венчик водою залиты. Чуть тронешь – и беды не оберешься». Вечером – я на соседнюю шахту к знакомому инженеру. «Так и так, поясните…» Но он, по всему, пожалел коллегу, не рассказал о его подлом замысле. Но книг дал – охапку. Я их недели за две-три запоем… Затем вызываю главного: «Вениамин Игоревич, вы не разобрались в геологии, бремсберг надо проходить метров на двести левее». А у него от моих слов – глаза на лоб. И сорвался. «В девятьсот одиннадцатом там были выработки, геология нормальная». Я тогда его за грудки: «Контра! Те выработки выше наших полей и полные воды. Решил всех затопить! Садись, – говорю, – такой-сякой, делай новый план». Приставил к нему двух хлопцев понадежнее… Партизанщина! – сделал вдруг Белоконь неожиданный вывод из своего эмоционального рассказа. – Но понял я это далеко не сразу. Рабфак окончил, политехнический институт, секретарем горкома стал… Вот на какие версты жизнь растянула учебу.
Мы позавтракали. Таня снабдила меня в дорогу пирогами своего изготовления. Начинка – капуста с яйцами. Мои любимые. У Федора Николаевича нашлась бутылка вина.
Закусывая Татьяниными пирогами, Белоконь восхищался:
– Точь-в-точь как у моей покойной матери. Что за секрет? Просил жену: «Освой производство». Рецепт записала, неделю ходила у свекрови в подмастерьях по пирогам. Но не те у нее получаются. Красивые, вкусные, а не те. Искусство!
Постепенно разговор стал деловым.
– С чего думаете начинать? – спросил Федор Николаевич.
– Посмотрю старые дела. Сориентируюсь по обстановке. Может, что-то новое за последнее время у них появилось. Побываю в Светлове.
– Интересная у вас работа, сродни партийной, – заметил Белоконь.
– Сродни партийной – это верно. Все время приходится иметь дело с человеческими характерами. Времена шерлокхолмсов миновали, в одиночку сейчас ничего не сделаешь.
Мы углубились с ним в обсуждение деталей предстоящей совместной работы.
Всюду действовал закон затемнения. За окном стояла шахтная темнота. Станции закупорены эшелонами: на запад – воинские, на восток – санитарные. На вокзалах – эвакуированные. Все забито ими: коридоры, залы, лесенки. Уходит любой состав на восток – они штурмуют тамбуры, платформы, подножки… Столпотворение. «И очутись в этой толпе какой-то Переселенец, Хауфер или фон Креслер, пусти любой слух, самый невероятный, – отчаявшиеся люди поверят, любую фальшивку примут за истину».
О том же думал в этот момент Белоконь:
– На вокзалах надо наводить порядок, иначе не мы будем управлять транспортом, а он начнет нам диктовать свои условия.
К Донбассу мы подобрались на рассвете следующего дня. «Подобрались», – иначе и не назовешь неожиданное появление за окнами терриконов.
Мое детство прошло здесь, в небольшом шахтерском поселке Яруге. Имя ему дала глубокая балка, крутые склоны которой на радость детворе густо поросли лещиной, шиповником и терновником. По весне на дне балки, где земля была влажной, расцветали удивительные цветы – красавцы воронцы, этакие пурпуровые, раскрытые сердечки, с черным, как шахтная тьма, пестиком.
Когда-то балка была ничейной, и мужики соседних сел рыли здесь угольные ямы и штольни. А потом появился предприимчивый грек, по фамилии Янгичер, он купил эту балку и прилегающие к ней земли. Заложил шахтенку. Народ ее окрестил «Яругой». Шахтенка давала в день сто девяносто пудов антрацита. Мой отец погиб на этой шахте, когда я был еще совсем мальчишкой… Мать, сколько я помнил, тоже работала на «Яруге». И я с одиннадцати лет подался на сортировку, выбирал из угля породу. В двенадцать лет я уже знал, как «мантулят» в шахте, как выхаркивают с кровью почерневшие легкие, как пьют четвертями водку, нещадно матерятся, как жестоко и зло дерутся, как, очумевшие с перепою, избивают своих жен и детей. Знал я и многое другое, что не положено знать в этом возрасте.
В восемнадцатом мне исполнилось двадцать два года. После госпиталя я вернулся в родные места, где меня и застала Гражданская. С белоказаками дрался под командованием легендарного героя Гражданской войны командарма Сиверса. В двадцать втором меня и Сергея Скрябина, человека удивительно хладнокровного и мужественного, с которым мы вместе сражались за Ростов, направили в чоновский отряд донского казака Ивана Караулова. Сергей пробыл в отряде месяца два, потом его отозвала Москва. О том, что он стал профессиональным контрразведчиком, я узнал лишь несколько лет спустя.
Чоновский отряд Ивана Караулова без малого год колесил по лесам и балкам светловской округи, пытаясь ликвидировать банду сотника, а в прошлом землемера Филиппа Чухлая. Но сосновые чащобы, густые дубравы, в которых в то время вольготно чувствовали себя лоси, кабаны и косули, долго укрывали бандитов, зверствовавших по окрестным селам. В конце концов банду мы разоружили, а самого Чухлая взяли живым. Только потом ему все же удалось бежать из-под ареста. Но об этом особый рассказ.
С тех пор я в Донбассе, считай, не был. Правда, в тридцатом, когда умерла мать, приезжал на похороны. Но дальше родного поселка – ни шагу.
И вот вновь я в краю терриконов. Эти искусственные горы, похожие на египетские пирамиды, придают степному пейзажу неповторимый колорит. Терриконы долго маячат за окном вагона, как бы бегут вместе с поездом, а потом, словно бы устав, начинают отставать. Я возвращался в страну далекого детства. Щемило сердце в непонятном радостном предчувствии. Но свидание с прошлым не могло состояться: все было иным – и люди, и дома, и поля, и шахты, и копры, и терриконы. Даже небо и воздух иные.
В областном отделе НКВД в мое распоряжение предоставили архив, и я изучал его несколько дней. Найти «путеводную нить» так и не сумел. Самое серьезное из предвоенных дел – авария на станции Светлово-Сортировочная. По вине диспетчера и стрелочницы несколько цистерн, наполненных керосином, столкнулись с маневровым паровозом. И цистерны, и паровоз сгорели, пострадал машинист. Это дело слушал железнодорожный трибунал. Обычная халатность. Кто-то задремал, кто-то не расслышал команду, кто-то вовремя не смазал стрелки, и они плохо сработали.
Определенный интерес могли представлять для меня материалы последнего времени. Дело в том, что в Светловском районе стала проявлять особую активность гитлеровская агентура – ракетчики, наводившие бомбардировщики на важные объекты: на станцию, где порою скапливались эшелоны, на железнодорожный и шоссейный мосты через реку Светлую.
Из одиннадцати задержанных – ни одного коренного донбассовца. Раньше здесь никогда не бывали, родственников и знакомых на этой территории не имели, так что за две-три недели завести особо прочные связи с населением не могли. В начале войны они попали в плен, там их завербовали. Элементарная подготовка – и засылка. Почти все они заранее обречены на провал, им даже хороших документов не дают – грубая «липа».
Четверо сигнальщиков по приговору трибунала были уже расстреляны. Остальных я допросил самым тщательным образом. Они прекрасно понимали, что за измену Родине в военное время наказание может быть только одно – смертная казнь. Каждый из них готов был любой ценой продлить свою жизнь. Надеясь хоть на какую-то отсрочку, они выкладывали все, что знали, а некоторые, желая «задобрить» следователя, пытались даже сочинять. Жалкие людишки. Не знаю, что для них было большим наказанием – расстрел или долгое, почти бесконечное ожидание, «когда за тобой придут». Пустые, мутные глаза, трясущиеся руки, невнятное бормотание и угодническая поспешность, когда на твой вопрос отвечают прежде, чем ты успел его задать. Конечно, умирать никому не хочется, жизнь дается раз. Но у человека против животного страха перед смертью есть особая защита – осознанная необходимость. Я могу по-человечески понять испугавшегося. В жестоком бесконечном бою порою сдают нервы. Что ж, у терпения и выносливости есть свой предел. Но предательство – всегда расчет, всегда барышное торжище: «А что я буду иметь в обмен?»
Во время этих в общем-то однообразных и нудных допросов я обратил внимание на «оправдания» ракетчиков, которые пытались навести вражеские самолеты на станцию. Они твердили, что после их сигналов «ничего плохого не случалось», бомбежки не было.
Случайность, на которую так щедра война? Или в этом проявилась какая-то закономерность? Каждый из ракетчиков до задержания провел в основном по нескольку сеансов сигнализации: по два, по три, некоторые по пять. Но немецкие бомбардировщики саму станцию обходили стороной, хотя усердно бомбили мосты.
Почему миновали станцию? Боялись зенитного огня? Или была иная причина?
Пока я возился с архивами и допросами, дважды звонил Борзов. За каждым словом комиссара я видел Вячеслава Ильича, зримо представляя, как он неторопливо, раздумно произносит фразы, выделяя смысловыми интонациями главное. Мне нравилась такая манера общения с людьми, и я невольно начал себя ловить на том, что мне и самому порою хочется разговаривать с теми, с кем я встречаюсь, вот так же весомо, значительно и ответственно.
Борзов прямо меня не поторапливал, уж он-то знал, что в нашем деле спешка – не самый надежный метод, но, желая еще больше стимулировать мою активность, сообщил, что Яковлев «близок к успеху», дескать, вот на кого надо равняться, Петр Ильич!
Выслушав мой доклад о первых поисках, комиссар посоветовал:
– Действуйте дальше согласно нашей общей разработке.
Это значило – пора побывать в Светловском районе, связаться с местным отделением НКВД, найти среди его сотрудников пару надежных помощников (в управлении нахваливали инициативного начальника отделения капитана Копейку. Фамилия! Впрочем, каких только цветистых и неожиданных фамилий не встретишь на Украине). Мне предстояло сориентироваться на местности, определить площадки, пригодные для выброски десанта. Затем с помощью райкома и райисполкома мобилизовать милицию, комсомольцев и бойцов всеобуча с тем, чтобы взять эти места под особый контроль.
– Свою агентуру, – инструктировал меня Борзов, – гитлеровцы в эту местность заслали, агентура действует – подает сигналы пролетающим бомбардировщикам. А те покружатся над станцией, где стоят воинские эшелоны, иногда попугают осветительными ракетами и летят бомбить мосты. Не приучают ли нас гитлеровцы к «безвинным» облетам станции? Такое поведение летчиков не может быть случайным, оно – результат строгого приказа. И тут возникает естественный вопрос: какие цели преследует такой приказ?
Мне предстояло ответить на этот и на другие вопросы, которые жизнь обязательно еще поставит…
В эти дни меня несколько раз навещал Белоконь. Обычно раненько утром. Заедет в гостиницу, ворвется в номер, резким тычком сунет сухопалую, сильную руку:
– Здравствуйте, Петр Ильич!
И сразу от его оптимизма станет легче на душе.
У Федора Николаевича про запас всегда были два вопроса: «Как дела?» и «Чем помочь?». Не без его содействия областное управление выделило в мое распоряжение машину «эмку» и прикомандировало толкового шофера, человека в моих годах. Из молчунов. Я таких люблю, с ними легко работается. А шофер в моем положении – первый помощник.
Когда я собрался в Светлово, Федор Николаевич сказал мне:
– Вы там присмотритесь к председателю райисполкома Сомову. Обком партии прочит его в руководители подполья. Я его лично знаю. Умный, грамотный коммунист, хорошо разбирается в людях, ориентируется в местных условиях. Так что полагайтесь на него в нужной степени. Я ему позвоню, он вас примет самым лучшим образом и создаст все условия. А секретарь райкома в Светлове – человек болезненный, недавно ему вырезали полжелудка. Пока он – не помощник.
Конечно, я был благодарен Белоконю вот за такую помощь и советы, которые ни в коей мере не связывали моей инициативы, всегда были кстати.
Светлово – город зеленый, в основном одноэтажный, с мощенными булыжником улицами, по донбассовским меркам – тихий, почти провинциальный. Вот только железнодорожная станция – махина.
В отделении НКВД я познакомился с капитаном по фамилии Копейка. Его уже предупредили о моем появлении, и он ждал. Молодой, энергичный, влюбленный в свою работу. Он начал было пересказывать мне о случаях задержания ракетчиков.
– И все, сволочи, наши. Не какая-нибудь переодетая немчура, – возмущался он.
Я сказал, что с ракетчиками достаточно знаком.
Когда в отделе разрабатывался план моей работы в Донбассе, Борзов рекомендовал поинтересоваться теми, которые в силу социального происхождения или своего темного прошлого могли быть настроены враждебно к Советской власти. Я и спросил капитана:
– А не могли бы вы дать мне список людей, проживающих в районе, которые когда-то были в банде Чухлая, а также тех, что в разное время были наказаны органами правосудия за бандитизм и другие крупные преступления?
– Такого полного перечня в наличии у нас нет, – обескураженно ответил Копейка. – Но подработать можно. Денька два, правда, на это уйдет. С бывшими осужденными проще: проверил через военкомат, кто еще не в армии, – и баста. А вот с чухлаевцами… Их амнистировали в свое время… И никаких документов от того времени не сохранилось. А они потом вжились и помалкивают. Доведется по селам побеспокоить стариков, мол, покопайтесь в своей памяти, отцы. Впрочем, кое-кого я и сам знаю. К примеру, один из таких недавно по контузии вернулся, на полгода белый билет выдали.
– Фамилию помните?
– Сугонюк. Я его уже пощупал с разных сторон, все на законных основаниях… – В словах капитана жило сожаление: «Не дезертир…»
Хотя в свое время через мои руки прошло немало амнистированных чухлаевцев, но такой фамилии я не помнил. Впрочем, нередко мы за фамилии принимали уличные или бандитские клички. Так было принято: по кличке.
– А не попадалось вам, капитан, за последнее время что-нибудь такое, – покрутил я в воздухе рукой, – пустячное, но необычное. Знаете, бывает, в глаза бросится. Или, наоборот, нечто рядовое, как говорится, навязшее в зубах?
Копейка задумался, пытаясь что-то отыскать в своей памяти. И вот этот процесс поиска удивительно зримо проявлялся на его суховатом лице. Нетерпеливо тряхнул головой, отбросил назад темные волосы, но они строптиво сползли на лоб.
– Навязшее в зубах?.. Нарушение светомаскировки. Город, можно сказать, еще не бомбили. Как-то ночью сбросили осветительные ракеты, где-то в степи, у ставка, упала бомба. Непуганые, вот и нет настоящей бдительности. Общественность подняли на ноги, наказываем по всей строгости закона. А случаи имеются.
– Злостные есть? – поинтересовался я.
– Есть и злостные. – Капитан назвал несколько фамилий, дал свою характеристику виновным. Ему было неловко, что он не может ничего путного предложить полковнику, приехавшему из Москвы.
Мне надо было разработать с капитаном Копейкой ряд мероприятий. Если группа «Есаул» будет десантироваться где-то в здешних местах, а ее кто-то встретит, то, вне сомнения, этот «кто-то» должен иметь радиопередатчик. Необходимо установить круглосуточное дежурство по эфиру. Если такой передатчик удастся обнаружить, вызовем пеленгаторы, и те доделают остальное. Кроме того, следовало взять под контроль всю местность. На промышленных предприятиях круглосуточно несли патрульную службу рабочие и служащие. В селах тоже были выделены специальные люди. После того как основной урожай был убран, сельские патрули стали охранять села и общественные постройки. Но надо было вывести их в поля, в перелески, взять под особый контроль небо и тщательно следить за самолетами, пролетающими ночью, и при малейшем подозрении сообщать немедленно в органы милиции и НКВД.
Когда мы с капитаном Копейкой прикинули, как все это лучше и проще сделать, он сказал мне:
– Вспомнил, товарищ полковник, один факт. По-моему, именно такой, какой вы ищете: необычный, но пустяковый, зряшный. На окопах работает жена того самого Сугонюка – чухлаевца…
– Бывшего чухлаевца, – уточнил я. – Сами же говорили: контужен, значит, Родину защищал.
– Черного кобеля не отмоешь добела, – отмахнулся капитан. – Так вот, наш оперработник обратил внимание на лямки ее «сидора», они сделаны из стропы немецкого парашюта. «Где взяла?» Говорит: «Выменяла на светловском базаре за кусок хлеба. Свои лямки порвались, вот и выменяла у какой-то тетки». Базар наш – при вокзале, – пояснил капитан. – Народа проезжего тьма-тьмущая.
Факт был действительно пустяковый.
– А вы убеждены, что лямки из стропы немецкого парашюта?
– Искусственный шелк. Наши – хлопчатобумажные. – А если это не стропа, а кусок веревки?
– Можно посоветоваться со специалистами. Но наш оперуполномоченный увлекался до войны парашютным спортом. Правда, ему на этом поприще не повезло, сломал ногу и чуточку охромел.
Я продолжал задавать вопросы:
– Допустим даже – стропы от немецкого парашюта, ну и что из этого? Купила.
– Так я же, товарищ полковник, сразу предупредил: факт необычный, но пустячный…
– Давайте, – предложил я, – исключим всякую случайность, познакомимся с владелицей необычных лямок.
Окопы рыли на правом, крутом берегу Светлой и на левом – низменном, густо поросшем сосной, а кое-где дубом. Мальчишки, девчонки, женщины… Человеческий муравейник. Молчаливые, злые. Это от душевной и физической усталости. Тысяча с лишним километров от государственной границы, а поди ж ты, и здесь врага ждут.
Грунт песчаный, но он пророс корнями. Не лезет лопата – берутся за топор.
На окопных работах, пожалуй, нагляднее всего видно, что на защиту страны встали все – от мала до велика.
Я подумал о своем старшем сыне Константине, который тоже «мантулил», как говорят шахтеры, землю где-то на строительстве подмосковных оборонительных сооружений.
Казалось, невозможно найти кого-то в этом человеческом муравейнике, но капитан Копейка знал, где работает Надежда Степановна Сугонюк, видимо, он предусмотрел нашу поездку и собрал необходимые сведения. «Моторный хлопец, – подумал я о нем с благодарностью, – свое время умеет беречь и чужое тоже».
Капитан охотно рассказывал о Сугонюк в привычной, видимо, для него чуточку грубоватой, но необидной для собеседника манере.
– Сорок три года. В молодости, по всему, парни бегали за нею стадом. И сейчас еще недурна собой. Детей, правда, не нажила, сохла на личном хозяйстве. Домина – каменный, под жестью. Двор огорожен крепостным забором. Сад, пасека. Охраняет имение презлющий волкодав.
– А источники изобилия? – поинтересовался я.
– Смешанные. – Вложив в это слово все свое презрение к образу жизни Сугонюк, капитан Копейка пояснил: – Оба с мужем – колхозники. Числились даже ударниками. Но, по-моему, лучше всего их кормили пчелы. До десятка ульев держали. Да… Не лежит у меня душа к этому гражданину. Сколько чухлаевцы беды посеяли! А мы все простили. Они моего отца зарубили. Показал продотряду, где куркули прячут хлеб.
Вот теперь мне стала понятна его нетерпимость к Сугонюку.
– Вернулся этот комиссованный. Отметился в военкомате в первый же день. Свидетельство – в порядке. Кроме контузии, у него еще ранение в левое плечо, говорит, что плохо заживает. Похоже – не брешет: бледный-бледный, а от бинтов нехороший запах. Говорю ему: «Покажитесь врачам, может, у вас с раной непорядок». Отвечает: «Пчелки вылечат. Буду обкладывать раны прополисом». Это пчелиный клей, – пояснил капитан Копейка.
По его словам, Надежда Сугонюк жила довольно зажиточно. Пусть основой такого благосостояния была личная пасека, но все равно достаток не приходит к ленивым. В колхозе – ударники, дома – пасека, сад, огород, корова, поросенок, куры, гуси. За всем этим надо ухаживать: найти время, желание. И вот такая-то отменная хозяйка, отправляясь на две недели на тяжелую работу, прихватив огромный вещмешок с харчами… не починила лямки. Они были такие ветхие, что, едва добравшись до Светлово, Сугонюк поспешила на базар за «свежей» веревкой! Не очень правдоподобно.
Оставив машину в сосновом бору, мы с капитаном Копейкой направились к Надежде Сугонюк.
– Вон, полюбуйтесь, – показал он.
Действительно, было чем полюбоваться. Сильная рослая женщина, стоявшая на дне будущего окопа, легко втыкала лопату в песчаную землю с обильной мелкой галькой и свободным широким движением выбрасывала за бруствер. Лопату за лопатой. В этих мерных движениях была какая-то неукротимость, своеобразная рабочая красота.
Женщина почувствовала, что за нею наблюдают. Прервала работу, выпрямилась. Я инстинктивно ждал, что она устало потянется, внутренне заохает, выгнется, снимая напряжение с натруженных мышц спины. Ничего подобного. Ноги – на ширину плеч, руки на черенок лопаты. Увидела нас, улыбнулась по-женски добро и в то же время занозисто.
– Диво-то какое! Два справных мужика. На всех окопах таких не сыщешь. А у меня одна лопата. Которому из вас ее передать? Другой-то, поди, до смерти обидится.
Я не спускал глаз с ее рук, опиравшихся на заеложенный, отполированный черенок. Широкие ладони с короткими пальцами-обрубками.
– Вылезайте к нам, Надежда Степановна, – сказал капитан. Подошел к окопу, протянул женщине руку.
Она отстранила ее.
– Э, против меня вы зелены. А вот тот, с седыми висками, человек солидный, да и в кости покрепче. Как раз мне под пару.
Она выбралась из окопа, поздоровалась.
…Руки! Эти руки с пальцами-коротышками!
Сугонюк – чернобровая смуглянка. Огромные черные глазища. Время не потушило их огня, их задора. Глянула на меня – казалось, душу опалила. Тяжелая черная коса тугим узлом на затылке. И в сорок три эта женщина была красивой. А в двадцать четыре? И я вспомнил!
Надийка Швайко, невеста Филиппа Чухлая. Это он изуродовал ее пальцы, заподозрив, что она связалась с чоновцами, пытал: приковал девичьи руки к наковальне и бил по пальцам молотком.
– Добрый день, Надийко, – поприветствовал я женщину. – Так разбогатела, что «двоюродного братца» не узнаешь?
Вытянулось ее лицо от удивления. Смотрит, смотрит на меня. Должно быть, за девятнадцать лет я изменился больше, чем она. Тряхнула головой, будто отгоняла сонное видение.
– Петро! – вырвалось у нее. – Ой, що ж время с вами сделало. Такий гарный парубок був!
Невеста батьки Чухлая
Кто сейчас что-то конкретное знает о Чухлае? «Какой-то бандит…»
А были денечки…
На любом кладбище светловской округи, даже на самом крохотном, давно поросшем горьковатой полынной, непритязательным бересклетом и удивительно терпеливой жительницей засушливых степей – акацией, есть старые кресты. Подгнившие, покосившиеся. Их ставили на скорую руку: под теми крестами покоятся жертвы дикого произвола.
Свою банду Филипп Чухлай именовал «Особой армией». Написал для нее специальный устав и присягу, ввел железную дисциплину. В банду принимали по поручительству родственников, которые, по существу, становились заложниками. У тех, кто пытался порвать с бандой, поголовно вырезалась семья. Была у Чухлая своя система поощрения. Для близких, избранных, – «оклад», для остальных, особо отличившихся, – премии и награды. Выпускала банда и свои собственные деньги, так называемые «письменные обязательства». Ими расплачивались за все реквизированное «для будущей победы».
Банда по тем временам была хорошо вооружена: несколько тачанок со станковыми пулеметами, два пулемета, приспособленные для стрельбы из седла, своя вьючная артиллерия – три горные мортирки австрийского производства. Уже в конце всех событий, когда чухлаевцы потеряли многих убитыми и ранеными, когда из «армии» дезертировало немало уставших от войны и разбоя одиночек, а один «загон» откололся, мы все же разоружили сто двадцать семь человек.
Нередко банда производила налеты сразу в нескольких местах. Это сбивало с толку: где ее искать?
Наш чоновский отряд был меньше банды, вооружен гораздо хуже. Порою не хватало даже патронов. При таком неравенстве сил годах в восемнадцатом – девятнадцатом Чухлай быстро расправился бы с нами. Но в двадцать втором было уже иное время: Советская власть окрепла, ряд экономических мер, особенно замена продразверстки продналогом, примирили с рабоче-крестьянским правительством не только крепкого середняка, но и осторожного зажиточного хуторянина. Многое изменилось в нашу пользу и на международной арене. Часть армии была демобилизована, люди вернулись к земле, на заводы, на шахты. Одним словом, чухлаевщина лишилась даже той пассивной поддержки населения, которая порождается страхом перед безнаказанной жестокостью.
Мы гонялись за бандой, порою настигали ее мелкие группы, уничтожали их, а вот решающей победы одержать не могли. И так весь год. Наконец нам удалось внедрить в банду двух чекистов. Молодой, озорной паренек из местных Леня Соловей сподобился особого доверия, попал в личную охрану Чухлая. Савону Илларионовичу Кряжу повезло меньше. Человек с большим жизненным и чекистским опытом, он занимался ликвидацией бандитизма в Сибири, затем на Житомирщине. Неторопливый, внешне даже медлительный. Седая борода лопатой. Брови густые, кустистые. В далеком детстве Савону Илларионовичу довелось петь в церковном хоре. Может, от тех времен, может, в ссылке, которую отбывал с двумя бывшими семинаристами социал-революционерами, поднабрался церковной премудрости: знал на память почти все церковные службы. Бывало, под хорошее настроение шутя затянет громовым басом: «Господи, помилуй нас!» – мурашки по спине побегут.
Нам казалось, что мы его внедрили в банду довольно ловко. Он выдал себя за одного из тех, кто бежал «от Советской власти из Сибири». Устроился работником к зажиточному хуторянину Сегельницкому. Усердно трудился месяца полтора. У хозяина в банде были сын с зятем. Однажды Савон Илларионович предупредил хозяина о том, что чоновцы на дороге, видимо, готовят засаду: «Своими глазами видел!»
Банда засады избежала, а Савон Илларионович оказался в «армии». Чухлай поставил его ухаживать за обозными лошадьми. Вначале мы думали, что бандит принимает обычные меры предосторожности против пришлого, у которого нет родственников, то есть заложников на случай измены. Однако опытный чекист вскоре заметил, что за ним установлена слежка. Пожалуй, Савону Илларионовичу следовало бы уйти из банды, но тут стала проясняться одна интересная чекистская задумка. У Филиппа Чухлая была невеста Надийка Швайко. Сотворит же черт такую! Отчаянная, как взвод казаков-пластунов. В бою всегда рядом со своим Филиппом, охраняет его шашкой и наганом.
Но вот нам стало известно о серьезных раздорах Надежды с Чухлаем: молодой женщине надоела бродяжья жизнь, потянуло к оседлости, к семейному уюту. Причина для этого была уважительной. Надежда готовилась стать матерью. Чухлай решил отпраздновать свадьбу. Села были обложены специальной данью, собирался «царский подарок невесте и молодому», а заодно пеклось, жарилось, коптилось, гнали самогон. Тут уместно припомнить, что в двадцать первом году был один из самых жестоких недородов. Двести двадцать пять дней – ни капли дождя, сгорело все живое. По селам гуляла голодная смерть, кое-где, как отмечали газеты, ели даже трупы павших животных. Села пустели, люди стремились уйти из донецких сел куда-нибудь подальше. Особенно сильный голод свирепствовал на юге Донбасса. На севере он был не столь жесток. Но все равно и в светловской округе каждое зернышко ячменя и проса считалось божьим даром. А тут корми банду, отрывай кусок хлеба от детей… Ко всему еще – бандитская свадьба. Чоновцы намеревались воспользоваться пьяным разгулом, провести большую операцию. В это время Надежда и повздорила с Чухлаем. Проявляя особую заботу о будущем ребенке, она сказала его отцу: «Годи! Порезвился бычок, пора в ярмо впрягаться. С верными дружками надо уходить в Польшу або в Румынию, остальных послать куда подальше». Чухлай лелеял другие планы, распускать банду не собирался. Но Надежда стояла на своем упорно. В конце «милой беседы» Чухлай с плеча полоснул невесту нагайкой, а она пригрозила выдать всю банду чоновцам. Чтобы Надежда и в самом деле не выкинула фокус, Чухлай приставил к ней двух стражей (личную охрану, как он говорил) – нашего Леню Соловья и бандита по кличке Шоха.
Где-то вскоре у Чухлая появилась новая зазноба. Пошли слухи, что она получает щедрые подарки. Может, Чухлай тем самым хотел укротить Надежду. Но лишь распалил ее. Какую кару она только не сулила милому!
Леня Соловей осторожно предупредил женщину:
– Надежда Степановна, дойдут ваши слова до батьки, может все обернуться бедой.
Леня был на редкость обаятельным парнишкой. А как он пел! (За то пение Чухлай сделал чекиста своим поверенным.) Быстро привыкла к Лене отвергнутая Чухлаем невеста. В ту трудную минуту ей нужен был верный, преданный друг. Чутким женским сердцем она угадала в Лене настоящего человека. Позовет, бывало, его к себе, попросит:
– Заспивай, Леню, про то, як козак обидел дивчину…
Играет он на гармошке, тихонько, нежно подпевает, а она плачет.
Как-то Надежда говорит своему стражу:
– Хочу я посмотреть на разлучницу. Достань мне коня и напои Шоху.
Леня на это пошел бы, но Савон Илларионович не разрешил: «Чухлай с тебя потом три шкуры спустит, рисковать не имеем права. А помочь ей все-таки надо. Найди причину, отправляйся к Чухлаю. Остальное Надежда сама сделает, а коня я ей приготовлю».
Пошутила красавица Надежда с Шохой, улыбнулась раз-другой, чарку поднесла, он и забыл обо всех самых грозных наказах Чухлая. Раскис, стал выкрикивать, что он-де один по-настоящему любит Надежду и если она захочет, то они сей момент убегут на край света. Зелье, подсыпанное в самогонку, подействовало. Надежда в седло и – к сопернице. Явилась за полночь, высадила раму, влезла в окно. Соперница пальнула в нее из ружья, впрочем, не попала. Это подлило масла в огонь. Надежда отделала очередную любовницу своего возлюбленного нагайкой так, что та на всю жизнь осталась заикой. Стража, напившегося дурмана, Чухлай вознамерился собственноручно приколотить длинными гвоздями к сосне на опушке (пусть вороны выклевывают очи!), но ретивый Шоха вовремя сбежал.
Леня Соловей остался вне подозрения. По крайней мере, так казалось и ему, и Савону Илларионовичу. Но какое-то недовольство песенником, который без вызова приехал в штаб, у Чухлая осталось.
«Рейд» Надежды к сопернице произвел на Чухлая большое впечатление. Филипп Андреевич сделал попытку примириться с невестой. Две ночи и два дня продолжалось их счастье, а потом опять вся любовь полетела в тартарары. С присущей ей прямотой Надежда предъявила ультиматум:
– Семьей обзаводишься. Не гоже семейному-то якшаться с разными харцизяками.
Она сделала отчаянную попытку оставить Чухлая только для себя, двое суток не выпускала его из хаты. Одолев Надежду в «рукопашной схватке», вырвался он на крыльцо – физиономия в крови, губа разбита. Кричит: «Зарублю такую-сякую!» А Надежда – за ним следом. В ночной длинной рубашке, черные волосы чуть не до пят. В руке – наган. Яростно злая, кричит истошно, как это делают поселковые бабы, кем-то кровно обиженные: «Я тебе не такая-сякая! Я – мать твоего ребенка! Тронешь еще пальцем – застрелю, как пархатого кобеля!» И для большей убедительности пальнула в небо.
Леня Соловей посоветовал своей хозяйке:
– От греха подальше уехали бы, Надежда Степановна, в родную Александровку… Проведали бы матыньку. Скучает, поди.
Она ему в ответ:
– Зелен ты, кобзарюшка, как озимка в листопаде! Что ты знаешь про любовь? Налили в душу жидкого золота! Не остудишь! Не могу я без моего Чухлая, застил он собою весь белый свет. Милее его только тот, которого ношу под сердцем. Уйду я – Чухлай порастет шерстью, как дикий кот, вконец осатанеет. Он же видит: из всей его затеи вышел пшик, а покориться судьбе не желает – заела молодца гордость. И лютует, готов из каждого выпустить кровушку, да я при таком деле вишу у него на руках. А отлучусь – что будет?
Посоветовавшись с опытным чекистом, Леня Соловей выбрал момент и завел с Надеждой разговор на деликатную тему:
– Надежда Степановна, коль вы уж так умираете за батькой, то подойдите к нему с тылу.
– Что-то я тебя, кобзарюшка, не разумею, – насторожилась Надежда.
– Ежели Филипп Андреевич не могут расстаться с отрядом, то сделайте так, чтобы отряд расстался с ним. А одному-одинешеньку куда податься? К вам.
Надежда удивленно глянула на него. Поманила к себе. А когда он подошел, крепко сжала в локтях его руки и потребовала:
– В очи мне дивись, да не отвертайся!
Он стоял не шелохнувшись. В тот момент решалась судьба и его, и Кряжа, может быть, даже судьба кровавой войны, все еще гулявшей по округе.
– Эх, кобзарь-жаворонок, – проговорила Надежда, – давно ты у меня за свою доброту на подозрении. У нас здесь как? Попал человеком, а немного погодя, глядишь, озверел. А вот тебя наша жизнь, как вода круглый камень, только круглее делает. Смотрю на твои голубые глазенки и дивуюсь, какие они лучистые, ну хоть бы трошечки замутил их страх! Словно майская росиночка, будто ты про людскую жизнь знаешь радужную тайну. А ну как я доложу Филиппу Андреевичу про нашу беседу? Припоминаю, сколько ты в бою в чоновцев ни стрелял, не то что убитым, никто раненым не упал. А Чухлай говорил: «Чекист к нам затесался…»
Леня Соловей тряхнул золотистым, словно ячменная солома по осени, чубом, возразил:
– Не доложите, Надежда Степановна!
– Это по какой такой причине? – удивилась та.
– Да по той простой: меня корили добротою, а куда дели свою? Ее же у вас пуда на два больше! Упрятали на дно сердца, а она потянулась к солнышку, дала побеги: хочется вам, и плачь тут слезами солеными, хочется приложить малое дите к груди, и чтобы его отец глядел на вас обоих и улыбался от счастья. А вы понимаете, пока Филипп Андреевич хороводится с бандой, такому не бывать. И только я могу помочь вашей большой беде.
– Ох и хитер же ты, кобзарюшка, – засмущалась неожиданно молодая женщина. – По виду – зелень зеленая, а мудр, как старая сова: берешь под самый корень. Да не под главный! Филипп Андреевич так завинился перед людьми, что ежели и покается, а покаявшемуся половина простится, то второй половины все равно на петлю хватит. И выходит, к моему счастью не тебе протаптывать дорожку. Беги-ка, кобзарюшка, нынешней ночью к своим чекистам, завтра я про все доложу Филиппу Андреевичу.
Леня свое:
– Нет, Надежда Степановна, не побегу ни этой ночью, ни следующей.
– Или у тебя вторая жизнь в запасе? – удивилась Чухлаева невеста.
– Одна! И как озимая пшеничка в листопаде: только-только начала куститься… Я люблю песни, люблю бегать утренней зарей босым по росе, люблю, когда встает солнышко и его славит все живое: птахи и травинки, зверушки и люди. Девчат еще не любил… Наверно, не встретил свою, вот такую, как вы, красивую-красивую и… хорошую.
Леня смотрел прямо в глаза Надежде. Она не выдержала лучистого взгляда. Отвернулась.
– Уйди, кобзарюшка… Исчезни… Ты – песня, ты – человечья радость, а Филипп Андреевич – моя боль, моя горькая жизнь, моя безутешная утеха. При любом разе его выберу, тебя загублю.
Леня в ту ночь не сбежал, остался в бандитском логове. Утром как ни в чем не бывало приходит к невесте батьки Чухлая:
– Спою я вам песню, Надежда Степановна…
А она своим глазам не верит.
– Ой, кобзарюшка, мне не до шуток… Послала за Филиппом Андреевичем. То он ко мне приходил, целовал рученьки-ноженьки, уговаривал, теперь я его молю о милости. Сердце, как коноплю о чесало, распустила на ниточки.
– Вот я и полечу его, – говорит Леня.
Присел на скамейку, растянул гармошку. Поплыла по хате тоскливая песня. Как едучий табачный дым, в глазах вытравила слезу, вцепилась в душу – вздохнуть-крикнуть не дает. «Гуляв по степу Карачун-разбышака…»
Надежда выбила гармонь из рук песенника – и об угол скамейки. Меха растянулись, гармонь затянула одну бесконечную ноту: а-а-а… Надежда сорвала со стены шашку и рубанула по гармошке. Надвое! Потом каждую половинку – в лапшу.
Тут и входит в хату Чухлай. Понял все по-своему, выбил шашку из рук невесты:
– Уже и на Леху кидаешься!
Леша поясняет ситуацию:
– Я ей пел песню о черном участье разбойничьей невесты. Надела на шею монисто из золотых монет, а они обернулись капельками крови, и каждая капля плачет человечьим голосом.
Надежда оторопела: такое – в лицо Чухлаю. А у батьки глаза уже набухли гневом, насупился – туча тучею, вот-вот выхватит маузер и всю обойму – в смельчака. Чтобы отвести беду, нависшую над Лешей, она крикнула Филиппу Андреевичу в лицо:
– Ну что, милок, будешь распускать банду или погодишь, пока твои дружки не откупятся тобою за твои и свои злодеяния?
Он знал, что однажды может такое случиться: вывернут руки за спину, скрутят вожжами и выдадут гэпэушникам. Боялся такого оборота, и вот Надежда ткнула в самое сердце злой правдой. Задрожал Чухлай, как затравленный гончими вконец обессилевший старый волк, огрызнулся:
– Раскаркалась! Прижгу язык каленым железом! – и стремглав в двери.
Постояла Надежда, озираючись, посреди хаты. Порубанная в клочья гармонь… Торчит из-под кровати рукоятка шашки. Подошла, ткнула ее носком – подальше с глаз. Процедила сквозь зубы:
– Иди, кобзарь! Надумаю – позову.
Два дня думала. Зазвала к себе, заперла хату изнутри на засов.
– Садись! – показала на лавку.
Но потом долго сидела не шелохнувшись.
– Что ты за человек, Леня, – наконец вздохнула Надежда, – дивуюсь я на тебя… Хлопец и есть хлопец. Усы еще не подружились с бритвой. Тебе бы на вечерницах озоровать с девчонками… А ты какой-то не от мира сего. Вот стыдно мне перед тобою за свою жизнь, словно перед родным отцом за какую-то пакость. А я тебя могла порубать шашкой або выдать Филиппу Андреевичу с головой. Почему этого не сделала!
Леня поясняет:
– Ну порубали бы меня або батька Чухлай замучил – все равно за мною как была, так и осталась бы жизнь: поля с пшеницей, села и города с людьми, небо с солнцем и птицами. А что за Чухлаем? Пропасть. Черная и бездонная. Шага шагнуть назад некуда. Вот и не подняли вы руку на жизнь: на мою, на свою, на жизнь вашего детеночка.
– Может, ты и прав, – согласилась Надежда. Она опять надолго ушла в себя, раздумывая над тем, что сказал Леша. И сделала вывод, казалось бы совершенно не вытекавший из его слов: – Какую полюбишь, будет счастливая-счастливая.
Леня смутился:
– Давайте, Надежда Степановна, поговорим о вашем деле.
Она возразила:
– Нет, кобзарюшка, не могу я с тобою про свои дела. Ты по годам мне как бы младший брат. Как же я тебе открою свои бабьи обиды и желания? Для такого разговора нужон человек постарше. Кто над тобою начальник? Не побоится прийти ко мне, пущай приходит.
Леня привел Савона Илларионовича.
При виде степенного седобородого ездового у Надежды глаза полезли на лоб.
– И этот святой старец тоже гэпэушник? – Она набросилась на него возмущенная: – Да как же ты тогда отпевал усопших? Как исповедывал раненых? Умирали, надеялись, что ты им отпустил грехи, а ты ихние души заложил черту!
Готовясь стать матерью, она вдруг потянулась к богу, который, по ее разумению, мог творить добро и зло. Она страстно желала добра и своему будущему ребенку.
Савону Илларионовичу действительно иногда доводилось заниматься в банде делами «божьими».
Кряж, пряча улыбку в седые усы, ответил:
– Как откажешь умирающему в последней просьбе? «Исповедуй, Савон Илларионович, облегчи муки». Я и утешал, как умел.
Надежду охватило великое сомнение:
– Сколько же душ ты так-то загубил! И под мою подбираешься? Я тебе все, словно на духу, выложу, а ты меня на кресте разопнешь! Христопродавец!
Разуверившаяся в людях женщина не хотела слушать никаких доводов Лени и Кряжа, прогнала обоих прочь.
А на следующий день побывала у Чухлая и в категорической форме потребовала, чтобы вместо Лени прислал кого-нибудь другого, а то она такого свистуна может запросто застрелить.
Подозрительность Чухлая стала болезненной, и он решил от обратного: «Не нравится часовой – значит, такой и должен быть». Он понимал, что уже никаких общих интересов у банды нет, и надеялся лишь на то, что страх и ненависть хоть как-то собьют людей вокруг него.
Поуспокоившись, прикинув на досуге, что к чему, Надежда опять позвала Леню:
– Ежели ты и вправду не холуй Филиппа Андреевича, то приведи ко мне своего начальника из отряда. Деду не верю. Перевертыш: то чекист, то поп, то еще кто… Обдуривал умирающих: нет для него святого.
Жизнь молодой женщины зашла в тупик. Кто она, Надийка Швайко? Ни мужняя, ни вдовая. Вот родится ребенок у невенчанной. Кто он? Байстрюк! Нагулянный. Признает Филипп Андреевич свое дите или отречется? Женщину вконец измучила неопределенность, она хотела одного – чтобы у нее в жизни было все как у людей.
Старшим над Леней по оперативной работе был я. Прикинули мы с Карауловым, что к чему, решили – мне отправляться к Надежде Швайко. Если она поможет разоружить банду, то сделает великое дело.
Надежда превосходно понимала, что появление в ее хате чекиста может стоить жизни и ему, и ей. Она прислала Леню с самой подробной инструкцией. Я нарекался ее двоюродным братом Матвеем Безбородым, который недавно вернулся из армии. Чтобы мнимый братец не перепутал праведное с грешным, Надежда советовала побывать в ее родном селе Александровке.
Я под видом уполномоченного исполкома обошел село, заглянул к родственникам Швайко, стараясь приметить и запомнить побольше разных деталей: где у кого колодец, где сараюшка, как стоит хата, какой сад – одним словом, чем знаменит хозяин.
Затем Караулов побеседовал с самим Матвеем Безбородым. Парень отслужил действительную, образ мыслей вполне наш, советский, довериться ему в какой-то мере можно. Иван Евдокимович сказал:
– Нужна нам, Матвей, твоя помощь в борьбе с бандитизмом. Зайди к своей тетке, скажи, что будешь в тех местах, где живет ее дочь. Пусть передает какой ни на есть гостинец и свое родительское благословение. А после этого придешь ко мне, и пару дней проведем вместе.
Матвей оказался толковым парнем. Он рассказал массу семейных подробностей, которые, вне сомнения, могли мне пригодиться. И все-таки главный наш расчет был на то, что я не попадусь на глаза никому из бандитов.
Несмотря на трудное время (села едва оживали после страшного прошлогоднего недорода, а двадцать второй год тоже был не очень урожайным), сердобольная мамаша, узнав, что блудная дочь ждет ребенка, собрала довольно тяжелый гостинец. Оттянул он мне руки, пока я добрался до условленного места.
Сказать, что я шел на свидание к Чухлаевой невесте с легким сердцем, – значит, покривить душой. В самой Надежде я в тот момент не сомневался. Она умолчала даже о таком антипатичном для нее человеке, как Савон Илларионович («умирающих обманывал, души ихние загубил!»), выручила Леню. И вообще жизнь наложила на нее уж очень тугие путы, а молодая женщина донельзя тяготилась этим. Но кто сможет отвести все случайности? Чухлаевцев мучила болезненная подозрительность. Новеньких почти не принимали в банду, опасаясь проникновения чекистов. А пуще того боялись самой жизни вне леса. Предупрежденные Савоном Илларионовичем о планах Чухлая, мы раза четыре удачно расклеивали в селах, на которые потом банда совершала налеты, листовки-обращения с постановлением правительства об амнистии всем бандитам, порвавшим с бандами и сложившим оружие. Дезертирство из «армии» Чухлая стало обычным явлением. Но он принимал драконовские контрмеры, стараясь пресечь разложение банды.
Я более часа сидел на опушке в ожидании Лени, и поразмышлять о будущем времени было предостаточно.
Осенью в Донбассе темнеет быстро, а в лесу тем более. На широкую опушку, на луг, простиравшийся у меня перед глазами, опускались первые сумерки, а боровой лес, угрюмо шумевший за спиной, уже жил по законам ночи.
Засвистел перепел, я отозвался. Подъехал Леня.
– Садись верхом сзади меня, до Карачуновской балки – верст двадцать. Надежда Степановна уже ждет. Все выспрашивает, какой ты: стар или так себе, какие глаза, какого роста. Говорю: «Что вам от его роста и глаз?» Не соглашается: «В моем заячьем положении, Леня, ничем пренебрегать не приходится».
Кобыла была крепкая, с широким крупом. Зная, что ехать двоим, конник вместо седла взял кошму и закрепил ее подпругами.
Чоновцы, конечно, знали, что основная база Чухлая в Карачуновской балке. Леса там дремучие, и пятьдесят, и шестьдесят верст будешь идти, а перед тобою все чаща. Только в старом сосновом бору чуть посвободнее: сосна не выносит тесноты.
Мы раза два пробовали накрыть банду на основной базе, но нам это не удавалось. В густом лесу, где порою всадник вынужден спешиваться, чоновцы оказывались в самом невыгодном положении. Нас брали на мушку из-за каждого куста, а мы не видели противника. Отряд нес тяжелые потери, банда легко уходила.
В хуторок Лесной, где в старое время размещалось лесничество, мы с Леней прибыли за полночь – голосили побудку первые петухи. В нескольких добротных хатах, рубленных непривычно для Донбасса из бревен, все спали, и только в крайней за плотными ставнями жил огонек.
Надежда Швайко встретила гостей на крыльце.
– Ох, – вздохнула она с облегчением, – страху-то натерпелась. И чего, дура, покликала сюда, выехала бы сама навстречу.
Вблизи я видел ее впервые. Несколько раз доводилось встречать в бою. Но разве там рассмотришь человека? Счет идет на доли секунды, зазевался – и ссадили шашкой с коня. Надежда одевалась хлопцем: шапка-кубанка из серого каракуля, короткая куртка, по краям отороченная тем же серым каракулем, кавалерийские галифе. А в хате передо мною стояла милая, чуточку смущенная женщина в длинном, до пола, модном в те годы темном платье. И это платье делало всю ее ладную фигуру еще более статной, даже величественной. Беременность округлила плечи, сделала плавными движения. Развязав «узелок», Надежда выкладывала из него деревенскую снедь, переданную матерью, а я старательно перечислял имена родственников, приславших поклоны. Она слушала, потом удивилась:
– Як же ты их запомнил, не перепутал?
Надежда оказалась хлебосольной хозяйкой, выставила на стол все, что у нее было. Налила в стаканы вино.
– Сама я только понюхаю, а вы пейте, пейте, – сказала она, смущаясь.
– Может, вначале о деле? – предложил я.
Она закивала. Повернулась ко мне, в глаза смотрит. Явно волнуется. Перекинула из-за спины наперед одну из кос. Теребит кончик, расплетает и вновь заплетает.
– Що ж теперь будет с нами со всеми? Забрались на горячую сковородку: снизу печет, а выскочишь – в костер угодишь.
– Тем, кто добровольно порвет с бандой и сдаст оружие, амнистия. – Я протянул ей принесенную листовку-обращение.
Надежда долго, внимательно рассматривала ее, как мне показалось, с каким-то тайным страхом. В ней жило сомнение. Скривилась в вымученной улыбке.
– Глазами ослабла… На-ка! – вернула мне обращение. – Буковки разбегаются перепуганными курами, не могу собрать в рядок.
У меня мелькнула догадка: «Неграмотная!» В те годы крестиками расписывалось пол-России, а в селах местный грамотей за определенную мзду читал письма и писал душещипательные ответы. Но… неумеющая читать Надежда! Это никак не вязалось с тем впечатлением, которое она производила. Савон Илларионович и Леня, внимательно наблюдавшие за нею и составлявшие для нас с Карауловым характеристику, отмечали, что Швайко пользовалась в банде заслуженным авторитетом, подчеркивали ее умение логически мыслить, обобщать факты, точно излагать свою мысль, а то, что она неграмотна, даже не заподозрили.
Я прочитал листовку, вернул ее Надежде.
– Еще почитай, – хрипловатым от волнения голосом потребовала она.
Я начал читать второй раз. Надежда останавливала, просила уточнить ту или иную фразу. За каждым словом искала скрытый смысл. Наконец сделала свой вывод.
– Я бы допомогла вам разоружить его «армию», а вы бы за то отдали мне моего Филиппа Андреевича… Уехали бы мы с ним куда за кордон. – Но умная женщина понимала всю нереальность такой просьбы. – Кабы Чухлай сам привел свою армию, может, что-то и послабили бы. А так… Просил один волк пастухов укрыть его от охотника, да отведал перед смертью палок. А ну как все обиженные начнут взыскивать с Чухлая каждый свое? По разу ударят, и мокрого места от мужика не останется.
Швайко из тех, кому надо говорить правду, какой бы злой она ни была, будешь лебезить, выворачиваться – потеряешь доверие.
– Судьба банды предрешена, – решительно заявил я. – Уже разбегается. Людей ждут дома, им осточертело удобрять собою землю, скитаться по лесам, кормить вшей, голодать. Во имя чего? А Чухлая за все его злодеяния против народа будет судить трибунал. Лично я его судьбу решать не имею права. К чему уж присудят. Лучше, Надежда Степановна, поговорим о вашей доле. Вы готовитесь стать матерью…
Она долго молчала, передвигала снедь, расставленную на столе, рассматривала стакан с вином.
– Обещайте хоть оставить живым. Зашлите на каторгу… Ну на много лет. А я буду ждать, сына растить. Вы только не отбирайте у меня надежду, – молила она.
И тогда у меня в душе родился протест: «Любит, так преданно любит эта красивая молодая женщина убийцу и насильника».
– Я не судья. А был бы судьей, приговорил Чухлая к самой лютой каре за то, что топчет такую любовь, как ваша.
И опять воцарилась в комнатушке, заставленной городской мебелью, напряженная тишина. Я не торопил Надежду, она решала свою судьбу, а это для умного человека ох как нелегко.
Наконец Швайко заговорила. Исчезла из голоса певучесть, что-то в горле хрипело, клокотало, мешало рождаться словам.
– Мне с дитятею жить во вдовьем одиночестве долгие годы. А чем? Земли нет. Мать ушла к отчиму. У того свои нахлебники. Я бы хотела получить с Чухлая на сына третью часть с того, что он припас на черный день.
– С награбленного? – удивился я.
Но у Надежды было свое понимание добра и зла, справедливости и законности.
– У кого забрал, тех уже нет на белом свете, а ежели живы, как их найдешь?
Я пространно растолковывал молодой женщине, какой урон понесла наша страна от двух войн, от интервенции и бандитизма: еще многие поля лежат застарелой залежью, шахты не дают угля, заводы из старых железных отходов изготовляют лопаты и грабли, а не паровозы, рельсы и станки. И на наши горькие нужды никто из буржуев не даст нам ни полушки.
Она слушала меня, изредка кивала, продолжала теребить кончик косы и, как мне казалось, думала только о своем.
Леня тревожно застучал в окно, предупреждая об опасности. По договоренности он в случае чего должен был войти в хату. А тут – стучит: громко, часто. Значит, опасность появилась внезапно и… она значительна.
Надежда побелела.
– Куда? – спросил я ее, надеясь спрятаться.
Она показала на стол, уставленный снедью.
– Этого не сховаешь, и дурной догадается: не одна бражничала. Ты – братец, и стой на том. Раньше самой себя умереть не дам.
Она сидела рядом с изголовьем кровати. Сунула руку под подушку. Там у нее лежал наган. У меня оружия при себе не было. Так уж мы решили с Карауловым. «Посла» охраняли Леня и Кряж. И то, что Надежда, ведя с чекистом переговоры, держала рядом наган, произвело на меня неприятное впечатление.
Распахнув ногою дверь, в комнату вошел высокий мужчина, строго по-военному перетянутый портупеей поверх френча. При шашке, при маузере. За широким офицерским поясом тускло поблескивают две гранаты. Маузер был верным признаком «высокого» начальства.
Пришелец встал на пороге, руки в бока, крутнул рыжеватый, подпаленный солдатской самокруткой ус.
– Э-э… Да у вас тут пир горой. Я проверял посты, продрог. Ночь волглая, будто и не мороз, а до костей пробирает. Проезжал мимо, приметил огонек, думаю, дай загляну к Надежде Степановне, помогу разогнать тоску-печаль. А тут свой разгоняло. Не боишься? – с явной иронией спросил он Надежду. – Доведается батько, из обоих котлет наделает.
Надежда на такую угрозу и бровью не повела. Она уже пришла в себя. Бледность с лица исчезла, на щеках заиграл легкий румянец. Улыбнулась вошедшему.
– Сидайте, Степан Степанович, поближе к нашему столу. Братик проведал, маты прислали, просят, чтобы вернулась домой.
Меня поразило ее перевоплощение, ее самообладание. Захлопотала возле стола: пододвинула гостю стул, подала ложку, достала стакан, налила вино.
Степан Степанович не заставил себя долго уговаривать. Подошел к кровати, снял фуражку и положил ее на зеленое шелковое покрывало. И как-то само собой получилось, что он умостился не на предложенный ему стул, а на то место, где до этого сидела рядом с изголовьем Надежда. И у меня появилось подозрение, что он знает или догадывается об оружии, лежавшем под подушкой.
– Братик-то, поди, двоюродный, – усмехнулся гость.
– А родных у меня нет. Сводные еще не подросли, – парировала Надежда.
Ее самообладание, ее спокойствие стало передаваться мне.
– А як там дядько Иван? – спросила она меня.
Я уже передал длинный поклон – назидание от родного брата ее покойного отца, который, видимо, любил непутевую племянницу и тревожился о ее судьбе. Я вновь повторил все его горькие слова, адресованные Надежде. Потом принялся рассказывать, как ноет на непогоду культя старого солдата, потерявшего правую ногу еще во время Японской войны. Матвей Безбородый в беседе со мною обмолвился, что дядько Иван смастерил себе из липовой колоды «новую ногу», но что-то она ему не нравится, привык к старому протезу и новый надевает лишь по воскресеньям, когда идет в церковь. Говорил я с вдохновением.
Пришелец слушал внимательно, хитровато при этом щурился. В его умных, острых глазах жило неподдельное любопытство.
– Какие еще поклоны привез братец нашей Надежде Степановне? – спросил он, когда я выдохся на дядьке Иване.
Я повторил все с мельчайшими подробностями. Степан Степанович продолжал ухмыляться. Он не верил мне.
– Как же тебя, братик, звать? Ну вот крутится у меня на языке «Петя».
Что-то острое кольнуло под сердцем. «Случайно отгадал этот Степан Степанович мое имя, которое не знала даже Надежда, или не случайно?»
В чоновском отряде Караулова на мне лежали обязанности организации оперативной работы с уклоном на контрразведку. Приходилось допрашивать буквально всех бандитов, попавших в наши руки: и пленных, и перебежчиков, проведавших об амнистии. Многих из них потом отпустили домой. Конечно, чухлаевцы знали о моем существовании. В те бурные, богатые на события годы все было проще, менее профессионально, действовали больше по наитию, «по классовому чутью». Единственной школой для меня была война.
Молодости свойственна определенная беспечность. Отправляясь в логово банды, я не подумал о том, что могу встретиться с человеком, знающим меня в лицо.
Но Степана Степановича ранее я не встречал, это уж точно.
И тут вспомнил: «Степан Степанович Черногуз, новый начальник штаба банды!» Он появился у Чухлая с полгода тому назад. И, как ни странно, служил до этого в Красной армии.
Так вот кого принесло на мою голову. В тот момент я пожалел, что при мне нет оружия.
– До сих пор звали Матвеем.
– Матвей так Матвей, – согласился Степан Степанович. – По мне, хоть чугунком окрести, в печь бы не всунули. Что же, Матвей, ты не заодно с сестренкой, не с нами? – В голосе пришельца зазвучало что-то недоброе, ядовитое.
Я ответил зло. Если он меня опознал, то тут просто нужно уловить момент, чтобы добраться до нагана под подушкой.
– Хорошо выгребать из коморы готовый хлебушко. Но кто-то должен туда его и засыпать!
Степан Степанович помрачнел. Налил из пузатой бутылки себе в стакан вина.
– Что ж, Матвей, выпьем за твою хлеборобскую удачу. Проверял бы сегодня посты батько, на том бы и закончилась твоя песенка и про безногого дядьку Ивана, и про все остальное. Пей до дна, – предупредил он. – Никто из нас не ведает, где найдет, а где потеряет.
Он проследил, чтобы я осушил свой стакан до дна, и только после этого выпил сам.
– А я – Черногуз. Чув про такого? Здешний начальник штаба.
Я безразлично пожал плечами: мол, первый раз слышу, ответил:
– Действительную служил, только что вернулся.
– А с панами не доводилось драться?
– Нет.
– А с махновцами?
– Нет.
– А с врангельцами и австрияками?
– Не воевал, – ответил я, ощущая непонятное внутреннее беспокойство.
– А мне вот со всеми довелось…
Жила в этих словах безысходная тоска человека, потерявшего нечто очень дорогое ему. Мне захотелось крикнуть: «Да как же ты докатился до банды Чухлая?!»
Широким движением Черногуз отодвинул от края стола на середину все, что было перед ним, освободил место и положил туда свои тяжелые руки.
– Может, чув про такую шахту «Яруга»? Это на казачьих землях. А за нею верстах в пятнадцати село Степановка… Там у меня жена, четверо детей, сестра с семерыми… Мужик ее погиб в мировую. Меня гражданская замела. Дома из работников остался один мой старик. Земли – не разбежишься, наши бабы все девок рожали, а девкам надел не положен. И вот является в Степановку продотряд. Начальником какой-то матросик… В бушлате… Тельняшка… На бескозырке: «Свирепый». Стало быть, с миноносца.
Казалось, Черногуз рассказывал сам себе. Ни на кого не смотрел, опустил голову вниз. Волнуется. Голос то звенит, то гудит глухо, словно рассказчика поместили в бочку.
– А отец с двумя бабами и одиннадцатью девчонками перебирал зерно, пшеницу отделял от стоколоса. Зиму на картошке да лебеде сидели… Крестьянин, он так, сам с голоду опухнет, а семенное сохранит. Матросик увидел зерно, обрадовался: «А ну, дед, сгребай в чувалы, поедет твой хлебушек в голодные города». А что значило отобрать у такой семьи посевное? Обречь на голодную смерть. Дед взмолился: «Мякину с отрубями лопаем… Четырнадцать душ… Вся надежда на новый хлебушек». Матросик говорит: «Ты мне мякину в глаза не тычь, сам жил на картофельных очистках. Но вот сколько я с продотрядом хожу, не было случая, чтобы все зерно без утайки держали на виду. Раза в три, поди, поболее зарыто где-то! Коль сын твой за революцию сражается, а семейка у вас действительно о-го-го, я спрятанного хлеба искать не буду, а уж за этот – не обессудь!» Мой дед и плакал, и упрашивал. На зерно лег. А когда пшеницу ссыпали в чувал, бросился на матросика с кулаками. Тот саданул деда раза два… Дед вскоре и отдал богу душу. Показываю я такое письмо полковому комиссару, прошу: «Отпустите». Отвечает: «Не могу. Ты там сгоряча натворишь беды. А письмо напишу. Анархиста надо передать в ЧК». Не передали. Исчез. А мои бабы ничего не посеяли. Плюнул я на все хорошие посулы и прибежал в Степановку. Сдохнуть с голоду своим не дал, заработал кое-что у богатеньких соседей. Потом взялся искать матросика. Как в воду канул. Но через те поиски и угодил к батьке Чухлаю.
Черногуз закончил рассказ, глянул на меня. От того ледяного, полного ненависти взгляда по спине побежали мурашки. «Зачем он исповедывался? Хочет оправдаться? Передо мною? Зачем это ему?» – размышлял я.
Молодую Республику Советов враги пытались задушить голодом. А она, защищаясь, наступала на горло кулаку, гноившему хлеб. Матрос вместо того, чтобы реквизировать хлеб у классовых врагов, отобрал его у многодетной бедняцкой семьи. По выявлению таких фактов анархистов, вроде матроса с «Свирепого», наказывали со всей суровостью, я был тому свидетелем.
– Ну что, Петя-Мотя, – как-то по-собачьи ощерившись, спросил Черногуз, – пойдешь со мною проверять караулы? Или в подштанниках уже тяжело?
Я не знал, чего хотел этот человек. Но он упорно называл меня настоящим именем, помянул шахту «Яруга». В любом случае мне терять было уже нечего. Я встал.
– Пошли глянем на ваши караулы.
– Не пущу! – заявила Надежда. – Або меня бери разом! – И шагнула к изголовью кровати.
Но хитрый Черногуз караулил каждое ее движение. Откинул подушку. Наган! Взял его, покрутил барабан, считая патроны. Надежда опять побледнела. Глазища злые. Вот-вот кинется на Черногуза.
Он передал наган мне.
– На-ка, понянчи девичью забаву. У нас тут безоружные на подозрении. Своего-то не имеешь?
– Не имею, – ответил я, чувствуя, как начинает пылать лицо.
Надежда опустилась на стул. Черногуз улыбнулся, зашевелил усами, словно кот. Протянул ко мне руку:
– Дай-ка гляну на наган.
Я передал ему оружие: «Артист!»
Он вынул патроны, ссыпал их с ладони на кровать. Они упали на зеленое шелковое покрывало.
Черногуз сунул наган на прежнее место, под подушку.
– Не будь, Надежда Степановна, тем, чем ворота подпирают, – сказал и направился к двери. С порога обернулся ко мне: – Не передумал посты проверять?
Я не мог понять этого человека. Но было в нем нечто притягательное. Большая внутренняя сила… И какая-то тайна. Мне хотелось проникнуть в нее.
– Ты, сестренка, за меня не переживай, – сказал я Надежде.
Легко понять, как заволновался Леня, увидев меня в компании начальника штаба банды. Чтобы предупредить возможные необдуманные действия с его стороны, я громко сказал:
– Ну и ноченька, Степан Степанович, хоч глаз выколи.
Черногуз подошел к Лене, похлопал его по плечу. Ничего при этом не сказал, просто дождался, пока появятся четверо всадников. Одного из них спешил, лошадь передал мне.
Часа три мы блудили по дремучему лесу. Удивляюсь, как в этой кромешной тьме Черногуз ухитрялся отыскивать нужную тропу, правильное направление. Начальник бандитского штаба был немногословен. Исповедался в хате у Надежды Швайко – и как отрезало. Пароль за него говорили сопровождающие, один из них инструктировал часовых.
Надо признаться, я совсем потерял ориентир.
Подъехали к какой-то землянке. Лошадей привязали к длинной коновязи. Кони оседланы, только ослаблены подпруги да удила вынуты изо рта.
– Отведай теперь, племяш, – сказал Черногуз, – моего угощения.
Землянка была большая. Три каганца: один при входе, два в глубине. На нарах вповалку, полуодетые, сняв только сапоги, спали люди. Их было много. Душно, воздух спертый.
– Вот так, племяш, мы и живем, – с непонятной иронией проговорил Черногуз.
«И тут ютится начальник штаба?» – подумал я.
Но у него в дальнем конце землянки, оказывается, была своя комнатка. С хорошей дверью. Зажег две свечи, достал неполную бутыль с самогоном, нарезал шашкой сала и хлеба, положил луковицу:
– Пока колесили по лесу, поди, окоченел? Грейся.
Мы выпили. Черногуз почти не закусывал.
– Посты сообщили. Надеждин соглядатай выехал за расположение один, а вернулся вдвоем. Сзади него сидел парень. Ну я и полюбопытствовал, забрел на огонек. Не помешал беседе с сестренкой?
Мне оставалось только подивиться четкости караульной службы в банде.
Черногуз неожиданно сказал:
– Ты, племяш, на Надийку особенно не покладайся. Чухлай перестал ей доверять. Баба с норовом, что выкинет через минуту, сама не знает. – И, не переводя дыхания, тем же тоном, будто это была одна мысль, одна фраза, продолжал: – А мы с тобою, Петро Дубов, можно сказать, родычи. Я женат на троюродной сестре твоего отца. Вместе с ним на «Яруге» работал. Потом скопил деньжонок, осел на земле. Знаешь, как он погиб?
«Ну вот, у меня появился родственник. Из бандитов», – невольно подумал я.
Мать, оберегая меня от ужасного, не вдавалась в подробности. «Погиб – и все». А к тому времени, когда я подрос, на «Яруге» просто забыли об Илье Дубове. Сколько погибло после него? Однажды от пожара полсмены угорело. Дважды были сильные выбросы – многих засыпало. Иных так и не откопали. А по одному, по двое – каждый месяц «прихватывало», как говорят шахтеры. Разучились на «Яруге» удивляться чужой беде.
Черногуз начал рассказывать:
– На дальних паях к концу смены чумели люди. Поднимутся на-гора, мутит их, наизнанку вывертает. Как-то утром, перед сменой, штейгер спустился в шурф, хотел посмотреть, в чем же дело. Назад выбирался, ухватился за верхнюю ступеньку – и завалился на спину. Чтобы выиграть время, Илья скинул в шурф веревку, обмотал руки портянками и сиганул вниз. Дергает оттуда веревку: «Тяните». Подняли штейгера. Пока с ним возились, про Илью забыли. Штейгер пришел в себя, сказал: «Газ». Илью извлекли лишь на следующий день.
Вот так я узнал об отце. Я его совсем не помнил. Фотокарточек у нас не было. Я часто расспрашивал мать, какой он был. Она отвечала односложно: «Как и все. Пил, но добрый». А если уж становилось невмоготу от моих назойливых вопросов, вздыхала: «Да сколько мы с ним пожили? Денечки по пальцам посчитаешь». Я думал о нем. Мальчишке очень обидно, когда нет отца. А оказывается, он у меня был особенный: погиб, спасая другого.
И вот через много лет я вдруг расчувствовался. Нервы, натянутые, как струны, ослабли. Под горло подступил комок. Я уже иными глазами смотрел на Степана Степановича Черногуза. Он сказал:
– Банду, Петро, я тебе голенькую передам. Но надо потолковать с нашими об амнистии.
Я передал ему листовку с текстом постановления. Черногуз внимательно прочитал ее, убрал в сапог за халяву.
– Еще есть?
– Нет, больше нету.
– Дура ты, дура, Петька, с такой бомбой ходишь, – похлопал он себя по голенищу. – За этот документ тебя здесь заставят собственное мясо жрать. Эх ты, начальник оперативной службы! Наши в банде тебя поболее, чем Караулова, опасаются: «Дубов – хитрая лиса, любого заставит говорить». Двое специально охотились за тобою, не вышло: все пули за молоком подались. Не докумекал ты, что среди бандитов найдется такой, который начальника чоновского оперотдела по физиономии могет опознать?
Ну и дал Черногуз оценку моим оперативным способностям! Сижу, места себе не нахожу. И ответить нечего, чувствую, что в словах Черногуза живет злая-презлая правда.
– У нас в банде, – продолжал Степан Степанович, – сто пятьдесят сабель, три пушки, десяток пулеметов. Боеприпасов – в достатке. И каждый наш рубака стоит трех чоновцев. Все с опытом, заматеревшие, иные в других бандах по два-три раза битые.
Черногуз не стеснялся называть чухлаевскую «армию» бандой. И это примиряло меня с жестокой правдой, которая жила в его словах.
– Так что, племяш, – продолжал мой новый дядька, – нас голыми руками не возьмешь. С людьми нужно погутарить душевно, на нашенском языке. Ты для такого дела хлюпок. Знаю, что после Караулова и комиссара ты в отряде – третий человек. Но тебе по бандитским понятиям нет веры, ты чистый гэпэушник. А для нашего бывалого народа нужен солдат, казак – одним словом, Караулов. За его безопасность я тебе своей головой ручаюсь. Придет – вся банда за ним следом, и Чухлая в клетке привезем. Чухлай людям давно поперек горла стоит. Они бы его взяли, да боятся Советской власти, должок накопился изрядный… Шкодить – мы первые, а на расплату шкура тонка.
Черногуз был беспощаден ко всем, к себе – в первую очередь. Такой характер всегда вызывает невольное уважение. Я ему верил, но обещать, что Караулов появится в бандитском логове, не мог.
– Таких дел я один не решаю.
– И то правда. Обмозгуйте у себя… Надумаете, дашь знак. А как, я тебе растолкую опосля. Но не через твоего песенника. Дурашка он: всем, кто видел, на удивление привез на своем коне на базу чужака! А надобно было открыто, пароконно, пароль Соловей знал. Сделай ему внушение. А сейчас тебе следует улепетывать. Мои хлопцы проводят к чухлаевской любушке, подосвиданькаешься с нею – и в путь. Да приструни Соловья, дурья он голова, себя и других подведет. – Черногуза, видимо, очень настораживало поведение Лени, коль вновь заговорил о нем.
Вот так я получил предметный урок по организации оперативной работы от начальника штаба чухлаевской банды.
Свидание с Надеждой было коротким. Договорились, что она подумает несколько деньков и даст знать. Леню я отчитал за непродуманные действия, за неподготовленную операцию. Да и Савон Илларионович, опытнейший-то чекист, тоже дал маху, не проконтролировал до конца все действия молодого, горячего парня.
Провожая меня, Надежда допытывалась, о чем я толковал со Степаном Степановичем.
– Умный мужик, даже Филипп Андреевич его побаивается. А нам с тобою он не поверил, по глазам видела…
– С таким молчуном поговоришь, – успокаивал я Надежду. – Объехали посты – словом не обмолвился. Потом завел к себе, угостил водкой и велел убираться прочь, в этих местах больше не появляться. Говорит: «Попадешься, заставлю собственное мясо жрать».
– Нет, – возразила Надежда, – он не злой. А уезжать надо.
Когда Караулов узнал о сложившейся в банде ситуации, он загорелся идеей погутарить с чухлаевцами об амнистии по душам.
Но так запросто, как я, он не мог отправиться в бандитское логово: командиру отряда на такую операцию необходимо было получить особое разрешение от окротдела ГПУ. Этот отдел лишь недавно был создан при исполкоме, практики работы в новых условиях, по существу, не имел. В ходу была крылатая фраза: «Строгое соблюдение революционной законности». А как все это должно выглядеть на деле?
В окротдел поехал комиссар, а мы с Карауловым стали готовить операцию. Прежде всего навели справки о Черногузе. Вернулся наш человек из Степановки, доложил: «Действительно, у Степана Черногуза в хате одиннадцать душ детей, все девки. Заправляют ими две бабы. Отец Черногуза умер. Прибыл в село продотряд, и что-то там вышло… Сам Черногуз служил в Красной армии, имеет награду: именное оружие за храбрость. Где он сейчас – никто не знает».
Вскоре из окротдела возвратился комиссар. Вместе с ним прибыл уполномоченный ГПУ. Он долго расспрашивал меня, Караулова, комиссара, разбирался во всех операциях, которые провел чоновский отряд против банды. Остался недоволен. Мой рассказ о Черногузе выслушал с сомнением.
– Уж больно ты, Дубов, расхвалил своего родича. Поверить тебе, так он ангел с крылышками. Такого следует представить к ордену.
На задуманную нами с Карауловым операцию уполномоченный добро не дал.
– Нужна более тщательная подготовка, вы и так уж больно долго панькаетесь с бандой, а вам бы давно пора покончить с чухлаевщиной.
Караулов, обиженный несправедливой оценкой, начал было доказывать, что чухлаевская банда многочисленнее нашего отряда, гораздо лучше вооружена, у нас не хватает патронов, продовольствия для бойцов, фуража для лошадей, но оперуполномоченный и слушать не хотел.
– На вашей стороне пролетарская солидарность крестьян. Бандитизм в нынешних условиях потерял всякую политическую платформу. А вы тут с Дубовым разводите антимонию насчет соотношения сил.
Он уехал. Собрались мы на совещание. Иван Евдокимович Караулов твердил одно:
– Надо мне идти, другого такого случая может не подвернуться. Снимется банда с места, подастся в сторону границы, тогда ищи-свищи ветра в поле.
Комиссар колебался:
– Уполномоченный согласия не дал.
– Но и не запретил! – кипятился Караулов. – Разоружим банду, и тогда никто нас не осудит.
Уходили дни, надо было принимать решение.
Мы выставили в условленном месте вешку. К вечеру появились четверо провожатых.
Попрощались мы с Иваном Евдокимовичем. Он даже не снял красного околыша со своей знаменитой кубанки.
Пятеро всадников скрылись в густом лесу, а я еще долго прислушивался, как похрустывают сухие сосновые ветки под копытами лошадей. На душе было тяжело. Сам отправлялся в этот же путь, никаких дурных предчувствий не ведал. А тут сосет под ложечкой.
Караулов должен был вернуться на следующий день. Ну что там прохлаждаться? Растолковал политику партии и правительства, раздал листовки-воззвания с текстом об амнистии…
Мы выставили дальние дозоры, привели отряд в боевую готовность: мало ли чего…
В условленное время Караулов не вернулся. И на второй день его не было, и на третий. У меня в голове роились самые черные мысли. А тут еще подлил масла в огонь оперуполномоченный. Он вновь появился в отряде и дал всему свою оценку: «Непродуманность действий…», «Отсутствие чекистского чутья!», «Заигрывание с бандитами!», «За такое надо отдавать под ревтрибунал!».
Я не выдержал и сказал ему:
– Вместо того чтобы говорить умные слова, посоветовали бы что-нибудь дельное, годное на нынешний случай.
За эту горячность меня отчитал комиссар.
Комиссар учился до революции в Московском университете и прививал нам с Карауловым хорошие манеры. Мы его любили, но считали чудаковатым интеллигентом.
На четвертый день один из бойцов привел в штаб перепуганную женщину лет тридцати пяти.
– Товарищ Дубов, послушайте, что она торочит. Муж у нее в банде, носила ему чистое споднее, вот вернулась.
Из путаного, сбивчивого рассказа женщины можно было понять одно: «Банда замучила самого главного чекиста».
– Да кто он? Как выглядит? – спрашивали мы у женщины.
Увы, она все знала с чужих слов.
Погиб Караулов… Самый главный чекист – это он.
Оперуполномоченный пригласил меня «на беседу».
– Я, Дубов, полистал твое личное дело и не нашел, где ты предупреждаешь, что твой сродственник руководит бандой.
Поясняю:
– Родственник-то он мне – десятая вода на киселе, я о таком и сам не знал, пока банду не проведал. Но мне думается, что он в гибели Ивана Евдокимовича не виновен. Выясним, что к чему, тогда и будем судить-рядить.
– И рядить будем, и судить будем, уж так это черное дело не обойдется. А пока на всякий случай сдай-ка ты оружие, – потребовал оперуполномоченный. А когда мой наган очутился в его руках, сказал: – Ты Караулова послал на верную гибель. Был в логове банды, а родственные чувства помешали тебе трезво оценить оперативную обстановку.
– Не родственные!
Но тут я невольно вспомнил, какое впечатление на меня произвел рассказ Черногуза о гибели моего отца. Конечно, я тогда расчувствовался, раскис, как хлебный мякиш в теплой воде. Даже без слов оперуполномоченного во мне росло чувство вины за гибель Караулова. Теперь это чувство обострилось. Моя поездка к Надежде была абсолютно непродуманной, неподготовленной операцией. Но там действовали двое наших: опытнейший чекист Савон Илларионович и храбрый паренек Леня. Их опыта и храбрости оказалось недостаточно. А отправляя в банду Караулова, мы полностью положились на Черногуза. Но если подойти к случившемуся по-чекистски, имели ли мы право на такую отчаянную доверчивость? Тогда, когда пришло известие о гибели Караулова, я уже сам во всем сомневался. И если бы в то время надо мною состоялся суд, я бы признался: «Да, виновен!»
И выходило, что оперуполномоченный прав. Шла отчаянная классовая борьба, враг выступал с оружием в руках, и в этой борьбе гибли порою лучшие из лучших, самые сознательные, самые преданные. Мы хоронили погибших, нарекали их героями. Но это не возвращало их к жизни.
Лишь на пятые сутки посты сообщили: «Банда выходит из леса. При полном вооружении. Иван Евдокимович с ними».
Караулов гарцевал на своем знаменитом донском иноходце. Привел людей на площадь села, где размещался штаб чоновского отряда, подал команду спешиться.
– Равняйсь, – прокатился его бас. – Смирно! Коней – к коновязи! Оружие положить на землю перед собою. Пройти регистрацию – и по домам!
Но эта радость встречи с сивым Карауловым была омрачена большой трагедией: погибли Савон Илларионович и наш песенник Леня Соловей.
При Чухлае появился один из бандитов, случайно уцелевший при разгроме «войска» батьки Барвинка, хозяйничавшего года два на Житомирщине и Волыни. Увидел он Савона Илларионовича, говорит Чухлаю:
– Дюже подозрительный дедок. Смахивает на знакомого чекиста. Только тот ходил бритым.
Сняли седую бороду с Кряжа, и сразу он перестал быть ветхозаветным стариком. Бандит опознал чекиста:
– Он! Он прописался в нашем штабе, он брал батьку Барвинка.
А Чухлай по своим неудачам догадывался, что нам удалось кого-то заслать к нему в банду. Кряжа он все время держал на подозрении.
Расправа над чекистом была лютой. Ему отрубили по очереди все пальцы, потом кисти рук, затем вспороли живот.
Наблюдавшая эту страшную расправу Надежда не выдержала, выхватила наган и застрелила Савона Илларионовича, прекратила его нечеловеческие муки. А Чухлай хотел доведаться от чекиста, с кем он связан, кто ему помогал. Под впечатлением ужасной трагедии, случившейся с Кряжем, который хотел помочь ей порвать с бандой, Надежда наговорила Чухлаю лишнего: «Думаешь, этого извел, и все закончилось? Да тут вокруг тебя через одного – чекисты! Гулять тебе, Филипп Андреевич, осталось ровно день. А потом посадят в клетку, как бешеного пса, и повезут из села в село».
Чухлай совсем озверел. Подскочил к Надежде, сбил ее с ног, схватил за косы и давай таскать:
– Чекистам продалась! А мне доносят, что этот белобородый Савон днюет и ночует возле твоей хаты и ты по ночам держишь с ним совет!
– Держу! – кричала Надежда. – Он человек, а ты – скот! Ты своего ребенка живого жрешь!
Надежду затащили в кузницу, привязали руки к наковальне, и Чухлай бил молотком по пальцам своей возлюбленной, которая в то время носила под сердцем его ребенка.
Тут появился наш Леня. Увидел замученного Савона Илларионовича, услышал крик, доносившийся из кузницы, потерял самообладание. Застрелил нескольких бандитов. И его самого убили.
Обо всех этих событиях стало известно на основной базе банды. Караулов еще не знал, что погиб именно Савон Илларионович. Он обратился к чухлаевцам с призывом:
– Ждете, пока каждому из вас Чухлай выпустит кишки! Кто не трус – со мною! Докажите Советской власти свое искреннее раскаяние!
В коротком, но яростном бою была уничтожена почти вся охрана Чухлая, его самого взяли живым.
Прежде чем распустить бывших бандитов по домам: к земле, к женам, к детям, – надо было их допросить хотя бы в самых общих чертах. Нас интересовало многое, в том числе где надо искать награбленное бандой. Работали мы все до упаду.
Но больше всех досталось нашему отрядному эскулапу Григорию Даниловичу Терещенко. Часа четыре возился он с руками Надежды.
Среди чухлаевцев были такие, у которых гноились старые раны. У двоих началась гангрена, и надо было ампутировать конечности. Ко всему Терещенко установил несколько случаев заболевания сыпным тифом. Встал вопрос: что же делать с остальными? Может, следует изолировать? Их мыли, парили, дезинфицировали белье, одежду.
При виде всей этой заботы о вчерашних бандитах, которые прямо или косвенно виновны в смерти Савона Илларионовича, Лени Соловья и многих других, у меня возникло недоброе чувство: «Какие люди погибли, а эта сволочь осталась в живых и будет пользоваться плодами нашей победы».
К вечеру приехали родственники Лени Соловья, привезли ходатайство: Ивановский сельсовет просил похоронить героев у них в селе, на площади.
Стали готовить в последний путь наших боевых побратимов.
Сбившиеся с ног от нахлынувших хлопот, мы с Иваном Евдокимовичем в тот вечер что-то проморгали, недоучли. Ночью бежал из-под ареста Чухлай. Часовой, охранявший добротный кирпичный сарай местного попа, в котором содержался бандит, оказался оглушенным. Когда пришла смена, бедняга лежал на пороге перед распахнутой дверью.
Пеленгаторы дают первый адрес
Прошло без малого девятнадцать лет. За это время Надежду я не встречал. Но иногда вспоминал, когда речь заходила о чоновском отряде Ивана Караулова.
По насмешливым репликам, которыми Надежда встретила нас с капитаном Копейкой, можно было судить, что характер у нее не изменился.
Подошла, поздоровалась со мною за руку.
– Садись, сестренка, поближе, – приглашаю ее. – Расскажи про свое житье-бытье.
– А кто будет отрабатывать за меня на окопах урок?
– Коллективно поможем.
Мы отошли чуть в сторону от машины и присели на реденькую, но сочную траву. Я с любопытством рассматривал Надежду.
– Выглядишь ты, сестренка, – влюбиться можно. А жизнь твоя, как свидетельствуют глаза, не из веселых.
Она вздохнула:
– Угадал… И тогда угадал, и сейчас. Наверное, все по той же специальности? Судить по костюму – инженер, а Игорь Александрович возит тебя на машине. Должно быть, ты в большие начальники выбился?
Я улыбнулся и в тон ей ответил:
– Фамилию, сестренка, ты сменила. А помнится, Чухлай для тебя весь белый свет застил собою.
Надежда сорвала душистую травинку, стала разминать ее в пальцах.
– За давностью не должны бы судить… Признаюсь тебе первому, это я тогда освободила Чухлая.
«Разыгрывает!» – была первая моя реакция на ее слова. Но она как-то вся съежилась, напряглась, словно в ожидании неминуемого удара. Нижняя губа мелко подрагивала. Чтобы унять эту дрожь, Надежда закусила губу. Глаза повлажнели, стали еще более черными. И во мне родилось страстное желание крикнуть на всю округу: «Это после того, как он тебя изувечил!» Только профессиональная привычка владеть собою помогла мне промолчать.
Я невольно смотрел на ее руки. Понимал, что это нехорошо, но смотрел на короткие пальцы-обрубки. Надежда резким движением убрала руки за спину.
– У мужиков любовь, как сосновая лучина, прямая, сухая, занозистая, – заговорила она, – а у бабы – крученая, словно старый пенек, из каких гонят скипидар. Мужику с его палочной прямотой не понять, какими ходами бродит в женском сердце эта самая проклятая любовь. Отдать себя любимому на заклание – да разве есть счастье выше этого?..
Надежда начала свою исповедь сумрачно. Подняла на меня глаза, молит о снисхождении.
– Ты замечал, как ходит счастливая? – спросила она, но ответа не ждала, сама пояснила: – За километр опознаешь: не идет – лебедушкой плывет, земли не чувствует под собою. На кого глянет – одарит радостью, к кому прикоснется – от болей исцелит.
– Ума не приложу, – удивился я, – как ты все это проделала? Руки – сплошная рана, а часового оглушила.
– Не помню, словно зачумленная была. Терещенко колдовал над моими руками – влил в меня стакан спирту. Спьяну все… Освободила Чухлая, наделила своим платьем, вывела за село. Он на колени встал, ноги целует. «Ты, – говорит, – самая золотая на свете». А меня брезгливость одолела, словно наступила на раздавленную жабу. От той поры он для меня умер. А не освободила бы, страдала, ждала, надеялась. Получила бы весть, что расстрелян, а все равно ждала бы…
Это было выше моего понимания. Может, действительно, я был болен «мужской прямотой», как говорила Надежда.
– Руки вскоре поджили, – продолжала она. – Ловко тогда Терещенко их заштопал. Засватал меня Шоха.
– Сугонюк?
Она кивнула.
– Говорит: «Я из-за своей любви к тебе чуть не лишился жизни. Не утек бы в свой час, повесил бы Чухлай». По первому разу я поднесла Шохе гарбуз. Угнездилось во мне презрение ко всему, что связано с бандой. Но жила я в хате у отчима. Трудилась, как пара волов, а все равно считалось, что ем чужой хлеб. Мать стала меня уговаривать: «Чего брыкаешься? Какой порядочный теперь на тебе женится?» Конечно, я была невеста не первой свежести. Двадцать шестой год… И Чухлаем таврована. Правда, ребеночек его родился мертвенький, оно и к лучшему. Мать не догадывалась, а Шоха знал, что я не бесприданница.
«Чухлаевские подарки», – мелькнуло у меня.
– Года три мы жили с Шохою, как все, – вела свою исповедь Надежда. – Обзавелись землицей. Но бог не дал детишек. Шоха меня за это поругивал, Чухлаем попрекал. Случалось, и ударит под пьяную руку. Я терпела: чувствовала себя виноватой. Бегала к бабкам-ворожеям, ходила к врачам. Врачи в один голос: «Ты, Надежда, женщина совершенно здоровая, можешь рожать целую дюжину. Надо бы проверить твоего мужа». Мой Шоха на дыбы: «Я мужик крепкий, мне твои врачи до фени!» Чтобы доказать свое, стал ходить к чужим бабам. Но чего нет – того не найдешь. Погоношился и сходил к врачам. От той поры стал тише воды, ниже травы. Я ему предлагала: «Возьмем сироток: мальчика и девочку». Он все сопел-сопел: «Нажитое кровавым потом отдавать чьим-то байстрюкам!» А однажды взбеленился: «От тебя, видать, пошло, бабы по селу треплют, что я сухостойный… Съездила бы в город, привезла оттуда в своей утробе… Все бы думали, что он мой, и я бы тебя простил». Ох и умылся он у меня, чертов кобель, за такие слова красной юшкой.
Печальная повесть об исковерканной жизни. За совершенную в молодости трагическую ошибку Надежда платит вот уже два десятка лет. И впереди, считай, никакого просвета. Сорок три весны, сорок три зимы и осени… В этом возрасте человек подводит первый итог прожитого, сделанного и подумывает о суровой, неумолимой старости.
– В двадцать девятом в Александровке зачинали артель. Я без согласия Шохи сдала колхозу землю, коня, двух волов и корову с телкой. Уже грамотная была, от имени обоих написала заявление. Шоха схватился за топор, я – за вилы… На том и помирились. Беднее мы с ним не стали. Много ли нужно двоим? Я – в огородной бригаде, он – колхозный пасечник. Да своих с десяток ульев. Считай, по три-четыре пуда меду брали с каждого.
Надежда замолчала, рассказывать ей было уже не о чем.
– Где ты квартируешь? – спросил я. – Отвезу.
– У своих, в Светлово.
Она забрала фуфайку, лопату и села в машину. Надежда всю дорогу молчала, лишь на окраине города подсказала, куда свернуть. И только когда машина остановилась на застанционном поселке возле одной неказистой хатенки, сказала:
– А я рада, что встретила тебя. Ну как девчонка, даже сердце техкает по-соловьиному, ей-ей… – и неожиданно засмущалась. – Ты был первым, кто указал мне свет в окошке и растолковал, что мир пошире, чем хата об четыре стены. Да рано ушел из моей жизни, не довел… И засохла я на полдороге к чему-то хорошему.
Сказала торопливо, словно в любви призналась, – и побыстрее из машины.
Встретила нас дородная женщина. Вначале, увидев возле своего дома легковую машину, удивилась. Надежда ей сказала: «Ось братика привезла, девятнадцать лет не виделись».
Небольшая хатенка была пропитана сложными запахами уюта и сытости. Я различал солоноватую терпкость капусты, горчинку увязанного в плети лука, степную теплоту зерна в мешках. Было во всем этом что-то волнующее, родное, памятное с детства. Оно навевало щемящую тоску по ушедшему, милому, с чем расстаются на пороге родительского дома, уходя в большую жизнь.
– Накормишь? – спросил я Надежду, присаживаясь на широкую деревянную лавочку, стоявшую под узеньким окошком. – А то с утра во рту ни маковой росинки.
На столе появились помидоры и тушеная картошка с утятиной.
Надежду будто подменили. Очень скромная, на слова скупая, движения сдержанные, словно ей не хватало места в тесноватой хатенке, и она боялась зацепиться за стол, споткнуться о лавку, сдернуть с кровати тюлевую накидку.
Когда поужинали, Надежда довольно бесцеремонно сказала своей дородной родственнице:
– Со стола я приберу сама, а ты, тетя Даша, погуляй. Нам с братцем надо поговорить.
Мы остались одни. Надежда в отсутствие тети Даши вновь преобразилась. Движения стали по-кошачьи упругими и вместе с тем мягкими. Голос обрел звонкость, в нем зазвучала легкая ирония. Эта перемена натолкнула меня на мысль, что тетя Даша – родственница по мужу. И спросил об этом Надежду. Она усмехнулась:
– Угадал.
Вытерла стол, присела на лавочку.
– Вначале, когда обмолвился про еду, я, грешным делом, подумала, что ты просто причину для разговора ищешь. Привезли-то тебя поглазеть на мою знаменитую торбу. Тут до капитана Копейки ею еще один интересовался.
Мне осталось только удивиться:
– Все так и есть.
Она достала из-под широкой деревянной кровати пустой вещмешок, протянула мне:
– Дался он вам всем.
Я стал рассматривать. Из добротного полотна. Сшит, на диво, крепко, видимо, сапожной машинкой: стежки крупные, нитка толстая, суровая, шов двойной – раз прошили, завернули и вновь прошили, этими же нитками притачали лямки, сделанные из стропы парашюта.
– Веревочка на диво, – похвалил я. – Говоришь, по случаю приобрела?
– На вокзальной толкучке за кусок хлеба.
Я прикинул вещмешок на руке:
– Добротная вещь. Холст – хоть паруса шей.
– Старалась… Не знала, куда судьба занесет. Может, на край света.
– Покупные-то лямки притачала теми же нитками, которыми шила мешок, – говорю ей.
Она достала клубок точно таких же ниток, положила на стол передо мною.
Я попробовал нитку. Крепкая, скорее пальцы порежешь, чем порвешь ее.
– Собиралась на край света: торбу из нового холста сшила, нитки про запас взяла. А лямки – гнилые. Добралась до Светлова, они и расползлись. Что ж это ты, хозяюшка?
Смеются ее глаза, с вызовом смотрит на меня:
– А ты, «братик», еще дотошнее стал.
Я вел свое:
– Если поискать, второго такого кончика не объявится? – подергал я за добротную, из вискозного шелка, бело-кремовую веревку.
– Да уж мы с Шохой постарались упрятать.
Она все время называла мужа бандитской кличкой. Почему? Или наша встреча вернула ее в далекий двадцать второй? Или в этом проявляется ее отношение к человеку, которого не любит, но вынуждена коротать с ним век под одной крышей?
– Веревочка-то от немецкого парашюта, – сказал я. – Вот и выходит, сестренка, что кто-то на нем прилетел. А зачем? Не догадываешься?
Улыбка сползла с ее губ.
– Недели три тому вернулся с фронта мой Шоха. Снарядом оглушило, порою так всего и перекосит. Ранен в плечо. А рана-то воняет: гниет человек заживо. Уж я ли его не врачевала! Промывала рану спиртом и марганцем, обкладывала теплой вощиной поверх бинтов. Пил Шоха прополис с соком столетника, ел свежий мед. Полегчает, а через пару дней все заново. Как-то болезнь дала ему передышку. Я собралась в посадку за сушняком. До войны мы покупали уголь у шахтеров. А теперь все граммочки идут заводам. Говорю Шохе: «Посажу тебя на тележку, вывезу в посадку, хоть подышишь свежим воздухом». На тележку не сел. Говорит: «Погоди, сдохну, вот тогда…» Выбрали посадку, рубили в два топора сушняк. Советую: «Ты бы посидел, отдохнул, пот с тебя градом». Рассердился, ушел от меня подальше. Я помахиваю топором, а одним глазом поглядываю на Шоху, не переусердствовал бы мужик. Тогда и в самом деле вместо сушняка доведется везти на тележке милого. Как он упал – не приметила, запнулся за что-то. И такой мат пустил! На десять этажей. Я его от таких слов давно отучила, а после фронта опять взялся за старое. Подхожу к нему, он что-то тянет. То самое. Прятали – спешили, ямку выскребли неглубокую, присыпали старым листом и сучьями. Переглянулись мы с Шохой. Говорю: «Надо заявить в сельраду». А он меня на чем свет костит: «Дура набитая! Отберут. Сколько тут шелковой материи! За войну люди пообносятся, каждая тряпка станет на вес золота». На тележку под сучья – и привезли домой. Так жадность и взяла надо мною верх, – закончила с раскаянием Надежда.
По ее рассказу выходило, что они с мужем наткнулись на парашют случайно. Что ж, вполне возможно. А если в этой случайности есть своя закономерность?
У меня на языке вертелось несколько вопросов: «Когда для Шохи началась война? Когда закончилась? Не был ли он в окружении или в плену? Почему у него такая странная рана?» Копейка обратил внимание: «Тяжелый дух», и Надежда об этом же: «Заживо гниет». Но я спросил о другом:
– Почему вы в тот день пошли именно в эту посадку? Самая ближняя? Самая богатая на сушняк? Самая удобная к ней дорога?
Надежда ничего определенного не могла ответить.
– Посадка – не ближний свет, километров десять с гаком. Но шли и шли, Шоха рассказывал про войну. Поближе к Александровке посадки уже почищены. Подходим к этой, Шоха говорит: «Сколько сушняка и сухостоя! Похоже, до нас тут никого не было».
Значит, на посадку обратил внимание Шоха. Что из этого выходило? Ровным счетом ничего. Действительно, там было много сушняка. И вообще, в эту «экспедицию» Шоху пригласила Надежда.
– Покатаемся, сестренка, – предложил я. – Покажешь заповедное место.
Мы заехали в отделение НКВД, капитан Копейка сумел раздобыть миноискатель, два щупа. Прихватив с собою бойцов, выехали в Александровку.
Это было самое дальнее село Светловского района: большое и богатое. На его территории уместились пять колхозов, правда, один другого меньше.
Ехали молча, каждый думал о своем. Я все пытался выстроить систему из разрозненных фактов. Шарада не решалась.
Приехали. Машину оставили в стороне, за лесочком. Добрались до посадки. На ее окраине рос густой подлесок – сразу и не продерешься: лещина, бересклет, жимолость и, конечно, клен-самосад. Багряно-золотое великолепие. Вот уж не поскупилась природа-матушка на обилие и разнообразие. Красных оттенков десятка полтора, от нежно-розового до бордового. А золотых отливов – не пересчитать.
Надежда негромко сказала мне:
– Прости, если можешь, жадность мою, – проглотила комок, сдавливавший горло, и закончила: – Сама себя казню.
Мы не сразу нашли местечко, где подлесок был пореже и можно было проникнуть в посадку. Здесь преобладала акация: кривые тонкие длинные стволы. Переплелись ветви, выставили иголки.
– Тут рубили сушняк?
Надежда кивнула.
– А откуда начинали?
– Почитай, с середины.
– Чего в дебри забрались?
Она пожала плечами.
В чекистской работе так: все, что не имеет четкого, логического объяснения, подлежит всесторонней проверке.
Посадку прощупали и прослушали. На ее краю в неглубокой, но хорошо замаскированной ямке нашли две ракетницы советского производства и три десятка ракет к ним. Разноцветных.
– Ракетчик! – определил капитан Копейка. – Может еще вернуться.
Я осмотрел местность. К посадке с двух сторон подступали широкие поля. Если смотреть на север, то слева стояла кукуруза, а справа поле скошенной люцерны. Место удобное и для десантирования парашютистов, и для посадки небольшого транспортного самолета.
– Вернется, – решил я. – Оставим все на месте. Но наблюдение надо установить самое тщательное не только за тем, кто войдет в посадку, но и просто пройдет мимо.
– Муха не пролетит, – пообещал капитан Копейка.
Пришло время расставаться с Надеждой.
– Думаю, не надо «сестрицу» предупреждать, что о случившемся – никому ни полслова. В том числе и супругу. Сейчас тебя отвезут в Светлове, завтра вернешься домой. У меня к тебе будет особая просьба. Прислушивайся к тому, что говорят о парашюте и парашютистах люди. Может, кто-то где-то нашел еще парашют или что иное. Как меня известить, договоришься с Игорем Александровичем.
Расставаясь со мною на окраине застанционного поселка в Светлове, Надежда сказала:
– Что, «братик», снова на девятнадцать лет?
Я возразил:
– Э, нет, теперь-то уж я от тебя не отстану.
Лукаво засверкали большие глаза.
– Только чтобы потом не отрекался от «сестренки».
К истории с парашютом пока прямо были причастны двое: Надежда и ее муж. Какие у меня были данные отнестись с подозрением к любому из них? По существу, никаких. Не сообщили о находке? Обуяла жадность.
Согласно элементарной логике оперативной работы Сугонюки подлежат самой тщательной проверке. С Надеждой, как в то время мне казалось, было более-менее ясно, а вот у Сугонюка некоторые данные биографии нуждались в уточнении.
Капитан Копейка познакомил меня с его учетной карточкой. Сугонюк Прохор Дмитриевич, сорока пяти лет. Призван в армию Светловским райвоенкоматом на второй день войны. Принимал участие в боях против фашистских захватчиков. 13 июля ранен в районе Бердичева. Первую медицинскую помощь получил в медроте, операция сделана 21 июля в полевом госпитале № 35767. 29 июля комиссован, по состоянию здоровья отпущен на шесть месяцев. 11 августа встал на учет в райвоенкомате.
Хороший, с моей точки зрения, послужной список. Даты идут плотно одна к другой.
Дальше шла, по существу, формальная часть проверки. Поздним вечером я доложил Борзову о событиях дня и попросил его навести справки о части, в составе которой воевал Сугонюк, и о полевом госпитале № 35767.
Борзов меня предупредил:
– Петр Ильич, где-то в вашем районе появился радиопередатчик. Выход в эфир зарегистрирован в ноль часов двадцать минут. Я уже договорился, в ваше распоряжение поступает два пеленгатора.
Эта весть буквально расковала меня. «Наконец-то!» – с облегчением подумал я. Хоть что-то конкретное. А то до сих пор были одни предположения и домыслы. Но сколько времени уйдет на то, чтобы с помощью пеленгаторов получить первые положительные результаты? Яковлев «свой» передатчик ищет уже три недели.
Борзов сообщил мне еще одну новость:
– Есть данные, что акция «Сыск» имеет в виду нашего Сынка. Помните, накануне вашего рапорта он перестал писать родителям?
«Первый параграф» – это задание группе «Есаул» на акцию «Сыск». А Сынок – наш разведчик Сергей Скрябин, который работает в Германии с 1922 года.
Гражданская война началась для меня в отряде Рудольфа Сиверса, который громил белоказаков в степях Донбасса, а потом отступил к Ростову.
Во время этого рейда к нам пристал хрупкий интеллигентный паренек Сергей Скрябин, превосходный наездник и стрелок. Однажды мы втроем возвращались из разведки и наткнулись на казачий разъезд.
– Я прикрою, – вызвался Сергей. – Уходите.
Мне стало жалко паренька.
– Их пятеро!
– Результата разведки ждет командарм, – ответил он и попросил у меня маузер.
Мы ускакали в одну сторону, Сергей рванул в другую. Казаки решили, что именно он и есть «главный», а мы вдвоем лишь отвлекаем их. Взяв пики наперевес, они устремились к одинокому всаднику. Подпустив врагов поближе, Сергей двоих уложил из маузера. И помчался дальше. Казаки открыли стрельбу из карабинов. Сергей притворился убитым. Отлично выезженный конь понес его по степи. Преследователи подъехали было к «убитому». Он вдруг очутился в седле и еще двоих застрелил, а офицера ранил, взял в плен и привез с собою.
Иногда нам с Сергеем давали особые задания, и мы, переодевшись в форму белогвардейцев, отправлялись во вражеский тыл. Скрябин превосходно говорил по-французски и по-немецки. Это не раз нас выручало. Обычно он представлялся белогвардейцам: «Князь Скрябин». Вначале я думал, что он так именует себя для маскировки. Но однажды узнал, что Сергей действительно знатного рода – его мать настоящая княгиня. Впрочем, княжеского у Скрябина ничего, кроме титула, не осталось.
В тяжелых боях под Ростовом Сергея ранило. Он попал в госпиталь. Судьба вновь свела нас с ним уже в 1922 году. Я получил назначение в чоновский отряд, которым командовал Караулов. Прибыл к месту новой службы и первым там встретил моего друга Сергея Скрябина. Но радость наша была недолгой. Через два месяца Сергея отозвали в Москву.
