Опасный путь: дневники Анжелы
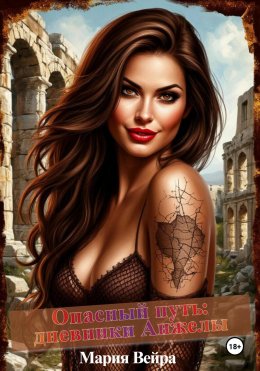
Вступление
Ты думаешь, это будет про мужчин.
Про города, постели, поцелуи и секс. Про то, как я сбегала на каблуках, не оставляя номера. Или наоборот – цеплялась, как девочка, за чужое плечо.
Нет.
Это будет про меня.
Такую, какой ты сама боишься быть.
Слишком живую. Слишком честную. Слишком чувствующую.
Я начала писать эти дневники не ради воспоминаний. А чтобы не сойти с ума.
Когда ты не любишь – ты не теряешь.
Когда ты не веришь – ты не страдаешь.
Когда ты не остаёшься – тебе не больно.
Я так думала. До него. До себя.
И нашлась.
Я прошла через запахи чужих простыней, через мимику, которую больше никогда не увижу, через встречи и расставания.
Я потерялась. И нашлась.
Это не исповедь.
Это не инструкция.
Это путь.
Опасный.
Но мой.
Мексика: без плана, без стыда, без вины
❝…Он был шеф-поваром. Владел огнём, как любовью. И мной тоже – сначала прожарил, потом приправил солью❞.
Я приехала в Мехико без плана. Без сценария. Без мыслей о прошлом.
Мехико не просил ничего.
Он просто впустил меня – как запах кукурузных лепёшек, как обжигающее полуденное солнце на кожу, как ритм марьячи, звучащий из чьего-то открытого окна.
Я жила в районе Рома Норте, в квартире с балконом, где на перилах сидели жирные голуби, а с улицы доносились крики уличных торговцев и запах жареного перца. Мехико пах телом. Улицами. Потом. Копчёной солью. Кровью с рынков. И какой-то хищной, густой свободой.
Я бродила по городу, как будто пробовала его языком – улицу за улицей.
И нашла его. Вернее – он нашёл меня.
Это было в небольшом ресторане на краю Кондеcы, с глиняной вывеской, цветами в стеклянных бутылках и громкой сальсой. Меню не было. Только он – за стойкой.
Черты лица – острые, как нож для разделки рыбы. Татуировки – как старые следы ожогов.
Он был шефом. С настоящими руками – сильными, грубыми, пахнущими копчёной паприкой и жгучим лаймом.
Он не улыбался. Смотрел, как будто обнажал. Не тело – пульс под кожей.
– Ты ешь мясо? – спросил он.
– Иногда.
– Сегодня – да.
Я не спорила.
Он подал мне тако с ананасом, свининой и чем-то острым, что обжигало нёбо так, будто заставляло всё почувствовать заново. Он молчал, стоял напротив, курил. И смотрел.
– Ты недавно здесь, – сказал он.
– Именно. Ты местный?
– Я – отсюда. Из жара. Из крика. Из ночи, – он подался ближе. – Из ада, если что.
– Я люблю ад. В нём честнее.
– Поэтому и пришла?
Он не пригласил меня. Он просто пошёл. Я пошла за ним.
Его квартира находилась над кухней, с бетонным полом, вентилятором под потолком и кроватью, застеленной смятым полотенцем вместо простыни. Там пахло луком, потом и мужчиной.
Он не раздел меня. Он просто подошёл и начал нюхать – шею, ухо, волосы.
– У тебя запах соли. И дороги. Мне нравится.
Он развернул меня, провёл языком по позвоночнику, как будто читал что-то важное.
Руки его не просили разрешения. Они действовали, как будто знали меня раньше, чем я сама. Как будто изучали анатомию удовольствия не по учебникам, а по телу – моему телу. Пальцы – сильные, цепкие – работали, как на кухне: быстро, точно, с нажимом. Он не гладил – он месил. Он не ласкал – он проверял, как много я выдержу. Как глубоко впущу. Как громко задышу.
Я не кричала. Но внутри – кричала каждая клетка. Как будто они проснулись после зимней спячки и требовали огня.
Он был жадным. Тем самым опасным видом жадности, что возникает у тех, кто знает: это может быть в последний раз. Он любил меня, как будто еда остынет через минуту, а надо съесть, пока обжигает губы. Он прижимал меня к себе так, что я чувствовала его рёбра – будто внутри него билось сердце, сожжённое солнцем. Он кусал – с боку, за шею, за бедро. Он вонзал зубы туда, где пульс – как будто хотел оставить на мне своё имя.
– Не думай. Не вспоминай. Не бойся. Только чувствуй, – шептал он между движениями, между толчками, между выдохами.
Я чувствовала. Чёрт возьми, как я чувствовала.
Я чувствовала язык, жгучий, как перец чили, когда он скользнул им между моих ног – не спеша, а намеренно, по кругу, как будто вырисовывал мандалу из похоти. Я выгнулась – и он только глубже вошёл языком, как будто искал точку, где у меня исчезает контроль.
Его пальцы пахли лимоном. Горьковато, чисто, свежо. Он сначала ввёл их мне в рот – два, потом три – и не отводил глаз. Смотрел, как я их сосу, как будто знал: это даст ему власть. Потом они вошли в меня – легко, глубоко, с тем же запахом и тем же темпом, как будто музыка внутри нас требовала нарастания.
Его член вошёл резко. Почти грубо. Не больно – нет. Точно. С усилием. С напором. Как нож входит в мягкое, спелое манго. Момент короткого шока – и потом только сладость.
Я стонала. Не от боли. И не только от наслаждения. А потому что меня снова вернули к себе.
К телу.
К живой, голодной, горящей женщине, у которой когда-то были сомнения, тревоги, вопросы. Но сейчас – только пот, тепло, плоть и соль на губах. И он – внутри меня, как будто пытается прочитать моё нутро с обратной стороны.
В этом не было романтики. Это не было о любви.
Это было о возвращении.
К себе.
К той, что когда-то боялась, стеснялась, старалась быть удобной. А теперь – дрожала от удовольствия и жадно ловила его ритм, как будто вся жизнь была ради этой одной ночи. Он вошёл в меня снова, сжимая мои бёдра, будто хотел оставить след. Его грудь ударялась о мою спину, его дыхание било в ухо. Я выгибалась, царапалась, грызла губы до крови.
Он целовал меня с жадностью, как будто хотел выжечь мой вкус себе в память.
Потом мы лежали, потные, вонючие, живые.
Он зажёг сигарету, я смотрела в потолок и впервые подумала: может, я не просто путешествую. Может, я возвращаю себе части, которые отдала другим.
Он дал мне глоток мескаля.
– Это мексиканский бог. Он делает боль красивой.
– Ты делаешь то же самое.
Мы не разговаривали больше. Он заснул. А я лежала, вглядываясь в трещину на стене, и думала:
Женщина может забыть имя. Но она не забудет, как её трахали.
Как будто последний раз.
На следующее утро он исчез.
Просто не было рядом – ни в постели, ни в квартире. Только тёплая сковорода на плите, жареные томатильо, капли масла на столешнице, как крошечные ожоги.
На записке – коротко:
«Это еще не всё. Приди в полночь. Будем готовить друг друга».
Я ушла. Бродила весь день, будто в лихорадке. Улицы Мехико казались ярче, чем вчера. Пот стекал под грудью. На плече остался след от его зубов – маленькая, болезненная метка, как будто он сказал: «Я был здесь. И ещё буду».
Я пришла ровно в полночь. Без белья. Без помады. С распущенными волосами и животом, сжавшимся от предвкушения.
Он открыл мне в фартуке. И только.
Под ним – ничего.
– Ты голодная?
– Да.
– Тогда сначала – я.
Он поднял меня на стол. Одним движением – сильным, точным, как будто знал, где у меня центр тяжести, где начинается желание. Посуда сдвинулась в сторону: бокалы звякнули, вилка упала на пол. Он не обратил внимания. И я тоже.
Я уже была не женщиной, а подачей дня – блюдом, поданным горячим. Села на край, раздвинув ноги, и не думала ни о приличии, ни о последствиях. Только о нём – стоящем на коленях, между моих бёдер, с выражением на лице, как будто он сейчас будет говорить молитву, но ртом к моей коже.
Его язык был терпелив. Он не спешил. Он не атаковал. Он изучал – как сомелье, что сначала вдыхает аромат, только потом пробует. Он прошёлся по внутренней стороне бедра – медленно, едва касаясь, оставляя после себя мурашки, как отпечатки от пуха. Поднялся выше – по паху, по низу живота, задержался в ложбинке пупка, как будто хотел запомнить моё дыхание.
Я вздрагивала. Не от страха. От того, что он действовал слишком правильно. Слишком точно. И я ощущала: он знает, что делает.
Когда он добрался до самой сердцевины – там, где пульс бил сильнее, чем в висках, – он начал есть меня. По-настоящему. Не как гурман. Как мужчина, который знает, что делает женщину счастливой не обещаниями, а ритмом языка и настойчивостью губ. Он ел меня, как будто это был ритуал. Как будто я была святыней, а он – тем, кто умеет молиться на коленях.
Сначала – осторожно. С уважением. Как будто выстраивал диалог. Потом – глубже, крепче. Щелчки языка, мокрый звук, мои стоны, сдавленные и бессвязные. Его пальцы вошли с точностью хирурга – зная, когда замереть, когда ускориться. Они не просто ласкали – они дрессировали. Они ставили меня в стойку, в тонус, в нужный ритм. Они приказывали. А язык подчинялся, добавляя ощущений – ещё шире, ещё глубже.
Я терялась.
Между толчками языка и скольжением пальцев я перестала быть человеком. Я стала вибрацией. Воплощённым стоном. Я не думала. Не говорила. Только дышала – коротко, прерывисто, как будто после бега.
Он не торопился. Он знал, что самое главное – не спешка, а то, что останется в памяти. Не просто оргазм, а то, как к нему вели. Его движения были музыкальны. Настойчивы. Обострённы, как ноты в ночи.
Я стонала, пока он ел. Как будто я – пир, а он – знал, что за мной не будет десерта. Только сейчас. Только этот вкус. Эта женщина. Эта ночь.
И я была согласна.
Целиком.
– У тебя вкус дыни, соли и греха.
Он поднял меня, понёс в душ, включил воду холодной – и вошёл в меня прямо там, под потоком, прижав спиной к плитке.
Я замёрзла – и разгорелась сильнее. Он двигался быстро, порывисто. Меня трясло от его стонов, он шептал мне в ухо на испанском, а я не понимала ни слова, но тело всё знало.
Потом он вынул член, усадил на край раковины, раздвинул мои ноги и, не отводя взгляда, вошёл снова. Медленно. Глубоко. До слёз. До предела.
Я царапала его плечи, как будто могла удержать. Он целовал мои глаза, грудь, живот – как будто хотел записать их вкус в память навсегда.
Мы вернулись в спальню, промокшие, голые, измотанные. Он лёг, прижал меня к себе, а потом… взял мои руки и положил себе на шею.
– Ты хочешь управлять? Держи. Прямо здесь. Пока я двигаюсь. Пока не кончу. Ты будешь решать, когда.
Он начал входить в меня снова. Я держала его горло.
Он задыхался. Я – сходила с ума.
Он дрожал. Я – стонала его именем, не зная, как его зовут.
Потом мы лежали. В тишине. Только вентилятор, наши тяжёлые вдохи и горький привкус мескаля на губах.
– Ещё будешь? – спросил он.
– Угу.
– Тогда спи. Мне нужно отдохнуть. Я должен подать тебя снова – завтра.
Его звали Алехандро.
Голос – низкий, с хрипотцой, будто пил дым, а не текилу. Он говорил медленно, даже когда трахал быстро. Его руки были большими, горячими, с мозолями – настоящими, как и всё, что он делал.
Утро мы проспали. Тело отзывалось ломотой, бёдра болели, как после танца. Я лежала, закутавшись в его простыню, наблюдала, как он нарезает манго – медленно, уверенно, без спешки. Он ел руками, сочащийся сок стекал по запястьям, он облизывал пальцы и смотрел на меня так, будто хотел съесть не только фрукт.
– Ты не похожа на туристку, – сказал он, садясь рядом.
– А ты – на повара.
– Я работаю с огнём. И с мясом. Что ещё нужно знать?
Мы ели с одной тарелки. Потом он провёл языком по моей шее – не для возбуждения, а как будто проверял вкус.
– Я хочу приготовить тебя ещё раз. Но по-другому. Без спешки.
– Это как?
– Как десерт. Медленно. Чтобы ты таяла.
– А если я уже?
Он повёл меня на крышу. Там был его маленький мир: старый стол, посудина с водой, сухие травы, парочка винных бутылок. И вид на Мехико – без прикрас, с проводами, лаем собак и вечно орущими детьми.
Я сидела на коленях, он мыл мне волосы из кувшина. Вода текла по спине, по груди, между ног.
Пальцы его были нежными, как у любовника, и точными, как у хирурга.
– Когда ты уедешь?
– Скоро.
– А ты запомнишь меня?
Я молчала. Он усмехнулся.
– Не запоминай имя. Запомни язык. Вот так, – он провёл пальцем от моего лба до пупка, медленно, как будто писал рецепт. – Это я. Я в тебе. Пока ты не сотрёшь.
– А ты?
– Я запомню тебя как мой лучший рецепт.
Он опустил меня на старый плед – прямо на крыше, на бетон, прогретый за день. Материя была колючей, шершавая, цеплялась за кожу, но это только усиливало ощущение живого, настоящего. Под нами – город, гудящий, пульсирующий, как гигантское тело. Над нами – небо, пылающее багрянцем, будто разорвалось от внутреннего жара.
Он не сказал ни слова. Только посмотрел. Внутрь. Не на грудь, не на губы. В глаза. Как будто искал там согласие или прощение. Я не уверена, что дала и то, и другое, но кивнула – так, едва заметно. И он вошёл в меня с первого толчка. Сразу. До конца. Как будто был уверен, что я готова. Или как будто не мог ждать.
Я выдохнула, громко, хрипло, с изломом. Воздуха стало меньше. Пространства тоже. Мы слились не плавно, не романтично. А резко. Неожиданно. Как молния – горячая, точная, без предупреждений.
Он двигался медленно, с жаром, будто его движения прожигали мне кожу изнутри. Каждое вхождение было точным. Плотным. Как будто он вырезал себя в моём теле. Как будто мечтал остаться под кожей – в память, в глубину, в боль. Не просто трах. Не просто страсть. А акт сохранения. Слияние с прощанием.
Как повар, который подаёт блюдо и знает: этот гость уходит навсегда.
Его руки сжимали мою талию – не ласково. Жадно. Властно. Он держал меня, как штурвал во время шторма. Как якорь, который не даст сорваться. Его рот обжигал соски – он не целовал, он брал. Всасывал. Скусывал. Щипал мочку уха, доводя до дрожи. Его дыхание било в висок. Горячее. Неритмичное. Его движения стали быстрее, злее. Как будто он злился на себя за чувства. Как будто я – его вина и его еда.
Он трахал меня, будто хотел остаться в каждом изгибе. В каждой складке. В каждом следе от ногтей.
Я не сопротивлялась. Не защищалась. Я раздвинулась шире. Я выгнулась навстречу. Я стонала – не театрально, а срываясь, в голос, с хрипами и дрожью. Мои пальцы цеплялись за плед, за его спину, за воздух. Я позволяла ему всё. Как будто это последний раз. Как будто в этом теле больше не будет другого мужчины. Или других чувств.
Город гудел под нами, как будто сам был свидетелем. Небо медленно темнело. Воздух пах раскалённой пылью, потом и чем-то вечным. Мы были в этом моменте до кончиков ног. До мурашек под коленями. До боли в груди. До муки внизу живота – сладкой, раскалённой, разрывающей.
Это был не секс. Это была запись. В тело. В память. В вечность. Когда я кончила – его имя сорвалось с губ само. Громко. Грязно. Настояще.
– Алехандро…
Он замер, потом прошептал мне в шею:
– Вот теперь ты запомнишь.
Ночью я уехала. Без записок. Без поцелуев. Он не проснулся – или сделал вид.
А может, и правда не хотел финалов.
Мехико не пахнет прощанием. Только пoтом.
Когда будешь вспоминать, как соль с его пальцев щипала внутреннюю сторону бедра, и понимать – тебя не просто ели. Тебя подавали, как самое желанное блюдо.
И ты согласилась. Потому что голодна была не меньше.
❝…Он был тату-мастером, покрытым древними узорами. В его руках кожа становилась памятью❞.
Я приехала в Оахаку, не зная, зачем. Просто уехала с Мехико, без плана, с солью на коже и привкусом перца на губах. Этот город не звал. Он ждал. Тихо, как старик, знающий, что всё придёт само.
Пыль лежала на улицах мягким фильтром, солнце стекало по стенам домов медленно, как мёд. В Оахаке воздух был густой, терпкий – запах агавы, горячих камней, пота, старого дерева. Здесь все живут в полутоне. В ритме, который заставляет замедляться не только шаг, но и мысли.
Я шла за запахом. За странным, дразнящим чувством, что меня ведут.
Он открыл дверь в момент, когда я уже хотела развернуться. Маленькая студия – где-то между лавкой с текстилем и магазином ритуальных масок. Он не представился. Просто посмотрел. Долго. Сначала – на лицо. Потом – на шею. Потом – ниже. Как будто знал, что именно ищет.
Он был весь в татуировках. Но не модных. Не инстаграмных. А древних, органичных. Его тело было как пергамент, где что-то оставили поколения. С кожей цвета кофе и глазами, в которых не было нужды говорить. Я не пыталась понять – он был не для этого.
– Ты знаешь, что хочешь? – спросил он тихо, как будто слова не должны были мешать.
– Нет, – ответила я. И почувствовала, как в животе завязалось что-то мокрое, тяжёлое.
Он кивнул. Медленно. Указал на низкий деревянный стол. Я села. На столе – стопка тонких альбомов, перья, иглы, бутылка мескаля, тряпка в пыли.
Я открыла первую страницу и увидела узор. Как будто вырезанный из воздуха. Я не понимала, что он значит, но тело отозвалось – мурашками, жаром, вибрацией.
Он подошёл сзади и провёл пальцем по моей лопатке.
– Здесь, – сказал он. – Ты держишь боль.
Я не удивилась. Я знала. Я носила её, как кольцо. Как груз, о котором забываешь, пока не тронут.
Он не просил раздеться. Я сама сняла платье. Осталась в тонком белье. Легла. Спина – открыта. Он сел рядом. Протёр кожу. Подул. Почти нежно. Потом – приложил ладонь, тёплую, большую. Как будто молился.
Музыка не играла. Только дыхание. Моё и его.
Он начал рисовать.
Сначала – тонко. Как будто щекочет. Потом – глубже, нажимистей. Я не смотрела, что он делает. Я чувствовала. Каждую линию. Как она входит под кожу. Как будто он пишет послание не мне, а во мне.
Словно я – письмо, которое он отправляет в вечность.
Скоро игла сменила перо. Острая, быстрая, вибрирующая. Боль была чистой. Сильной. Не выматывающей – наоборот, возвращающей. Как будто я расчищалась. От слов, от мужчин, от лишнего.
Иногда он останавливался. Протирал кожу. Дышал мне в затылок. Не касаясь губами – только воздухом. Горячим, пахнущим мескалем.
– Твоя спина говорит. Я просто слушаю, – сказал он однажды. И я чуть не заплакала.
Он снова включил иглу. Я сжимала кулаки. Потом – разжала. Он положил ладонь мне на поясницу и оставил её там, пока заканчивал узор.
И когда всё было закончено – я не сказала «спасибо». Я не знала, как говорить с человеком, который вытатуировал на тебе твою собственную правду.
Он налил мескаль. Подал мне. Мы пили молча. Горло горело. Пульс бился в новорожденной тату.
А потом – он коснулся меня. Тихо. Медленно. Ни спешки, ни попытки. Только руки. Только дыхание. Только кожа, которая теперь уже не принадлежала мне одной.
Я осталась. Не потому что хотела. А потому что не могла уйти.
Плоть пульсировала – новая тату звенела под кожей, как молитва, набитая иглой. Каждое движение – напоминание. О боли. О живом. О том, что я больше не хочу быть поверхностной. Не хочу лёгкости, не хочу привычной игры.
Он не спросил, останусь ли. Просто закрыл дверь. Щёлкнул засов. Включил старую лампу, подвешенную к балке. Жёлтый свет окутал нас, как пыльца. Его тень на стене была больше самой жизни.
Он протянул мне ладонь. Я вложила свою. И он повёл – не в спальню, а дальше, вглубь мастерской. Где пахло агавой, дымом и ветхой кожей. Там стояла каменная ванна, полузаполненная водой с листьями. Мескаль, возможно. Или настой из чего-то, что пробуждает дух.
– Это очищение, – сказал он. – Прежде чем тебя примет ночь.
Я вошла, не раздеваясь. Тонкая ткань прилипла к телу, прозрачная от настоя. Он стоял рядом, наблюдая, не как мужчина, а как жрец. И я поняла: секс с ним будет не про страсть. Он – тот, кто прикасается к душе, минуя голову. Минуя логику, вкус, план.
Когда я вышла из ванны, он снял с меня всё – медленно, будто раздевает икону. Его руки были тёплыми, чуть шершавыми, как у плотника. Он гладил мои ключицы, как будто пробуждал их. Целовал между грудей – не торопясь. Как будто проверяя, действительно ли я здесь.
Мы легли на пол – на старый хлопковый ковёр, усыпанный лепестками. Над нами – деревянные балки, на них – связки перцев, амулеты, обереги. В этом было что-то дикое. Не дикое – первобытное.
Он смотрел в мои глаза, и пальцы его вошли в меня раньше, чем тело. Медленно. Глубоко. Как будто создавал новую женщину. Меня. Здесь. Сейчас.
Его губы шли по мне, как будто он не просто целовал – а узнавал. Не спеша. Не из вожделения – из почтения. Как читают молитву на коже. Как открывают тайную книгу, буква за буквой. Он не хватал. Не жадничал. Он слушал телом.
Он начал с ключицы – и это было не поцелуем, а причастием. Потом медленно опустился к груди, не играя, не требуя – просто касаясь, будто знал: соски – это не эрогенные зоны, а узлы памяти. Там всегда больнее. Там начинается женская уязвимость.
Он обводил их языком, будто хотел стереть воспоминания о чужих, поспешных руках. Я вздрагивала. Но не от страсти – от неожиданного облегчения.
Живот он трогал так, как будто это был пергамент с заклинаниями. Тёплой ладонью, кругами. Как будто успокаивал зверя внутри.
А потом – бёдра. Он не раздвигал их, не требовал. Он просто держал. Одной рукой. Сильной, уверенной. Так держат женщин, которым нужно дать выдохнуть.
Я лежала, раскинувшись, с запрокинутой головой, и вдруг поняла: я не притворяюсь. Не стараюсь. Не изображаю ту, которая знает, как вести себя в постели. Я просто была.
Он вошёл в меня медленно. Не с силой – с правом. Будто я уже дала согласие давно, где-то между его взглядом и его тишиной. Будто он просто возвращался туда, откуда не хотел уходить.
Каждое движение было точным, уверенным, как у человека, который не ищет удовольствия, а возвращает его. Он не двигался, как мужчина, который хочет. Он двигался, как тот, кто знает.
Волнообразно. Внутрь. Глубоко. Потом почти исчезая – чтобы снова наполнить. Он не трахал. Он вымывал из меня накопленную дрожь. Смывал страх быть брошенной. Выталкивал из тела всё, что копилось годами: тревогу, неудовлетворённость, нужду быть «нужной».
Он не говорил ни слова. Только дыхание. Только пальцы, которые прижимали мои запястья к подушке – не как кандалы, а как привязь к реальности.
И в какой-то момент я заплакала. Тихо. Без крика. Просто текла. И он не остановился. Он двигался во мне, пока я не вырыдалась, не выгорела, не осталась пустой.
И в этой пустоте он наконец кончил. Глубоко. Долго. Без звука. Только его тело дрогнуло, как волна, накрывшая берег. И я почувствовала, как снова становлюсь собой. Не женщиной, которая живёт в бегстве. А телом, которое было возвращено домой.
Я плакала. Тихо. Не потому что было больно. А потому что впервые за долгое время мне не нужно было ничего объяснять.
Он провёл пальцем по моей щеке, смахивая слезу, потом – опустился к бедру, поцеловал. И начал снова. Медленно. Глубже. С уважением, будто я – священное.
Это была не страсть. Это было соединение. Как будто в этом акте мы оба пытались сохранить себя.
Утро пришло не светом, а дымом. Солнечные лучи, просеиваясь сквозь резные ставни, рассыпались на мою кожу, как золото в песке. Тело болело приятно – как после долгой, освобождающей тренировки. Или как после шторма, в котором не умерла, а вынырнула другой.
Он сидел на корточках у очага, подогревая остатки мескаля, смешанного с какими-то травами. На его спине – узор: змеи, перья, огонь. Живой пейзаж, выжженный в теле. Я наблюдала, как двигаются мышцы под татуировкой – как будто кто-то внутри продолжал рисовать.
Мы не говорили. У нас больше не было языка, привычного разговорам.
Он подошёл ко мне с чашей и дал отпить. Горечь обожгла язык, пронеслась по пищеводу, как ветер по пустыне. Я закрыла глаза. Видения были короткими, как вспышки: мои собственные руки, покрытые краской. Мужчины, которых я хотела забыть. Мать, у которой я так и не спросила, была ли она счастлива.
Когда я открыла глаза, он стоял передо мной с иглой в руке.
– Последнее, – сказал он.
Я кивнула. Он не спросил куда. Сам выбрал место – чуть ниже груди, слева. На том самом ребре, которое, если верить мифам, стало началом женщины.
Игла входила медленно. Он не торопился. Как будто хотел, чтобы я запомнила каждый укол. Это не было больно – это было истинно. Каждый прокол – как зарубка: "ты была здесь", "ты выжила", "ты заслужила новую плоть".
Когда он закончил, я подошла к зеркалу. Тонкая линия, похожая на перо. Или пламя. Или живую ветку.
– Что это? – спросила я впервые за всю ночь.
– Отпечаток, – ответил он. – Теперь ты не уйдёшь из себя.
Мы снова занялись любовью. Но теперь – не для очищения. А для сохранения.
Как будто он понял: я могу снова исчезнуть.
Раствориться в своих маршрутах, чужих телах и стерильных гостиницах.
И решил – оставить метку. Внутри. Глубоко.
Он не спросил. Просто притянул к себе, как тянет к себе инстинкт – сильный, первобытный, немой.
Схватил за затылок, вонзил взгляд в мои глаза – и вошёл. Резко. Грубо. Как в бой. Как в возвращение.
Я ахнула – не от боли, от напора. От того, как точно он знал: мне это нужно.
Не ласка. Не тишина. Не медленные волны.
А сила. Давление. Как будто только так можно впечатать новую версию меня в кости, в кровь, в память.
Он держал меня за бёдра – с такой жадной жестокостью, будто боялся, что я исчезну под ним.
Толчки были быстрые, хищные, на грани.
Я шептала что-то бессвязное, хваталась за простыни, за его плечи, за всё, что удерживало в реальности.
Он трахал меня – не как тело. Как страх. Как бегство. Как память.
Чтобы я не смогла сбежать от него. От себя. От того, кем стала в эту ночь.
Иногда он останавливался. Не вынимая. Смотрел на меня.
И в этих паузах было больше власти, чем в движении.
Он не говорил. Но я слышала всё:
– Ты будешь помнить.
– Ты не забудешь, каково это – быть живой.
– Это не мимолётно. Это настоящее.
И снова двигался. Быстрее. Глубже. Сильнее.
До тех пор, пока я не начала задыхаться. От желания. От страха. От невероятной близости, которую не просила – но впустила.
Он поймал мои руки, прижал к кровати.
Запястья дрожали. Колени были раздвинуты так, будто он разламывал меня изнутри.
И в этом было всё: страсть, тревога, спасение, голод.
Я почти кричала. И он тоже. Без слов. Сквозь зубы. Сквозь кожу.
Это был не секс. Это был акт метки.
Как зверь меченый. Как женщина, которую пометили, чтобы не потерять.
Когда он кончил – он не остановился.
Он оставался во мне, пока дрожь не стихла.
И только потом отпустил руки.
И посмотрел.
– Я запомнила, – прошептала я. – Всё.
Он кивнул. И только тогда поцеловал. Не в губы – в висок.
Туда, где начинается память.
На прощание он не сказал ни слова. Просто обвязал мою руку кожаным ремешком с бусиной. И жестом указал на дверь.
Я вышла. На улице уже начиналась жизнь: женщины с корзинами, продавцы жареных кузнечиков, дети, бегающие с криками. Я шла по рынку, ощущая, как новая татуировка ноет под кожей, как будто ещё жива.
В этот раз я не чувствовала потери. Я чувствовала якорь.
Меня коснулись. Не мимоходом. А по-настоящему. До глубины. До боли. До памяти.
На побережье я добралась автостопом. Сначала – старый пикап с вмятинами и ароматом кукурузных лепёшек. Потом – пара на мотоцикле, с уставшими от солнца глазами. Последний участок я шла пешком – босиком, по раскалённой земле. Сумка тянула плечо, как якорь, а в ребре ныло – будто тату всё ещё продолжало рождаться.
Пуэрто-Эскондидо встретил меня ветром. Он бил с моря, солёный, упругий, насыщенный дыханием океана. Здесь не было ни студий, ни клубов, ни баров с дешёвым мескалем. Только дикие волны, рыбаки, и дома из бамбука, вплетённые в холмы. Вокруг – песок, закат и люди, которые не спешили.
Я сняла хижину с гамаком и соломенной крышей. Сбросила сандалии, одежду, мысли. Осталась – просто телом. Обожжённым, покрытым солью и следами рук. Села на берег и смотрела, как мальчишки режут волны на досках, как собаки ловят крабов, как солнце медленно погружается в океан, словно гигантское, уставшее от мира сердце.
А потом спала до следующего вечера.
❝…Он играл на гитаре, пил текилу из горлышка и был слишком красив, чтобы быть безопасным❞
Я приехала в Гвадалахару после Оахаки – выжатая, покрытая бинтами и солью, как свежее мясо. Казалось, я оставила в той студии часть кожи, сознания, памяти. Вышла оттуда с татуировкой на ребрах и ощущением, что теперь я не просто женщина – я легенда в своей собственной коже.
И мне нужно было не исцеление. А грохот.
Гвадалахара – шумная, хриплая, как старый блюз. Здесь не спрашивают, кто ты. Здесь сразу отвечают телом. Я сняла комнату над баром, где по вечерам играли живые группы, а утром на подоконнике скапливались окурки, бутылки и тени ночных разговоров.
Первую ночь я не спала. Сидела на балконе, пила что-то похожее на мескаль и слушала, как за стенкой трахаются – с гортанными криками, с ударами тела о стену, с ревом какой-то латиноамериканской баллады. Это не было пошло. Это было живо. Голодно.
И я захотела того же. Только громче.
На второй день я надела платье без нижнего белья. Просто чтобы чувствовать ветер между ног. Просто чтобы тело вспомнило, кто тут главный.
Город тянулся под ногами – жаркий, как язык. Улицы – как гитарные струны: с натяжением, с трещинами, с ритмом. Я шла туда, куда гремела музыка. Не в клуб. В подвал. В дыру в стене. В маленький бар, где на стенах были обрывки винила, а в воздухе – пот, табак и что-то острое, как лайм.
Он стоял на сцене – босой, в чёрной майке, с гитарой, будто это не музыкальный инструмент, а продолжение его позвоночника.
Когда он посмотрел на меня, это не было взглядом. Это было признанием.
Даже не глазами. Пальцами. Он провёл по струне – и задел меня между ног.
После второго трека он спустился со сцены и подошёл ко мне.
– Ты издалека, – сказал он.
– Я отовсюду.
– Я не люблю девушек, которые приезжают и сразу уезжают.
– А я не люблю парней, которые думают, что могут выбирать.
Он засмеялся. Резко. Сухо.
И потянул меня за руку.
– Тогда пойдём. Я покажу тебе Гвадалахару, которой ты не забудешь.
Мы вышли через чёрный вход. В переулок, где пахло мокрым кирпичом, грязью, кожей и финиками. Там стояли пустые ящики от пива и двухъярусные мусорные баки. Где-то играла музыка. Где-то – кричали. А он уже прижимал меня к стене.
Я не спрашивала имени.
Я не протестовала.
Я просто прижалась бедрами к его бедрам, потому что с таким телом не спорят. Его руки скользили по моим бёдрам, под платье, в щель между ним и моей спиной. Он держал меня, как инструмент: точно, в такт, с нажимом. Я задыхалась – не от страха, от возбуждения.
Он знал, что делает.
И мне это нравилось слишком сильно, чтобы искать оправдания.
Он задирал моё платье, хватал за бёдра, как будто собирался поднять – и поднял. Я обвила его ногами, прижалась к нему и прошептала, прикусив мочку уха:
– Скажи мне что-нибудь. Не обязательно красивое. Главное – честно.
Он чуть усмехнулся, скользя рукой вверх по внутренней стороне моего бедра:
– Ты выглядишь, как человек, который всё контролирует.
– И?
– И сейчас ты отпустила. И это красиво.
Я втянула воздух сквозь зубы, когда он нашёл точку, где я уже давно пульсировала от желания.
– Ты это часто говоришь? – выдохнула я.
– Нет. Я вообще мало говорю, когда так. Я больше делаю.
И он начал делать.
Я текла, как тёплый соус.
Он ел меня руками. Я вжималась в стену, шершавую, как старая плитка, пока его пальцы не нашли мой клитор. Он давил на него, пока не почувствовал, как я извиваюсь. Как будто мне больно. Но мне было – мало.
Он вытащил свой член. Без слов.
Без подготовки.
Только короткий взгляд:
– Готова?
– Да, – ответила я.
– Тогда держись.
Я чувствовала, как он входит – не нежно, не постепенно, а будто прорывается сквозь границы. Меня не трахали, как женщину. Меня трахали, как идею. Как протест. Как музыку, которую не выключишь.
Мои стоны тонули в ночи.
Он двигался, как будто гнал ритм – бедрами, ртом, пальцами. Я царапала его плечи, я вцепилась в его волосы. И когда он начал сжимать мою грудь, кусать соски через платье, я закричала. Не от боли – от правды.
Он кончил в меня. Или рядом. Не помню.
Я потеряла сознание через минуту.
Он подхватил меня, как барабан. И понёс.
– Ты не издалека, – сказал он. – Ты отсюда. Просто раньше не знала.
Я проснулась в комнате без дверей.
Только проём в бетонной стене, через который лился свет.
Рафаэль сидел у окна, играл на гитаре – как на мне, как будто я всё ещё была под ним. Аккорды были не про любовь. Они были про выживание.
Я лежала на тонком матрасе. Подо мной – плед. На мне – синяки, запах текилы, след от его зубов на ключице.
– Ты играешь, как будто молишься, – сказала я, не открывая глаз.
– Ты стонала, как будто умерла.
– Может, я умерла.
– И воскресла. На юге. В Гвадалахаре.
Он отложил гитару. Встал. Подошёл. И лёг рядом. Мы смотрели в потолок.
– Почему ты вчера сказал, что я отсюда?
Он не ответил сразу. Потом потянулся к пачке сигарет, закурил, затянулся – и дал мне.
– Потому что ты не туристка, – выдохнул он. – Ты не ищешь безопасность. Ты не боишься запахов. Ты идёшь к огню, а не от него.
– Я устала бояться.
– Тогда ты пришла в нужный город. Здесь никто не боится. Здесь или любят, или убивают. Иногда – одновременно.
Он посмотрел на меня, как в первый раз. Не глазами. Телом. Всё в нём снова захотело меня – я это почувствовала кожей.
И, кажется, я тоже. Потому что лежать рядом с Рафаэлем и не трахаться – это как пить мескаль и не заедать солью.
Он не спросил. Просто повернул меня на живот.
Медленно, почти бережно. А потом – дёрнул за бёдра и раздвинул ноги.
– Я снова хочу услышать, как ты исчезаешь.
Я исчезала.
С каждым толчком – в пол, в жар, в себя. Его член входил в меня так, будто пытался вытащить наружу всё, что я зажала в себе за последние годы. Он бился обо мне, как ритм, как город, как улицы, по которым мне было уже всё равно идти или не идти.
Он не трахал – он насаживал. Как на шампур.
Я стонала, как в полупустом храме. Не от грязи – от очищения.
Рафаэль держал меня за волосы, за шею, вжимал лицом в матрас, пока я не потеряла счёт движениям.
Я орала. Я плакала. Я текла.
И он замер.
– Посмотри на меня, – сказал он, вытащив член. – Я хочу видеть, как ты кончаешь.
Я перевернулась. Лежала на спине, дрожала. Он встал на колени между моих ног. Плюнул на пальцы – и начал тереть мой клитор, быстро, чётко, в ритме города.
Я взорвалась. Так, что матрас подо мной промок. Так, что тело больше не принадлежало мне.
Рафаэль лёг рядом.
– Останься на пару дней.
– А потом?
– А потом ты снова будешь издалека. Но я всё равно буду знать – ты отсюда.
Я ушла утром. Невыспанная, всклокоченная, с ссадинами между ног, с мятой рубашкой Рафаэля на теле.
Гвадалахара пекла.
Вонь рыночных улиц, старые лепнины, горячая плитка под ногами. Женщины с разрезами до бедра, мужчины с глазами, как у волков. Всё пульсировало. Всё было похоже на секс.
Я зашла в кафе, заказала кофе и лимонную воду. Хотела забыть.
Не Рафаэля – себя с ним.
Такую открытую, мокрую, послушную. Такую, что смотрит в зеркало и видит не лицо, а след от его ладони на шее.
Я бродила весь день.
По рынкам. По старым площадям. По дворам, где играли дети, и по лавкам, где продавали ножи.
Я хотела стереть вкус его пальцев изо рта.
Не смогла.
И ближе к полуночи я услышала.
Гитару.
Рафаэля.
Где-то между баром и чердаком, где пьют стоя, курят марихуану, вываливаются из окон.
Он пел, хрипло, на грани голоса. Я не поняла слов. Но тело вспомнило ритм.
Я стояла в темноте, у стены. И тогда он сказал, не оглядываясь:
– Я знал, что ты не уедешь.
Я подошла. Молча.
Он взял меня за запястье, повёл в переулок – тот самый, где стены облуплены, мусор под ногами, и пахнет спермой, табаком и жаром.
– Рафаэль…
– Тсс.
Он прижал меня к стене.
– Я просто хочу снова тебя. Снова здесь. Снова так.
Он опустился на колени, раздвинул мне ноги, откинул юбку.
Я стояла босая, на грязной плитке. Моча и мескаль, граффити и дыхание ночи.
А он ел меня снова.
С жадностью, как будто хотел стереть мой день.
Губы скользили по моим складкам, по клитору, по внутренней поверхности бедра. Я была на грани – и орала. По-настоящему. С хрипом, с падением головы назад.
Он встал.
Член – тугой, мокрый от собственной слюны.
Он схватил меня за шею, прижал к стене, вошёл – резко, на всю длину.
Я застонала так, что где-то вдалеке лаяли собаки.
Он трахал меня стоя.
Как будто я шлюха. Как будто он платит – всем, чем может.
Он трахал меня сзади, держась за мою грудь.
Потом повернул, поднял на руки – и вонзился снова.
Ноги обвили его талию. Стена за спиной тёрла кожу, пальцы – выжимали бёдра.
Мы были в ритме Гвадалахары. Грязной. Шумной. Сладкой от греха.
– Я запомню твою плоть, – прошептал он мне в ухо. – Как запах после грозы.
– А я забуду твоё имя. Но не то, как ты трахался.
Мы рухнули на землю. Грязную.
Рафаэль сел, я – сверху. Каталась по нему, как по жеребцу.
Он хватал меня за зад, за волосы, за всё. Мы были безумны. Без остатка.
Я кончила дважды.
Он – один, но мощно. В меня.
Потом обнял.
Просто. Тихо. Без слов.
Город шумел за стенами.
Он вытирал мне лицо подолом своей рубашки.
И сказал:
– Ты останешься со мной ещё одну ночь?
– Только если ты снова трахнешь меня, как будто прощаешься.
– Я никогда не прощаюсь. Я оставляю отметки. Навсегда.
Он сказал это с усмешкой, и я не знала – это обещание или угроза.
Но знала одно: я не могу не остаться.
Мы сидели на плоской крыше старого дома. Под ногами – остывшая глина, в руках – бутылка мескаля, между нами – остатки разговора.
Он перебирал струны, играя тихо, не всерьёз, просто заполняя паузы.
Город шумел внизу: машины, псы, пьяные крики. Всё было дико и живо. Как мы.
– Почему ты играешь? – спросила я.
– Потому что не умею говорить.
Я усмехнулась.
– Но со мной ты говоришь.
– С тобой – да. Потому что ты тоже без слов. Только кожа. Только взгляд.
– А ты что читаешь по моей коже?
– Грусть. Но не такую, которая ноет. А ту, что горит.
Он взял меня за руку. Пальцы у него были грубые, но уверенные.
– Ты ведь не просто путешествуешь. Ты бежишь.
– Может.
– От кого?
– От себя.
Я ожидала реакции. Вопроса. Шутки. Но он только кивнул.
– Я тоже. – он протянул мне гитару. – Хочешь попробовать?
– Не умею.
– Всё умеешь, если чувствуешь. Музыка – как секс. Главное – быть в ритме.
Я приложила пальцы к струнам. Он обнял меня сзади, положив ладони на мои.
– Вот так.
– Так?
– Угу. Но вместо аккорда – ты. И я.
И он целовал меня в шею.
Губами, языком. Медленно. До дрожи.
Я откинулась на него, как будто была настроенным инструментом.
Он наигрывал меня.
И я снова поняла: он ведёт, я отдаюсь. Без защиты.
Потому что, чёрт возьми, иногда просто нужно сгореть.
Он уложил меня на крышу.
Рубашка распахнута.
Я без белья.
– Трахни меня, Рафаэль, – сказала я хрипло. – Как в последний раз.
– А если это правда последний?
Я не ответила.
Он встал на колени, снял штаны.
И вошёл в меня, как нож в спелую грушу.
Медленно.
Жёстко.
С натиском, который говорит: «Ты моя. Сейчас. Вся»
Он трахал меня на фоне звёзд.
Город гудел под нами, как старая акустика.
Он стонал – низко, басом, у самого уха.
Я отвечала: выдохами, царапинами, ногтями в его спине.
Я гладила его грудь, кусала плечо, впивалась в губы.
Он поднимал меня, поворачивал, ставил на четвереньки, входил снова.
Без слов. Только кожа, жар и звук тел.
Мы занимались любовью так, как делают это перед смертью.
С отчаянием. С красотой.
Он запомнил мои складки. Я – вкус его слюны.
А потом мы лежали.
Он курил. Я смотрела на его спину.
– Мне пора, – сказала я.
– Знаю.
– Не спросишь – куда?
– Это не важно.
– Почему?
– Потому что запах твоего тела всё равно останется у меня в пальцах.
Он проводил меня до такси. Без объятий. Без поцелуев.
Я обернулась – он уже снова играл.
Рафаэль.
Музыкант. Хулиган.
Мой краткий, грязный, настоящий шторм.
А я – снова в пути.
С запахом его пота на себе.
С отметкой на бёдрах.
С памятью, которая жжёт сильнее любого прощания.
Я не люблю рассказывать о себе. Предпочитаю, чтобы меня узнавали через пальцы. Через спину, на которую ложится рука. Через голос, которым я стону, когда наконец отпускаю.
Но раз ты читаешь мой дневник – слушай.
Меня зовут Анжела. Тридцать два. Родилась в Питере. Больше десяти лет назад уехала в Москву и больше не возвращалась. У меня там умер отец. А с ним – и всё, что связывало с понятием «дом».
Мать вышла замуж снова – за мужчину, который знал, как воспитывать: голосом, кулаками, холодом. Я рано поняла, что быть девочкой – это быть должной. Улыбаться, не спорить, не мешать. Или тебя просто вычеркнут. Или сдадут. Как мебель в комиссионку.
Я выжила.
Закончила универ. Психология. Смех, правда? Как будто можно помочь другим, когда тебя саму по ночам срывает в панике.
Вышла замуж и… но это другая история.
Работала. Потом открыла инвестиционный портфель – крипта, стартапы, пара удачных выходов. Деньги пришли тихо, быстро и надолго. Теперь я не работаю. Я просто еду.
Мир – мой офис. Мужчины – моя валюта.
Почему я плачу телом?
Потому что боль нужно вытаскивать. Иначе она зарастёт под кожей, станет камнем.
Потому что трах – это не всегда про секс. Иногда – про память. Иногда – про освобождение.
Потому что я хочу чувствовать, что жива.
Я не ищу любви. Любовь – это обещание, что ты останешься, даже когда станет трудно.
Я не готова к этому.
Я выбираю острое. Мимолётное. Но настоящее.
Каждый мужчина во мне что-то оставляет. След. Отпечаток. Ноту. Синяк.
Я коплю их как татуировки на теле. Иногда больно, но красиво.
Я не принадлежу ни городу, ни дому, ни человеку.
Я принадлежу только себе.
И этой дороге, в которой я снова становлюсь собой.
Мексика: когда некуда бежать – остаётся чувствовать
❝…Он читал стихи и гладил мне волосы, как будто был уверен, что я сломана. А я просто устала от шума❞.
Я приехала сюда в вечерней тишине.
После Гвадалахары – как будто вынырнула из танца, пьяная и вся в чужих пальцах. Здесь никто не кричал. Никто не оборачивался. Никто не требовал быть интересной.
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – город, в котором шепчут даже стены.
Он пах дымом, кукурузой и ветром из сосновых гор.
Я сняла комнату в старом доме с внутренним двориком, где цвели багряные цветы, и никто не торопился менять простыни.
Местная хозяйка, синьора Ана, дала мне шерстяной плед и посоветовала заваривать чай с листом лайма на ночь.
Я кивнула, как будто это действительно имеет значение.
В первый день я почти не выходила. Я просто лежала на деревянной кровати и слушала, как ветер толкает ставни.
В этом городе я впервые поняла, как звучит собственное дыхание, если замолчать на целый день.
Он будто нашёл меня сам, когда я совсем перестала звать.
На третий вечер я встретила его.
Случайно. Конечно.
Я зашла в книжный – единственный открытый после семи. Внутри пахло кожей, кофе и дождём. Он сидел в углу у окна, с книгой в руках, и читал вслух.
Не ради кого-то. Ради себя.
Тихо, будто молился. Или звал кого-то, кто уже не придёт.
– Это Неруда, – сказал он, не поднимая глаз. – Хочешь, я прочту тебе стихотворение о том, как касаться женщины, будто касаешься редкой породы дерева?
Я молча кивнула.
Мне не нужно было больше слов.
Он читал. А я чувствовала, как что-то во мне медленно оттаивает.
Как будто до этого всё было слишком громким. Слишком резким.
А здесь – тишина была ласковой. И даже возбуждающей.
Он не спросил, откуда я.
Не посмотрел на грудь.
Не попытался угадать, с кем я спала до него.
Только спросил:
– Ты умеешь отдыхать рядом с мужчиной?
– Нет.
– А спать после?
– Никогда.
Он улыбнулся, будто уже знал ответ.
Потом мы просто гуляли. По булыжным улицам. Под дождём. Он не пытался меня коснуться. И от этого я хотела его больше, чем всех до него.
Утром я снова пришла в книжный.
Он уже ждал.
Со вторым томом. С двумя чашками кофе.
С той же тишиной в глазах.
И я поняла: в этом городе можно возбуждаться от того, что тебя не трогают.
Пока ты не попросишь.
Пока сама не подползёшь ближе.
И я поползла.
Он не тронул меня ни в первый вечер, ни во второй.
Я приходила, он уже был. Мы сидели рядом, и между нашими телами оставалось пространство – как уважение. Как вызов.
Он читал вслух, а я слушала, замирая на каждом слове, будто эти стихи кто-то когда-то вырезал мне на рёбрах.
Иногда он ставил винил. Старая, шуршащая "Buena Vista Social Club", как фон к безмолвной исповеди.
Иногда он ничего не включал – только чай.
И мы сидели, как будто у нас впереди не ночь, а вечность.
Его звали Томас.
Он работал в маленьком книжном магазине на углу, где пахло пыльными страницами, кофе и дождём.
Он был из тех, кто не смотрит в телефон, когда с тобой говорит. Из тех, кто ставит закладку, а не загибает страницы. Из тех, кто читает по глазам – и цитирует стихи, не ломаясь и не играя в загадочного.
Он знал, что я устала.
Знал, что я бегу.
Не спрашивал, откуда. Не пытался укротить. Только смотрел. Так, как будто мог разглядеть моё сердце сквозь кожу.
– Ты не одна, – сказал он однажды, когда я, не выдержав, положила голову ему на плечо.
– Я всегда одна, – ответила я, не открывая глаз.
– Нет. С тобой – твоя тишина. Она держит тебя за руку.
Я не знала, как на это ответить. Поэтому просто дышала. Впервые спокойно.
На четвёртую ночь я пришла к нему в комнату.
Без слов.
В той же юбке, что была вчера. Без макияжа. Без защиты.
Он стоял у окна, босой, в серой хлопковой футболке.
Я остановилась на пороге.
Он не пошёл навстречу. Не сорвал с меня одежду.
Он подошёл и стал медленно снимать с меня палтье. Как будто я могла разбиться. Как будто каждая пуговица – это признание.
– Я не сломана, – сказала я вдруг, сама не зная, зачем.
– Я знаю, – он провёл пальцами по моим волосам. – Ты просто забыла, как звучит собственное имя, когда его произносят шёпотом.
Он коснулся меня – не груди, не бёдер – а шеи.
Пальцами. Лбом. Ладонью.
Это не было прелюдией. Это было… возвращением.
Я развернулась к нему спиной. Он понял. Расстегнул пуговицы, не торопясь, как будто каждая – за все те разы, когда меня раздевали быстро, грубо, потому что «не терпелось».
Он не трахал меня.
Он медленно входил, будто боялся нарушить ритм моего дыхания.
Я лежала на боку, лицом к стене, и чувствовала, как его бедро прижимается к моим ногам.
Его ладонь – под моей грудью.
Его рот – у самой ключицы.
Он двигался медленно. Почти незаметно. Как будто мы были не в сексе, а в ритуале.
Как будто возвращал меня в тело, от которого я столько лет бежала.
Никаких слов.
Никаких звуков.
Только дыхание, как молитва.
Он не кончал долго. Долго. А я – тихо, без крика, без сцены, без театра.
Я просто вытекала. Из себя. В него.
И, впервые за много лет, не хотелось бежать после.
Он обнял меня, и я не дернулась. Не отстранилась. Не сказала, что мне надо в душ.
Я осталась.
Заснула в чужих руках. Без страха. Без планов.
И мне ничего не приснилось.
Потому что сон сам был мечтой.
Я проснулась от того, что кто-то гладил мне волосы.
Не тревожно. Не назойливо.
Как будто проверял: на месте ли я.
Как будто кто-то знал, как много лет я просыпалась в пустых постелях, которые не спрашивали, где ты была.
Он лежал рядом – и просто смотрел.
Слишком близко, чтобы не чувствовать моё дыхание. Слишком спокойно, чтобы это было ловушкой.
– Доброе утро, – сказал он, и в его голосе не было желания. Не было требований. Только тепло.
– Ты всегда такой? – спросила я, не открывая глаз.
– Какой?
– Как будто ты здесь. По-настоящему.
Он усмехнулся.
– Это редкость, да?
– Да, – ответила я. – Обычно мужчины приходят, чтобы взять. Или чтобы забыться. Или чтобы доказать себе что-то.
– А ты? – спросил он.
Я посмотрела на него, медленно.
– А я прихожу, чтобы исчезнуть.
Он не ответил. Только провёл пальцем по моей щеке.
Так, будто я была фреской, выцветшей от времени.
Мы пили кофе молча.
На балконе. Город просыпался, и вместе с ним – я.
Но не та, которая уехала из Гвадалахары. Не та, что теряла сознание от удовольствия в переулке.
Другая.
– Ты часто спишь с женщинами, которых не трогаешь два дня? – спросила я, не глядя.
Он усмехнулся.
– Нет. Ты – первая.
– Почему?
– Потому что ты приходишь не телом. Ты приходишь тенью.
Я нахмурилась.
– Что это значит?
– Ты была здесь, но не была. Как дым. Как эхо. Я ждал, когда ты придёшь полностью.
Я замолчала. Не потому, что обиделась. А потому что он оказался прав.
Я всегда оставляла себя за дверью.
Он не брал меня. Он ждал.
И я, впервые за долгое время, не бежала от этого ожидания. Оно не давило. Оно… звало.
Он не сказал мне, что я красивая. Не спросил, чем я зарабатываю. Не коснулся, пока я сама не подошла ближе.
Томас был как вода в глиняной чаше – неяркий, но нужный.
– Уезжаешь? – спросил он, не глядя.
Он стоял у окна, расстёгивая рукава на рубашке, как будто готовился не к разговору, а к чему-то гораздо большему.
– Да, – сказала я. – Уже заказала такси.
– И не собираешься остаться ещё на день?
– А зачем?
Он обернулся.
Я шла к выходу босиком – и он меня остановил.
Без слов. Просто подошёл сзади, взял за запястье и развернул.
Я почувствовала, как в животе сжалось – не от страха, от предвкушения.
Он смотрел на меня, будто уже видел, как я стону, выгибаюсь, царапаю ему плечи.
И будто знал, что я не уйду.
Я не ушла.
Он прижал меня к стене – не грубо, но крепко.
Я подняла руки, и он сорвал с меня платье – всё так быстро, будто я горела, и это было единственное спасение.
Губы были горячими, как перец в местном марте. Целовал меня жадно, будто хотел запомнить вкус, пока не стёрся.
А потом склонился к шее и прошептал:
– Сейчас. Только ты и я. Без имен. Без будущего. Только настоящее.
Он взял меня на руках и отнёс к кровати. Опустил, расправил ноги, сел на край и посмотрел.
Просто смотрел.
Долго.
– Не трогай меня глазами, – прошептала я. – Трогай руками.
Он улыбнулся и провёл ладонью по внутренней стороне бедра. Медленно, терпеливо. Как будто под ним была скрипка, а не я.
– Здесь хочешь? – пальцы коснулись нижней части живота.
Я кивнула.
– А здесь? – губы прошлись по соску.
Я задохнулась.
– Везде.
Он вошёл в меня без лишних слов – сразу, плотно, глубоко.
И начал двигаться так, будто знал моё тело не хуже, чем я сама.
Медленно. С ритмом. С уверенностью того, кто не торопится, потому что знает, чем это закончится.
Я выгибалась, хваталась за него, тонула в этом темпе, будто каждая толчковая волна смывала с меня всё лишнее.
Он держал меня за волосы и за шею – точно, без боли, но с ощущением, что я вся – в его руках.
И шептал:
– Ты настоящая. Ты теплая. Ты не бежишь. Не сейчас.
А потом ускорился.
Жёстче. Сильнее.
И я почувствовала, как всё сжалось внутри, как будто ядро треснуло.
Я закричала.
Низко, глухо, без стыда.
Он не остановился.
Двигался в том же ритме, пока я снова не кончила.
И только потом – уже почти ласково – поцеловал меня в висок и остался внутри.
Нам было нечего говорить.
Слова были лишними.
Он просто держал меня, пока дыхание выравнивалось.
Пока мир, наконец, становился тихим.
Я уехала.
Без сцены. Без драмы. Без «мы ещё увидимся».
Он не пытался остановить. Только кивнул – и смотрел, как я ухожу вниз по лестнице, будто спускаюсь из облаков обратно в шумный мир.
Я не обернулась.
Но его прикосновение – мягкое, будто крылом – ещё долго оставалось на моей коже.
Он не оставил синяков. Не оставил царапин.
Он оставил тишину.
А она – дольше всех.
❝…Он говорил о чакрах, но трахал меня так, что закатывались глаза❞.
Я приехала в Тулум как в бред. После тишины Сан-Кристобаля – словно меня вышвырнули в мир, где всё кричит: тела, краски, музыка, воздух. Даже волны, будто настроенные на техно, били в берег с чётким ритмом.
Я вышла из такси босиком – потому что так было нужно телу. Потому что туфли казались кощунством на этой земле, где каждый второй – шаман, а каждый третий – диджей на детоксе.
Я сняла комнату в эко-вилле, где из крана текла вода с привкусом соли, а вместо двери была плотная штора из мешковины. Хозяйка – француженка с сединой в дредах – встретила меня фразой:
– Здесь мы не едим мясо, не говорим о боли и не носим часы.
– А если я хочу всё это сразу?
Она посмотрела внимательно.
– Тогда тебе сюда и надо.
Тулум был телом и духом. Слишком жарким. Слишком сексуальным. И это раздражало.
Я хотела быть над этим. Умной. Ироничной. Недоступной.
Но уже через полчаса после приезда я лежала на пляже, вся в соли и поте, слушала, как на соседнем мате какой-то парень говорит девушке:
– Ты должна дышать сердцем.
А она отвечала:
– Я пытаюсь, но оно как будто сжато.
И я поняла: я такая же.
Меня звали на рейв – у моря, под полной луной.
Меня звали на церемонию какао.
Меня звали на дыхательные практики с тантрическим массажем.
Я выбрала всё.
На третий день я встретила его.
Лео.
Имя, которое хочется шептать. Или царапать на спине ногтями.
Он был… слишком красив. В этих местах это подозрительно. Я сразу подумала: или гуру, или подонок.
Оказалось – и то, и другое.
Он подошёл, когда я лежала на подушках после практики "отпускания стыда". Мои ноги были раскрыты, глаза – закрыты. Я дышала. Или делала вид.
Он присел рядом.
– У тебя зажат четвертый центр.
– Там, где солнечное сплетение?
– Там, где ты боишься любить.
Он провёл пальцами по моему животу. Осторожно, без давления. Как будто читал меня на ощупь.
– Тебе нужно открыть тело. Тогда придёт душа.
Я хотела посмеяться. Но рот уже был полуоткрыт – от жара, от стыда, от того, как медленно и нагло он приближался.
В тот же вечер мы ушли вместе.
Я не спросила, где он живёт. Я просто пошла за ним – как идут за звуком, который что-то во мне знает.
Он жил в хижине у самого берега. На стене висели мандалы, на полу – выцветшие ковры, в воздухе смешались мускус, пот и масло пачули. Сетка над кроватью колыхалась от ветра, а я стояла посреди его пространства, босая, в мокром платье и с сердцем где-то между лопатками.
Он смотрел на меня в полутьме, облокотившись о дверной косяк.
– Ты всё время на грани. Хочешь быть собой?
Я усмехнулась и сняла с плеча лямку.
– А я не "собой" сейчас?
Он медленно подошёл ближе. Его голос был спокойный, хриплый, как будто он говорил не вполголоса, а внутрь.
– Ты – красивая история, которую ты сама себе рассказываешь. Умная, страстная, свободная. Но я вижу, как ты замираешь в паузах.
Я смотрела ему прямо в лицо.
– А ты кто тогда?
Он провёл пальцем по моему плечу, вдоль ключицы. Почти ласково. Почти.
– Я тот, кто хочет трахать тебя в этих паузах. Между фразами. Между твоими выдохами. Пока ты не решишь, кто ты на самом деле.
Я не ответила. Только шагнула ближе. И сорвалась.
Он целовал меня медленно. Сначала губы – не торопясь, как будто пробовал. Потом шею – горячо, с нажимом, будто хотел оставить след. Потом грудь – нежно, с жадностью, с этой проклятой мексиканской одержимостью, в которой не было места разговорам.
Но потом… потом он стал другим.
Как будто вошёл в меня не членом – а волей.
С усилием.
С намерением.
Он держал меня за бёдра, как будто я могла сбежать.
Он входил резко, как вопрос, на который нет ответа.
И я ловила кайф от боли.
Потому что боль не враг.
Боль – свидетель.
Она знала, через что я прошла. И теперь подтверждала: да, ты всё ещё живая.
Он не говорил. Только дышал. Глубоко. Как будто считал меня дыханием.
Я выгибалась, просила больше, громче, жёстче.
Он бился в меня, как в закрытую дверь.
А я – открывала. Всё.
И боль. И прошлое. И горло. И влагалище.
В какой-то момент я поняла: я уже не я.
Я – энергия, которая застревала годами, а теперь наконец-то двигается.
Я – вода, которую несли в ладонях, но пролили.
Я – тело, которое перестало притворяться умом.
Я кончила, сжав его между бёдер, как последний шанс на возвращение.
Он застонал, но не ушёл. Он остался во мне. До конца. До дрожи. До слёз.
А потом мы лежали.
На ковре, среди свечей и запаха сырой земли.
Он гладил мою руку и шептал:
– Я слышал, как твоё сердце задышало.
И я поверила.
Потому что больше ничего не осталось.
После той ночи я проснулась в синих простынях, покрытых пятнами масла и нашей с ним соли. Было чувство, будто внутри меня осталась пустота в форме его тела. В Тулуме это называют «энергетический разрыв», а в Мехико – просто «переебалась не с тем».
Я же знала: я трахалась не с Лео, а с собой. Той, которую боялась выпустить.
Он спал, раскинув руки, как Иисус, только на шелке. Его грудь поднималась размеренно. Он дышал, будто действительно умел это делать сердцем.
Я встала. Голая. Пропитанная потом, без следа макияжа, но – странно – красивая. Как будто что-то внутри расправилось.
Я нашла зеркало. В деревянной раме, местами погрызенной солью и ветром. В отражении – я. С разметавшимися волосами, с царапинами на бедре, с влажным блеском на губах.
– Вот ты, – сказала я себе, и вдруг захотелось заплакать.
Я ушла, не разбудив его.
Ноги вели на пляж. Песок щекотал, ветер бил в уши тёплым лаем. Я не чувствовала одиночества – чувствовала присутствие.
Своё.
На завтрак я заказала мача-латте и авокадо на безглютеновом хлебе.
Рядом за столиком сидели две женщины лет сорока. В модных кимоно, с камнями на шее. Та, что с длинными чёрными волосами, говорила:
– В прошлой жизни он был моим сыном, я это сразу поняла. Поэтому мы не спим. Только обнимаемся.
Я подавилась.
Тулум.
Днём я пошла на ретрит.
Он назывался «Очищение линии женского рода через сакральное тело».
То есть ты сидишь в кругу с другими женщинами, нюхаешь ладан и рассказываешь, как тебя обидела мать.
Потом танцуешь с завязанными глазами и визуализируешь, как из матки выходит боль всех поколений.
Я делала это.
Меня звали в круг по имени.
– Анжела.
И сразу несколько женщин прошептали:
– Красивое имя.
Да. Но не моё. Я давно уже жила с этим именем, как с образом.
Анжела – та, кто путешествует, трахается и ищет Бога между ног.
В кругу была одна женщина – Вита. Она плакала, когда говорила.
– Меня не трахали год. Никто. Я чувствую, как моё тело умирает от этого.
Я посмотрела на неё. И впервые за долгое время не почувствовала ни жалости, ни превосходства. Только желание обнять.
Но мы не обнимались. Мы кричали.
Прямо в лесу.
На полную грудь.
– А-а-а-а!
Я тоже.
Я орала всё, что копилось:
На мужчин, которые в меня входили, но не оставались.
На себя – которая делала вид, что ей не больно.
На отца – которого нет даже в этих дневниках, потому что его нет нигде.
Потом был ритуал с глиной. Мы мазали ею свои тела, словно воссоздавая заново. Кто-то плакал. Кто-то дрочил.
Я просто смотрела на свои пальцы. Тёмные, влажные, скользкие. И думала: а ведь этими руками я трогала вчера Бога.
Вечером вернулась к Лео.
Он стоял на берегу. Одетый в лён, без обуви.
Он повернулся ко мне:
– Где ты была?
– Искала истину между влагалищем и сердцем, – со злостью сказала я.
Он кивнул.
– Нашла?
– Угадай.
Он подошёл. Коснулся губами моего лба.
– Тогда ты готова ко второму дыханию.
На этот раз мы не спешили.
Он связал мне руки шарфом.
– Чтобы ты не мешала себе чувствовать.
Я не сопротивлялась.
Он накормил меня клубникой с сыром. Клал на язык.
Смотрел, как я глотаю.
– Ты умеешь быть покорной?
– Я умею быть настоящей.
– Это опаснее.
Он водил пальцами по моей груди, будто читал молитву.
Каждое касание – как послание.
Каждое движение – как вызов.
Он вошёл в меня медленно, сдержанно – как будто прислушивался, как звучит внутри меня его движение.
Не торопился. Не требовал. А чувствовал.
Его тело было горячим, как песок под утренним солнцем, и каждая точка его прикосновений отзывалась у меня гулом где-то под рёбрами.
Но с той силой, от которой ломается всё лишнее.
– Ты хочешь забыть, – сказал он, двигаясь во мне.
– Я хочу раствориться.
– Тогда не держись.
Я отпустила. Всё.
Свои страхи. Свою гордость.
Свою роль той, кто всегда всё контролирует.
Я просто была.
С ним.
С собой.
С небом, которое рушилось за окном.
Он скользнул глубже – и я выгнулась навстречу, будто моя кожа сама искала его. В этот момент я перестала быть женщиной с прошлым, с болью, с решениями.
Я стала телом. Желанием. Теплом. Реакцией.
Он двигался во мне размеренно – точно, упруго, будто знал мою глубину.
Его бедра толкались в мои, не спеша, но властно. Руки обвили мою талию, поднимали, прижимали, удерживали, не давая сбежать ни в мысль, ни в воздух.
Он смотрел на меня, не моргая, будто сам удивлялся, что это происходит не во сне.
Я чувствовала, как всё внутри заполняется им – не только физически.
Как будто он подбирал ритм к моему сердцу, нажимал на мою боль и превращал её в желание. Каждый толчок выбивал остатки контроля, лишние слова, маски.
Я цеплялась за его плечи, вгрызалась в кожу зубами, ловила губами его дыхание, слышала, как он сдерживает стон, и это только разжигало меня сильнее.
Он ускорился, и я вскрикнула – от удовольствия, от резкости, от свободы, которую чувствовала в его руках. Его член входил во мне глубоко, уверенно, с той грубой, но честной силой, которой мне не хватало всё это время. Он трахал меня так, будто хотел вытрясти из меня весь шум. И я позволила.
Мои бедра двигались в ответ, я впивалась ногами в его спину, я дышала рвано, как после бега.
Я была открыта, жадна, текла от желания, и он знал это.
Он вошёл в меня особенно глубоко – и я закричала, не сдерживаясь.
Он рычал в ответ, напрягался, как натянутая тетива, и я чувствовала, как его тело готово разорваться от напряжения.
Оргазм накрыл меня, как удар волны. Без предупреждения, с жаром, сжатием, распадом.
Моё тело выгнулось, губы приоткрылись, но не было слов – только дыхание.
Он пришёл сразу за мной, с тихим стоном, с хрипом где-то изнутри, с дрожью в руках, с лбом, уткнувшимся мне в грудь.
Мы не говорили. Мы просто лежали, мокрые, слипшиеся, растворённые друг в друге.
Потом мы сидели на полу. Он гладил мои связные руки.
Я спросила:
– А ты любил кого-нибудь? Или твоё призвание "исцелять" женщин?
Он ответил:
– Я люблю жизнь. И секс.
Я молчала.
Я всё ещё трахалась, чтобы исчезнуть. А не жить…
Но уже знала, что путь – не в исчезновении. А в присутствии.
И в том, как ты дрожишь, когда тебя держат – не за волосы, а за душу.
В Тулуме ночь начинается не с темноты, а с ритуала.
Мы сидели на пляже, босиком, обнажённые под кимоно, вплетённые в шум прибоя и дым копала.
Рядом с Лео была девушка – Яру. Индейская женщина с лицом старухи и телом серферши. Она не разговаривала, но дышала так, будто знала, как двигается вселенная.
Лео представил её как шаманку. Или жрицу. Или проводницу. Смотря, как на неё смотришь.
Он сказал, что сегодня откроется портал.
Что всё, что спрятано, – выйдет.
Что тело – это храм. Но не в смысле «его надо беречь». А в смысле «в нём происходят самые святые разрушения».
Я спросила:
– Что мы будем принимать?
Он сказал:
– Себя.
И засмеялся. Потому что это была ложь.
Мы принимали камбо – яд лягушки с амазонки, вызывающий очищение.
Сначала на плече делают маленькие ожоги, потом туда капают капли яда.
Ты начинаешь блевать.
Но не желудком – болью.
Прошлыми мужчинами.
Своим стыдом.
Плачем, который не дался в детстве.
Я чувствовала, как тело перестаёт принадлежать мне.
Я сидела на циновке, обмотанная леопардовым платком. В голове было гулко, как в церкви без света.
Лео держал меня за спину.
Яру стояла у костра, ритмично била в барабан.
Где-то рядом кто-то стонал. Кто-то смеялся. Кто-то рвал.
А я видела…
Себя.
Маленькую.
Сидящую на кухне, в уголке, с чашкой чая и глазами, полными чего-то, что мне теперь не выразить.
Я подошла к ней и спросила:
– Чего ты хочешь?
Она ответила:
– Чтобы меня любили и не уходили.
Я села рядом.
Обняла.
И сказала:
– Теперь я никуда не уйду.
Я плакала.
По-настоящему.
Плакала, как не плакала с тех пор, как стала Анжелой.
Лео трогал моё тело не руками – намерением.
Он не раздел меня, он снял с меня слои.
И с каждым – я становилась реальнее.
Он шептал на ухо:
– Это не секс. Это возвращение.
Я уже не знала, где я.
Подо мной земля дрожала, над головой рассыпались звёзды.
Он вошёл – не только в тело, но и туда, где я прятала себя настоящую.
– Не бойся.
– Я не боюсь.
– Тогда отпусти.
– Я не знаю, как.
Он прижал меня к песку, тёплому, живому.
Он двигался внутри меня с ритмом барабана.
Я кричала. Не от боли, не от страсти – от узнавания.
Это не было изнасилованием.
Это было обожествлением.
Он брал меня как дух, не как мужчина.
Он трахал не тело. Он трахал мою тень.
Я видела сны с открытыми глазами.
Себя на балконе в Париже.
Себя в вагоне в Сибири.
Себя, зажатую между ногами мужчины в Праге, и себя, молчащую в ванной в Москве.
Всё это было я.
И всё это вылетало из меня, как птицы.
А он продолжал.
Без слов.
Без пауз.
До тех пор, пока я не превратилась в ничто.
И только тогда – в всё.
Когда я очнулась, я лежала на его груди. Вокруг – круг свечей.
Он гладил мою голову.
– Ты прошла.
– Куда?
– Назад. К себе.
– Мне страшно.
– Это значит, ты жива.
Я смеялась. Он гладил.
И в этот момент я поняла – Лео не мой.
Он не любовник.
Он проводник.
Он не задержится.
Он уже уходит.
Он останется только в теле. В том, как я теперь буду дрожать от прикосновения.
В том, как я теперь слышу, когда ко мне прикасаются не так.
Утром он ушёл.
На песке остались только его отпечатки и сгоревший круг из свечей.
Яру сказала мне:
– Он никогда не остаётся. Он пришёл, чтобы ты увидела себя.
И я – увидела.
Грязную, настоящую, свободную.
Ту, что умеет не только убегать в чужие руки, но и быть в них не потерянной.
Я стояла на рассвете, голая, обмазанная песком и ладаном.
И чувствовала, как внутри меня разгорается что-то новое.
Не мужчина.
Не любовь.
А я.
Утро в Тулуме – это не свет. Это дыхание.
Оно приходит раньше солнца. Обволакивает кожу, пропитывает ткани, просачивается в кровь.
Я проснулась не в хижине, не в комнате, не в себе.
Я проснулась в моменте.
И впервые за долгое время – одна.
Без мужской руки на бедре.
Без смс «ты где?»
Без мысли, что надо срочно купить билет в следующий город, потому что здесь я уже всё.
Нет.
Я лежала в гамаке, пахла ладаном, потом и солью, и думала – а если я останусь?
Вчерашняя ночь была не про влюблённость.
Не про очередную попытку сбежать в плоть, чтобы не слышать, как внутри трещит душа.
Нет.
Это было принятие.
Грязное. Очищающее. Настоящее.
Потом меня пригласили на дневной рейв.
В Тулуме они начинаются на закате.
Сначала ты дышишь. Потом танцуешь. Потом плачешь. Потом орёшь.
Потом трахаешься.
Там было много тел.
Красивых, надутых, свободных, забывших, зачем пришли.
Там были люди, которых я уже не могла обманывать собой.
Они подходили, спрашивали имя.
А я говорила:
– Анжела.
И впервые в жизни не хотелось добавлять ничего.
Ни: «пишу книгу».
Ни: «инвестирую».
Ни: «лечу дальше».
Ни: «у меня был один, но он не смог».
Просто Анжела.
И этого хватало.
Меня заметил парень.
Хороший. Сильный. С красивой спиной и добрыми глазами.
Он протянул мне руку, я вложила свою.
Тело ещё помнило Лео.
Но сердце – уже нет.
Он пригласил меня танцевать.
И я пошла.
Не потому, что хотела его.
А потому что теперь я хотела себя.
Мы танцевали.
На песке, босиком, в ритме, который шёл не из колонок, а изнутри.
Я вертела бёдрами, как девочка.
Смеялась.
Падала.
Он ловил.
И это был не флирт.
Это было напоминание, что я не обязана быть ни желанной, ни нужной, ни сильной.
Только – живой.
Вечером я пошла к морю.
Голая, как рождение.
С волосами, в которых всё ещё был дым.
Я заходила в воду медленно.
Как в жизнь.
Море было тёплым.
Тело откликалось на каждую волну.
Я позволяла воде трогать меня так, как не позволяла мужчинам.
Без цели.
Без давления.
Без сценария.
Я ложилась на спину и смотрела в небо.
И впервые за долгие месяцы мне не нужно было доказывать ничего.
Ни мужчинам.
Ни читателям.
Ни матери.
Ни тем, кто ушёл.
Ни тем, кто остался, но не понял.
Я – просто была.
Дышала.
Жила.
Ночью я сожгла свою красную записную книжку.
Ту, в которой были телефоны мужчин, которых я хотела забыть.
Письма, которые не отправила.
Страницы, где я проклинала себя за то, что снова влюбилась.
И снова потеряла.
Пока страницы сворачивались в огне, я шептала:
– Благодарю.
– Благодарю.
– Благодарю.
Это не было отречением.
Это было прощением.
Я прощала себя – за то, что столько раз путала секс с любовью, притяжение с судьбой, страсть с истиной.
Я не стану другой.
Я не стану «лучше».
Я – такая.
И этого теперь хватит.
Через три дня я уеду дальше.
У меня уже есть билет. Далеко.
Но теперь это не побег.
А путь.
Я не знаю, что будет дальше.
Я не знаю, кого встречу.
Но теперь я знаю точно:
Я – не пустота, которую кто-то должен заполнить.
Я – океан.
И вход туда – не для всех.
❝…Он царапал меня зубами и смеялся, пока волны били по телу. Этот секс не был про страсть – он был про выживание❞.
Я приехала в Пуэрто-Эскондидо как будто в драке с собой.
После Тулума мне казалось, что я обнулилась. Стерлась. Превратилась в эфир, который не пахнет и не весит.
Мне больше не хотелось говорить. И уж точно – никому ничего объяснять.
Только сжечь.
Здесь не было эзотерики, как в Тулуме.
Не было чайных церемоний и мантр.
Только ветер, который срывал одежду с балконов, и океан, который бил в грудь, как агрессор, а не как утешитель.
Здесь не медитировали – здесь сражались. С волнами. С телами. С похмельем.
Я сняла комнату в хостеле, где кровати скрипели даже от взгляда.
Маленький номер на крыше, под самым солнцем.
Кругом были серферы, рейверы, тусовщики на автопилоте, которые не спрашивали: «Как ты?» – а только: «Ты где сегодня вечером?»
Именно там я впервые увидела его.
Он сидел на перилах, босой, с доской под мышкой, с волосами, как у старого дьявола: солёные, сбившиеся в жгуты.
Кожа тёмная, как будто он вылез из солнца. Тело сухое, хищное. Шрамы на животе. Тату на плече – старая надпись, почти стёртая.
Он не улыбался. Он сканировал.
И я почувствовала: он не ищет знакомства. Он ищет вызов.
– Ты новенькая? – спросил он, даже не посмотрев.
– Ты меня ждёшь?
Он усмехнулся.
Он не сказал, как его зовут. И я не спросила.
Потому что с первого взгляда поняла – это будет не история. Это будет серия травм. Вкусных, нужных, глубинных.
Позже была вечеринка.
Дом на склоне, бармен с татуированными пальцами, музыка в живот, не в уши.
Кокаин в туалете. Поцелуи на лестницах. Сексуальная анархия.
Я нашла его на крыше.
Он сидел, скрестив ноги, и курил. Вокруг – огни, крики, вибрация. А он – будто в дзене. Или в охоте.
– Хочешь научиться держаться на доске? – спросил он.
– Хочу держаться на тебе, – ответила я.
Он выдохнул дым. И медленно встал.
– Пошли.
Мы шли по пляжу. В темноте. Ветер бил по щекам, как пощёчины.
Он снял футболку, бросил её в песок. Я сделала то же самое.
Море было чёрным, бешеным. Волны – как удары. Холодно, страшно, мокро.
И мы вошли в воду.
Он схватил меня за руку.
– Держись. Не бойся, если накроет. Просто доверься течению.
Он не про серфинг. Он про нас.
Мы не занимались сексом.
Мы дрались.
С языками, с руками, с телами.
Он кусал меня. Я царапала его спину. Мы падали в песок и снова поднимались.
Он вбивал в меня бедрами, будто хотел стереть. А я позволяла.
Секс был животным.
Беспощадным.
Бесправным.
Он смеялся, когда я кусала его за плечо.
Я стонала, когда он шептал мне в ухо.
Он трахал меня стоя, лицом к океану.
Волны били по нам.
Я задыхалась – от воды, от страсти, от ненависти к себе, которая вдруг выливалась в оргазм.
Я кончила, не осознав, как.
Моё тело трясло. Он держал меня за бедра, крепко, как якорь.
А потом шептал на испанском. Что-то бессмысленное. Или, наоборот, самое главное.
Мы легли на песок. Мокрые, солёные, вывернутые.
Он закинул руку за голову и сказал:
– Ты странная.
– Не пытайся понять. Просто трогай. Так у тебя лучше получается.
– Хочешь еще?
Я ответила, улыбаясь, не глядя:
– Если хочешь ты – бери. Только крепче.
Я засмеялась. Громко, с надрывом.
И я вдруг поняла, что именно это – самое честное.
Этой ночью я не спала. Говорить с ним было не о чем.
Он ушёл.
Я осталась на песке, глядя в звёзды, с солёной кожей и сбитой шеей.
Это не было про роман.
Это было про доказательство.
Про то, что я живая. Всё ещё.
Что тело – это язык. А боль – просто акцент.
Его звали Луис. Он успел мне рассказать о себе.
Ему было за тридцать. Он родился в Оахаке, но уже десять лет ловил волны в Пуэрто-Эскондидо. Утром – океан, днём – бордшоп, ночью – все, кто не выдержал солнца и подошёл слишком близко.
Я пришла к нему босая, с выгоревшими волосами, в мокром белье под платьем. Он открыл дверь, посмотрел на меня и даже не удивился.
– Думаешь, продержишься здесь? – спросил он, разглядывая мои колени, покрытые пылью.
– Где – здесь?
– В городе, где всё сначала бьёт, а потом гладит. Как волна. Или ты.
Я не ответила.
Он отступил внутрь и жестом позвал.
Дом был как он сам – минимальный. Бетон, дерево, вентилятор на потолке. Матрас прямо на полу, рядом куча досок, полотенца, песок в углу, и запах дыма, манго, пива и чего-то, что не хотелось называть безопасным.
– Не снимай платье, – сказал он, подойдя ко мне. – Оно рвётся красиво.
Я стояла на цыпочках – и всё равно была ниже. Он взял меня за шею, не сильно, просто чтобы почувствовать, где заканчивается голос. Его губы были шершавыми от соли. Его зубы – слишком острыми, чтобы назвать это нежностью.
Он толкнул меня к стене. Не жёстко. Но с уверенностью. Поймал мой взгляд и сказал:
– У тебя тело, как разбитая доска. Вся в шрамах, но всё равно держит волну.
– А ты как волна. Нахлынешь – и смоешь.
Он усмехнулся, вжимаясь в меня. Сквозь платье – уже было видно, как он встал. Он поддел подол пальцами, приподнял, и просто толкнулся в меня – через трусы, через ткань, через всё, что отделяло меня от безумия.
Я застонала. От неожиданности, от того, как легко это было. Он зажал мне рот ладонью и прошептал:
– Здесь всё громко. Но не ты. Ты должна звучать только для меня.
Он развернул меня, прижал к стене, сорвал трусы с хрустом и вошёл в меня так резко, будто это был последний заход солнца. Ни слов, ни церемоний. Как будто секс – не прелюдия, а способ остаться живыми.
Его рука сжимала мою талию, вторая – держала за волосы. Он трахал меня грубо, ритмично, так, как бьют волны о скалы: с расчётом, но без пощады. Я вцепилась пальцами в бетонную стену. Мне было всё равно, что там – грязь, пыль, острые крошки камня. Я хотела его, хотела себя с ним – в этой силе, в этой дерзости, в этом сексе, который не просит разрешения.
– Ты не отдыхаешь, ты сражаешься, – прошептал он.
– Я не умею иначе.
– А я тебя научу. Но не сейчас.
Он вышел из меня, развернул лицом, поднял меня – и я обхватила его ногами. Он вошёл снова, глубже, ещё сильнее. Спина ударялась о стену с каждым толчком, а он смеялся мне в ухо – не от насмешки, а от ярости момента.
– Ты – как волна в середине шторма. Ни на что не похожа. Ни от кого не зависишь.
Когда я кончила, я не кричала. Я дрожала. Сжалась на нём, как будто пыталась впустить внутрь всю его дикость, чтобы сохранить её, пропитаться, не забыть. Он дошёл до конца быстро, с глухим стоном и укусом в шею. Это был не оргазм – это было крушение.
Он опустил меня на пол. Сел рядом. Молча.
Мы дышали, как будто вынырнули. Из-под воды. Из себя.
Через минуту он встал, достал из холодильника два пива, сел напротив и сказал:
– Ты когда-нибудь стояла на доске?
– Нет.
– Завтра утром – мы пойдём. Посмотрим, как ты держишься на настоящей волне. Не только в постели.
Я улыбнулась. Мне не хотелось говорить. Только снова дышать – глубоко, полной грудью, с разбитой шеей, исцарапанной спиной и ощущением, что это был не секс. Это было крещение. Без благословения, без святой воды. Только соль. И пульс.
Мы катались утром.
Солнце ещё не стало палящим, но уже жгло плечи. Волны были ровными, не злыми, но требовали уважения. Луис дал мне доску и не дал инструкций – просто жестом показал вперёд.
Он смотрел на меня с берега – выжидающе, не вмешиваясь. Только когда я упала в третий раз подряд, он подошёл, провёл ладонью по моему позвоночнику и сказал:
– Не думай. Не контролируй. Просто поймай.
– Что?
– Себя.
Я встала. Поймала. На секунду. Но именно эту секунду я запомнила. Как будто тело вспомнило, что оно не только для секса, боли и выживания. Оно – для движения. И для полёта, пусть и над пеной.
Когда мы вернулись на берег, у нас не было сил говорить. Он провёл меня к шатру, натянутому между пальм. Простой белый тент, тень, старая ткань, плед на песке, подушки. Из колонок кто-то пел на испанском, медленно, бархатно. Сладкий запах кокосового масла и моря был густым, как мёд.
Я легла на живот, мокрая, уставшая, довольная. Волосы спутаны, кожа липкая, но мне было плевать.
Он лёг рядом, разглядывая меня. Потом наклонился, провёл языком по моей лопатке – и я вся вздрогнула.
– Ты тёплая. Солнечная. Дикая. Как будто море тебя сделало.
– Так и есть, – прошептала я.
Он не торопился. Облизал соль с моего плеча, прикусывая кожу, словно хотел распробовать, настоящая ли я.
Я перевернулась. Взгляд – в его глаза. Они были светлые, почти янтарные. Солнце проходило сквозь тент, отбрасывая пятна на нас, как через воду.
– Хочешь снова? – спросил он.
– А ты?
Он не ответил, спустил с меня купальник, медленно, будто разрывал договор с реальностью. Его пальцы были прохладными от бутылки с водой, и когда он провёл ими по внутренней стороне моего бедра, я чуть не застонала.
– Здесь? – спросила я.
– Здесь. Под небом. Под шум волн. Без стен, без вранья.
Он лег на меня. Вошёл – мягко, но глубоко. И я поняла – мы трахаемся, как будто продолжаем серфинг. Медленно, с ритмом, без спешки. Он чувствовал, как я двигаюсь, подстраивался, менялся. Водил пальцем по моему пупку, потом по груди, потом зажал сосок и тихо выдохнул мне в ухо:
– Ты всё ещё борешься. Даже здесь. Ты не на доске. Расслабься. Дай телу думать за тебя.
Я обвила его ногами. Почувствовала, как кожа скользит по коже, мокрая, горячая. Его член двигался во мне с таким сладким трением, что я едва сдерживала стоны.
Он трахал меня медленно, почти нежно, но не было иллюзий: это не про любовь. Это было про точность. Про то, как его тело сливалось с моим – с первого же касания. Его движения были не просто уверенными – они были танцем. Серфингом. Он шёл по мне, как по волне – чувствуя глубину, балансируя, двигаясь в ритме, который сводил с ума.
Я лежала под ним и смотрела, как красиво двигаются его плечи, как напрягается живот, как напрягается челюсть, когда он сдерживает стоны. Он держал меня за бёдра крепко, но не грубо – как доску, с которой нельзя слететь, иначе утонешь.
И я действительно тонула.
Он целовал меня не в губы, а в шею, в ключицу, в грудь – как будто ловилл волну и отпускал её. Всё было так телесно, так по-настоящему, что мозг просто выключился. Остались только ощущения. Его шрамы. Его солёная кожа. Его дыхание у меня на животе.
Когда он заходил глубже, я инстинктивно выгибалась навстречу – не для него, для себя. Чтобы почувствовать, что я живая. Чтобы проверить, могу ли я выдержать ещё. Чтобы быть на пике. Всё тело звенело от жара, от соли, от усталости, от желания.
Он шептал что-то на испанском, быстро, почти на грани стона, и я не всегда понимала слова, но понимала суть. "Qué rica", "no pares", "mierda, mujer", – и это было лучше любых признаний. Потому что правда.
Мои пальцы вцепились в его спину, ногти скользнули по пояснице, и я поняла, что накрывает. Не взрывом. А как прилив. Медленно, но сильно. Нахлынуло. Заставило замолчать. Сжаться. Расплыться.
Я не закричала. Я задохнулась. Глаза закрылись сами. Всё внутри дрожало. Я кончила – как будто растворилась в нём.
Он не отставал. Пару толчков – и я почувствовала, как всё его тело напряглось, как он вонзается глубже, держит крепче, и вдруг – выдох, хрип, почти болезненный стон. Он уткнулся лбом мне в шею и просто замер.
Никакой романтики. Только дыхание. Только соль. Только тишина внутри.
– Ты… – прошептал он, но не закончил. Я гладила его по спине – молча. Потому что мне было нечего сказать. Потому что я взяла своё. А он – своё.
Мы лежали на спине.
Море шумело где-то рядом.
Солнце проходило сквозь ткань, будто освещая нас изнутри. Всё казалось размытым, золотым, как будто мы были внутри сна. Я чувствовала, как песок прилипает к бедру, как его рука лежит на моём животе – тяжёлая, тёплая, спокойная.
– Я думала, выживание – это про борьбу, – сказала я, глядя вверх, в пляшущую тень от парусины.
Он повернулся ко мне боком, положил голову на согнутую руку. Его голос был глубоким, немного хриплым после секса.
– Иногда – про отдачу, – ответил он.
Я молчала. Он смотрел на меня внимательно. Не как на женщину, которую только что трахал. А как на человека, который сам себе – загадка.
– Когда ты борешься, ты сжимаешься, напрягаешься, – продолжил он. – А когда сдаёшься – становишься водой. Протекаешь, обтекаешь… живёшь. Как сёрфинг.
Я тихо усмехнулась, не глядя на него.
– А ты, значит, вода?
– Нет, – он наклонился ближе, прошептал у самого уха. – Я огонь. Но сейчас – тушу себя тобой.
Я повернулась к нему лицом, подперев щёку рукой.
– Красиво сказал. Ты часто так говоришь женщинам, после того как кончаешь?
– Нет, – он прищурился. – Обычно они уже спят. А ты – как будто только проснулась.
– Я не умею засыпать после секса, – прошептала я. – Слишком много всего остаётся под кожей. Как будто что-то взяли, но не всё. Или отдали больше, чем хотела.
– Это про выживание?
– Это про меня.
Он замолчал. Потом протянул руку и провёл пальцем по моему ребру.
– Ты умеешь быть жёсткой. Но мягкость у тебя – как нож под подушкой. Только для своих.
– А ты кто?
– Я просто мужик, который трахнул тебя под шатром. Не ищи смысл. Иногда секс – это просто секс. Но если ты хочешь – пусть будет больше.
Я вздохнула.
– Пусть будет просто. Но честно.
– Тогда честно: ты – как хорошая волна. Больно, красиво и один раз.
И я закрыла глаза.
Без мыслей.
Без целей.
Только дыхание. И он.
Вечером мы вернулись в его дом. Без слов.
Солнце уже садилось, розово-оранжевое пятно расплёскивалось по небу, а волны били в берег с такой же ритмичностью, с какой он трахал меня раньше.
Луис снял с себя футболку и бросил на пол.
Я – купальник, уже высохший, тянувший кожу.
Он не смотрел мне в глаза.
И я не искала там ничего.
Он просто схватил меня за руку и повёл в спальню.
Небольшая комната, простыня – не белая, а сероватая, с запахом соли, табака и мужского пота. Всё здесь было не для красоты – для действия.
Он лёг на спину, закинул руки за голову и сказал:
– Давай.
Я села на него сверху, не спрашивая, не раздумывая.
Его член был твёрдый, тяжёлый в моей руке, как будто знал, зачем нужен.
Я ввела его в себя одним движением. Без подготовки, без нежности.
Плотно. Жадно. Сразу до конца.
Он выдохнул сквозь зубы, как будто это не тело, а рана, и она снова её открыла.
Я двигалась резко – будто хотела стереть себя об него.
Луис сжимал мои бёдра, оставляя синяки.
Потом стал толкать навстречу, сильно, жёстко, с ударами таза.
Он не стонал. Он дышал, как зверь.
Как будто каждый толчок – борьба.
Он бил в меня, что аж грудь подпрыгивала, а пальцы вжимались в его живот, пока я не задыхалась.
Потом резко меня перевернул.
Завалил на бок.
Поднял ногу – и вошёл снова.
Сбоку. Глубже.
Я скользила по простыне, держа за край матраса, как будто пыталась не сорваться.
Он царапал. Держал за горло.
Плюнул мне на спину, провёл пальцем вниз.
– Ты слышишь, как ты хлюпаешь? – шепнул в ухо.
– Да.
– Это всё ты. Ты хочешь. Ты вся хочешь.
Он вытащил, развернул меня на колени.
Встал сзади. Размазал мою смазку по попку и вошёл в неё аккуратно, медленно, не до конца.
Захватил волосы.
Мои лопатки прогнулись. И я почувствовала, как текут слюни от сладкой боли внутри моей дырочки.
Он бил в неё так, что грудь стучала о подушку.
Снова и снова.
Пока губы не стали немыми от криков, пока колени не горели.
– Говори, что тебе нравится, – прошипел он.
– Когда ты грубый.
– А ещё?
– Когда ты берёшь. Не спрашиваешь.
– Вот так?
И он брал меня снова и снова.
Жестко. Без тормозов.
Положил меня на живот. Раздвинул бёдра еще шире.
Стал входить медленно. До самой глубины.
А потом быстро. С ударами, со стуком, с ритмом, от которого я уже не могла сдерживаться.
Оргазм пришёл резко, без предупреждения.
Как волна, которую не видишь.
Я захрипела, закусила руку, выгнулась.
Он продолжал – не останавливался, пока не дожал. Пока не выдавил. Пока не выжрал всё, что можно.
Когда он закончил, сперма залила все внутренности. Он вышел – медленно, с шлепком.
Грудь вздымалась.
Я лежала, не двигаясь.
Вся в поту. В песке. В сперме.
Голая. Насыщенная.
Он сел рядом, закурил.
Он не обнял её.
Она не попросила.
Эта ночь не была про чувства.
Не про «мы».
Про сейчас. Про взять. Про пережить.
Я уснула позже, уже одна, у себя, укутавшись в простыню.
Но тело ещё долго будет помнить, как выживают по-настоящему.
Я не шлюха. Я не раненая.
Я просто женщина, которая знает цену своим шрамам.
И не даст никому снова переписать её историю.
Теперь каждый мужчина оставляет во мне след.
Но не голосом. Не признаниями. А телом. Укусом. Взглядом.
И, главное – молчанием после.
Я коплю их, как бусины на нити. Чтобы не забыть. Чтобы помнить, каково это – жить.
Я не строю отношения.
Я строю маршрут.
И каждый город – это напоминание, что я выжила.
Пусть и таким, странным способом.
И да, если ты спросишь меня, зачем я всё это делаю —
я не отвечу.
Я покажу.
Париж: мужчина с глазами старше времени
❝…Он был преподавателем философии. Старше её на 15 лет, с руками, пахнущими табаком и книгами. Она смотрела на его лоб, где время оставило складки, и думала: неужели ты тоже когда-то любил так, что не мог дышать?..❞
Я приехала в Париж в октябре, когда дождь не мокрый, а философский. Когда город выглядит так, будто только что перечитал любимого автора и теперь курит у окна, пытаясь понять, зачем всё это было.
Париж не бросался ко мне в объятия. Он наблюдал.
Осторожно, с достоинством.
Как мужчина, который уже был влюблён – и разочарован – слишком много раз.
Он встречал меня не запахом круассанов, а промокшими мостовыми и медленным ветром, который шепчет: «Здесь ты можешь быть любой».
Я сняла крошечную квартиру на последнем этаже старого дома в Марэ. С потолками, уставшими держать небо, и скрипучим полом, который знал больше, чем хотел рассказывать.
Окно выходило на черепичные крыши – будто грудь Парижа: тёплая, живая, с родинками дымоходов.
По утрам напротив открывалась булочная, и старушка с кудрявой собакой кивала мне, как будто мы встречались на этом перекрёстке в другой жизни, в другом теле.
В этой жизни я была Анжелой – тридцатидвухлетней женщиной без якорей. С лёгкой походкой, тяжёлым прошлым и намерением не влюбляться.
Хотя сама не была уверена, в каком порядке всё это идёт.
Я приехала в Париж не за любовью.
Я приехала за собой.
Писать. Дышать. И, может быть, немного исцелить душу, чтобы стало легче дышать телом.
Я думала, это будет история о тишине.
Но оказалось – это была увертюра.
В тот день я долго бродила по улицам.
Купила себе тёплый свитер цвета мокрого асфальта, зашла в кафе на углу и выпила эспрессо, не притрагиваясь к телефону. Просто сидела и смотрела, как город двигается – медленно, как мысль на рассвете.
Париж был полон одиночек, не спешащих быть вместе.
Именно поэтому здесь было так уютно быть одной.
Я свернула на улицу, где случайно заметила вывеску старого книжного магазина. Тот самый, где воздух пахнет страницами и временем, где никто не торопится, а книги лежат, как любовники – немного уставшие, но всё ещё полные огня.
Именно там я его и увидела впервые.
Он стоял у полки с философией, опираясь на стеллаж, будто держал спину не телом, а мыслями. Светло-серый свитер, брюки, которые не были модными, но сидели безукоризненно. И глаза.
Глаза, в которых было столько прожитого, что мне стало не по себе – как будто он уже знал, с чем я пришла.
Не в магазин. В жизнь.
Он протянул руку к Камю – в тот самый момент, когда я сделала то же самое. Наши пальцы соприкоснулись на корешке книги.
– Хороший выбор, – сказал он, глядя на меня не нагло, а как бы через. – Но больнее, чем кажется.
Его голос был низкий, чуть хриплый. Как голос диктора, который много курит и говорит только по делу.
Я улыбнулась. Но не по-женски, не заигрывая.
А как улыбаются те, кто пережил свою катастрофу – и остался стоять.
