Одна на всех Великая Победа
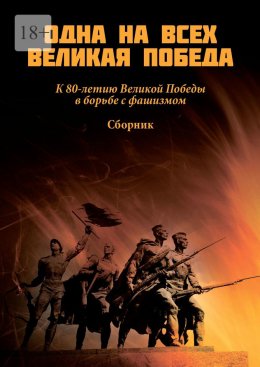
На обложке использовалась иллюстрация: фрагмент монумента «Героическим защитникам Ленинграда» архитекторов Валентина Каменского, Сергея Сперанского и скульптора Михаила Аникушина
Редактор-составитель Н. Г. Копейкина
ISBN 978-5-0067-0595-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга создана по инициативе
Интернациональной академии современной
культуры г. Москва
и
Московского союза литераторов.
Настоящий сборник составлен в ознаменование 80-летия Великой Победы над фашизмом и является данью памяти героизму многонационального советского народа, проявленному в годы Великой Отечественной войны. В нём представлены произведения современных авторов по тематике «Великая Отечественная война. Великая Победа».
Редактор-составитель
Копейкина Н. Г.
Слово редактора-составителя
Победа Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов имеет всемирно-историческое значение. Она в значительной степени определила дальнейшее развитие мировой культуры, мировой истории, мировой политики и мировой экономики. Как бы сложился мир, если бы не было Великой Победы, страшно представить. Но она была и есть. Война на территории Советского Союза не вписывалась в тщательно разработанный генералами гитлеровской армии план военного захвата Советского Союза – «План Барбаросса». Война на востоке очень отличалась от войны на территории западных стран. Советский народ порушил сложившиеся представления немецких солдат и военачальников о военном противнике. Гитлеровцы не ожидали, что на территории СССР их противником будут не только вооружённые силы Красной армии, противником их будет весь многонациональный народ. Упорная борьба против захватчиков шла не только на линиях фронтов, но и в тылу, и на территориях, захваченных фашистами. Победа в Великой Отечественной войне советскому народу далась нелегко и стоила она очень дорого.
В произведениях, представленных в настоящем сборнике, отражается правдивый взгляд современных авторов на события военных лет. Произведения изданы в редакции и корректуре авторов.
Нелли Копейкина
Наталья Артёмова
Курская обл., п. Медвенка
Посвящение деду автора
Арепьеву Григорию Ивановичу,
пропавшему без вести в декабре 1941 года
Там где-то в дали…
- Там где-то в дали, в невозвратной дали,
- Затерянный в недрах великой земли
- Лежит мой солдат, не пришедший солдат,
- Которого ждали когда-то назад.
- И травы над ним, совершая виток,
- Проснутся опять в свой назначенный срок.
- И будут они здесь богаче, сильней,
- Цветы медоносней и солнце щедрей.
- О, если б, о, если б, один только раз
- Мне здесь оказаться, хотя бы на час.
- В траву опуститься и молча застыть,
- Я б голос тогда, человеческий голос
- Услышала б там через буйную поросль.
- Сквозь толщи корней, их сплетенье слепое
- Я б сердцем услышала сердце другое.
- Но место затеряно это стократ
- В бушующем времени, в криках солдат.
- В том самом последнем, бессчётном бою.
- И я до него никогда не дойду.
«Разве они не поэтами были?..»
- Разве они не поэтами были?
- Те, что когда-то назвали «катюшами»
- Наши орудия бешеной силы,
- Злые орудия с русскими душами.
- Те, что в окопах за час перед смертью
- Сердцем к далёким сердцам обращались,
- Те, что вернуться не в страшных конвертах
- Самым любимым своим обещались.
- Те, что в аду, застилающем небо,
- Помнили непреходящие метки:
- Чистые запахи сена и хлеба,
- Яблонь посаженных белые ветки.
- Как эта память в бою их хранила,
- Как закаляла у волжской твердыни,
- Как она с ними в атаку ходила,
- Как расписалась на стенах Берлина!
- Память любви – бесконечная память,
- Вечная сила живого источника.
- Это она за собою нас манит
- И поднимает к поэзии подвига.
Ольга и Наталья Артёмовы
Курская обл., п. Медвенка
Герои, которых мы знали
Очерки разных лет
Так получилось, что в жизни нам выпало встретиться с несколькими героями Великой войны и о некоторых из них написать. Это были разные люди и разными были обстоятельства, при которых явили они образцы мужества. Анна Тимофеевна Соломонова – партизанская связная, пережившая допросы в фашистском застенке. Видевшая, как её брата и ещё одиннадцать человек немцы увели из каземата, чтобы живыми закопать в землю. Разведчик Иван Васильевич Дьяконов, трижды отмеченный самой славной солдатской медалью – «За отвагу». Пулемётчица Валентина Семёновна Канунникова, потерявшая на войне ногу, но сумевшая пройти хорошую, большую жизненную дорогу. Пограничник, в числе первых встретивший врага и участник битвы за Берлин, фронтовая медсестра и девчонка, угнанная на работы в фашистскую Германию… Их голоса и посейчас звучат в нас, то тихие, задумчивые, то громкие, гневные, то ликующие, победные. С тех огненных рубежей звучат: «Мы уходили с границы, а старики говорили нам: «Да как же?..» Женщины не то что плакали – голосили. А что мы могли?..», «Били резиновой дубинкой, начинённой свинцом: «Кого вы знаете из партизан? Назовите комсомольцев? С кем вы работали?..», «Не хотелось жить, но тут к нам в госпиталь приехал Алексей Маресьев…», «Танк движется на нас, и я чувствую: волосы под шапкой поднимаются. Одиннадцать снарядов «за молоком» послал, а двенадцатым я его так влупил, что он на 180 градусов повернулся и загорелся…», «Служу Советскому Союзу!», «Командир поднял руку: «Мы бьём по рейхстагу! Приказываю: снарядов не жалеть, а самим оставаться живыми»… Тихо листает память незримые страницы – и хочется громко, вслух перечитать их все!
Но сегодня мы решили рассказать три истории, вроде бы и не связанные между собой. Одна из них – о герое, получившем высшую награду Родины, медаль «Золотая Звезда», на поле брани. Вторая – о вдове в голодные, холодные годы, приютившей детей, которых война сделала сиротами. Третья – о женщине, взрастившей мечту погибшего солдата, и мечта эта через десятилетия расцвела в душе внуков песней. Подвиги бывают разными. Разными бывают герои…
Улица Николая Оловянникова
Это история человека, мальчишкой мечтавшего подняться к звёздам. Шли годы, и он обрёл крылья, и Золотая Звезда заблестела на его груди. А еще спустя долгие десятилетия, уже в двадцать первом веке, некий молодой человек взял в руки нож и попытался эту самую высокую награду Родины у ветерана отнять.
Но по порядку. Николай Ефимович Оловянников родился 22 декабря 1922 года в деревушке Медвенского района с неприглядным названием – Скотское. И жизнь была неказистая. Тяжёлая была жизнь. В 1925 году умер отец. Мать уехала на заработки в Донецкую область – в Константиновку. Коля с сестрёнкой Тоней остался под доглядом отцовых родителей. Незатейлив медвенский пейзаж, но небо… Ничего нет заманчивее для мальчишеского сердца, чем его раскрытые объятья. И потом, когда мать забрала детей в Константиновку, тяга к звёздам не ослабла – набрала силу.
Над страной летел крылатый призыв: «Молодёжь на самолёты!» В шестнадцать лет Н. Оловянников поступил курсантом в Артёмовский аэроклуб. Закончил его весной 1941 года и, радостный, по-юношески переполненный мечтами и планами, был отправлен домой ждать вызова для прохождения дальнейшей учёбы в школе пилотов. Будущий Герой не мог даже предположить тогда, какую лётную школу пройдёт. Уже шесть дней огненный вал войны катил по стране, когда Николай получил повестку. Провожал его на войну дед. Пожелал стать хорошим лётчиком, а главное – остаться в живых. Оба наказа его героический внук выполнил.
Ворошиловградская военная авиационная школа пилотов пережила все трудности огненного времени. Эвакуация в Уральск, когда десятки километров курсанты, голодные и холодные, одолевали пешком. Вот и на новом месте разместились, а легче не стало. Кормили плохо. Юноши сами готовили самолёты к полётам, сами их охраняли, несли на своих неокрепших плечах многочисленные хозяйственные заботы. Но они не жаловались. Все были комсомольцами. Стремились как можно быстрее закончить школу и попасть на фронт, чтобы самим участвовать в войне с фашистскими захватчиками.
Их мечта исполнилась горячим летом сорок третьего года. В июле Николай Оловянников вернулся на родную Курскую землю. Он пришёл сюда, чтобы отнять её у глумящегося над нею врага. Вернее – не пришёл. Прилетел. Младший лейтенант Оловянников являлся пилотом лучшего штурмовика второй мировой – Ил-2. Наши бойцы называли его «летающим танком». Немцы – «чёрной смертью». 12 июля 1943 года на Орловско-Курской дуге Оловянников получил боевое крещение. Он поджигал в небе фашистские «мессеры», поливал огнём артиллерию, бронемашины, живую силу врага на земле, чтобы небеса эти, манившие его в детстве, чтобы земля эта, по которой бегал он босиком, очистились от фашистской нечисти. Чтоб расцвели на ней Победа и мирная жизнь. За период Курской битвы Николай Оловянников совершил 15 боевых вылетов. Его первая награда, орден Красной Звезды, – за освобождение малой родины, Соловьиного края.
Впереди лежали небесные вёрсты войны. Н. Е. Оловянников освобождал Ельню, Смоленск, Оршу, Витебск. К августу 1944 года совершил 100 боевых вылетов. 26 октября ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сокол, родившийся на Медвенской земле, нёс свободу Польше, громил фашистов в Восточной Пруссии. Мастерство Оловянникова вошло во фронтовые легенды. Он теперь сам водил звено в бой. Одним из первых в дивизии освоил полёты на предельно малых высотах, что давало возможность внезапно обрушить огневую мощь на не ожидающего нападения врага. Летал над передним краем противника на высоте каких-то 5—10 метров! А следом летела смерть. Однажды подошёл к немецким позициям на высоте 6—7 метров. Ошарашенные гитлеровцы в панике забегали по окопам. Но вот враг ощерил зубы, ударил по краснозвёздному самолёту из автоматов, крупнокалиберного пулемёта. Оловянников принялся маневрировать и зацепил пропеллером о землю. Самолёт слегка затрясло. Еле дотянул до своих. Когда приземлился, увидел: все три лопасти винта согнулись. Командир полка хлопнул Николая по плечу: в рубашке родился, Герой! Если б хоть одна лопасть уцелела, самолёт от вибрации развалился бы в воздухе.
Близко-близко заглянули в холодные глаза смерти и друзья Николая Ефимовича. Их в полку трое было из Донбасса – Оловянников, Николай Штангеев и Василий Чичкан. Дружили сильно. Ну и летали неплохо. В полку даже шутка ходила, что не отлили ещё фашисты пулю на Штангеева, Чичкана и Оловянникова. Но в октябре 1943 года война (в который уже раз!) попыталась доказать, что она сильнее мужества и мастерства. Штангеев не вернулся с боевого задания. Что с ним случилось, никто не знал. Оловянников попросил разрешения вылететь на поиски в район, где мог находиться товарищ. Но ему отказали. А через неделю Николай вернулся сам. Оказывается, он был ранен в том бою. Чудом дотянул до нашей территории. Теряя сознание, посадил самолёт в поле. Не успели друзья порадоваться воссоединению, как пропал без вести Василий. В полку его считали погибшим. Но вдруг в марте 1944 года и он воскрес из мёртвых. Чичкан рассказал свою историю. Его машина была подбита. Он выпрыгнул из горящего самолёта и увидел бегущих к нему гитлеровцев. Отстреливался до последнего патрона. Тяжело раненным попал в концлагерь. Бежал под новый, 1944, год. Долго пробирался к своим и наконец вышел к белорусским партизанам. Народные мстители отправили лётчика самолётом на Большую землю. Оловянников, когда Василия увидел, хотел к нему подбежать, обнять. А ноги как онемели. Только и смог спросить: «Жив?..»
Воссоединившихся друзей щёлкнул тогда военный фотокорреспондент Михаил Захаров. К ним, «солдатам пера», было на войне особое уважение. Они, «с одним наганом первыми входившие» в освобождаемые советские города, знали, о чём писали. Корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов, оперативно доставивший в Москву материалы о первых днях войны, чудом вырвался из окружения под Могилёвом. Отдал жизнь за Родину Гайдар. Сотрудник армейской газеты «Отвага» Муса Джалиль до последних минут жизни не выпускал перо из рук. Петр Лидов, первым рассказавший со страниц «Правды» о подвиге Зои Космодемьянской, душу свою положил «за други своя» летом 1944 под Полтавой. Долматовский, работавший во фронтовой газете, раненым попал в плен. Бежал. А в 1945 году Долматовский был в Берлине. Видел, как начальник германского генерального штаба Кребс шёл с белым флагом к советским грозным частям. Журналист «Правды» Горбатов в столице Третьего рейха написал свою самую главную статью – о безоговорочной капитуляции Германии.
Корреспонденты и поэты, пехотинцы и летчики были единой армией. И сменив военную форму на гражданскую одежду, они продолжали также мужественно и бескорыстно отдавать себя Родине – воскрешали к жизни израненную страну, охраняли священный огонь Памяти. Долгие годы пламя это являлось нравственным маяком для убелённых сединами и юных. Но вот что-то нарушилось в нашей стране… Недавно к бывшему командиру звена 312-го штурмового авиационного полка Герою Советского Союза Николаю Ефимовичу Оловянникову явился молодой человек, представившийся корреспондентом «Красной звезды». Удостоверившись, что девяностолетний ветеран дома один, гость достал нож и потребовал: «Золото, деньги, Звезду Героя!» – всё вышеперечисленное он ставил на одну доску. Грабитель ушёл, унося с собою несколько тысяч рублей, муляж Золотой Звезды (оригинал, к счастью, оказался на хранении) и орден Ленина. Подонка не нашли. Вот такой, новый и неожиданный, поворот в истории о деревенском мальчике, взлетевшем к звёздам. Впрочем, такой ли уж неожиданный?
Не в одном ведь лжекорреспонденте дело. Сколько их в последнее время молодых людей, не нюхавших пороха, с ножом в руке идёт на военное наше прошлое. Могли ли предположить Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, 28 панфиловцев, что однажды явится близорукий компьютерный неандерталец и скажет, желая явить сенсацию: «Подвига не было»? Могли ли угадать, идущие на смерть батальоны, что и само самоотречение их будет рассмотрено соотечественниками под кривой лупой недоброжелательства и во всем найдены просчёты, грехи, ущербность? Знать бы останавливавшим немецкие танки пехотинцам, какой грязевой поток хлынет на советского солдата из новых фильмов, статей. И из потока этого выйдет некий молодой человек с ножом в руке и позвонит в квартиру Героя Советского Союза… А если бы знали? Всё равно бы отдали жизнь и за нас, чтущих великое прошлое своей страны, и за этих поджигателей и подрывателей. Потому что жизнь отдавали за Родину. Вот и Оловянников веры в молодое поколение не утратил. Часто встречается со школьниками, с призывниками. У этих встреч долгая история. С победного сорок пятого.
Демобилизовавшись, Николай Оловянников посетил родной Медвенский район, где выступил перед земляками. Потом махнул в ставшую не менее родной Константиновку. И новые встречи, новые выступления. Секретарь горкома комсомола спросил двадцатидвухлетнего Героя: «Вручили вам именной самолёт, который купили на деньги, собранные молодёжью Константиновки?» Земляки по трудовому рублю собрали нужную сумму, когда на груди Николая Ефимовича засияла медаль «Золотая Звезда». Послали телеграмму товарищу Сталину с просьбой купить на эти деньги Оловянникову самолёт и получили ответ, что просьба их будет удовлетворена. Улыбаясь, Николай ответил, что полк переучился на новые самолёты Ил-10. И у него есть такой новый самолёт. Но никогда на его фюзеляже уже не будет надписи: «ГСС Оловянникову от молодёжи г. Константиновка». Потому что война закончилась. И отныне будут новые, всё более совершенные самолёты. И он на них летать будет (Николай Ефимович впоследствии закончил Военно-воздушную академию). И высокое ясное небо будет. Войны не будет. Тогда жители Константиновки выступили с новой инициативой: назвать школу, в которой учился Оловянников, его именем. Но и тут не заладилось.
Накануне 70-летия победы в Курской битве мы разыскали в Москве Н. Е. Оловянникова (связь медвенцев с ним много лет назад была потеряна) и через районную газету предложили назвать одну из новых улиц посёлка именем Героя. Дабы не «распадалась связь времён», не вырастали дети наши бездушными негодяями, для которых в сочетании Золотая Звезда главное – цена металла. Дабы на улицах, носящих славные имена земляков, окунались они в первые, самые главные радости, постигали первые, самые главные уроки жизни, врастали корнями в эту землю, заглядывались в эти небеса, становились настоящими людьми.
Улица Николая Оловянникова будет.
Баба Настя
А была она уж совсем не похожа на героя. По прошествии долгих нерадостных лет видится она нам, как в легкой дымке, окутанная солнечным светом, льющимся через маленькие окошки деревенской её избы. Маленькая аккуратненькая старушка с удивительно добрым круглым лицом. Вся какая-то уютная, мягкая, славная. И доброту источает негромкий её голос. Слов за далью лет не разобрать. Только помнится, говорилось что-то хорошее, что-то важное, очень нужное, родное…
Баба Настя! Удивительная наша старушка! Давным-давно покоишься ты на старом, густо заросшем сиренью пойменовском кладбище, а в душе всё живешь, заключённая в золочёную раму истаявшего августовского дня. Не будь тебя, доброты твоей, и нас не было бы на свете, возможно. Впрочем, почему – возможно? Точно бы не было! Не явись этот светлый ангел в нужный срок, злой ветер чёрной беды унёс бы куда-нибудь далеко-далеко нашего отца. Но обо всём по порядку.
Баба Настя приходилась нам двоюродной бабушкой, а отцу нашему, соответственно, – тёткой. Это если формально следовать фамильным связям. На самом деле стала она отцу нашему матерью, строгой и доброй, такой, как могла стать – без хитрости, без книжной мудрости, без какой-либо задней думки, что где-то ей это когда-нибудь да зачтётся… Совершила в тяжёлую годину свой маленький подвиг – материнства. Хотя бывают ли подвиги маленькие? И так ли легко его ей было совершить?
От папиного отца, Артёмова Андрея Андреевича, осталась у нас только довоенная поломанная по концам, но удивительно чёткая фотография. Два красноармейца в будёновках как бы закуривают на фоне тяжёлого занавеса. На лице того, что справа, явственно проступают знакомые черты. Черты отца нашего, те, что мы ловим, бросая мимолётный взгляд в зеркало на себя. Красноармеец так серьезен, позируя фотографу, так юн. Совсем мальчик. Наш дед, так никогда и не ставший дедом.
Он пропал без вести в 1943 году под Смоленском. Уже позднее, когда начали возвращаться с боёв второй мировой израненные солдатики, когда вдовы стали стучаться к ним в окна чёрными кулаками: «Не видел ли мово где?..» – один из них сказал, что видел. И что видел рассказал. Ничего не скрыл от надломленной горем женщины. Выпустил страшную ледяную правду и в детский мир.
Рядовой Артёмов попал в концентрационный лагерь. Задумал с товарищем бежать. Но товарищ этот в последний момент испугался. А дед наш, уже пробравшийся за ограждение и верный слову, ждал, пока не схватил его немецкий патруль. «Били, издевалися», – так ясно звучит в памяти голос рассказывающего нам о давней трагедии отца. И сам он перед глазами – пятидесятилетний, зябко сжавшийся, какой-то маленький, беззащитный – сирота! «Били, издевалися…»
Мальчика в будёновке замучили в фашистском концентрационном лагере. Так невыносимо думать, что был он один на один со всем этим библейским ужасом. А на нестареющей фотографии он полон надежд и жизни, юн и старательно серьёзен, хотя любил веселый розыгрыш и шутку и, жизнь, конечно, тоже любил…
Мудрый, но не очень счастливый народ наш заметил: горе в одиночку не ходит. Вскоре снесли на погост и молодую вдову Катерину. Тяжелая склизкая глина, которой так много в наших местах под пластами чернозёма, засыпала натруженные руки и добрые глаза, ласку и тепло – мамку нашего папы засыпала! Остался он с младшей сестрёнкой Раей. Некоторое время дети хозяйничали самостоятельно. А хозяйствование – смех и слёзы. Папа был так мал, что чтобы вытащить горшок из остывшей печи, забирался в неё. В общем, сиротское житьё!
И вот тогда пришла тётя Настя – сестра сгинувшего в фашистской неволе Андрея. Быстрым рассеянным взглядом обвела ветшающий дом, погладила мимоходом сирот по опущенным головам – и забрала. Да. В голод, в продутые всеми стылими ветрами годы взяла вдова за руки двух ребят и привела в свой домишко. И стало в нём – семеро по лавкам! Нет. Не ради красного словца написано это. Ведь еще пять своих детей было у Авдеевой Анастасии Андреевны. Впрочем, и приёмыши стали своими. Когда через несколько дней приехали за сиротами из детдома, те дружно заголосили: «Не поедем!» При этом Рая судорожно, мёртво вцепилась в тётю Настю, а Витя – в её сына, своего ровесника, Акимку…
Давно это было. Очень давно. Уже беспощадная трава надёжно скрыла последний приют бабы Насти. Уже восемь лет нет папы. Но помнится, как на глупый детский наш вопрос: «А своих баба Настя больше любила?» – мотнул он упрямо густым чубом: «Одинаково относилась», – и в ярко-синих глазах его дрогнула обида на нас, дурочек несмышлёных.
«Относилась как к своим», – подтвердила тётя Рая нам же, но уже тронутым сединой, умудрённым жизнью, желающим как можно больше узнать о далёком своём прошлом, нити которого держат другие люди. Что свои, что приёмные садились рядком за стол и наслаждались вкусом картошки в мундире и молока с чёрным хлебом. Что свои, что усыновлённые трудились на огороде, пасли гусей, заготавливали сено… Наш отец нашёл ту заводскую проходную, которая и вывела в люди деревенского паренька (совсем как в любимой его песне!). Этой дорогой в большую жизнь стала проходная тогда славного полного созидательного шума Свободинского электромеханического завода. Здесь 40 лет проработал наш отец токарем. Неоднократно был победителем социалистического соревнования. Фотография его висела на Доске почёта. Он входил в профком, в совет директоров. Кровью обливалось его сердце, когда в годы перестройки всё меньше людей шло через любимую проходную и с натугой, с перебоями работало вчера ещё мощное сердце завода. Был наш отец горяч, скор на подъём. Очень уважал живое общение. Был удивительным мастером и любителем пошутить, разыграть. И хоть из-за изломанной судьбы своей получил весьма скромное образование, читал запоем. До последних минут жизни держал в руках книгу.
Тётя Рая нашла свою судьбу в Москве. Стала передовой ткачихой. Доросла до мастера. Была парторгом цеха. За ударный труд награждали бывшую босоногую пойменовскую девчонку в самом Колонном зале.
Каждое лето приезжала она с дочерью и мужем-кинооператором киностудии имени Горького из горделивой столицы в задремавшее у пруда с голосистыми лягушками Пойменово – к бабе Насте. Каждый август, как только поспевали вкуснейшие, пропитанные соком и солнцем груши дюшес, мы, нагруженные медоносными плодами, отправлялись к бабе Насте в Пойменово. И лился в маленькие окошки щедрый свет. И тихая старушка ласково улыбалась нам, добавляя ещё света, стремилась угостить: «А съешьте моего яблочка…»
Баба Настя… Баба Настя… Скромная героиня! До того, как усыновила она детей погибшего Андрея, уже раз совершила тот же самый подвиг материнства. В годы раскулачивания сослали в неизвестную гибель брата её мужа. Жена несчастного от горя покончила с собой. Двух их дочек и вырастила мама Настя – хрупкая женщина, инвалид, с трудом ходившая из-за покорёженной ноги. И такой интересный факт. Мать нашей героини, Мария Васильевна Артёмова, имея своих трёх детей, тоже усыновила ребёнка.
Давно это было. Очень давно. Так давно, что жизнь успела изуродоваться, измельчать, вывернуться наизнанку. В наш сытый век, через 70 лет после самой разрушительной, самой беспощадной в истории человечества войны, не видевшие жестокости её матери бросают ребятишек в роддомах, засыпают трепещущие тельца мусором в вонючих контейнерах, забивают младенцев до смерти…
А те женщины военных лет, исхудалые до прозрачности, с ног падающие от неженской усталости, выхаживали не только своих кровиночек, но и осиротевших ребятишек родственников, и совсем незнакомых людей. Чтоб зарубцевались кровоточащие раны в детских душах, чтобы в ту большую ждущую их жизнь вышли они людьми, знающими что такое дом и родное место, ни одна из них не съела лишнего куска, не купила себе не то что алых дешевых бус – новой рубахи, не подладила стареющую хату… Зачастую это были простые малограмотные бабы, хорошо знавшую только одну, но главную науку – человечность. Жаль, не нашли мы статистики, сколько же было таких Матерей в Советском Союзе в годы войны и сразу после нее. Жаль, что не давали этим героиням медали, не ставили памятники. Впрочем, как мы уже говорили, баба Настя никогда не считала, что совершила что-то необыкновенное. Ведь она просто любила брата, любила его детей. Любила нас…
Наследство
Последней погибла ёлка. Она держалась дольше других. И когда не стало уже медоносных лип, когда отзвенел серебристой листвою тополь, отсиял закатным золотом русский клён, отлепетала мелкими листочками осина, ушли куда-то в вечное небо ясеня, ёлка вскидывала ещё мощно тёмно-зелёные лапищи. Жила. Зачищенный снизу ствол смело уносил в невообразимую вышину треугольную макушку. Ёлка возвышалась над немаленьким нашим селом, единолично царила в лазоревом небе. Подъезжая к дому, мы видели её ещё с моста, за два километра. Тяжёлые ветви чуть опускались вниз, точно старая рука в приветствии: «Вернулись, блудные дочери. Надолго? Вернулись…» Мы всегда возвращались. Оторванные тяготами перестройки от родного гнезда, вынужденные искать работу в другом районе, мы рвались домой каждый свободный выходной, так весной неразумные травы и цветы рвутся сквозь тяжкую корку земли к свету. Так птицы верно возвращаются домой из далёких краёв. Впрочем, в нашем случае края эти были не такими уж и далёкими. Нам и самим удивительно, как какие-то жалкие семьдесят километров могут лечь чёрным полем тоски между большим, настоящим – и почти нереальным, вечно временным и, в общем-то, не нужным. Может, потому, что на месте работы 20 лет у нас только и было – душно-маленький номер в гостинице, скудно-бетонный вид из окна второго этажа и ни шага собственной земли. А дома нас ждал родительский дом, убегающие к горизонту просторы, на красоту которых никто никогда не предъявлял права и потому с младых лет мы привыкли считать их своими. А ещё был сад. Покой его, как исполинский страж, охраняла красавица ёлка. Это не был просто кусок возделанной земли со старыми деревьями. Он был самой красотой, верой и мужеством, силой и правдой, добром – тем, что столь же мощно сконцентрировано, пожалуй, только в сказках, храмах и песнях. Да он и был для нас ими! Сад-песня. Сад-храм. Сад-сказка. Сад-жизнь…
В 30-е годы двадцатого века здесь некрасиво горбатились глиняные рвы. И вот наш дед, Григорий Иванович Арепьев, получив неприглядность эту под усадьбу, начал возить благодатный чернозём. Потом ровными рядами насадил яблони и груши. Общим числом 33 штуки. А как только саженцы укоренились, занялся прививкой. У него оказались лёгкие руки прирождённого садовода. Дички принимали благородные соки старых сортов. А рядом, не мешая друг другу, нашли себе место кусты смородины, малинник, вишенник, сливы разных сортов, розы, малюсенькая ёлочка… Он много чего успевал, одарённый этот человек. Дед маслом писал картины, сам, своими руками, собрал радиоприёмник и слушал Москву, ходил на охоту, много фотографировал, в том числе бывший мужской монастырь Коренную пустынь. Он бы успел ещё больше! Но началась война.
Земляк, шедший с ним на призывной пункт, предложил вернуться в родные хаты, отсидеться под надежным кровом, выждать. Дед сказал: «Нет. Победа будет за нами». И каждый пошёл своим путём. Один – домой, потом конюхом в какие-то штрафные части, потом – опять домой. А дед наш – на фронт, к безвестной гибели в страшном 41-м году. Было ему тогда 35лет.
А дома ждали солдата мать, дочка и сынок, сад-малютка и любимая жена Пелагея Ивановна со всем этим хозяйством на руках. Вода находилась далеко – туда и обратно километра полтора. Нести ее нужно было на горку. И вот бабушка, хранившая в памяти маленькое дворянское поместье предков, гордившаяся, что бабушку её крестил князь Мещерский, с тяжеленными вёдрами спускалась к ключам и два раза в день поливала и яблони, и груши, и вишни, и ясеня, и липы, и ёлочку… Маленький огород не мог прокормить семью. По вечерам после работы бабушка шла в лес и ломала на растопку валежник. Но пустить под грядки или на обогрев крепчающий сад – Боже упаси! За все голодные, холодные годы бабушка срубила на растопку только одну грушку и то потом долго жалела по ней. Она так истово, так молитвенно сохраняла сад прежде всего, конечно, для него – для хозяина. Но сохранила в конечном итоге только для нас. Все возможные беды опалили жизнь бабушки: полицаи водили в немецкую комендатуру дознаваться, где ружья мужа; в 17 лет трагически погиб её сын – умница, отличник, спортсмен. В день, когда отлучилась в соседнее село на встречу с вернувшимся с войны родственником и наплакалась там опять по своему, единственному, не вернувшемуся, сгорел дом.
Всё это видел сад. Развивающийся из коротеньких веточек-прививок, он долго не плодоносил, но, когда вошёл в силу, стал маленькой местной достопримечательностью. Один наш родственник-москвич по пути домой с юга заехал к нам за яблоками. Так коллега на работе спорил с ним, что не помещавшиеся на ладони титовки не могли вырасти в средней полосе России, плоды, мол, южные, и он друзей разыгрывает. Повзрослев, сад начал понемногу зарабатывать денежки. Правда, были они небольшие, чисто символические. За свои груши и яблоки рыночные деньги как-то брать стеснялись. Точно и вправду росли светоносные плоды сами по себе, не требуя ухода. А ведь осенью каждая яблонька окапывалась, весной расскораживалась, а опилка, а вырубка, а осторожный, чтоб не повредить сучков, сбор плодов, а переработка падалицы… Но это не от обиды – просто к слову пришлось. Из вишен на ножках бабушка сплетала красивые кукурузины и продавала на ярмарке. Самый большой спрос был на сладкие, пахучие, не уступающие южным груши дюшес. Из мелкой золотистой янтарки получалось красивое старорусское варенье. Груши и яблоки запаривали, сушили, пекли, пускали на компоты… Каждый новый год на столе у нас красовались рубиновые яблоки весна. Мы хрумкали ими даже в марте. Сад трудился с нами и удовлетворённо дарил от щедрот своих.
Мама учила нас любить и уважать его как родного человека.
Весной сад дышал ароматом и тронутой розовым белизной, как спустившееся с небес облако. Осенью он устилал землю яблочным ковром. И такой в нём стоял одуряющий дух, будто находился ты внутри пирога с повидлом. И весь он светился медово. Зимой сад принаряжался в одежды, сотканные из лучей и самоцветов. Вечером, ожидая родителей с работы, мы свет не включали: так было уютнее ждать. Тихонько работало радио: шли интересные передачи для школьников. Кухня освещалась отблесками из весело потрескивающей печки и прощальными лучами солнца. Скользя сквозь ветки яблонь, оно опускалось в крепкий снег и омывало его малиновым. И сердце омывалось этой красотой. В метели сад шумел и плакал и завораживал музыкой ветра. Круглый год сад заботливо приманивал для нас птиц: чечёток и снегирей, дятлов и соловьёв, соек и ласточек и множество иных неизвестных пичужек. Всё наше детство освещено садом, как добрым мудрым солнцем. Он, цветущий среди скучных прозаичных соседских огородов, дарил нам ощущение избранности, причастности к чему-то высокому, непреходящему. Может, потому и проросли в душе стихи, что цвёл сад…
Он жил нашей жизнью. В ту весну, когда умер папочка, любимая его яблонька путимовка одна из всего сада не покрылась белой шалью, словно вместе с нами решила носить траур. В неустойчивом предательском мире сад казался незыблемой точкой опоры. Он напоминал нам об огромном, узнанном только по рассказам мамы саде наших предков-помещиков, выходившем сразу в лес. И пробуждал в нас чувство родства с нереально далёкими, но такими близкими людьми, чьи сердца тоже сладко-больно бились от ускользающей красоты родной земли.
А потом сад начал умирать. Упрямо он цеплялся еще за высокое недостижимое небо хрупкими своими ветками и цвёл вопреки наступающей сухости, и покрывался мельчающими плодами. Восковку, неохватную развесистую грушу, мы спили в сентябре. Первой с ней простилась Наталья. Как взошло солнце, подошла и поцеловала нежно шершавый ствол. Когда-то взбирались по нему высоко-высоко. И груша раскрывалась, как друидический дворец с переходами, площадками, с навесными коридорами. И всюду, как лампочки, горели плоды. Кончились груши. Прощай, милая восковка. Не стало янтарки, чьи цветы в мае сплетались в такое тесное кружево, что ни листочка не проглядывало. Исчезли лёшинские яблоки, тяжко бившие в июле о землю, о крышу сладко-кислыми крупными плодами, разламывающимися сразу от удара на две пахучие половинки. Уже не попробуем мы наливавшиеся соком до солнечной прозрачности свечковые яблоки. Перестал благоухать малинник. Не ловят в себя июньский воздух полосатые бочонки крыжовника. И вот погибла ёлка. Её свела со свету аномальная жара. А мы, неразумные, поливая цветник и молодые деревца, забыли о великанше, слепо веря в её силу.
Мы стараемся удержать ускользающую красоту. Но нам, пытающимся восстановить сад в прежней красе, продавцы фыркают в лицо: «Вы старые сорта спрашиваете. Таких сейчас нет. Кому они нужны?» Нужны. Нам. Эти старые пахучие нежные сорта, вырвавшиеся из сгинувших помещичьих усадеб, намного вкуснее дубильных вымученных селекционными опытами новых. Во всяком случае – для нас. Приходится брату прививать дички почками от старых деревьев. Новый сад будет долго не плодоносить.
Сегодня сад, конечно, не тот. Но в сердце чётко проложены его аллеи. В нём сад такой, какой явился нам на рассвете нашей жизни и в свой расцвет. И если там, за последней чертой, есть всё-таки некая Богом данная земля и если нам позволят, мы попадём в знакомый до боли сад. Где нетронутыми будут возноситься в вечность восковка, липы, ёлка… Мы пойдём по прямым его аллеям к закату солнца, и в конце нас будут ждать папочка, бабушка. И дедушка – Арепьев Григорий Иванович.
Ольга Артёмова
Курская область, п. Медвенка
Молчания минута не молчит…
- Молчания минута не молчит.
- Но в ней не звон фанфар и шум оваций.
- В ней время, задыхаясь, говорит
- Охрипшим языком разбитых раций.
- Кричат: «Ура!». Орудия ревут.
- Грохочут танки. Виснет в небе «рама».
- И оглушающий – все шестьдесят секунд! —
- Предсмертный многократный шёпот: «Ма-ма…»
- И слышно, как не в такт бойцы поют,
- Как в тишине продрогшего рассвета
- О чём-то мирном речь они ведут,
- Как плачут неродившиеся дети.
Г. И. Арепьеву
- Всё помню: мерцание мёртвое снега…
- Расстаться с той памятью – сердце лишь вынув.
- Ты падаешь, падаешь навзничь с разбега,
- Беспомощно руки большие раскинув.
- Крестьянские тридцатилетние руки —
- Не руки – мозоли-заплаты —
- Безвольно.
- Упал, переставший стране быть стеною.
- И снег отступил, и беззвучно: «Как больно!» —
- Шепнула земля, содрогаясь под кровью.
- Так щедро поили её той зимою
- Солдаты
- Из самого сердца – любовью!
- И, время пройдя, раскрошив расстоянья,
- Изрезавши, измельчивши преграды,
- До самого центра его мирозданья
- Осколок достал – до тоскующей хаты.
- До жалкой, про праздников радость забывшей,
- Дрожащей от взрывов – немецкий осколок! —
- До почерневшей, осевшей, пристывшей
- В ожидании похоронок.
- От дома – по саду. В глухом шелестенье
- Зашёлся взращённый им: «Мука какая!»
- И мать застонала в мгновенном прозренье,
- Бумаги последней ещё не читая.
- И там, где когда-то для жизни проснулась,
- Где мне все известны дороги и даты,
- Однажды в беспечном веселье запнулась,
- Застигнутая ощущеньем утраты.
- Вокруг посмотрела: снег алым казался,
- Спелым от раннего солнца захода.
- А в сердце тоски огонёк разгорался…
- В атаку уже подымается рота…
Марина Багдасарян
(псевдоним Марина Вечер)
г. Москва
Это страшное слово блокада
- За окном неприветливый город…
- Как тоскливо и страшно без мамы,
- Город мучит, он голодом морит —
- Буду ждать я гостинца у рамы.
- Мне бы ломтик тонюсенький хлеба
- И квадратик один шоколада,
- И, конечно, дождаться победы,
- И забыть это слова «блокада».
- Звук шагов, шорох платья и вздохи…
- – Я так ждал тебя! Ты мне не рада?
- Мама, что с тобой? Что? Тебе плохо?
- Ну не плачь, ничего мне не надо.
- Сколько лет с той поры, сколько вёсен?
- В прошлом голод, потери и беды.
- Мы цветы к обелиску подносим
- Храбро павшим в боях за Победу.
- Не забыть ленинградской блокады,
- Битвы дедов за свет и за небо,
- За детей, за квадрат шоколада,
- За горбушку бесценного хлеба.
Валерий Белов
г. Москва
Он думал, что детей у него будет трое
- Получив инструктаж, знал, что ждёт впереди —
- Полегло до него здесь немало.
- А желание жить, как заноза в груди,
- Человеку уснуть не давало.
- Что он думал о славе, сказать не берусь,
- Только правило знал он простое —
- Если ты не предатель, не шкурник, не трус,
- Обязательно будешь героем,
- Как бы ты ни погиб, даже с прочими в ряд
- Похороненный в общей могиле…
- Выжить шанс невелик, но он есть, ведь не зря ж
- Человека для жизни родили.
- Для бессбойной отцепки сложил парашют,
- Запасную приладил обойму,
- Даже зная, в какое их пекло пошлют,
- Он мечтал перед завтрашним боем:
- Вот окончится чёртова эта война,
- И его наградят перед строем,
- А ещё – есть в деревне девчонка одна,
- С ней детей у него будет трое.
- В темноту, как в загробную жизнь, улетал
- Самолёт за разрывы орудий.
- Рваный воздух гребли под себя два винта,
- Крохи жизни у смерти воруя.
- Впопыхах собиралась солдата душа
- В рай, где дверь перед нею откроют,
- А он думал, сжимая в руках ППШа,
- Что детей у него будет трое.
Этот праздник – воздуха глоток
- Там, где капитал как злобный тролль
- Недра источил до червоточин,
- Вижу я особенную роль
- Дня Победы средь всех празднеств прочих.
- Праздники – цветастое панно
- Транспарантов ярких вдоль излучин,
- И несёт любое полотно
- Людям пожеланья жизни лучшей.
- Древо жизни есть и у страны,
- Выросло на поле Куликовом.
- Почвы истощённой плавуны —
- Смерть для корневой его основы.
- В доме, предназначенном на слом
- Теми, кто родство своё не помнит,
- Где все стены ходят ходуном,
- День Победы – остов в нашем доме.
- Как опоры вбиты с детских лет
- В подсознанье людям сваи эти.
- Государства вижу я портрет
- И себя на выцветшем портрете.
- Крупными мазками сделан он,
- На крови замешанных и злобе.
- Но струится свет из всех окон —
- День Победы – праздник из особых.
- Сколько б ни пытались нас дурить
- В наших заблужденьях беспробудных,
- Троллям этот День не заменить
- Хэллувином и другой приблудой.
- Где весь мир трясёт от параной
- Власть имущих, алчности полпредов,
- Я со всей измученной страной
- Выпью в этот день за День Победы.
- Этот праздник – воздуха глоток,
- Остов дома, сваи в подсознанье,
- Вбитые в меня так глубоко,
- Чтоб на них держалось мирозданье.
Людмила Белявина
(псевдоним Мила Клявина)
г. Смоленск
Кому нести печаль свою?
Он безумно устал от несмолкаемо-навязчивых звуков, возбуждённо-оживлённых голосов, сливающихся в единый однообразный гул, который бесцеремонно влезал в уши и оплетал сознание тягучим болезненным стоном. Ему надоело отворачиваться от толчеи, пинавшей его со всех сторон. Каждый день здесь, на перроне, было многолюдно и шумно. Одни уезжали и их провожали бесчисленные родственники и друзья. Другие приезжали и их встречали неудержимой радостной толпой с объятиями и поцелуями. И только он страдал от одиночества.
Он один выделялся среди этой неразберихи, излишней суеты и бесконечного гомона. Он никуда не уезжал и никого не встречал. Слабыми увядающими корнями своей никчёмной жизни он цеплялся за людское понимание и сочувствие. И одновременно презирал себя за беспомощность и отвращение к такому существованию.
Поезда приходили и уходили, и когда народ растекался в разные стороны, вокруг него оставалась пустота. И тогда те, кто задерживал на нём свои взгляды, видели несчастного инвалида в обносившейся одежде, заросшего щетиной, с бесцветными ввалившимися будто в бездонную пропасть глазами невыплаканных слёз и горькой тоски, получеловека без ног, с мучительно страдающей душой. На культяпках, укрытых тряпьём, стояла потрёпанная жизнью, как и он сам, страдалица-гармошка, и время от времени, словно очнувшись от забытья, он вдавливал пальцы в грязные кнопки и выжимал из старого друга незатейливые мелодии. Чаще всего это была его любимая довоенная песня «Провожанье»:
- «Дайте в руки мне гармонь – золотые планки!
- Парень девушку домой провожал с гулянки.
- Льётся речка в дальний край – погляди, послушай…
- Что же, Коля-Николай, сделал ты с Катюшей?!»
А то и сделал: сам влюбился и Катюшу, первую деревенскую красавицу, привязал любовью к гармонисту. Услышала она его песни и не смогла пройти мимо, вспыхнула ярким румянцем щёк и навсегда завладела его сердцем. А вскоре и свадьбу сыграли, три дня две деревни гуляли: и старики, и молодежь. А он успевал и на гармошке играть, и Катюшу свою взглядом обласкать. Да и она так и светилась счастьем, как зорька утренняя, ни словом не укорила, что не за свадебным столом рядом с ней сидел, а своей музыкой создавал праздник для всех. А потом мужчины двух деревень помогли молодым и дом ладный справить, и хозяйством обзавестись.
А вскорости и детишки друг за дружкой от большой любви не замедлили на свет божий появиться. Первенец – Степан – был весь в отца, такой же упрямый, дотошный, ни от какого дела не отступится, пока не сделает то, что задумал: и гвоздь молотком в доску вбить, и рубанком научиться строгать, и ножом толково управляться – вначале свистульки, а потом и ложки вырезать. Ну, чем не помощник?! Второй – Сёмка – может и не такой шустрый, как брат, но в три года уже тянул ручонки к отцовской гармошке, а потом и играть научился, да так ловко пальчиками перебирал кнопочки, что даже сам Николай радовался: вот она смена подрастает, теперь и стареть не боязно, будет кому передать своё наследство. А доченька Варенька была всеобщей любимицей: и воды из криницы наносит, и сорняки в огороде выполет, а уж как песню заведёт – вся деревня сбежится слушать её чистый ангельский голосок, будто волшебные переливы небесной птахи.
Хорошо жили, в любви и согласии… А потом война распроклятая… Всё разом перечеркнула, судьбы людские исковеркала, сирот по белу свету пустила, отняла всё лучшее, что прежде Господь дал. Проводила Катюша своего Николая-гармониста на смертный бой с поганой нечистью, слово заговорённое супротив смерти с землёй родимой в узелок завязала да в карман гимнастёрки вложила, поцелуй свой на губах мужа запечатлела. Да не дождалась голубка сизокрылая своего сокола ясного. Захватила деревню немчура ненавистная, огнём всё дотла выжгла, никого не пощадила: ни стариков, ни детей малых. Только узнал об этом страшном горе Николай уже после победы, когда домой вернулся. А где он дом-то? Оглянулся – один ветер гуляет в чистом поле. Заросли бурьяном даже камни бывшего пепелища, только кое-где печные трубы из травы проглядывают.
«Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою?..»
Беззвучно обливалось кровью сердце воина-победителя. Но как жить дальше ему, безногому… Так и прорыдал не помня сколько дней, обнимая землю родимую, да семью свою в страшном лихолетье сгинувшую, пока не нашли его грибники из соседней деревни. Принесли земляка, уже теряющего последние силы, домой, накормили, одели, просили остаться, чай не чужой, да не смог он обузой быть. Попросил неказистую тележку вместо ног да гармонь. Тележку на колёсах кузнец быстро смастерил из подручных средств, а вот гармонь… Все деревни близлежащие облазили, все чердаки перекопали, не до музыки людям было, вместо песен новых война только стоны бабьи по хатам раскидала и сама потешалась, наслаждаясь слезами их горестными да вою протяжному, нескончаемому.
Но нашлась-таки гармонь у бывшего полицая, всё награбленное добро себе в хату тащил. Самого партизаны расстреляли, а дом заколотили. Вот теперь и вскрылась вся правда об их бывшем соседе. Узнал Николай гармонь свою, вспомнил, как с ней к Катюше на свидание ходил, музыкой её завлекал. Залился снова слезами горючими, все глаза выплакал, сердце растревожил, осколок вражеский новой болью о себе дал знать…
К ручке инвалидной тележки прикрутил Николай консервную банку, служившую вместо протянутой руки для подаяния. Иногда ему кидали какую-то мелочь, иногда злобно шипели:
– Куда только милиция смотрит? Три года как война закончилась, пора бы всех калек в спецприюты определить, чтобы людей уродством своим не пугали.
Он уже не роптал на судьбу, а просто доживал отпущенное ему время жизни, мечтая поскорее встретиться на том свете с матерью, отцом, женой своей Катериной и с детьми, так и не ставшими их гордостью и опорой.
Другие, такие же, как он попрошайки, откровенно хамили:
– А ну, катись отсюда, инвалид! Не то костей не соберёшь, отметелим, не пощадим, нам и самим не хватает, а тут ещё ты, весь такой жалостный, нашу копейку отбираешь.
– Нельзя обижать вояку, пострадавшего на поле боя, перед Богом все равны, – крестились сердобольные старушки, вкладывая в его огрубевшие ладони куски хлеба с варёной картошкой, – он нам победу нёс да сам пострадал, вон какой изувеченный, и медаль у него на груди.
– Да какую победу? – не успокаивались мужики. – Небось, и войны не нюхал, пьяный в канаву упал, и ноги себе отморозил. Проваливай покуда цел, место под солнцем не загораживай.
Стиснув зубы, Николай молча отъезжал от зарвавшихся грубиянов, чтобы не поддаться слабости, не ответить злом на людское зло, очерствившее сердца тех, кто взаправду не нюхал пороху и не смотрел смерти в глаза. И вдруг тонкий детский голосок пробился сквозь вокзальную кутерьму, вполз в уши и тонкой иглой проткнул переставшее биться сердце: «Враги сожгли родную хоту, сгубили всю его семью…» Да это ж про него, Николая. Откуда она знает?.. «Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только тёплый летний вечер траву могильную качал…»
И это опять про него. Вся земля-матушка – могила для невинно убиенных.
«Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам…»
И это – правда, горькая и невосполнимая утрата.
«Я шёл к тебе четыре года, я три державы покорил…»
Николай смаргнул слёзную пелену и закрыл глаза…
Уже несколько дней они отбивали атаку за атакой, а враг всё напирал, бил яростным прицельным огнём, не давая высунуть голову из окопа. В минуты коротких передышек бойцы успевали лишь наскоро подготовиться к новому бою: вытереть пот с лица, перезарядить автоматы, вынуть из карманов убитых патроны и гранаты. И некогда было даже похоронить своих друзей. Их оставалась горстка из целого взвода, и смерть, как вороньё, уже кружила над бездыханными телами. Два наших танка пробили вражеский заслон и теперь без остановки неслись вперёд, давая надежду не только на спасение, но и на разгром нечисти, посягнувшей на Русь-матушку. Внезапность ошеломила врага, внесла замешательство в намеченную стратегию, огонь захлебнулся и замолчал. И тогда заговорили танки – прицельно и устрашающе. Командир был убит, и Николай с криком: «Ура!» поднялся во весь рост и побежал, не ведая страха. В тот раз он уцелел, только был ранен в руку. Противник отступил, но силы бойцов были ничтожны, и немцы этим воспользовались. Они перекинули на боевой плацдарм свежее подкрепление и снова стали плеваться смертоносным огнём. Последнее, что увидел Николай – был сильный взрыв у себя под ногами, поднявший вверх комья земли. И тут же на немцев пошли прорвавшие оборону наши танки вместе с пехотой. Но кто-то уже не слышал победного гула… Очнулся Николай в лазарете, хотел шевельнуть ногой и… почувствовал пустоту. Застонал: кому он такой нужен?..
Детский голосок замолчал. Люди застыли со слезами в глазах. Раздались аплодисменты. Девочка с протянутой рукой обошла слушателей и подбежала к матери с радостной улыбкой: сегодня они не будут голодать. Николай тоже хотел дать ей конфетку, которую берёг в кармане на всякий случай. А завтра можно и под поезд. Надоела эта проклятая жизнь. Но замешкался и попал под яростный кулак озверевшего безнадёги. Тот почти скинул его с коляски в грязь, и тогда на помощь кинулась женщина. Она оттолкнула верзилу от безногого калеки и отчаянно заголосила, выворачивая наружу свою измученную душу:
– Миленький мой, родненький! Я знала, что найду тебя. Ты только сразу не отгоняй меня. За время войны я подурнела, постарела, но я также люблю тебя! Пойдём домой, теперь я никому не дам тебя в обиду, – и она погрозила кулаком растерявшимся обидчикам и окружившей их толпе.
Николай онемел от неожиданности. Неужели это его Катюша? Нет, как будто непохожа, но ведь он не видел её восемь долгих лет, она могла измениться. Вот только зачем он ей такой? Лучше бы его убили те злобные мужики. Но остановить женщину было уже невозможно. Она уверенно покатила тележку сквозь толпу и каждая женщина-солдатка, потерявшая на войне мужа, завидовала её простому бабьему счастью. А она, не вытирая бегущих по лицу слёз, размазывала их грязным рукавом телогрейки и с улыбкой, быть может впервые осветившей её прошлую красоту, тянула свою ношу с таким видом, будто спасала его с поля боя.
– Живой! Бабы, глядите, мой муж живой! Миленький, ты только потерпи, я тебя отмою, обласкаю, посажу на лавку, и любоваться всю жизнь буду.
И Николай как-то сразу поверил её словам и не сопротивлялся. Он знал, что это не его Катюша, но эта сердобольная женщина приняла его уродство. Его сердце впервые наполнилось теплом и забытым человеческим счастьем. А к ним уже бежала девочка, похожая на его Вареньку. Она обвила руками его шею и защебетала:
– Мой папка вернулся с войны! Я тебя так ждала. Пообещай, что ты больше никуда не уйдёшь?..
А женщина всё повторяла: «Заря моя вечерняя, любовь неугасимая!..»
Владимир Бордюгов
Московская область, г/о Люберцы
Пуля-дура
- Мелькнула соколом над полынью,
- Над садом, полем, заросшим снытью,
- Пронзив со свистом прогорклый воздух,
- Минуя вишни и птичьи гнёзда.
- Кого искала? – Сама не знала!
- Но навострила свинцово жало
- И опустилась на грудь парнишки
- В шинельке новой, с короткой стрижкой…
- Он тихо ойкнул, осев всем телом,
- А пуля-дура вперёд летела,
- За сотни вёрст над таким же садом,
- Где вороньё опустилось градом,
- Где мать присела… Глаза застыли…
- Два сердца пуля прошла навылет.
Переправа
- Простите солдату,
- что молча прилёг, задремал у воды.
- Поверьте, солдату
- так холодно спится под грохот и дым.
- Он рад бы подняться,
- да только в груди – неостывший металл…
- Открыты глаза… Он не умер, он просто устал.
- А рядом пехота
- в бурлящие воды толкает плоты…
- А где-то за Доном
- под ветром полощутся травы, цветы…
- А здесь – канонада,
- и сеют не травы, а быструю смерть,
- Не в дно, а в тела упирается жердь.
- И, вроде бы, близко,
- огонь изрыгающий, берег лежит.
- А утренний воздух
- от пуль озверевших шипит и дрожит,
- И в красную воду
- взвод новый, мать вспомнив, за смертью шагнул…
- Туман над рекой не спасает от пуль.
- Спрессовано время.
- Час сжался в безумный отчаянный миг,
- А яркое солнце
- ударило в спины лучом напрямик,
- На про́клятый берег
- обрушилась русской пехоты гроза…
- Солдатик чуть вздрогнул и смежил глаза.
Этот будет жить
- Качнулась лампа над пытливым взглядом,
- Очнулся разум, пробудилась боль…
- Но память целилась осколочным снарядом
- Во вражескую цепь, и вздрогнул ствол.
- А дальше – звук скрежещущий металла,
- Свинцовой очереди огненный прилёт,
- И твёрдая земля пуховой стала.
- Глаза сомкнув, боец в неё прилёг.
- Он долго спал без снов, без пробуждений,
- Не помня, как пошёл в атаку взвод…
- И вдруг – светло, как в редкий день осенний,
- И белый потолок, как церкви свод.
- Над ним (вся в белом) женщина склонилась.
- Не сознавая, как и почему
- Коснулся пальцами – а вдруг она приснилась?
- Сестричка бережно ответила ему.
- Она, привыкшая к смертям и тяжким мукам,
- Где вьётся жизни тоненькая нить,
- По рук касанью, взгляду, сердца стукам
- Почувствовала: «Этот будет жить…»
Борис Бочаров
г. Москва
Американская компания Bradford Exchange выпустила на продажу юбилейную монету в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. На обратной стороне монеты изображаются флаги США, Великобритании и Франции, но флага СССР там не наблюдается.
У западных стран короткая память
9 мая – дорогая для нашего народа дата, «со слезами на глазах». Советский народ вынес основную тяжесть второй мировой войны на своих плечах, и война для него стала Великой Отечественной. В кровавой схватке с фашизмом он не только выстоял, но и победил! Победил не малой кровью, а ценою огромных жертв.
Ни один народ мира не имел таких потерь в людских и материальных ресурсах. Счёт погибших, замученных, пропавших без вести на десятки миллионов, а разрушенных и сожжённых городов, посёлков, сёл и деревень – на сотни тысяч. Около 7 млн. советских воинов вели ожесточенные сражения с врагом на территории 11 стран Европы, охватывающей свыше 1 млн. кв. километров. Были освобождены полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии с населением 113 млн. человек. Были освобождены крупные европейские столицы – Бухарест, Белград, Будапешт, Варшава, Вена, Прага, София, Берлин. Потери последних месяцев войны – более миллиона советских солдат, погибших в боях за освобождение народов Европы от фашизма. Народ – освободитель, народ – победитель, народ, вынесший основную тяжесть войны!
Прошли годы, десятилетия, но в целом наши потери до сих пор не может точно подсчитать никто, какие бы современные методики не применялись. Ни одна страна мира не имеет столько братских захоронений как Советский Союз и входящие в него на тот момент братские республики. Вот только некоторые цифры по европейским странам: Австрия – 228 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 86580, Беларусь – 3545 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 1224277, Венгрия – 1029 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 112625, Германия – 3500 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 779908, Литва – 198 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 316703, Молдова – 420 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 50445, Польша – 660 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 1769283, Украина – 7424 братских захоронения, в которых нашли свое упокоение 385465, Эстония – 265 братских захоронений, в которых нашли свое упокоение 168855 советских воинов, погибших в боях, скончавшихся от ран, замученных и умерших в плену и концлагерях. Владимир Высоцкий в своей известной песне точно отметил непреложную истину: «На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают…». Народ – освободитель, народ – победитель, народ, вынесший основную тяжесть войны!
Из 1418 суток существования советско-германского фронта активные боевые действия на нём велись 1320 суток, на итальянском из 663 суток – 492, на западном из 338 суток – 293, на североафриканском из 973 суток 309.Факты убедительно подтверждают, что до лета 1944 года на советско-германском фронте в среднем находилось в 15—20 раз больше гитлеровских войск и их союзников, чем на других фронтах, где действовали вооруженные силы США и Англии (В Северной Африке, Италии). И в целом, на советско-германском фронте в течение 1941—1945 г.г. были сосредоточены основные военные силы фашистской Германии. Летом 1941 года здесь действовали 153 дивизии из 217, то есть 70,3% всех немецких дивизий. На других фронтах в это время было всего две дивизии – 0,9%.
В ходе войны, немецко-фашистское командование, пользуясь тем, что союзники СССР длительное время не вели активных боевых действий, направляло на восток всё новые дивизии. Было переброшено около 270 немецких дивизий, а также десятки соединений и частей сателлитов Германии. В частности, в ноябре 1942 года здесь находилось свыше 70 итальянских, румынских, венгерских и финских дивизий, отдельные формирования «добровольцев» из Испании, Бельгии и других стран. На советско-германском фронте развертывались операции и сражения, которые и оказали главное влияние на освобождение порабощенных стран Европы, на исход войны с фашизмом в целом. Прежде всего это такие операции, как: Ясско-Кишиневская, Львовско-Сандомирская, Будапештская, Белградская, Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Венская, Берлинская, Пражская. Народ – освободитель, народ – победитель, народ, вынесший основную тяжесть войны!
Решающий вклад в победу над фашизмом определяется и тем, что более 70% общих потерь вермахт понес в сражениях именно на советско-германском фронте. Здесь урон немецко-фашистских войск только в личном составе был в 4 раза больше, чем на других фронтах второй мировой войны. В сражениях с Красной Армией фашисты потеряли и основную часть военной техники – до 75% общих потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75% всех потерь авиации, 74% общих потерь артиллерийских орудий. В течение всей войны вооруженные силы Советского Союза уничтожили, взяли в плен или разгромили 506,5 немецких дивизий и 100 дивизий сателлитов Германии. Союзники же на Западе и в Африке уничтожили не более 176 дивизий. Германия потеряла в войне с Советским Союзом 10 млн. человек, в то время как ее общие потери во второй мировой войне составили 13,6 млн. человек. 24 июня 1945 года во время Парада Победы 200 немецких флагов и штандартов, захваченных в качестве трофеев советскими войсками, среди которых находился и штандарт батальона дивизии СС «Лейб штандарт Адольфа Гитлера», были брошены к подножию мавзолея Ленина.
Неоспоримость решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом в годы второй мировой войны признавали многие политические и военные деятели Запада той поры, среди которых – президент США Ф.Д.Рузвельт, премьер-министр Великобритании У. Черчиль, президент Франции Ш. де Голь.
«Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, – писал Рузвельт главе Советского правительства, – что Советский Союз несет основную тяжесть борьбы». Бывший президент США также отмечал, что «трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые». В конце войны У. Черчиль признавал, что именно Красная Армия решила «…участь германского милитаризма». Ш. де Голь отмечал: «Французы знают, что сделала Россия и знают, что, именно Россия сыграла главную роль в их освобождении» С восторгом он отзывался о нашем народе: «Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим, потому что он умеет сражаться, то есть превозмогать невзгоды и наносить ответные удары, потому что он сам поднялся, взял в свои руки оружие, организовался для борьбы и потому что самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели – к свободе и отмщению.
Смерть каждого убитого или замерзшего в России немецкого солдата, уничтожение на широких просторах под Ленинградом, Москвой или Севастополем каждого немецкого орудия, каждого самолета, каждого немецкого танка дают Франции дополнительную возможность вновь подняться и победить». После Берлинской операции Главнокомандующий союзническими войсками в Европе генерал Д. Эйзенхауэр заметил: «Русским принадлежит пальма первенства в принуждении нацистов к капитуляции». А американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» в июне 1945 года написала: «Красная Армия фактически оказалась армией – освободительницей Европы… без этой армии, ее безграничных жертв освобождение от жестокого ярма нацизма было бы просто невозможно».
Ярким и убедительным подтверждением и уважением решающего вклада советского народа в победу в войне над фашистской Германией является и по сей день один из главных европейских памятников – Центральный мемориал, памятник воину – освободителю в берлинском Трептов – парке, где на холме возвышается бронзовый советский солдат со спасенной из развалин поверженного Берлина немецкой девочкой и мечом, разрубающим фашистскую свастику. Перед солдатом—освободителем – мемориальное поле с братскими могилами, в которых покоятся около 7 тысяч советских солдат, погибших при взятии Берлина, два красных знамени из гранита и надпись на двух языках: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь за освобождение человечества».
Солдат автоматного взвода
(быль)
Когда началась война, Михаилу не было и пятнадцати, но к осени 1943 он уже выглядел коренастым крепышом. В военкомате рассмотрели его просьбу об отправке на фронт добровольцем, похлопали по крепким плечам и с явным удовольствием всей медкомиссией крякнули «здоров!». Направили юношу в учебное подразделение, где готовили бойцов для подразделений автоматчиков. Учили там стрелковому делу хорошо, гоняли с утра до вечера с полной выкладкой, обучали строевой выправке и шагу, а вот кормили плохо. Поэтому Михаил за это время учёбы малость отощал. Но кормили также и обещаньями, скоро, мол, бросят на передовую, кормёжка станет гораздо сытнее, и будешь ты боец автоматного взвода, получать вволю сахар, тушёнку, табак и в придачу каждый день фронтовые «сто грамм». При упоминании о консервах у безусого деревенского пацана текли слюнки, и ему хотелось как можно быстрее попасть на передок. Хорошо бы, если так, – думалось ему. Мальчишка, что с него взять…, кроме его же собственной жизни. Совсем не понимал дурень с голодухи, что для многих из них самый первый бой может оказаться и последним.
Автомат и другие виды стрелкового оружия Михаил освоил очень быстро и лучше всех. Его много раз хвалили за прилежание в учёбе и бережное отношение к закреплённому оружию. Он быстро разбирал и собирал автомат, знал его положительные стороны и, главным образом, недостатки, которые проявлялись по разным причинам, но в основном, из-за небрежного отношения к чистоте и смазке механизма. Все премудрости он ловил прямо на ходу и вот, наконец-то, настал долгожданный день, когда его с такими же несмышлеными одногодками, или чуть постарше, бросили на передовую.
– Маркин! А тебе, что устав не писан! – рявкнул старшина молодому бойцу взвода автоматчиков на марше, – и тут же скомандовал, – повесь автомат на грудь!
– Дык, товарищ старшина, дождь и грязища кругом, вдруг как водичка попадёт или грязь в механизм, да заклинит, чо тогда мне с ним делать, в плен што ль сдаваться?
– Отставить разговоры, я кому сказал, автомат на грудь!
– Есть! – ответил боец и нехотя вытащил ствол автомата из внутреннего большого кармана левой полы шинели, который сам на днях смастерил и прошил толстыми нитками.
Старшина, дёрнув за левую полу шинели и, вывернув её наизнанку, по-своему оценил изобретение Михаила, и с ехидной усмешкой заметил:
– Вот, шельма, что натворил, я тя накажу за это, что б не портил впредь казённое имущество…, тоже мне Кулибин объявился! Дай, только до места добраться, там я те покажу кузькину мать!
Михаил с трудом проглотил оскорбление от взводного, но как только старшина отвлёкся от него, он сразу же укрыл металлическую часть автомата, но теперь уже вверху под плащ-палаткой.
До места дошли через два часа. В темноте они наткнулись на какие-то неуютные и мрачные траншеи, в которых их явно ждали. Это видно было по уставшим и земляного цвета лицам солдат, впавшие глаза которых при встрече засветились радостным блеском и как бы выразили одно и то же слово много раз «подмога… подмога». Молоденький лейтенант, объясняя старшине задачу взвода, сказал, что немцы здесь явно пытаются прорваться и, не жалея сил, особо яростно контратакуют. Им нужно отсекать только пехоту, семь атак его рота уже отбила, но на рассвете ожидаются новые. Какими силами наступает немец, никто не знает, но дорогу приказано прикрыть, что они два дня и делали. Но от роты осталось меньше взвода и теперь они отводятся в тыл, настаёт черёд вновь прибывших, надо принимать позиции и готовиться к бою. Справа новый взвод уже встал, а слева стоят артиллеристы и подвижный отряд заграждения.
Михаил любил свой новенький пистолет-пулемёт системы Шпагина, попросту ППШ и всячески оберегал его, редко выпуская из рук. Ещё в первом же своём бою, когда боеприпасы почему-то закончились мгновенно, Маркин сразу понял, что в своём окопе оказался совсем беззащитным. Хорошо, что вспомнил о двух гранатах, заранее спрятанных в нише, и немного повеселел. Боец из соседнего окопа справа, видать, чуть опытнее, тогда громко выругался в его адрес такими словами, как то, – выдохся курилка, мать твою…, но тут же беззлобно напомнил впредь постреливать не спеша, прицельно и короткими очередями, автомат, мол, так не перегреешь и «плеваться» он не будет. Потом дал знак, что б Михаил полз к нему. Когда Маркин пытался влезть к соседу в окоп, тот не пустил его, а просто дал ему две горсти патронов и посоветовал до прибытия подкрепления стрелять только одиночными. Урок пошёл на пользу. К расходу патронов впредь Михаил стал относиться экономно, осознав, что от этого, кроме других неприятных случайностей, тоже жизнь солдата зависит, и ещё как.
– Мишка! На-ко, держи диск, тебе он нужнее, автомат у меня забарахлил, что-то с затвором, разбирать надо заразу…, смотреть, а они, сволочи, как назло прут и прут…, никакого передыху тебе…
– Что ж ты так собачишься, и ругаешь своего «Папашу», он ведь на тебя обидится и вовсе стрелять перестанет…, смазывать надо было чаще, да от грязи оберегать.
– Вроде смазывал…
– Вроде-вроде…, наверняка в чашечку затвора грязь попала с водой, и перемешалось всё с копотью…, ты пока возьми-ка мой пустой диск и перезаряди в него патроны со своего диска, мало ли что, а то вдруг твой диск к моему и не подойдёт вовсе, у меня так уже было… Чуть, погодя, как схлынут фрицы, я сам посмотрю, что у тебя там случилось.
– Ладно, щас сделаем, – ответил напарник и сноровисто приступил к перезарядке диска. А Михаил, уже не обращая на него никакого внимания, продолжал хладнокровно делать своё дело. Короткими и точными очередями он отсекал фрицев с флангов, чтоб не допустить обхода обороны взвода. «Папаша» его татакал безукоризненно. В секторе его стрельбы уже нашли свой конец и упокоились навечно в различных позах больше десятка фрицев. Они лежали так близко, что на некоторых из них были видны знаки отличия. Отвоевались… Эх, старшину бы сюда! – подумал Михаил, – вот бы посмотрел на мою работу, а уж потом обзывался и грозил наказанием. Маркин не знал, кто такой Кулибин, так как в сельской школе доучился едва до шестого класса, а книжек не читал и вовсе, но по-своему кумекал, что человек тот был наверняка плохим. Старшина просто так словцами своими не разбрасывается, а если и режет, то только всегда правду-матку. Поэтому Михаилу было обидно вдвойне. Правда-матка на этот раз прошлась прямо по его гордыне.
В азарте боя Маркин не заметил, как рядом с ним оказался ещё один боец. Он виновато улыбался и протягивал Михаилу тоже свой диск. Михаил обругал его и уже приказным тоном сказал, что ему надо делать. В траншее становилось тесно. Теперь уже возле Маркина суетились и перезарядкой патронов для его дисков занимались двое бойцов. Вдруг за их спинами совсем рядом разорвалась мина. Все трое плюхнулись на дно траншеи. Но через несколько секунд Михаил, чуя, что он жив и невредим, очистился от комьев кисло пахнувшей грязи, вскочил и бросился к своему автомату. «Папаша» его был целёхонек. Аккуратно и быстро протерев автомат ветошью, Михаил осмотрелся вокруг. Один боец, как ни в чём ни бывало, продолжал снаряжать диск, другой лежал и стонал, не шевелясь. Противно выли и продолжали разрываться возле них мины. Наверное, немцы начали миномётный обстрел, и сейчас их пехота и танки вряд ли сунутся в атаку, но немного погодя пойдут обязательно. Поэтому Маркин спокойно опустился с автоматом вниз траншеи, отобрал диск у напарника и стал снаряжать его сам, а бойцу приказал помочь раненому.
Неожиданно рядом появился старшина и стал похлопывать Михаила по плечу и, улыбаясь, что-то говорить. Маркин ничего не слышал, похоже, его здорово контузило разорвавшейся миной, но по одобрительным шлепкам по плечу и взгляду старшины он понимал, что его стрельбой довольны, значит, ППШ сработал на совесть. Обида на взводного тот час же прошла и, почему-то к месту Михаилу вспомнились слова пожилого и всего израненного офицера-преподавателя в учебке: «Автомат без бойца, да без заботы о нём, что кусок железа с деревяшкой, да и только, а солдат без оружия, тем более без такого как „Папаша“, и вовсе не жилец».
Через много лет к Маркину накануне праздника Дня Победы приедут из военкомата и торжественно вручат в присутствии школьников и общественности его села медаль «За отвагу», которой он был награждён за тот бой поздней осенью сорок третьего года при отражении контрудара немцев под Киевом. Ветеран уже не помнил точно, где это могло быть, и вряд ли он нашёл бы то место сегодня. Столько лет прошло. Но он на всю оставшуюся свою жизнь запомнил того смертельно раненного бойца, который, напрягаясь из последних сил, протягивал ему своими дрожащими окровавленными пальцами только что снаряжённый патронами диск и по губам которого контуженый Михаил тогда прочитал: «Миша… держись, дай им… за меня».
Вечная слава воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне!
Васёк
(быль)
– Сынок! Видишь того высокого седого мужчину? – спросила меня мать, указывая поворотом головы и глазами направление, где его искать.
– Тот, что курит перед входом? – переспросил я.
– Да. Это он. Ты подойди к нему, поговори…, он с твоим отцом воевал, может, узнаешь про своего отца что-то.
– Хорошо, подойду, а кто он и откуда? – поинтересовался я.
– Он поступил к нам вчера. Откуда – не помню, можно посмотреть карточку, но это и не важно. Когда я его оформляла, он меня спросил, давно ли я тут работаю. Я ответила, что с момента основания санатория, то есть с 1972 года. А он опять спрашивает:
– Вы местная?
– Ну, думаю, ухаживать, что ли собрался, не пойму никак, что он все какие-то вопросы странные задает…. А он мне и говорит:
– Да, вы не волнуйтесь, я товарища своего фронтового разыскиваю, по некоторым сведениям, он должен быть в этих местах. В 44 году после тяжёлого ранения его комиссовали в чистую…, совсем ещё мальчишкой был тогда, росточка небольшого, зовут Василием… по отчеству Иванович, а фамилия…
– И называет он фамилию – а у меня, прям мурашки по коже поползли. Фамилия-то наша… Я конечно виду не показала, что разволновалась. А с другой стороны мы же с ним, ты знаешь, за 4 года до его смерти в разводе состояли. Думаю, чего волноваться. Всё прошло, быльём поросло. Последнее время с ним было не радостным, отец твой стал совсем невыносим. Умный был, – это правда, и денег зарабатывал много, а что толку. Всегда вокруг него пьянь, да тунеядцы собирались и обирали до нитки. К ним он добрый был, а в семью приносил крохи. Вас двое, мне тяжело было, по сути одной на ноги вас поднимать-то. Ну, ничего, всё теперь в прошлом. И поэтому так спокойно этому мужчине отвечаю, мол, в Подмосковье с 43 года, а сама рязанская, товарища вашего помню, он действительно здешний, но с 69 года его уже нет в живых, а похоронен недалеко, на сельском кладбище. Вроде ничем не болел, но выпивал, отчего умер – не знаю. Вот так я ему всё и рассказала. Ну, иди к нему.
Я вышел из вестибюля санатория на улицу и обратился к незнакомцу:
– Добрый день!
– Здравствуйте! – ответил мужчина и внимательно посмотрел на меня.
– Борис Васильевич, можно просто по имени, в общем, как угодно…, сын Василия Ивановича, – представился я и назвал свою фамилию.
– Очень рад, Бугров Иван Иванович, фронтовой товарищ вашего отца, однополчанин, можно так сказать, – произнёс мужчина и протянул мне руку. Ладонь Ивана Ивановича вполне соответствовала его высокому росту, была широкой и крепкой, и рукопожатие оказалось соответствующим. Передо мной стоял пожилой, но ещё сильный мужчина лет шестидесяти. Внешний вид, осанка, углубленные морщины и шрам на лице, бодрый взгляд добрых глаз подчеркивали его огромную духовную силу, энергию, богатый жизненный опыт и свидетельствовали о непростой военной судьбе.
– А вы, Борис, очень похожи на своего отца, только ростом на целую голову выше, да покрупнее будете. Хотя, конечно…, послевоенное поколение питалось лучше и росло быстрее. Правда, и вам тоже поначалу досталось. Я помню, не у всех детей, родившихся сразу после войны, хлеба и одежды было вдоволь. Но всё же, вы не так бедствовали, как мы. Многие мои товарищи голодали ранеными в госпиталях, а некоторые из них умерли не только от ран, но и от голода. Вы представляете, когда раны не заживают или только-только начинают затягиваться, очень нужны лекарства, витамины, а тут самой элементарной жратвы, извините, не хватает. Организм слабеет от систематического недоедания и….
Ветеран замолчал, выбросил окурок папиросы в урну и снова закурил. Так мы простояли молча ещё несколько секунд. Затем я предложил пройтись до ближайшей скамейки и продолжить беседу. И вот, что мне поведал Иван Иванович.
1
Это случилось на одном из участков фронта западнее Москвы поздней осенью 1942 года. Дни становились все короче, а ночи длиннее и прохладнее. Холодный дождь иногда чередовался с мокрым снегом, не за горами были и морозы. В окопах и траншеях было холодно и сыро, в общем, мерзко, многие из бойцов были простужены и сипло кашляли.
От нас требовали активных действий, однако резервов на этот счёт никаких не давали. Мы понимали, что своей активной обороной в сочетании с контратаками должны были сковывать немцев, помогая фронтам, что на юге, где решалась главная судьба страны. Но как это сделать теми силами, которых едва хватало, чтобы сдерживать атаки фашистов. Но приказы не обсуждают, их надо выполнять. А тут ещё, вызвали в штаб армии нашего комдива и дали нагоняй за то, что плохо контратакуем, обстановку не знаем, а языка до сих пор взять не можем. Ну, конечно, комдив, получив взбучку от командарма, вызвал к себе на НП всех своих заместителей, командиров полков и других подразделений, в том числе и меня. Я в то время только принял командование батальоном разведки, от которого оставалось всего-то полторы роты.
Едва только все собрались, он называет мою фамилию, приказывает подойти поближе и в присутствие всех, как заорет на меня: «Ты почему, такой сякой, языка до сих пор взять не можешь?.. Отвечай!» Что тут отвечать, да ещё в присутствии всех. Нет уж, думаю, лучше я помолчу, целее буду. Были бы наедине, как вчера, я бы просто повторил вчерашний доклад. Так, мол, и так, по вашему приказу подготовили и направили для захвата языка две разведгруппы. Одна из них попала в засаду, вела бой, никто назад не вернулся. Другая тоже была обнаружена, но уже при возвращении, были потери, но языка взяли. Удалось установить, что наступления в ближайшее время они не готовят, потому как никаких приказов и директив солдаты не получали. Сам пленный оказался простым солдатом. Ничего путного от него про систему обороны мы не узнали…. Сказал только, что рядом с колючей проволокой понаставили мин. Тогда комдив вел себя по-свойски и заметил, что такого придурка могли и подставить, что б мы успокоились. Да и приказ на наступление могут отдать и днями позже. Потом добавил, что у нас фактически ничегошеньки и никаких сведений нет. Нужен, мол, пленный офицер, вы уж постарайтесь, ребята. А этого солдата-пленного приказал этапировать в штаб армии.
– Вы представляете, Борис, если б я успел доложить своему комдиву хотя бы половину того, что рассказал вам, мне кажется, обстановка для меня была бы ещё хуже, как вы думаете? – спросил меня Иван Иванович, озорно улыбнувшись и закуривая очередную папиросу.
– Думаю, что вы правы. Я ведь тоже человек военный и частенько попадаю в не очень приятные ситуации.
– А в каком вы звании?
– Подполковник. Сейчас в отпуске, служу в Сибири.
– Это хорошо. Вы ещё молоды, у вас всё впереди…. Я тоже подполковник, но в отставке…, странно все как-то – и, сделав затяжку папиросы, Иван Иванович продолжил свою историю.
Я стоял как истукан и молчал, а комдив поносил меня почём зря. Испуг начальный уже прошёл, и я ждал, когда же словарный запас матерных и других ругательных слов у комдива закончится. Наконец, прошло ещё немного времени, и я услышал заключительные слова полковника, от которых веяло уже добротой и лаской: «Иди, капитан…, пока ещё капитан, и подумай, срок тебе на доставку языка двое суток с этого часа, не доставишь, не знаю, что я с тобою сделаю». Позже я услышал, что остальным досталось не меньше моего. А одному командиру полка, который считался другом и любимчиком комдива и по годам был старше его, вообще было высказано полное недоверие в виде таких слов как: «Не полк, а кучка раздолбаев, спите как мухи, понастроили хаток, как бобры, бобруете, и зиму думаете так пережить!? Шиш вам! Наступать у меня будете. Готовьтесь, завтра я к вам приеду ваши засидевшиеся задницы перцем посыпать».
Время, отведённое мне, пошло, и я спешно стал готовить для захвата языка очередные две разведгруппы. Сложность была в том, что на подготовку не было ну никакого времени, да и опытных ребят не хватало. Ну, думаю, была – не была, одну группу возглавлю сам – языка возьму или голову сложу, другого выхода для меня не было.
Успокоился, собрал самых лучших бойцов, распределил их по группам и отдал приказ на подготовку, заказал сапёров и выход назначил в ночь. Потом пригласил к себе начальника штаба, ротных, командира второй разведгруппы, разложил карту и решил с ними посоветоваться, как действовать. А тут телефонист подходит ко мне и говорит, что просит обратиться какой-то младший сержант. Ну, я погнал его, времени и так в обрез. Вдруг слышу:
– Товарищ капитан, разрешите обратиться, младший сержант…", – фамилии я поначалу и не расслышал.
Он повторил…. Я смотрю и не вижу его, в землянке-то темновато, а он ещё встал куда-то в угол. Я ему и говорю, подойди ближе. Подходит, вижу паренёк маленького росточка, да ещё и щупленький какой-то.
– Чего тебе? – спрашиваю. А он мне и говорит:
– Разрешите, товарищ капитан, мне на ту сторону.
– Ку-у—да?
А он опять:
– На ту сторону, товарищ капитан.
– Э-э, милый, добровольцев я уже набрал…. Опоздал ты, малость, да подрасти тебе ещё надо, языки они ведь сильных уважают, а в тебе и росту, наверное, метр пятьдесят с шапкой.
Помню, все вокруг тогда засмеялись, и паренёк этот поначалу смутился, но потом так настырно заявляет:
– Вы меня не поняли…, разрешите мне одному сходить туда…, на ту сторону!
– Как, это одному?
– Один пойду к фрицам…, вам же про систему обороны знать надо, вот я и постараюсь разведать.
– Откуда узнал, что надо?
– Так все говорят…, а язык зачем…, что догадаться нельзя?
– Ну, не разведбат, а балаган какой-то! – возмутился я, посмотрев с укором на начальника штаба, и спросил паренька:
– Как зовут-то, тебя?
– Василием зовут, товарищ капитан, а что?
– Васёк, говоришь!
– Никак нет! Василий.
– А не боязно, одному-то туда идти, Василий, да и как ты пойдёшь-то, а если тебя фрицы сцапают, что тогда?
– Конечно, боязно, но не мне одному, война ведь…. Я к ним Бурёнку искать пойду, то есть как бы коровку пропавшую…, по легенде значит. Только бы мне одежонку деревенскую и кнут какой-нибудь достать. А так я готов, память у меня хорошая, сызмальства охотой занимался, стараюсь всегда всё примечать и запоминать.
– А сколько, лет-то тебе полных будет?
– Девятнадцать, – ответил Василий, хотя на самом деле совершеннолетие должно было наступить только через два месяца.
– Что-то не верится, я бы дал лет 14 или 15…. Ладно, иди, зайдёшь ко мне через час…, подумаем, как с тобою быть – распорядился я и продолжил совещание.
Когда организационные вопросы все были решены, я доложил начальнику разведки дивизии, что в ночь за языком будут отправлены две разведгруппы, одну из которых возглавлю сам лично. Начальство, конечно, всё утвердило, кроме одной детали – меня от захвата отстранили. Сказали, назначай вместо себя другого, а ты готовься сопровождать комдива на НП к Петровичу. Петровичем звали того командира полка, который, якобы, и был другом и любимцем комдива.
2
Ещё весной за месяц до окончания семилетки надумал Василий поступить в школу речных капитанов. Шел 41 год. Но в школе принимали документы с 18 лет, а Василию исполнялось только 17 и то в декабре. Выход был единственный – приписать годик. Что и было сделано. Но так получилось, что помешала война. В школе экзамены отменили, а дома уже ждала повестка из военкомата. Вот так и стал Василий «совершеннолетним» добровольцем.
– А что, начальник штаба, посмотри-ка на младшего сержанта, по-моему, это действительно пацан, а не боец, если б не форма, а? – спросил я своего заместителя, а потом Василия:
– Бреешься?
– Никак нет! – ответил паренёк.
– Ну вот, даже не бреется…. И очень хорошо, что не бреется.
Я тогда ещё подумал, если бы не обстоятельства, не отправил бы его на ту сторону. Мне по-человечески было жаль этого тщедушного мальчишку. А вдруг, как попадётся в лапы к этим зверюгам, да пытать начнут…. А мины? Где они там их понаставили, удастся ли их пройти. Сомнения продолжали меня терзать, а срок поджимал. Мы, во что бы то ни стало, должны были выполнить приказ и добыть сведения об обороне фашистов. Но постепенно сама идея заброски этого паренька к фрицам меня стала завлекать, вроде бы всё складывалось в её пользу и, наконец, я всё-таки решился. Спустя полчаса, я приказал ротному, которого назначил ответственным за подготовку разведчиков, готовить и паренька в составе одной из групп, а после перехода нейтральной полосы оставить его одного для выполнения самостоятельного задания. Риск для меня был большим: во-первых, если бы случилось с Василием что – это было бы на моей совести. Уж слишком мало времени было на подготовку паренька. Во-вторых, начальство в известность не ставилось, юноша шёл на выполнение задания в составе группы захвата, но, если б о нашей задумке узнали наверху, меня бы по головке не погладили. А с другой стороны, если б я доложил о нашей затее наверх, её, скорее всего, запретили. А вдруг и разрешили бы – то Василия готовили более серьезно, но другие. Мы же подготовили, как смогли. Приодели по-деревенски, в основном во всё старенькое и прилично изношенное, одним словом в рухлядь. Нашли ему и кнут, и настоящую котомку, в которую положили три картофелины в мундире. По заданию Василий должен был всё, что увидит своими глазами, запоминать и ни в коем случае не делать никаких записей. Особенно он должен был разведать конфигурацию переднего края обороны и по возможности укрепления и огневые точки. Срок возвращения был назначен на рассвете.
Я не успел даже пожелать удачи пареньку и попрощаться с ним, как мне срочно передали по телефону приказ комдива немедленно прибыть на НП полка, того самого, в котором он обещал навести порядок.
Когда я прибыл на НП полка и стал докладывать комдиву, он меня бесцеремонно прервал:
– Стой рядом, вникай и слушай, что от тебя потребуется…, понял?
– Так точно, товарищ полковник, – ответил я и раскрыл планшетку.
Стою рядом и слушаю их разговор в готовности, что-либо пометить на бумаге или на карте, а писать пока и нечего. Они просто спокойно беседуют, и по характеру разговора я понимаю, что они действительно хорошие друзья-товарищи. Комдив тихо так говорит командиру полка:
– Ты, Петрович, не серчай на меня за вчерашнее. Это для порядка…, что б других приструнить. Нам скоро всем будет нелегко, и все мы тут поляжем, если думать перестанем. Немец – он же кто? Да самый, что ни на есть шаблонщик. Просто обмануть его надо.
– Было бы, чем обмануть, обманул…, легко сказать, воюю полком двух-батальонного состава, – посетовал Петрович.
Но комдив не дал договорить командиру полка и прервал его:
– Петрович, а что если, мы возьмем да ударим с твоего участка по фрицам, а?.. Как думаешь!?
– Так уже ударяли, товарищ первый, и даже в их траншеях побывали недели как две назад. Контратака тогда удалась, и мы как попёрли…. Но вышибли они нас, силёнок не хватило, что б закрепиться, я ж тебя просил о помощи – ответил командир полка и добавил:
– Теперь они учёные, колючкой себя окружили, мин понаставили, не достать их, а система огня, укреплений и заграждений нам пока неизвестна. Наблюдаем и помечаем, в основном только огневые точки, а что мы можем ещё?..
– Тогда, Петрович, я был сам гол как сокол…, извини, ничем помочь не мог. Командарм, когда башку мне намылил вчера, вроде как обидел меня. А потом я многое понял. Особенно, когда он мне уже так спокойно объясняет, подумай, мол, где у них оборона послабее, там и вдарь, как следует. Слышь-ка, в случае удачи, обещал дать целый батальон для развития успеха, а то и полк. Смекаешь, чем пахнет? Доверяют нам…. Вот и давай покумекаем, – предложил комдив Петровичу.
– Нет, без данных разведки удар бесполезен. Кумекай – не кумекай, людей положим, да и только, – с сомнением высказался командир полка и добавил:
– Можно конечно ещё попробовать и провести разведку боем. Но у меня для этого сил нет. Тут нужна хотя бы рота. При этом необходима ещё поддержка артиллерии или авиации.
– А что, я тоже думал над этим. Если разведчики Бугрова опять обделаются, придётся целую роту, а может быть и больше ребят положить ради общего дела, – согласился комдив и, взглянув на меня, язвительно спросил:
– Ну, что, понял теперь свою роль и место?
– Так точно, товарищ полковник, будем стараться выполнить приказ, – ответил я хладнокровно.
– Уж постарайся! А то ведь я…, – и комдив, не договорив, подошёл к стереотрубе и стал рассматривать местность и позиции противника.
3
– Хальт! – как выстрел в спину прозвучала команда на немецком языке и поневоле заставила Василия остановиться. Как хорошо, – подумал разведчик, что я с испугу не поднял руки вверх, а то пропал бы сразу. Он обернулся и попытался определить, откуда последовала команда, но в темноте трудно было что-либо разглядеть. Вдруг из-за кустов вышли два здоровенных немца в камуфлированных костюмах со шмайсерами наперевес.
Один из них, наверное, старший, взмахами руки приказывал подойти к ним, при этом, приговаривая: «ком, ком, шнель…». Еле переставляя одеревеневшие ноги, Василий подошёл к немцам.
– Вас махст ду хиер? – заорал старший немец, схватив больно Василия за плечо и вырвав из рук его кнут.
Василий молчал, а его бегающие испуганные глазёнки как бы говорили, что он не понимает сказанных слов.
– Вас махст ду хиер? – опять повторил свой вопрос немец и неожиданно ударил кнутом паренька.
Удар пришелся по спине, но одежда в какой-то мере смягчила его, однако последующие удары оказались больнее, и Василий закричал и заплакал.
– Швайген! – брызгая слюной в лицо юноши, заорал здоровяк.
Он перестал бить Василия, передав кнут другому немцу, а сам рывком содрал котомку с плеча юноши и вывернул всё её содержимое. На землю вывалились три картофелины. Немцы посмотрели друг на друга и по-идиотски загоготали. Потом здоровяк лапищей своей впился в плечо юноши и заставил его развернуться кругом. Больно тыкая дулом автомата в спину и повторяя одно и тоже: «Шнеллер!», – он направлял Василия вдоль траншей. Второй немец, зайдя вперед юноши, стал как бы проводником.
Светало. Василий старался не отставать от впереди идущего немца, чтобы не получать от следующего за ним здоровяка больных тычков в спину. Тревожные мысли не покидали его ни на минуту: «Всё…, хана…, куда, зачем ведут?.. сразу не расстреляли…, значит, будут допрашивать…, надо было уходить раньше».
А глаза разведчика, между тем, делали своё дело…, наблюдали. Искоса, стараясь не поворачивать головы, он посматривал направо. Василий никогда не видел так близко много немцев. Некоторые из них откровенно дремали возле орудий и пулемётов. Эх, – про себя подумал разведчик, – вот и надо их брать на рассвете, как сонных тетеревов…, по ночам-то они бдительные из-за страха. Чуть дальше он стал замечать хорошо замаскированные амбразуры огневых точек и вкопанные танки. А силищи тут у них больше, чем справа, – успел только подумать разведчик, как тут же получил удар в спину. Ойкнув, он сразу ускорил шаги.
Минут через двадцать они повернули направо, а еще через 2—3 минуты Василия грубо впихнули в блиндаж, где за столом, склонившись над картой, сидели два офицера. Здоровяк что-то громко по-немецки рявкнул, вытянувшись, а затем, взяв Василия за шиворот, подтащил его к столу и поставил прямо перед офицерами. Его напарник передал им кнут Василия. Четыре глаза принялись пристально рассматривать кнут и юношу сверху донизу. Разведчику казалось, что не было места на его одежде и теле, где бы не побывали эти глаза. Тягостное молчание продолжалось недолго. Вопрос, очевидно, переводчика, был неожиданным и застал разведчика врасплох:
– Кто тебья заслал в расположение немецкие войска?
Василий растерялся и не знал, как ответить, и немец прикрикнул на него:
– Отвечайт!
Юноша ничего не мог придумать и просто заплакал, причитая:
– Ни-и-кто…, я корову искал и заблудился.
– Мольчать! – крикнул переводчик и ударил ладонью по столу, поднялся и подошёл совсем близко к Василию и впился своими оловянными зрачками в глаза паренька.
– Откуда ты пришоль?
– С Михай-ло-о-вки…, с деревни, – продолжая всхлипывать, ответил Василий.
– Покажи карта, где это твоя деревня!? – повышая голос, спросил офицер.
Василий опять заплакал и промямлил:
– Я не ум-м-ею показ-з-зывать.
Он хорошо понимал, что если бы он показал Михайловку, то его бы песенка была спета. Переводчик покачал головой и с показной досадой произнёс:
– Какой плёхой мальчик, совсем глюпый…, он думает, что все вокруг его тоже одни дураки. И никакой коровки у него нет, все он выдумывает. Его коровку давно бы большевики съели или наши зольдатен… Ну что, будешь говорить правду!?
– А вот и нет, – повеселел Василий, – коровёнка есть. Я её в землянке прятал…, всё у этой заразы было, и жратвы полно, и вычищал я у неё всегда вовремя, а вот убежала сво…
– Мольчать! – оборвал юношу офицер и уставился в карту.
Похоже, что офицер искал Михайловку, и это подтвердилось, когда он с издёвкой произнес:
– А ты корошо заблюдился… Коровы так далеко не убегайт от короший хозяин…. Целих пьять, как это по-вашему, вьёрст, ты шоль за своей зараза, а пришоль к нам… Ну-у, так кто тьебя послал?
– Дяденька, коровёнка моя очень шустрая, не послушная, только кнута боится…, застоялась поди, надоело ей, вот и убежала, куда глаза глядят…. Я шёл по её следам, а следы у коровы – они известные, то копыто отпечатается, то наложит кучу…. А как темнеть стало, то и следы пропали. Шёл наугад лесом, потом на поляну вышел, а тут меня… и забрали, – всхлипнул Василий.
– Корошо придумаль…, ну а зольдатен у вас Михайловка есть?
– Не-а, солдат у нас нету. Никого у нас нету, одни бабы с детями, да старики, – соврал Василий.
В Михайловке на самом деле стоял артиллерийский дивизион. И для убедительности сказанного юноша добавил:
– Иногда заходят какие-то военные за самогонкой….
– Водка? – перебил, оживившись, офицер.
– Ага, домашняя…, бабы гонят, да где её теперь взять-то, кругом бескормица…, порыщут-порыщут, да уходят, не солоно хлебавши…. У нас ничего нету, одна картошка и той чуть осталось, да вот коровка ещё пропала, – и Василий заплакал, – отпустите меня дяденька, меня мамка ждёт.
Второй офицер, не проронивший во время допроса ни слова, вдруг бросил карандаш на карту и, повернувшись к переводчику, небрежно процедил: «Вег!». Переводчик, ехидно улыбаясь Василию, прогнусавил:
– Ты – короший мальчик, только не плачь, мы тьебя отпускайт, но корову свою больше здесь не ищи. Ещё раз попадайт – будем стреляйт! – и сказал что-то по-немецки здоровяку.
Здоровяк, взяв кнут со стола и, схватив Василия за шиворот, повёл его к выходу.
– Вот теперь всё, сейчас этот верзила отведёт чуть подальше и…, – подумал Василий и, уже не обращая никакого внимания на ненавистные тычки в спину и слова «шнеллер – шнеллер», стал вспоминать родителей, братьев, дом в котором вырос, и невольно повторять молитвы, которым когда-то учила его мать.
Но здоровяк отвел юношу до самой дальней траншеи и ещё метров на 10 от неё, а затем неожиданно влепил ему такую оплеуху, от которой у Василия посыпались искры из глаз и он не смог удержаться на ногах. Он упал. Из носа сгустками пошла кровь. Сил встать не было, но он видел, как немец, ругаясь, бросил в него кнут, развернулся и ушёл.
4
– Товарищ капитан! – сообщил мне дежурный, – к вам пришли.
– Кто!? – спросил я недовольно, – неужели сразу нельзя доложить, как положено.
Подступала вторая ночь, а известий от групп никаких не было…, Васёк, как мы его прозвали, под утро тоже не явился. Я старался не показываться на глаза ни начальнику разведки, ни, тем более, комдиву. На многие телефонные звонки из штаба реагировал просто: «Жду, сообщу немедленно». Потом мне сказали, что полковые разведчики вернулись без языка. К вечеру звонить совсем перестали. Я стал догадываться, похоже и на нас крест поставили, и приступили к подготовке разведки боем, которая по плану должна была проводиться на рассвете.
Но вот дежурный снова докладывает:
– Два бойца привели к Вам кого-то.
– Пусть войдут! – распорядился я.
Смотрю, подводят ко мне какого-то мальчишку, в порванной и грязной одежде, с кнутом на правом плече, а на лице у него ссадины и кровоподтеки под глазами. Всматриваюсь лучше, и глазам не верю – передо мной стоит наш Васёк. Вид у него измождённый донельзя, но глаза блестят. Я, конечно, очень обрадовался, жив, значит, наш Васёк. Отдаю приказание, мол, сначала, отмыть, накормить и сразу ко мне. А он мне и говорит:
– Нет, товарищ капитан…, сначала дайте мне бумаги и карандаш, остальное – потом.
– Хорошо, – соглашаюсь с ним, – пусть будет по-твоему. Даю всё то, что он просит, и выделяю ему целый стол.
Сам стою рядом и наблюдаю. Вижу, как он старательно, слюнявя карандаш, рисует схемы, стрелочки и аккуратно, бисерным шрифтом что-то пишет над ними. Не сдержав любопытства, спрашиваю:
– Чего задержался-то? Никак к немцам попал?
– Так точно, попал – ответил Василий.
– Допрашивали…, пытали?
– Ага, но не особо…, выручил меня кнут, от которого мне же и моей спине хорошо досталось. Побили, но всё же отпустили, может, поверили в нашу легенду, что я пастух, а может, просто мне повезло.
Поясняя свои зарисовки и записи, Василий выявил главное, что левый фланг немцев укреплен слабее. Очевидно, они надеялись на непроходимость болота и на то, что морозы наступят ещё не скоро. Пленный офицер, которого чуть позже доставила одна из разведгрупп, показал, что выходы из болота были заминированы. Мы все потом удивлялись, как же Васёк прошел этот участок, не подорвавшись. Действительно, пареньку повезло дважды.
Комдив, часом позже, всматриваясь в схемы, нарисованные Василием и, выслушав мои объяснения, улыбаясь, спросил:
– А кто же нарисовал это произведение?
– Наш разведчик, Васёк…, товарищ полковник, – ответил я, и назвал фамилию младшего сержанта и добавил:
– Под видом пастушка он ходил в разведку прошлой ночью один и нарисовал позиции немцев по памяти.
– Молодец, сержант! Многое сходится с показанием языка. Оформить документы на представление его к ордену Красной Звезды, – приказывает мне комдив и просит вызвать в штаб своего Петровича.
Сейчас я уже плохо помню, что было дальше. Помню только отдельные слова, которые были главными при постановке боевой задачи комдива командиру полка. Они были произнесены как-то сухо, но в тоже время торжественно:
– Полковник! Переносите свой НП на правый фланг…, и быстрее! Наступать будем через болото. Разведку боем отменяю. Тут всё ясно…. То подразделение, которое предназначалось для разведки боем, выдвигается первым, но впереди его пойдут сапёры и проводники. Постарайтесь в деревнях разыскать проводников. Начинаем на рассвете. Всё! Успехов тебе, Иван Петрович! Всем готовиться…, я – к командующему на доклад.
Позже, уже в какой-то освобожденной деревеньке, мы обмывали орден и сержантское звание нашего пастушка. Васёк, как тогда все стали его ласково называть, пил неумело, и только давился водкой, а мы здоровые лбы смеялись над ним, конечно по-доброму. Мы же не знали, что было ему всего только семнадцать годков.
Завершая свою историю, Иван Иванович мне сказал:
– Вот так вот ваш отец с нашими разведчиками совершили подвиг, чем сохранили многие жизни наших бойцов в наступлении дивизии.
Вместо послесловия
С тех пор, как мы встречались с Иваном Ивановичем, прошло более 20 лет. Связь с этим замечательным человеком, к сожалению, была потеряна. Дети послевоенных лет давно уже стали дедушками и бабушками. Не отстал от них и я, обзаведясь тремя внуками. Моя дочь, художник, как-то спросила меня:
– Пап, тебе нравится, как я рисую?
– Очень нравится, ты у меня талантище, – ответил я.
– А в кого мой талант, в маму?
– Да, в маму, – и потом добавил, – и в деда Васю тоже.
Алексей Ветров
Московская область, г. Химки
В 41 году
- В сорок первом году он ушёл на войну,
- Растворился на фоне заката.
- Постоял на пороге и обнял жену.
- Он ушёл в синеву без возврата…
- Он покинул свой город, свою тишину,
- Милой Родины стёжки—дорожки,
- Иву гибкую, что растворилась в пруду,
- Облаков беспокойных рогожки.
- Он свой дом защитил от фашистской чумы,
- Стал Великой Победы солдатом,
- Отдал жизнь за свободу любимой страны,
- Победил, но не видел парада.
День Победы
- Безмолвных обелисков тишина,
- Истёртой фотографии печаль…
- Как будто вечность длилась та война,
- И потому близка нам эта даль.
- Мне не увидеть деда никогда,
- И эта боль всегда живёт во мне!
- Лишь в детях осветится, как искра,
- Улыбка в чёрной рамке на стене.
- Не переоценить и не забыть
- Величие и подвиг той страны,
- И в новом веке будут нам светить
- Победные салюты той весны.
- Пришёл тот день в году пороховом
- Всеобщим избавленьем от беды,
- Победой правды, жизни торжеством,
- Желанным окончанием войны!
Дети Великой Отечественной
- Так много минуло с той памятной весны.
- Шагнули в Лету годы испытаний,
- Почти что все свидетели ушли.
- Остались книги, письма и преданья.
- Воспоминанья наповал разят,
- Пронзая душу ужасом и скорбью.
- Не верится теперь в весь это ад,
- Как наши предки вынести такое!
- Лишь живы дети проклятой войны,
- Им фильм военный – тяжкий груз на сердце.
- Скитанья вечные, без крова, без еды,
- Кругом беда, куда ж им малым деться.
- Измученные дети у дорог
- В надежде на добро и подаянье
- И в двадцать первом помнят, кто помог,
- Кто в век двадцатый дал им пропитанье.
- Забыть не в силах дети-старики
- Солдатской кухни запах вновь вплывает…
- Те муки адовы их памяти близки.
- Они войны нам впредь не пожелают.
- И как же важно их сейчас понять,
- Услышать крик души их затаённый,
- Когда пытаются Победу отобрать,
- Ужалить ложью нерв их оголённый.
Кадрия Галиева
(псевдоним Кадрия Яхья)
г. Москва
К ночи залегли туманы
Рассказ
Взъерошенный Гимай приехал из города, забежал в дом, когда Сулпан с Латифой апай разбирали целебные корешки, что накануне собрали в лесу. Он крепко обнял жену.
– Ты соскучился по мне, любимый?! Ты чего ледяной в знойную пору? Мама, посмотри, Гимай не заболел? – обнимая, Сулпан губами прикоснулась к холодному лбу мужа.
– Ты не заболел, Гимай? – не понимая поведения мужа, уже начала беспокоиться Сулпан. Он взглянул в глаза жены:
– Война началась!
Сулпан, не понимая, смотрела на Гимая. Латифа апай, которая всё это время перебирала растения, замерла, и из глаз её потекли слезы. Женщина потеряла мужа, став самой несчастной без любимого, её братья и все родные погибли тогда в Первой мировой войне, и она знала ужасы её начала.
– Беда, доченька, пришла! – гладила по голове Латифа апай свою Сулпан, которая, видя слёзы матери, тоже начала плакать.
– Гимай, что это теперь будет?! Ты же не бросишь меня? – трясла мужа Сулпан.
– Мама, он же не уйдёт от нас? – обращалась, уже не сдерживая себя, она к Латифе апай.
Слёзы лились у Сулпан, и Гимай отвел её в комнату и попросил успокоиться. Ему нужно было посоветоваться со старейшиной Лукманом бабаем, медлить нельзя было: слухи могли дойти до колхозников и в деревнях могло начаться беспокойство в посевную пору.
Помолчав немного, Лукман бабай сказал:
– Видел я во сне – ребёнок в колодце плачет! Трава лечебная превращается в ядовитое зелье! Проснулся со страхом ночью, лежал долго, шайтаны разбушевались. Подумал – начнут путать гривы лошадей в упряжке и пожары устраивать! – вздохнув, задумчиво добавил:
– Вот она, беда, пришла какая! Кататься да резвиться на земле нашей враг хочет! Не бывать, Гимай, этому! Не бывать, сынок! Ты послушай меня, председатель! К ночи залегли туманы и выпала роса, значит, продержится хорошая погода в ближайшие дни. Ты наказ сейчас дай: пусть завтра перед работой колхозники к правлению соберутся, там всё приведешь в движение! – сказал мудрый старейшина.
– Мобилизация1! – произнёс Гимай.
– Вот там и проведёшь мобилизацию, народ подготовишь к таким новостям.
– Теперь на тебе не только колхоз, сынок, на тебе ответственность за Победу, сколько бы времени на неё ни понадобилось!
Когда председатель Гимай ушёл, Лукман бабай долго сидел, склонив голову, природа словно замерла, старик слушал тишину в страшном ожидании большой людской беды. Его тяготили воспоминания молодости – после возвращения с войны он узнал, что мать тяжело болела и умерла, бедная, в муках. Патшалар 2 отобрали за долги, и чтобы не досталось никому из новой власти, сожгли дом Лукмана. Его тогда приютила больная старуха-соседка, которая делила с ним еду и кров до своей смерти. Старик всегда радовался счастью поколения, не видавшему близко ужасов войны и не знавшему горечи потери.
Все звуки стали тише, вкрадчивей, затихли ветра, завершался сезон пения певчих птиц. Лукман бабай слушал тишину, и лишь иногда слышал он недолгую трель соловья, аукающий зов кукушки, доносящийся из лесных чащ. Заканчивалось цветение диких трав, уходило молодое лето, и ему на смену приходило урожайное лето 1941 года.
После произведённых трудов, когда оставалось только ждать урожай, в деревне устраивали пышное застолье, благодарили друг друга, соседей за помощь, затем молодёжь хороводила и в игры забавные играла, а трудовой люд сытно угощался, пел, плясал и радовался. Что же будет, когда кормильцы семьи уйдут на войну, как же женщины уберут урожай вовремя, всё поспеет, почернеет, сгниёт?! Останутся без припасов на зиму женщины и дети малые, голод начнётся в деревнях. Сидел Лукман бабай, так размышляя, пока темнота не опустилась на землю. В туманной пелене старику показалось, что бродят фигуры умерших людей и животные со страшными мордами, будто увести за собой хочет его нечистая сила, и поминай как звали.
– Неурочный час настал, шайтаны – черти гуляют над землёй, крутят и одурманивают людей добрых! – прошептал старик.
– А ну, пошли вон! – трижды сплёвывая, закричал Лукман бабай в темноту, помолился Всевышнему и зашёл в дом. Завтра будет тяжёлый день, председателю нужна помощь старейшины деревни в светлом деле победы!
Гимай собрал своих помощников, бригадиров поздно вечером в правлении колхоза. Мужчины все хотели ехать на мобилизацию в город, но предстояло решить до завтрашнего утра, кто в месяц – прибериху2 в колхозе останется. Хозяйство деревенское запускать нельзя, работа тяжёлая ложится на плечи тех, кто останется в колхозе.
– Председатель, всякий, кто подрос – могут на сенокос! Я с малых в поле работаю! – говорили мужики на собрании.
– Не то сено, что на лугу, а то, что в стогу!
– Худо будет, коли сена не будет! Скотину резать придётся, без коровы в деревне никак нельзя! – выкрикивали, соглашаясь с выступающими.
– За сенокосом и хлеб убирать пора придёт! – подхватывали другие.
– Я об этом вам и говорю, на оставшиеся плечи ляжет много работы, решить нам надо, чтобы и своя ноша не тянула, и, если помощь нужна будет, в других колхозах помочь сумели!
Расходились колхозники, обсуждая перемены, повезло, что дали день на сборы, ведь с других колхозов прямо с полей забрали мужиков. Охотники уходили в первую очередь. В тех семьях, где отцы уйдут на фронт, должны позаботиться об урожае старшие сыновья, без внимания и заботы землю не оставить.
Народ собрался возле правления, в эту пору в самом разгаре была заготовка сена и, если случались грозы, много хлопот доставляло ненастье косарям тогда. Во многих делянках сено не было смётано в стога, и колхозники спешили скопнить его до дождя. Если не успеют, после дождя снова разбирать копны придётся и просушивать сено заново. Ждали председателя, надеясь по сухой погоде успеть сено в стога поставить. Время подходило и досевать гречиху в поле, в летнюю пору крестьянам спешить приходилось.
– Председатель, дважды лета в году не бывает, – говорили колхозники, подшучивая, что время уходит, и всем скорее нужно идти по делам.
– В июле по полю густо, зимой в амбаре густо! – начинал уже волноваться народ.
– Солнце высоко встанет, работать тяжело будет, сам же ругаться будешь, председатель! – выкрикивали мужчины.
– Солнце без огня горит! Запечёт совсем! – возмущались женщины.
Гимай продолжал разговаривать с бригадирами, народ, хоть и возмущался, начал подозревать, что неспроста их председатель собрал людей. Все чуть притихли, когда вышел Ямал – помощник председателя:
– У вас только три работы: пахать, косить и сеять! Чего развозмущались! Занят он, – начал было он, лошадь дёрнула повозку, и Ямал чуть не упал, вызвав общий хохот собравшихся.
– Председатель, давай, скажи своё слово! – окликнули Гимая.
Когда вышел он, народ замолчал:
– Колхозники! – начал председатель.
– Погромче, мы не слышим! – крикнули откуда-то сзади.
– Люди! Люди! – ещё раз, уже громче начал выступление Гимай. – На нашу страну напал германский фашист, вероломно – ночью, когда добрые люди спали! Фашист вторгся на нашу Родину! По всей стране идёт всеобщая мобилизация! Парни, кому есть 23 года, бригадиры зачитают списки, завтра отправляются на фронт! Кто останется здесь, будет биться за урожай – труд в полях нелёгок, как труды ратные, важен для фронта! Кто останется – будет работать за двоих, за троих, а то и за четверых!
