Судебное примирение в гражданском процессе США
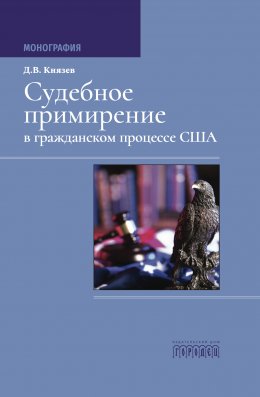
© Князев Д. В., 2020
© Издательский Дом «Городец» – оригинал-макет (верстка, корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2020
Посвящается моим родителям
Князев Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Юридического института Томского государственного университета, заведующий кафедрой гражданского процессуального права Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Томск).
Монография подготовлена при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (выделен грант, проект № 17–03–50208).
Рецензенты:
Борисова Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;
Носырева Елена Ивановна – доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Воронежского государственного университета.
Введение
Тема альтернативного разрешения споров (АРС) в настоящий момент находится на пике популярности в России. Причины такой популярности известны: нагрузка на судебную систему из года в год растет, поэтому государство стремится к ее снижению и в качестве одного из средств в этой борьбе предлагается именно АРС. Разного рода посреднические (медиативные, примирительные) процедуры традиционно занимают значительную долю числе в способов АРС других государств. 25 октября 2019 г. вступили в силу поправки в российское процессуальное законодательство, предусматривающие учреждение нового для России института – судебного примирения. В связи с этим проблема участия судей в примирительных процедурах вышла на новый уровень.
Вниманию читателя предлагается работа, посвященная анализу опыта Соединенных Штатов Америки в вопросах участия государственных судей в урегулировании гражданских споров.
Популярный образ американского судебного процесса – это судья, который председательствует в судебном заседании в зале суда, в ходе процесса адвокаты приводят свои аргументы, представляют доказательства, допрашивают свидетелей, все это завершается решением судьи или состава присяжных по существу дела. Отличительная черта гражданского процесса США – его состязательность: «Состязательная система гражданского процесса США является синонимом и одновременно центром американской правовой системы»[1], а «ценности состязательной системы настолько глубоко укоренились в американском правосознании, что большинство юристов не сомневаются в этом»[2]. Состязательная система разрешения дела в целом содержит два ключевых элемента: во-первых, стороны несут ответственность за сбор и представление доказательств, за аргументы, предъявляемые суду; во-вторых, лицо, принимающее решение, ничего не знает о существе спора до момента рассмотрения его по существу, когда стороны представят суду собственные отточенные версии дела[3]. Все это «покоится на уверенности в полной нейтральности судьи, который является из своего офиса, не имея предвзятого мнения, – с целью обуздать баталии между сторонами»[4]. При этом судебное разбирательство есть кульминация судебного процесса, которая предлагает аудитории «живые картинки права в действии»[5].
Вместе с тем в современных американских судах судебное разбирательство гражданского дела как стадия процесса случается не часто. В реальности рассмотрением гражданского дела по существу с вынесением судом решения заканчивается лишь малая часть судебных дел. Обратимся к статистике: с 1962 по 2002 г. в федеральных судах количество дел выросло с 50 000 до 258 000, при этом число судебных разбирательств в 2002 г. составило 4569 против 5802 в 1962 г. (соответственно это 11,5 % в 1962 г. и 1,8 % в 2002 г.)[6]. Большинство дел рассматривается судами штатов. Например, во Флориде с июля 2010 по июнь 2011 г. зарегистрировано 2 774 302 обращений в суды первой инстанции (не включая споры по завещаниям, семейные, а также споры в связи с ДТП). Из них 1049 дел было разрешено судом присяжных и 4348 дел разрешено судьями единолично в судебном разбирательстве, следовательно, менее 0,2 % всех дел было разрешено в судебном разбирательстве[7]. С 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.: количество дел, находившихся в производстве федеральных судов, – 286 585; количество дел, по которым судами были совершены процессуальные действия на стадии судебного разбирательства или после нее, – 2513, таким образом, количество дел, достигших стадии судебного разбирательства, составило 0,88 %[8].
Как утверждает, например, судья Апелляционного суда пятого округа США, «сегодня вообще маловероятно, что дата судебного разбирательства [по делу] когда-либо будет назначена, и еще ниже вероятность того, что такая дата будет иметь какое-либо значение для суда и для сторон»[9]. Взамен рассмотрения дел по существу, «окружные судьи и их персонал практикуют так называемое “администрированное” правосудие, это процедура, в ходе которой они различными способами ищут возможности примирения сторон и избегания необходимости вынесения решения, которое могло бы обременить апелляционный суд необходимостью его пересматривать»[10]. Некоторые судьи приравнивают судебное разбирательство, точнее назначение и проведение судебного разбирательства по конкретному делу, к неудаче (провалу, ошибке)[11]. Такое случается, если юристы плохо сделали свою работу и не урегулировали спор миром[12]. Сложившуюся ситуацию в американской правовой литературе называют vanishing trial (исчезающее судебное разбирательство) – явление, при котором, несмотря на рост количества обращений в суды, судебное разбирательство проводится лишь по незначительному количеству дел. Стоит отметить, однако, что в США централизованно не ведется статистика, учитывающая в общей массе дел, оконченных без вынесения решения по существу, долю случаев окончания дела в связи с заключением сторонами соглашения. Часто называют примерную цифру 90–95 %[13]. Исследования показывают, что реальные цифры могут быть меньше, и сильно колеблются в зависимости от местности и природы спора[14]. Вместе с тем неоспорим тот факт, что основная масса дел оканчивается на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (pretrial) или непосредственно перед началом судебного разбирательства в связи с заключением сторонами соглашения об урегулировании спора.
Значительную роль в урегулировании споров играют сами судьи и квазисудебные органы (например, судьи-магистраты) посредством администрирования примирительных процедур или непосредственного участия в них. Однако гражданский процесс США не всегда был таким. Феномен «управления делом» (кейс-менеджмент), существенное повышение активности судей в тех или иных формах урегулирования гражданских споров берут начало во второй половине XX в. – почти сразу после принятия Федеральных правил гражданского процесса США 1938 г. (далее – ФПГП 1938 г.). Правомерен вопрос, как судья из независимого беспристрастного арбитра, кем он всегда был в состязательных системах общего права, превратился в примирителя (медиатора, посредника)? Далее предпринимается попытка ответить на этот вопрос. Несмотря на то что судебной системе США свойственен дуализм (параллельное существование системы федеральных судов и судов штатов), в ходе исследования автор намеренно пренебрег этим обстоятельством, так как различия в проявлениях исследуемого предмета на уровне федеральных судов и судов штатов едва ли ясно различимы, если обозревать картину целиком, не вдаваясь в детали.
Раздел 1. Предпосылки и этапы формирования функций судей по урегулированию спора
Глава 1. Проблемы гражданского процесса США перед принятием ФПГП 1938 г.
§ 1.1. Плидирование и значение этой стадии до принятия ФПГП 1938 г.
Прежде чем переходить к заявленному вопросу, стоит внести ясность в отношении некоторых употребляемых далее терминов. Так или иначе, далее речь пойдет в том числе о плидировании. Эту процедуру применительно к периоду до принятия ФПГП 1938 г., как представляется, будет справедливо именовать стадией американского гражданского процесса. В российской правовой доктрине вопрос о понятии стадии гражданского процесса, о критериях деления на стадии, об их количестве – один из дискуссионных. По существу, мнения ученых в отношении понятия стадии расходятся в связи с определением той цели, которая должна достигаться при совершении процессуальных действий, объединенных в одну стадию. Основываясь на различном понимании этой цели мнения ученых можно условно разделить на две главные группы. Первая – более многочисленная – группа полагает, что стадия гражданского процесса есть совокупность процессуальных действий, направленных к одной близлежащей (ближайшей) цели[15]. Тогда к стадиям относят возбуждение дела, подготовку дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, апелляционное производство, кассационное, надзорное, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение судебного акта. Вторая группа настаивает на том, что стадия процесса – это его часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели, соответствующей этапу судопроизводства, в котором спор или жалоба должны быть рассмотрены по существу[16]. Поэтому под стадиями понимают более крупные образования: производство в суде первой инстанции (от возбуждения дела до вынесения решения); производство в апелляционной инстанции; производство в кассационной инстанции, в порядке надзора, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение судебного акта. Приведенные стадии некоторые ученые также предлагают называть правоприменительными циклами, в рамках которых уже выделять стадии возбуждения, подготовки и совершения правоприменительного акта[17].
Таким образом, не вдаваясь в дискуссию относительно понятия стадии, необходимо указать, что большинство российских ученых при характеристике стадии гражданского процесса так или иначе обращают внимание на ее завершенность, наличие определенной цели, которой эта стадия подчинена. Американские правоведы, как и все американцы, будучи людьми глубоко прагматичными, традиционно не придают большого значения употребляемым терминам, гражданский процесс для них есть прежде всего инструмент, служащий потребности общества в правосудии. В связи с этим в американской литературе редко можно встретить теоретические рассуждения относительно природы того или иного явления без их привязки к практической деятельности. Как писал В. К. Пучинский, «в соответствии с традициями англосаксонской юриспруденции, издавна оказывающей предпочтение комментаторскому методу, большая часть публикаций касается сугубо конкретных аспектов практики. Авторы исследований не обнаруживают склонности анализировать теоретические проблемы фундаментального характера…»[18] Так и со стадиями гражданского процесса. В литературе обходится стороной вопрос о критериях деления процесса на стадии и об их числе. Разные авторы могут включать в число стадий процесса совершенно различные процессуальные действия. Стадии процесса обычно упоминаются вскользь, характеризуются лишь приблизительно, дабы дать читателю возможность получить общее представление о ходе гражданского судопроизводства, ввести его в курс дела, с тем чтобы перейти к более подробному изложению вопросов отдельных этапов судопроизводства. Вместе с тем традиции российской правовой доктрины обязывают к более внимательному употреблению терминов. Как мы выяснили, стадия гражданского процесса есть этап судопроизводства, состоящий из совокупности процессуальных действий, имеющих единую цель. В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «стадия» определяется как период, ступень, этап в развитии чего-нибудь. Следовательно, имея в виду стадию гражданского процесса, мы можем употреблять также слова «этап», «ступень», «период», полагая их синонимами слова «стадия». Этап плидирования в американском гражданском процессе в эпоху до принятия ФПГП 1938 г. представлял собой такую обособленную совокупность процессуальных действий сторон процесса и суда, которая имела собственную цель, процесс на ней часто заканчивался без перехода к следующему этапу – судебному разбирательству. В связи с этим плидирование в указанный период времени, на наш взгляд, по праву можно называть самостоятельной стадией процесса. С принятием ФПГП 1938 г. плидирование утратило былое значение. Правила 1938 г. сделали их лишь частью подготовительного этапа перед судебным разбирательством – наряду с раскрытием доказательств (discovery), собственно подготовкой дела к судебному разбирательству (pretrial). С этих позиций употребление термина «стадия» применительно к плидированию после принятия ФПГП 1938 г. будет не вполне корректно.
Одной из предпосылок коренного изменения гражданского судопроизводства США, случившегося после принятия ФПГП 1938 г., являлась совокупность проблем подготовительного этапа гражданского судопроизводства, который по существу сводился к стадии плидирования (pleadings). Плидирование есть процедура обмена состязательными бумагами[19]. Кроме того, этим термином могут объединяться нормы закона, которые регулируют заявление истцом иска и возражение против него ответчиком[20]. Недостаток этой стадии накануне принятия ФПГП 1938 г. состоял в том, что она не предлагала никаких способов проверки фактического основания утверждений и отрицаний сторон; система плидирования была неспособна дифференцировать действительно спорные факты, обстоятельства и бесспорные[21]. Стадия плидирования всегда занимала значительное место в американском гражданском процессе (вслед за английским).
В американской литературе[22] принята следующая периодизация плидирования. Первый период – плидирование по правилам общего права (common law pleading) – уходит своими корнями в древность английского права, продлился до середины XIX в., когда в 1848 г. в штате Нью-Йорк был принят Процессуальный кодекс (Code of Procedure of the State of New York), известный так же, как Кодекс Филда (Field Code). После этого начались изменения в других штатах. Второй – фактическое плидирование или плидирование по кодексам (code pleading или fact pleading), длился до принятия ФПГП в 1938 г., после чего большинство штатов перешли на схожие правила. Третий период – с момента введения в действие ФПГП 1938 г. по настоящий момент – уведомительное плидирование (notice pleading). Фактическое и уведомительное плидирования появились и эволюционировали как реакция на плидирование по правилам общего права и существовавшее параллельно с ним право справедливости. Американское гражданское судопроизводство всю историю своего реформирования пыталось избавиться от «родовых травм», полученных в период формирования и действия общего права. Таким образом, плидирование по правилам общего права образно есть почва, на которой выросло современное дерево американского гражданского судопроизводства – со всеми его особенностями и проблемами.
Несмотря на то что плидирование по правилам общего права в настоящий момент в США не применяется, до сих пор обнаруживаются рудименты этого института. В связи с этим стремительное перерождение роли судьи в подготовительной стадии гражданского судопроизводства США в XX в. невозможно объяснить в отрыве от истории изменения плидирования. В США он прошел долгий путь, который начался задолго до формирования американского права как такового. Чтобы подойти ближе к самому предмету исследования, стоит обратиться к истории возникновения английского права, которое стало “the birthright of Englishmen” (правом по рождению англичан) для американских переселенцев. По части права и правовых традиций Америка многое унаследовала от Англии. Невозможно понять американскую правовую систему без обращения к истории английского права. Несмотря на то что она хорошо известна и описана в том числе в русскоязычной литературе[23], считаем необходимым остановиться на некоторых наиболее важных моментах в целях проникновения в природу исследуемого явления.
Перед Нормандским завоеванием Англии 1066 г. отправление правосудия на ее территории осуществлялось множеством местных судов под началом феодалов на основе обычаев. После вторжения Вильгельм Завоеватель не стал упразднять местные суды, а увеличил их число, учредив три королевских суда: Суд Королевской скамьи, Суд Казначейства и Суд общих тяжб. В XI–XII вв. защита права за пределами ограниченной власти местных судов могла быть предоставлена только при содействии короля[24]. Для того чтобы дело было рассмотрено королевским судом, требовалось обратиться к канцлеру и просить его о выдаче предписания (приказа, writ) суду рассмотреть дело. Каждый приказ предусматривал специальный способ защиты для отдельных правонарушений. В начале своего развития королевские суды рассматривали ограниченное число дел: относительно владения землей, иски из контрактов, иски из деликтов. Однако с течением времени компетенция королевских судов постепенно расширялась. В 1227 г. был составлен первый список приказов[25]. Достаточно быстро стало ясно, что те приказы, которые имелись, не всегда отвечали потребностям истцов, поэтому большое множество деликтов оставалось без соответствующих способов защиты от них. В целях восполнения этого недостатка был принят Второй Вестминстерский статут 1288 г. (statute of Westminster 2), который уполномочивал канцлера выдавать предписания «в случае подобия», т. е. тогда, когда ситуация была схожа с основанием для выдачи writs. Это привело к созданию нескольких новых приказов[26]. Однако с расширением компетенции и признанием новых приказов, королевские суды становились все более негибкими при отправлении правосудия. Создание жесткой системы приказов сделало невозможным для многих просителей получить такой writ, который подходил бы именно им, для решения их собственных проблем. Без подходящего приказа такие лица не могли подучить защиту[27]. Многим отказывали в правосудии по формальным, зачастую незначительным причинам, несмотря на то, что правота истца подтверждалась доказательствами. Привычным было отклонение иска лишь по причине того, что истец при обращении в суд избрал неверный приказ. Кроме того, королевские суды не желали защищать истцов иначе как путем присуждения убытков. Очевидно, такой способ защиты права далеко не всегда был возможен и действительно позволял восстановить право истца.
Приведенные проблемы правосудия королевских судов, а именно необходимость строго придерживаться установленных форм обращения в суд (и связанная с этим жесткость при малейших нарушениях формальностей) и возможность защитить право только посредством взыскания убытков, привели к тому, что заявители стали обращаться к Канцлеру (королевский секретарь и хранитель печати) с просьбой вмешаться и «свершить правосудие» (do justice). Канцлер, как правило, был епископом, поэтому знаком с aequitas[28] римского права. Ко времени Ричарда Второго (1377–1399) уже оформился специальный орган, занимавшийся такими прошениями, – Суд Канцлера[29]. По сути, Суд Канцлера это проявление все той же судебной власти Короля (как и в судах общего права). Канцлер имел возможность предоставить защиту, осуществить правосудие в тех случаях, когда «закон» (для судов общего права) не позволял этого сделать.
Со временем практика суда справедливости расширялась. Канцлер даже мог освободить сторону от исполнения незаконного (нечестного) решения королевского суда. Такая практика привела к серьезным дебатам, однако в итоге вопрос был решен в пользу права справедливости, после чего Канцелярия превратилась в законченную систему судов, процедур и способов защиты[30]. В итоге в Англии существовало две судебные системы: королевские суды (или суды «закона») и Суды Канцлера (или суды «справедливости»). Королевские суды продолжали присуждать убытки, в то время как суды справедливости разработали целый набор способов защиты права. При этом истец мог взывать к юрисдикции Канцлера только в случае, если доказывал, что защита «по закону» невозможна. В каждой системе существовали свои различные процедуры, терминология. Суды закона, как правило, использовали жюри при отправлении правосудия, в то время как суды Канцлера, наоборот, разрешали дела без привлечения присяжных. Соответственно, первые использовали свидетельские показания, а вторые – письменные заявления под присягой. Различались наименования судебных актов – решения и декреты, должностных лиц: в королевских судах – судьи, в судах справедливости – канцлеры. Различались способы защиты. Так, решения королевских судов были направлены на имущество ответчика (in rem), истец получал удовлетворение за счет имущества ответчика. Соответственно, при отсутствии у ответчика имущества истец не получал ничего. Декреты канцлера были направлены на личность ответчика (in personam). Так, ответчик обязывался к совершению действий, например, возврату имущества, и если этого не происходило, то он мог быть даже лишен свободы.
«Из Англии дуализм в судопроизводстве, обусловленный противопоставлением материального права (law), положениям “справедливости” (equity), был воспринят в США»[31], большинство вновь создававшихся судов четко разделяли судопроизводство «по закону» и «по справедливости». Вместе с остальными институтами гражданского процесса американское право унаследовало и плидирование (pleadings). Несмотря на то, что общее право доминировало в Англии и Америке столь продолжительное время, сейчас оно не применяется. Вместе с тем исследование плидирования по правилам общего права и права справедливости имеет смысл как минимум по двум причинам. Первая – некоторые следы этих институтов до сих пор можно обнаружить в современном американском праве. Вторая и более важная причина состоит в том, что упомянутые последующие системы плидирования появились и развивались как реакция на плидирование в общем праве и праве справедливости. Стоит отметить, что с вступлением в силу ФПГП 1938 г. многие штаты скопировали федеральные правила и перешли на уведомительное плидирование (notice pleadings). Вместе с тем значительное меньшинство штатов до сих пор (и даже такие крупные, как Калифорния и Нью-Йорк) используют правила фактического плидирования (code pleading).
Англо-американские правоведы утверждают, что учреждение суда присяжных, «который значил так много для … предков в их стремлении обеспечить свободное и независимое правосудие»[32], несет ответственность за столь важную черту плидирования в общем праве как «развитие спорного вопроса» (issue). Речь идет о том, что спорный аспект дела должен быть выявлен сторонами самостоятельно, без участия судьи. Так, оригинальная идея плидирования в общем праве состоит в том, что каждая сторона в ответ на утверждение противоположной стороны должна либо отрицать это утверждение, либо подтверждать его, но при этом выдвигать другие утверждения, которые могут разрушить или существенно повлиять на основания требований или возражений противоположной стороны. Участие присяжных – основная характерная черта судопроизводства на момент его зарождения, которая отличала его от континентального процесса и значительно повлияла на все аспекты процесса[33].
По мнению Дж. Лангбейна (J. Langbein), разрешавший гражданские и уголовные дела местных простолюдинов суд присяжных сыграл определяющую роль в английском общем праве[34]. Отсюда и древний тезис о том, что в суде первой инстанции жюри разрешает спорные вопросы факта, судья – все вопросы права[35]. Во-первых, жюри может собраться на сессию только один раз. Следовательно, судебное разбирательство с участием присяжных означало одну непрерывную судебную сессию, в течение которой сторонами должны быть представлены все доказательства. Во-вторых, существовала необходимость выявления самих разногласий между сторонами, а именно оспариваемых фактов, которые в последующем будут поставлены перед присяжными. Необходимость спорного факта сыграла определяющую роль в формировании стадии плидирования: «…потребность в разграничении вопросов факта и вопросов права, потребность в разделении дел на те, по которым возможен был суд присяжных, а по которым нет, потребность в постановке перед присяжными или судьей спорного вопроса в доходчивой форме – эти факторы лежат в основе правил плидирования»[36]. Таким образом, перед сторонами стояла задача выявить и сформулировать существо спора. Если это был вопрос права, т. е. ответчик заявлял протест (demurrer), то необходимость в дальнейшем процессе не возникала, вопрос разрешался судьей единолично. Если же это был вопрос факта, он подлежал передаче на разрешение присяжных[37]. Однако разрешение спора простолюдинами на основе неизвестных им ранее доказательств несет серьезный риск судебной ошибки, что, как указывает Дж. Лангбейн, помогает объяснить то огромное количество ограничений в отношении судопроизводства, и в особенности требование о формулировании вопроса о факте… Это был способ сузить и упростить задачу присяжным, однако часто ценой излишнего упрощения и искажения существа дела[38]. Отсюда и деление процесса по сути на две основные стадии: плидирование и судебное разбирательство (trial), четкое их разделение. Если лицо не проявляло достаточной активности на стадии плидирования, оно теряло возможность перейти в стадию судебного разбирательства.
Таким образом, первая и главная особенность, она же цель плидирования – формулирование существа разногласий между сторонами, спорного вопроса (issue). Он должен быть выявлен сторонами самостоятельно, без участия судьи. Так, каждая сторона в ответ на утверждение противоположной стороны должна была либо отрицать такое утверждение, либо соглашаться с ним, но при этом выдвигать другие доводы, которые могут разрушить или существенно повлиять на основания требований или возражений противоположной стороны. Продолжалось это до тех пор, пока оппоненты не приходили к тому единственному вопросу, относительно которого у них нет согласия[39]. Как указывал Ч. Кларк (Charles Clark): «…в этом и состоял триумф системы судопроизводства, когда стороны сами, заранее, до судебного разбирательства вскрывают, обнаруживают один единственный спорный материальный вопрос, тем самым отбрасывая все ненужное и бесспорное»[40].
Вторая особенность стадии плидирования – это подчиненность определенной форме обращения в суд (forms of action). Для защиты своего права в королевском суде истцу следовало обратиться к канцлеру и просить его о выдаче приказа (writ). Однако writs выдавались только по тем делам, по которым уже существовали прецеденты. В итоге сформировалась жесткая, закрытая система форм обращения в суд. Истец должен был выбрать одну из форм и далее в ходе pleadings четко следовать той схеме, которая была заложена в соответствующую форму. Форма обращения в суд определяла закон, подлежащий применению, и факты, о которых истец должен был заявить и доказать. Она же определяла также дальнейшую судебную процедуру и способ защиты, который мог быть предоставлен судом истцу. Малейшие отступления от заранее предписанных правил формы приводили к поражению истца. Многим отказывали в правосудии по формальным, зачастую незначительным причинам, несмотря на то, что правота истца подтверждалась доказательствами[41].
Процедура плидирования была жестко структурирована и состояла из нескольких этапов. Процесс начинался с предъявления истцом declaration (the count, declaratio) – то, что сегодня мы называем исковым заявлением, документ, в котором истец заявлял о своих притязаниях к ответчику. Declaration должен был соответствовать одной из форм иска, которые допускались судом (соответствующий writ), в нем коротко излагались существо требования и его основания[42].
Затем была очередь ответчика. У него было несколько вариантов поведения. Первый вариант: признать иск, что являлось основанием для удовлетворения требований истца. Второй: заявить протест (demurrer, demur) относительно того, что иск «не соответствует закону» (“insufficient in law”). Это значило, что, несмотря на то, что ответчик не оспаривает факты, изложенные истцом, их недостаточно для предъявления иска, право истца не подлежит защите. В таком случае следовало ждать решения судьи относительно того, должен ли ответчик отвечать на такой иск. В этот момент судья разрешал вопрос о праве. Протест мог быть общим (general) – касался существа исковых требований, или специальным (special) – был направлен на форму иска[43]. Однако допускалось заявление протеста по обоим основаниям.
Третий вариант действий ответчика: если он не оспаривал правовую сторону иска (т. е. не заявлял demurrer, не протестовал), он мог выдвинуть возражения относительно фактов, изложенных в иске, т. е. просить об оправдании (plead). Возражение в форме оправдания (plea) могло быть сделано в двух формах. Первая – traverse (отрицание), это оспаривание или отрицание всех или части фактов, выдвинутых истцом. Вторая – признание фактов, о которых заявил противник, но при этом ответчик выдвигал собственные возражения, которые ослабляли позицию противоположной стороны или вовсе исключали удовлетворение требований, что называлось confession and avoidance (признание и аннулирование).
Далее истец должен был ответить на возражения ответчика путем заявления replication (возражения истца). В случае, если ответчик отрицал факты искового заявления (traverse), то истец в replication должен был признать такие факты в качестве спорных. Значит, уже в этот момент можно было говорить о достижении цели плидирования – появлении issue, того самого вопроса о факте, который подлежал передаче в жюри. Если же в оправдании (plea) ответчик, признавая факты иска, говорил о дополнительных фактах, заявлял собственные возражения (confession and avoidance), то истец обязан был также либо отрицать эти факты (traverse), либо заявлять о новых обстоятельствах, которые, в свою очередь, поражали бы возражения ответчика в plea (confession and avoidance).
На возражения истца ответчик мог также заявить протест (demurrer) или возражение фактического характера (traverse либо confession and avoidance). Протест разрешался судьей. Это был уже четвертый этап плидирования (rejoinder). Пятый этап, на котором истец реагировал на rejoinder ответчика, назывался surrejoinder, шестой – rebutter (очередь ответчика), седьмой – surrebutter (возражал истец).
Так стороны обменивались своими возражениями до тех пор, пока в итоге одна из сторон не заявляла протест (отрицание права), который разрешался судьей, либо traverse (отрицание факта), передаваемый присяжным[44]. Такой обмен возражениями мог продолжаться и после surrebutter, однако это случалось редко. Чаще всего стадия плидирования заканчивалась на этапе replication или rejoinder, поскольку стороны выявляли тот единственный вопрос, относительно которого между ними не было согласия[45].
Такой обмен возражениями мог продолжаться и дальше, однако плидирование редко заходило дальше surrebutter. Чаще всего оно заканчивалось на этапе replication или rejoinder, так как стороны выявляли тот единственный вопрос, относительно которого между ними не было согласия[46]. Этот вопрос подлежал разрешению в ходе судебного разбирательства. Таким образом, к моменту судебного разбирательства из дела исключались несущественные и неоспариваемые сторонами факты. Столь сложные правила плидирования были направлены лишь на то, чтобы заставить стороны сформулировать один единственный вопрос для разрешения в ходе судебного разбирательства[47].
Очевидно, что процедура была сильно зарегулирована. Правила о плидировании объединялись в семь групп[48]:
1) правила, направленные на выявление предмета спора: после поступления иска стороны на каждой стадии должны либо заявить протест, либо просить об оправдании путем отрицания фактов или путем их признания и аннулирования; вслед за отрицанием должен быть предложен предмет спора; когда предмет спора предложен правильно, он должен быть принят;
2) правила, направленные на обеспечение существенности предмета спора: все заявления должны содержать утверждения о существенных и относимых фактах;
3) правила, направленные на обеспечение единства, слитности предмета спора: заявления сторон не должны дублироваться; не допускается одновременно по одному и тому же вопросу заявлять протест (demur) и просить об оправдании (plead);
4) правила, направленные на обеспечение определенности и индивидуальности предмета спора: заявления должны содержать информацию о времени и месте событий, послуживших основанием иска; о «качестве, количестве и ценности» предмета спора, об участниках спора; о титуле (о правах в отношении имущества); о полномочиях лица; чтобы ни утверждалось, об этом должно быть заявлено достаточно определенно;
5) правила, направленные на исключение всякой неясности и путаницы в плидировании: не допускается невразумительность или непоследовательность, внутренняя противоречивость, что могло служить основанием для протеста; заявления не должны быть двусмысленными или вызывающими сомнения, а если возникает ситуация двусмысленности заявления, то оно трактуется против стороны; не допускаются альтернативные утверждения; заявления сторон должны начинаться и заканчиваться должными (установленными) фразами; заявление, недействительное частично, недействительно целиком;
6) правила, направленные на исключение многословия и задержек: не допускается отступление от фактов, о которых утверждалось в последнем заявлении;
7) наконец, прочие правила, как, например, относительно необходимости использования специальных словесных формул, очередности поступления заявлений, о правдивости заявлений сторон.
Отдельное правило указывало на то, что заявления сторон должны быть правдивы. Нет необходимости перечислять эти правила целиком – они достаточно объемны. Однако из сказанного видно, насколько замысловатой была процедура.
В описанной системе некоторые правоведы обнаруживают достоинства. Строгий формальный характер исков и процедуры плидирования позволял судьям, сосредоточенным в основном Лондоне, создавать внутренне непротиворечивую материю права, что одновременно способствовало формированию юридической профессии[49]. По мнению С. Субрин (S. Subrin), система судопроизводства позволяла привлекать к осуществлению правосудия низовые слои населения. Если плидирование заканчивалось необходимостью разрешения вопроса факта, дело направлялось в соответствующее графство, по месту нахождения сторон спора, где судья собирал присяжных. Фокусирование на одном единственном предмете спора помогало судьям и юристам лучше понять существо права, и, очевидно, облегчало задачу присяжным. Использование известных форм обращения в суд, каждая из которых предусматривала собственные материальные и процессуальные нормы, способ защиты права, позволяло интегрировать цель и средства ее достижения. Отсюда предсказуемость последствий поведения субъектов права. При этом общее право практически не оставляло пространства для дискреции судьи[50]. Д. Максейнер (J. Maxeiner), имея в виду необходимость выявления единственного предмета спора, утверждает, что процедура плидирования была эффективна: если имел место спор о праве, он разрешался профессиональным судьей, если о факте – присяжными, что делало их использование в гражданском процессе в принципе возможным.
Вместе с тем недостатки common law pleadings более очевидны. С конца XV в. королевские суды стали больше внимания уделять формальностям. Требование о письменной форме состязательных бумаг стало обязательным. Необходимость выполнения многочисленных требований технического характера затрудняла судебную защиту. Жестко ограниченный набор форм обращения в суд (которые сформировались задолго до появления в Америке) представлял собой одновременно и набор материальных норм. С течением времени эти нормы сильно устарели. Уже к концу XVIII в. они не отвечали запросам коммерческого оборота, жизни в целом. Неадекватность материального закона общественным отношениям приводила к серьезным проблемам в процессе судебного установления фактов. Сторонам приходилось подгонять обстоятельства дела под устаревшие forms of action, отсюда широкое использование фикций в судопроизводстве. Однако даже если бы форм обращения в суд было больше, это не решило бы проблему. Судопроизводство не было настроено на разрешение дела по существу (on the merits) – установление фактов на основе представленных доказательств и применение к ним нормы права. Так, истец мог выбрать одну форму иска, рассчитывая на то, что она подходит для защиты его права, однако впоследствии, в ходе плидирования выяснялось, что выявленные факты не позволяют применить такую форму. Но разрешить дело на основе этих фактов судья уже не мог, так как был связан требованиями уже заявленной формы.
Судопроизводство по общему праву предполагало жесткое разделение функций судьи и присяжных. Судья «вступал в игру» только при необходимости решения правовых вопросов. Если же речь шла об установлении фактов, то участие профессионального судьи было исключено. По выражению Д. Лангбеина, институт суда присяжных разделил ответственность между судьей и присяжными… однако «изолировав судью из процесса поиска фактов, английское общее право несло в себе жалкую концепцию судейской функции»[51].
Подводя итог характеристике института плидирования по общему праву, обозначим основное: цель стадии – выявить один единственный и простой предмет спора, на который (если он касается вопроса факта) направлены доказательства во время судебного разбирательства. Заявления о фактах могут делаться сторонами в ходе плидирования, только если они имеют какой-либо эффект с точки зрения закона. Каждая обращение в суд имела собственную словесную форму начала и окончания требования. Основание иска состояло из установленных в прецедентах фраз, было коротким. Зачастую факты, на которые ссылаются стороны, давали только минимум информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию для установления основания иска[52].
При предъявлении иска в суд по праву справедливости никаких особых форм не предусматривалось (в том виде как они были в общем праве). Истец просто обращался с жалобой (bill of complaint), требуя предоставления защиты, и если по существу такая защита могла быть предоставлена и при этом не нарушалась компетенция общих судов, суд удовлетворял требование. В судах общего права существовал набор заранее известных форм обращения в суд, и нужную истец должен был сам выбрать. И если он избирал неверную (и соответственно способ защиты), то неизбежно проигрывал. В праве справедливости истец был свободен от соблюдения таких формальностей, при этом существовали виды исков: с помощью первоначальных исков (original) – процесс начинался, последующие или дополнительные (not original) иски приносились уже в ходе начатого процесса. Несмотря на такое множество различных видов, форма обращения была для всех одна.
В праве справедливости, в отличие от общего права, исковое заявление представляло собой, помимо поверхностной описательной части, очень подробное изложение фактов и ссылок на доказательства. Задача истца в этом случае заключалась в том, чтобы максимально подробно изложить обстоятельства и не дать оппоненту возможность уклониться от ответа на какое-либо утверждение истца. Отдельная часть посвящалась вопросам ответчику (interrogating part). Нужно было сформулировать вопрос так, обставив его множеством оговорок, чтобы противник не имел никакой возможности «увильнуть», воспользовавшись неточностью вопроса. Кроме того, обязательной частью заявления являлось подробное обоснование компетенции суда, невозможность защиты в рамках общего права[54].
Ответчик, как и в общем суде, мог заявить протест (demurrer) в связи с явными недостатками формы или содержания заявления. Существо протеста было схоже с протестом в общем суде. Здесь ответчик, не возражая против фактов (приводить факты, не изложенные в иске, было нельзя), оспаривал право истца требовать предоставления защиты. Протест мог быть общим или специальным, а также относительно компетенции суда (в отношении сторон или в отношении дела), состава сторон дела, формы или содержания иска. Таким образом, протест заявлялся по вопросам права.
При отсутствии такого протеста ответчик мог заявить возражение в форме оправдания (plea). Такое возражение заявлялось в двух формах: позитивное (чистое) возражение (pure plea) и негативное (аномальное) возражение (negative, anomalous plea). Негативное возражение касалось какого-либо принципиального факта, который лежал в основе иска. Отрицание такого факта ломало всю конструкцию иска, так как остальные обстоятельства уже не имели никакого значения. Например, с одной стороны, отрицание факта партнерства между истцом и ответчиком, а с другой – позитивное возражение в форме уже знакомых нам confession and avoidance (признание и аннулирование), т. е. признание фактов, о которых заявил противник, но при этом заявление собственных возражений, ослабляющих позицию оппонента или вовсе исключающих удовлетворение требований. В любом случае возражение, так или иначе, должно было касаться только одного спорного факта, противоположное означало дефектность возражения. Кроме того, ответчик мог заявить ответ (answer), в котором ответчик должен был дать оценку всем фактам иска сразу (признать их или оспорить), заявить о новом предмете спора, что представляло собой оригинальный способ защиты ответчика против иска.
Ответом истца являлись возражения (replication). Здесь он либо подтверждал, либо отрицал утверждения ответчика. После этого дело было готово к собиранию доказательств, чем стороны занимались самостоятельно. Далее следовало судебное слушание.
Таким образом, участие присяжных при разрешении дела определило главную особенность плидирования в общем праве – обязанность сторон формулировать существо разногласий между ними. Если спорный вопрос был правового характера, он разрешался судьей, если спор был о факте, он передавался на рассмотрение присяжных. Процедура плидирования была жестко структурирована и состояла из нескольких этапов, подчинялась множеству строгих правил. Начавшись с предъявления иска, далее она продолжалась в виде обмена сторонами возражениями до тех пор, пока в итоге одна сторона не заявляла протест (отрицание права), который разрешался судьей, либо traverse (отрицание факта), передаваемый присяжным. Плидирование подчинялось определенной форме обращения в суд, она определяла закон, подлежащий применению, и факты, о которых истец должен был заявить и доказать, определяла судебную процедуру и способ защиты, который мог быть предоставлен судом истцу. Недостатки плидирования, главным из которых была необходимость следовать форме иска, явились непреодолимым препятствием на пути развития гражданского судопроизводства в США. Рассмотрение дела по «справедливости» было не столь сильно зарегулированной системой, как общее право. Дела разрешались судьей единолично, допускалось заявление нескольких требований, участие нескольких сторон, возможно было некое подобие раскрытия доказательств. Изменения начались с принятием в 1848 г. в штате Нью-Йорк Процессуального кодекса, послужившего образцом для модификации процессуальных правил в других штатах, началась эпоха фактического плидирования.
Как мы выяснили, процедуры плидирования по правилам общего права и по праву справедливости сильно различались. Сохранялось жесткое различие между способами защиты в общем праве и в праве справедливости. Не допускалось их смешение, использование способа защиты из «конкурирующей» системы приводило к отклонению иска.
После принятия в штате Нью-Йорк Гражданского процессуального кодекса, который также называют Кодексом Филда (по имени основного автора – Дэвида Дадли Филда (David Dudley Field)) в течение следующих лет большинство штатов (за исключением восточного побережья) приняли подобные акты[55]. Что было сделано при принятии Кодекса? Устранены различия в правилах плидирования и формах обращения в суд (forms of action). Кроме того, уравнены не только формы обращения, но и способы защиты (remedies). Отменена прежняя терминология, теперь единственной формой обращения за защитой был гражданский иск (civil action). Судья мог применять любой способ защиты (из общего права или права справедливости) в зависимости от того, какой требовался в целях правосудия. Цель изменений была проста – создать единую систему защиты права, которая регулировала бы процедуру предъявления и рассмотрения любого требования. Однако само материальное право не изменилось, способы защиты права остались прежними.
Кодекс Филда был скачком в развитии процесса по сравнению с общим правом в аспекте плидирования. В отличие от прежнего сложного порядка обращения в суд Кодекс требовал, чтобы исковое заявление содержало лишь «простое и краткое изложение фактов, составляющих основание иска, без ненужных повторов» (The complaint must contain … a plain and concise statement of the facts, constituting each cause of action, without unnecessary repetition). Согласно Кодексу истец должен был заявить о фактах, в случае их правдивости он имел право на правовую защиту. Единственное требование состояло в том, чтобы эти факты соответствовали, подходили какому-либо из защищаемых прав и входили в основание заявления, по которому могла быть предоставлена защита. Среди других изменений можно назвать принятие существовавшей в праве справедливости возможности процессуального соучастия: предусматривалась свобода присоединения сторон, вынесения судом решения в отношении одной или нескольких сторон в зависимости от «потребностей» правильного разрешения дела. Однако, как будет показано дальше, фактическое плидирование, введенное кодексами, оказалось миной замедленного действия.
Фактическое плидирование решило множество проблем, связанных с общим правом, однако породило новую трудность. Приведенное правило на первый взгляд кажется простым. Однако эта простота оказалась иллюзорной. Необходимость указывать в заявлении факты, оправдывающие предоставление судом защиты, оставляло открытым вопрос о том, какие факты нужно включать в исковое заявление. Требовалось, чтобы в заявление включались только основные (окончательные) факты (ultimate facts). Такие факты должны были составлять основание иска и отличаться: во-первых, от доказательственных фактов (evidentiary facts), которые, в свою очередь, касались лишь отдельных сторон дела; во-вторых, от заключений относительно права (conclusions of law). Правила плидирования требовали, чтобы заявитель изложил факты, лежащие в основе иска и наглядно демонстрирующие существование основания иска. Необходимо было изложить именно основные
