Ты выбираешь. Книга о том, как пережить травмы и стать себе опорой
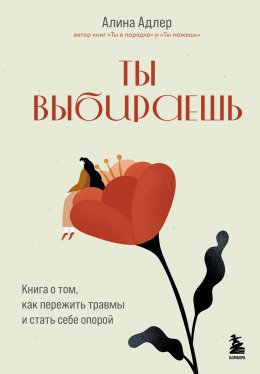
© Текст, А. Адлер, 2025
© Иллюстрации, В. Бортник, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Предисловие
Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора.
Айн Рэнд
У вас есть выбор?
Возможно, прямо сейчас события в вашей жизни бушуют, как десятибалльный шторм, и вас все дальше отбрасывает волной от берега стабильности. Или вы ограничены ситуацией, выход из которой заблокирован страхами, бессилием и отчаянием. Вы держите в руках эту книгу и сомневаетесь, что у вас действительно есть выбор. Ведь почему-то вам откликнулось название.
Книга «Ты выбираешь» поможет вам понять, что ощущение безвыходности временно. Подскажет, как проработать травматичный опыт, наладить честный, открытый контакт со своими болезненными переживаниями. Как без драмы и токсичных страданий относиться к неприглядным сторонам жизни. Покажет, как стать лучшим другом себе и обрести внутреннюю свободу.
Вы не встретите здесь мотивирующих призывов и кричащего позитива. Она приглашает к вдумчивой рефлексии, бережному изучению своей уязвимости и к встрече с собой настоящим.
На протяжении многих лет я работаю с людьми, которые приходят с разными проблемами: тревожными расстройствами, неврозами, стрессом, заниженной самооценкой, неспособностью самореализоваться, кризисами в отношениях, проживанием потери. Я пишу книги о психологии, в которых делюсь своим опытом из живой практики. Пишу, потому что мне есть что сказать. И узнаю о том, что мои книги обладают терапевтическим эффектом из тысячи благодарных отзывов читателей.
«Ты выбираешь» – третья книга из трилогии о самых популярных темах, с которыми приходят к психологу. Я задумала этот формат, когда ощутила потребность доносить ценность психотерапии гораздо большему количеству людей, чем тем клиентам, с которыми работаю.
Первое свое произведение «Ты в порядке. Книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими» я называю азбукой. В ней я приглашаю вас в свой рабочий кабинет, чтобы разобраться с переживаниями, которые беспокоят каждого человека и являются доминантой в терапии моих клиентов. Стыд, вина, эгоизм, проблемы в отношениях и с самооценкой, давление общественного мнения и многие другие. Загляните в нее, и вы обнаружите, что некоторые главы про вас. «Теперь я знаю, что каждое мое чувство имеет право на существование. Со мной все в порядке», – говорят читатели, переворачивая последнюю страницу.
Второе – «Ты можешь». Книга о том, как найти контакт с собой и реальностью» поможет вам обнаружить свою внутреннюю силу. Ту, что дает ощущение: «Я справляюсь. Оказывается, я могу. И все проще, чем я думал». Мы выйдем за двери моего кабинета психолога. Там разворачиваются истории клиентов, которые закончили психотерапию или еще находятся в процессе. Они применяют полученный в психотерапии опыт в повседневности и делятся своими результатами. У них получилось – без надрыва и лишних ожиданий, рискуя, но оставаясь собой и в контакте с реальностью, – свободно двигаться сквозь неизбежность и трудности, создавая комфортные отношения с миром. «Смогли они, смогу и я», – уверен читатель на последних строках заключения.
Все три книги не связаны между собой по смыслу. Вы можете начать с той темы, которая затронула своей актуальностью. Хотя нет, подождите… Связаны.
Мои книги про людей и для людей.
Герои книги «Ты выбираешь» приходят на психотерапию, скованные обидами, комплексами, страхом быть отвергнутым, зависимостью, дефицитом любви, предательством, ревностью. С невозможностью строить отношения и запретами на собственные чувства. Они хотят понять, почему привычно действуют во вред себе, как оказались заложниками обстоятельств, которые не выбирали. Стремятся осознать, как на них влияет прошлое, научиться опираться на свою уцелевшую после травмы часть. И найти выход.
Возможно, в историях героев вы узнаете себя и вместе с ними отправитесь в путешествие по страницам книги на поиски своего выбора.
«Почему вы выбираете оставаться в отношениях, в которых плохо?»
«Вы занимаетесь нелюбимым делом. Это ваш выбор? Или когда-то его сделали за вас: отец, учитель, семейные традиции, общественное мнение?»
«Вы выбираете потребности других людей, но не свои. Как вы это делаете?»
«Вы страдаете и занимаетесь самобичеванием вместо того, чтобы действовать во благо себе. Для чего вам нужен такой способ обхождения с собой?»
На эти и подобные вопросы сложно ответить сразу.
Я задаю их клиентам, чтобы помочь осознать причины дискомфорта, боли, застревания в травматическом опыте. Когда ответ приходит, он вспыхивает инсайтом и становится толчком к решению проблемы. А иногда погружает в затертые психологическими защитами детские воспоминания и приводит в длительную психотерапию.
Неосознанные паттерны поведения; следование чужим правилам жизни; ориентирование на нелогичные, не применимые к вашей реальности установки; стремление «быть как все». Такие способы жить создают ощущение тупика в личностном развитии, и вам кажется, что выбор ограничен.
В книге я рассказываю о том, что возможность выбора и правда есть не во всех внешних жизненных обстоятельствах и контекстах. Например, вы не можете выбрать свое детство. Или пол и генетическую предрасположенность своих детей. Выйдя замуж за надежного, любимого человека, но внезапно оказавшись в плену его токсичного нарциссизма, вы горюете о том, что не выбирали такие отношения. Не выбирали стать жертвой предательства или не со зла навредить другому.
НО.
Вы наделены внутренним ресурсом выбирать свое отношение к происходящему или к неизбежному. Вы сами регулируете настройки своих реакций и откликов на несправедливость по отношению к вам; на обесценивание; на трагические события и потери; на последствия психологических травм. Вы вольны выбирать, как долго задерживаться в своей боли и на какую глубину погрузиться в кажущуюся безысходность. Выбираете смириться, терпеть, отказывать себе в себе и дальше удобрять свои детские страхи ограничениями? Или не жить против себя? И отращивать мощные крылья, которые поднимут выше уровня самообмана, помогут достигнуть целей и внутреннего комфорта.
Доступ к выбору открывается через осознанность.
В книге на примерах историй героев и описании терапевтических сессий я показываю, какими «булыжниками» и «песчинками» выстлан это путь. Через какие сложности и сопротивление проходят люди, чтобы подобраться к ощущению внутренней свободы.
Когда вы выбрали, как относиться ко всему, о чем сказано выше, вы уже не сможете не действовать. Вы свободны. С фасада «тупиковых» ситуаций осыпается слой безвыходности.
Выбор дает свободу:
• перевоплотиться из жертвы в уверенную личность;
• вырваться из капкана психологической травмы;
• выйти из лабиринтов самокритики, изматывающего достигаторства и перфекционизма;
• остаться в контакте с собой, когда отверг близкий;
• трансформировать отчаяние в способность действовать;
• превратить безвыходную ситуацию в новые возможности;
• выделить мелодию своих желаний из какофонии навязанных норм;
• избавиться от зависимости и взять ответственность за свою жизнь.
Главы книги не связаны между собой по смыслу. Начните с той, название которой заставило задуматься или почувствовать комок в горле. Читая строки о влиянии психологической травмы на настоящее и будущее; о замороженных на долгие годы обидах и страхах; о невозможности быть понятым и принятым; о бессилии и отчаянии; о недолюбленности в детстве, предательстве, насилии, отвержении; о боли собственных ошибок, – не торопитесь. Замедлитесь. Не для того, чтобы погрузить себя в сложные переживания. А для того, чтобы, прожив вместе с героями книги их истории, выкристаллизовать свой уникальный опыт и понять:
«Я не могу изменить отношение к себе других людей. Но я точно знаю про себя, что не плохой, не сложный и не странный, даже если им хочется так думать»;
«У меня есть травматичное прошлое. Но теперь я могу к нему относиться по-разному. И я не позволю ему топтать грязными ботинками мое будущее»;
«Я буду жить, а не существовать в режиме выживания. Я важен и ценен себе».
Смелее двигайтесь к своему выбору. А я буду рядом и поддержу вас в стремлении обрести внутреннюю гармонию, личностно развиваться и полноценно жить без привязки к прошлому. Я надеюсь, после прочтения книги вы сможете уверенно сказать: «Я больше не живу против себя».
До встречи в первой главе.
* Я люблю свою работу, ценю клиентов и придерживаюсь этики. Основной принцип психотерапевта – конфиденциальность – строго соблюден в книге. Все истории приближены к реальным, но факты изменены, а имена героев вымышлены.
Об авторе
Алина Витальевна Адлер – психотерапевт, дипломированный практикующий клинический психолог, семейный психолог, супервизор, ведущая психотерапевтических групп и обучающих проектов. Писатель, автор книг: «Ты в порядке. Книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими», «Ты можешь. Книга о том, как найти контакт с собой и реальностью».
Алина окончила ЛНУ им. И. Франка по специальности «психология», Московский Гештальт Институт по специальности «психотерапия в гештальт-подходе», московский АНО «НИИДПО» по специальности «клинический психолог». Работает в формате индивидуальных консультаций краткосрочной и длительной психотерапии в гештальт-подходе, консультирует семейные пары, а также ведет регулярные психотерапевтические группы и обучающие проекты. Опыт работы – двадцать лет. K Алине обращаются с такими проблемами, как стресс, невроз, тревожно-фобические расстройства, ощущение безвыходности, неуверенность, кризис в межличностных отношениях.
Автор является действующим членом Общества практикующих психологов.
Личный cайт: www.psiholog-pomogi.ru
Электронный адрес:
Глава 1. Единственный момент в жизни, когда у вас нет выбора
– Витюш, тебе нравится? Примеришь? Ну же, посмотри на меня, – мама прикоснулась ладонью к подбородку сына.
Витя оторвал взгляд от пуговицы на полосатой рубашке, лежавшей возле разорванной упаковочной бумаги, и криво улыбнулся маме. Слезы наползали на нижние ресницы, готовые предательски брызнуть и выдать разочарование. Нужно было выдержать официальную часть поздравлений с днем рождения, а там, когда никто не видит…
– Да-а-а… спаси-и-ибо… – вяло протянул Витя. В свои восемь мальчик был обучен благодарить не только когда хочется прыгать от радости, но и когда «так принято».
Мама ловко развернула рубашку и стала засовывать в нее именинника.
– Прекрасно, великолепно, замечательно! Смотри, как тебе хорошо! И чуток на вырост будет, и в школу ходить, и на праздник пойдет, – восторгалась она своим приобретением, одергивая подол рубашки и быстро перебирая длинными пальцами пуговицы. – Папа, посмотри, какой у нас мужичок уже взрослый! Я всегда говорила, самый лучший подарок – это полезная в хозяйстве вещь!
Витя стоял перед зеркалом с вялыми руками и походил на сломанный манекен из «Детского мира». В тонкую шею впивался криво застегнутый воротник «полезной» рубашки, о которой мальчишка не мечтал на свой день рождения. Как и о «незаменимом» вязаном свитере – на прошлый. О сандалиях с шортиками, подаренных два года назад, он тоже не грезил.
Мечтал Витя о велике! Таком, с зеленой рамой, цепью и сигналом, который сам дзинькает, когда мчишь по брусчатой дороге. А сзади есть багажник, на который можно посадить Васька и гонять вместе. «Дзинь-дзинь» – закрывал он глаза и видел, как рассекает по лужам вдоль домов, по тенистому скверу мимо столиков с играющими в домино дедами.
Мечтал о красном металлическом автобусе, самолете и модельке «Победы». Ну как же любопытно, что там внутри! «Мы с Васьком разобрали бы машину, а потом обратно собрали, как нам надо», – представлял Витя, когда возил по паркету деревянный грузовичок.
Мечтал о пистолете, об автомате ППШ и сабле. Криво-косо, загоняя занозы в пальцы, мальчик сам смастерил из дерева коллекцию любимого оружия.
Детская железная дорога… «Даже не думай. Что за глупость, Виктор! Это – излишество», – говорил папа.
Вите редко дарили игрушки. А он мечтал и ждал: однажды вместо «полезного» на день рождения или под новогодней елкой будет настоящий подарок! Дарили нужное – скучное, безрыбное, которое напялишь на себя и ускользаешь в детскую. А там тихонько прижимаешь кулаки к щекам и втираешь в покрасневшую кожу слезы разочарования, так и не прикоснувшись к прохладному металлу своей мечты…
Сколько раз вам дарили скучное и безрыбное? Которое вы с натянутой улыбкой принимали, чтобы не огорчить маму или порадовать бабушку. Уходили в детскую, забивались в угол, беззвучно плакали от разочарования и мечтали, что уж на следующий год подарок непременно будет тот, о котором вы мечтали?
Не то чтобы в семье инженера и врача были денежные проблемы. И даже скудность игрушечного ассортимента в СССР – не причина. Игрушки были.
А чего не было, так это хорошей идеи у родителей – предложить сыну выбор: «Какой ты хочешь подарок на свой день рождения?»
Ни один из полученных он не выбрал бы тогда. И сейчас не выбирает. Я вижу, как он опускает глаза и цедит сквозь зубы: «С-с-свитерок» или «C-с-сандалики», – когда вспоминает прошлое.
Сегодня Вите 78. На его балконе стоит велосипед, он менял автомобили на протяжении жизни и перебирал их своими руками. Сотни раз летал на самолетах и провел не одни сутки, перемещаясь по железным дорогам. Во взрослой жизни у него был и есть выбор.
Но выбрать, чтобы не болела несбывшаяся детская мечта, не получается и через 70 лет.
Я знаю, почему он впервые рассказал мне историю о неподаренных игрушках, когда я была беременна.
Я услышала тебя, папа.
– А, девка… Понятно, – новоиспеченный отец отнял от уха телефонную трубку и потер ею о штанину, словно пытаясь избавиться от услышанного, как от пятна сметаны на видном месте.
– Але, але! Эдик! Не слышно тебя, шуршит что-то. Эдик, говорю: девочка родилась, три шестьсот, здоровенькая! Нас выпишут послезавтра. Эдик… – голос супруги настойчиво пытался донести до сознания Эдика, что он – НЕ пацанский папа.
Папа называл дочь «Женек». Часто звал сыном, вроде в шутку, но кроме него никто не смеялся. Иногда, когда папа злился, «сын» превращался в «мужика». «Мужик должен быть выносливым, терпи», «Не хнычь, будь мужиком!», «Слово мужика – закон».
Дочке хотелось заслуживать папино внимание, любовь и похвалу. Поэтому она носила подаренную папой футболку с автографом какого-то футболиста, ходила с ним на все матчи, коротко стриглась и откликалась на «Женек». «Мой папа хотел мальчика», – оправдываясь и смущаясь, объясняла Женя друзьям свои не девчоночьи замашки.
– Мамуля, а по-настоящему я кто – мальчик или девочка? – спросила Женя у мамы в пять лет.
Испугавшись дочкиных сомнений, мама купила ей платье с пышной юбкой, приколола бантики к коротким волосам и накрасила лаком ноготки.
– Папа, смотри, какая я принцесса Евгения! – кружилась она по квартире.
– Пфф, в этом же неудобно ходить! Эти ваши бабские штучки никому не нужны, пустая трата времени, – обесценил папа дочкину женственность с такой же легкостью, как учил забивать мяч между сервантом и комодом. – Здоровье, спорт и слияние с природой – вот что главное в жизни! Собирайся-ка ты, Женек, на рыбалку со мной завтра, буду тебя настоящему делу учить. Мужику на рыбалке нужна штормовка. А это придется снять, – подергал он за бретельку розового платья.
– Да, папочка, я сниму это. Я хочу с тобой на рыбалку! – повисла малышка на папиной руке.
«Я буду делать все, что ты скажешь, я буду какой ты захочешь, только не лишай меня своей любви» – дуновение родительского недовольства раскачало подсознательный страх ребенка.
Маленькая Женя путалась – какой быть правильно. Одевалась по-пацански и тайком мазала губы маминой помадой, закрываясь в ванной. Нянчила кукол с подружкой во дворе (пока папа был на работе) и приносила в школу самолет вместо заданной икебаны. Тренировки по карате не любила, мечтала о танцах, но терпела, чтобы папу не расстраивать.
Глубинная потребность в родительском признании главенствует над желаниями ребенка. Потребность – всегда про выживание. По факту своего рождения дочь не выбирает риск стать папиным пожизненным разочарованием. Дети не выбирают стать для своих мам и пап «бездарями», «не красавицами», «непутевыми», «ни рыбой ни мясом», «никому не будешь нужна, замуж не возьмут», «позором семьи».
– Пап, я не мужик, я девочка, – уже могла перечить Женя-подросток.
– Женек, конечно, ты не мужик. Но идти к целям нужно как мужик! – продолжал тешить свой комплекс папа. За все годы дочкиного детства он так и не осознал, что травит ее собственной детской травмированностью. «Не мужик, баба, нюня» – пытался переделать чувствительного мальчика его отец. Переделал.
В восемнадцать Жене уже хватало твердости, чтобы поинтересоваться:
– Папа, вот ты – несомненно, настоящий мужчина – пришел к своим целям в жизни?
И… получить вместо ответа плевок раздражения:
– Ты посмотри на нее! И кто такой умный научил вопросики отцу притыкать! А? Ты бы лучше за собой присматривала!
А в двадцать отчаяние перемололо страх, и Женя пришла к папе с раскрытым паспортом, в котором – новое имя:
– Пап, я не выбираю быть пожизненным Женьком. Теперь. Я. Елизавета. Прошу любить и жаловать.
Она смогла не раскрошиться от его ярости, не захлебнуться брошенным в лицо: «Ты! Мне! Не дочь!» И, не сразу нащупав ручку двери онемевшими пальцами, прошептать могучей спине:
– Пап, у меня твое отчество… Я… я люблю тебя…
Уйти – и на два года погрузиться под лед отвержения.
Уйти, чтобы уберечь себя настоящую.
Уйти, чтобы вернуться к поседевшему отцу зрелой, с правом на выбор.
Чтобы однажды прорыдаться в ванной (в той самой, где девчонкой тайком мазала губы), увидев, как папа стал лучшим в мире дедушкой для внука.
«Молчит…» – вздохнула Вера, надеясь, что мама обернется. Мама слышала, как дочь пришла из школы, но не взглянула в ее сторону. Продолжала возить тряпкой по подоконнику.
Не надевая тапок, чтобы не шлепать по линолеуму, Вера проскользнула в свою комнату. Рюкзак грохнулся на пол. Биология, география, Еnglish в рассыпную. Девочка втянула голову в плечи, как нашкодивший кот, в которого летит веник.
«Черт… Черт, черт, черт!» – прижалась Вера к стенке, до синевы закусив губу, и перестала дышать. Коленки подрагивали. Она боялась не крика, не обвинений, не ограничений. А того, что мамино молчание продлится на неопределенный срок. Теперь из-за шума. Возможно, наверное… Молчание было наказанием.
Пять суток, семь часов и восемнадцать минут Вера чувствовала себя наказанной. За что мама выжигала ее молчанием? Девочка не знала. За трояк по математике? Позднюю прогулку? Выброшенную в мусорку половинку котлеты? Случайно оброненное плохое слово? Мама не сказала. Не было внушений, условий и моралей. Она не нервничала, просто перестала разговаривать и смотреть на дочь. Как будто мама немножко умерла. Не в первый раз.
С чем не справляется мама, выбирая такой способ обходиться со своим дискомфортом, ребенок не знает.
Что сделать или чего не делать, чтобы «расколдовать» маму? Куда нажать, что переключить, где починить? Как это работает?
Вера старается:
«Мамочка, прости меня, прости!» – умоляет, обнимая мамины колени. Вере шесть. Она не знает, за что наказана маминым игнором, не знает, за что просит прощения. Но ей кажется, что это единственное лекарство.
«Мамочка, любимая, прошу тебя, пожалуйста, скажи одно словечко…» – восьмилетняя Вера ходит за мамой по пятам второй день. Пытается вытащить из нее хотя бы звук, а из себя – воспоминание, что такое ужасное она совершила.
«Мамочка, я так люблю тебя! Ну хочешь, накричи на меня! Хочешь? Только не молчи, я умоляю тебя!» – прыгает вокруг мамы десятилетняя Вера, отчаянно пытаясь «взять на себя удар».
Мама солит молчанием щи. Молчит в окно. Не шевельнет губами в ответ на Верино: «Спокойной ночи, мамочка».
«Лучше бы ты на меня орала!» Вера метнулась к рюкзаку, затолкала в него учебники и что есть силы шмякнула об пол, расколов тишину. Лампа не удержалась на краю стола и спикировала на пол, добавив лязга.
«Вот так! Ну же! – кричала девочка внутри себя, тяжело дыша и таращась на дверь, облепленную наклейками от жвачек. – Давай, ори на меня!»
Минута. Три… Тщетно. Подобно старой плесени, тишина снова расползлась по квартире. В подъезде щелкнула дверь, прозвенел детский смех. «Жу-у-улька! Домой, домой, пошли, мой сладкий! Дождь начинается, а мама зонт не взяла, ты лапки замочишь», – позвала соседка свою собачку. Снаружи копошилась жизнь. А дома пустота, как в склепе.
«Я не нужна. Меня не существует». Хотелось уменьшиться, истончиться, стать сквозняком, просочиться в приоткрытую форточку, развеяться, чтобы не чувствовать боль. Вера убрала с мокрого лба прилипшую прядь и, сгорбившись, опустилась на край кровати. На худые плечики двенадцатилетней девочки взгромоздилось одиночество, которое под силу выдержать только… Да никому не под силу его выдержать. Держаться здесь не за что и не за кого. В кошмаре нет опор и жизни, ребенок в нем психологически выживает.
Чувство одиночества не выбирает возраст. Дети, которые его испытывают, рано взрослеют, становясь гиперчувствительными взрослыми. Людьми, которые боятся ошибаться, общаться, конфликтовать. У которых тревоги, стыда и вины больше, чем жажды жизни. Обидчивость, неуверенность и спасательство мешают им строить здоровые отношения.
– Почисти картошки, – на седьмые сутки скажет мама, проходя мимо дочкиной комнаты.
Вера дернет плечами от неожиданности. Но этого будет недостаточно, чтобы стряхнуть одиночество, заплакать от счастья и уткнуться мокрым носом в мамину щеку, как делала это в шесть лет и в восемь.
Вера так и не узнает, где рычаг, включающий жизнь в маме. Что нужно сделать, какой стать, в чем повиниться, как высоко подпрыгнуть, что понять. Мама сама этого не осознает. Через пятнадцать лет Вера рискнет тронуть свою заплесневевшую боль и спросить у мамы, что это было. И услышит в ответ пресное: «Ну, было и было. Уже и не вспомню. Напридумывала ты себе чего-то».
С каждым приступом маминой молчанки у девочки истончалась надежда на то, что этот кошмар больше не повторится. Уменьшалось желание обратить на себя внимание. Зато прокачивалась настороженность. Крепчал иммунитет к отвержению. Боль мутировала. Постепенно становилось безразлично.
Способность управлять режимом самосохранения растет пропорционально опыту отвержения. Эта способность трансформируется в выбор – не сближаться, не открываться чувствам. «Я никому не нужен и не интересен, когда захвачен эмоциями, горюю или нуждаюсь в поддержке. А сталкиваться с очередным отвержением слишком больно», – подписывает приговор базовое недоверие миру. Наверняка вы встречали людей, к которым не хочется приближаться: замкнутых и нелюдимых или надменных нарциссов, гиперобщительных шутников или зацикленных ревнивцев. Психологические защиты стоят на страже их уязвимости, надежно оберегая от случайного вторжения. Может, вы узнаете в них себя?
Большинство моих клиентов в процессе терапии вспоминают истории, похожие на описанные выше. Ситуации из детства, в которых не было выбора и приходилось подстраиваться каждой клеточкой своей психики.
Слушая их воспоминания и наблюдая, как кто-то мнет салфетку в руках, прикрывает глаза или не может выдохнуть, а кто-то опускает голову, закусив губу, я искренне сочувствую:
– Мне жаль, что вам пришлось переживать такой сложный опыт. Вы были ребенком, и у вас не было выбора, к сожалению.
С момента рождения у малыша есть потребности, о которых он заявляет, издавая звуки и сигнализируя движениями тела. Его потребности угадывают родители и удовлетворяют их, делая выбор за него. Чем старше ребенок, тем больше у него развивается функций, чтобы учиться выбирать самостоятельно. Сначала игрушки, которые становятся любимыми, мультик, книжку, мороженое, которое впервые выбрал сам. Потом изрядно потрепанный фаворит Зайка с отгрызенным ухом отправляется пылиться под кровать, не выдержав конкуренцию с Васей. «Мама, папа, это мой лучший друг!» – малыш знакомит родителей с конопатым пареньком, которого привел домой. Он выбрал человека себе по душе.
Ребенок может выбирать не все, но многое: еду, вещи, друзей, игры, спортивную секцию. Родители влияют на его выбор – ограничивают, разрешают, запрещают, одобряют, помогают, мотивируют или отмахиваются: «Ай-й-й, делай что хочешь!». Это моменты воспитания.
В матрице детско-родительских отношений есть место, где ребенок будто обездвижен, лишен права на свои предпочтения. Здесь родители не в силах помочь ему с выбором, потому что не способны контролировать собственные паттерны поведения. Взрослые сами скованы неосознанностью своих проявлений: они подвержены стрессам, страхам, психологическим травмам, комплексам, установкам, которые им когда-то внушили. Родителей может захлестывать боль психологических травм, от которой хочется отчаянно защищаться, не замечая, что под раздачу попадают дети.
Родителями становятся обычные люди, которые не рождаются с несуществующим «геном идеальности».
Ребенок не выбирает, он вынужден подстраиваться под:
мамину депрессию, обидчивость, эмоциональность;
отцовскую угрюмость;
папину экономность, привитую ему в многодетной семье;
рудименты прадедовского воспитания, под которые до сих пор пытаются «причесывать» младшее поколение;
папины комплексы, которые внедрил в него одноклассник, дразнивший его «девчонкой»;
бабушкин послевоенный страх, который передается по наследству в виде неспособности заботиться о себе: «Отдыхать нельзя, надо все время работать».
Как ребенок подстраивается под свой «невыбор»? Ценой сложных переживаний, которые он еще не умеет различать и называть: разочарования, растерянности, бессилия, страха, тревоги, одиночества, ощущения своей ненужности, чувства неполноценности, воспаленной потребности в принятии и любви, которая будет тревожить всю жизнь.
Ребенок вырастает, а детские неосознаваемые чувства обрастают психологическими защитами, которые не только обволакивают боль прошлого, но и мешают быть свободным в настоящем, верить в себя в будущем.
А как с выбором у взрослых?
Чем более четко взрослый человек осознает свои чувства, чем внимательней отделяет собственные желания и потребности от чужих правил жизни, чем бережнее ассимилирует личный пережитый опыт, тем больше у него возможностей для выбора.
Если вы неосознанно натягиваете общепринятые установки, как подаренную рубашку, которую вынуждены носить, чтобы не обидеть дарителя, но которую никогда бы не выбрали сами…
Если под идею «как научили, так я и делаю», или «как у всех», или «другие так делают, значит, и я буду» вы подминаете свои желания, мечты, проростки решительности…
Если семейные традиции не питают вас ценным опытом и теплыми чувствами, а каждый раз вынуждают терпеть, уговаривать себя, «ужасно не хотеть, но собираться с духом»…
То вам часто кажется, что у вас нет выбора.
Да, возможность выбора доступна не во всех жизненных обстоятельствах.
Например, вы выбираете работу, но не выбираете характер своего начальника. Даете жизнь ребенку, но не можете выбрать его генетический код. Вы не выбираете ограничения, которые нагородили в вашей психике детские травмы, стрессы, кризисы, неудачи. Вы не свободны в этих ограничениях. Но временно.
С момента осознания дискомфорта вам открывается возможность выбирать отношение к происходящему или к уже случившемуся. Выбирать, как долго задерживаться в своей боли, на какую глубину погружаться в кажущуюся безысходность. И вы начинаете действовать, двигаясь к выходу из сложных ситуаций. Или наконец-то замечаете под ногами тропинку, поросшую вашими страхами и неуверенностью, которая ведет в обход непреодолимых обстоятельств.
Глава 2. Ангел-хранитель с подрезанными крыльями. Научиться выбирать себя без страха быть отверженным
«Разнесло тебя, мать. М-да… – разглядывала себя Вероника, подставляя зеркалу то правое бедро, то левое, оттягивая пальцами складку на талии, пощипывая скулы. – И надеть уже нечего: штаны, юбки не застегиваются, водолазки на пузе подскакивают. Хоть на улицу не выходи!» Она втянула щеки и живот, чтобы казаться худой.
Проснулся и захныкал сын. Вероника захлопнула дверцу шкафа и в два прыжка очутилась у кроватки. Нагнулась, чтобы взять его на руки… «Кх-х-х», – треснул по шву на спине любимый халатик. Прижимая к себе малыша, Вероника зарыдала, оплакивая свою растворившуюся в материнстве стройность.
– Что случилось?! – В спальню вбежал муж. В руке кухонная лопатка с прилипшей макарониной, на шее незавязанный фартук.
– Ничего-о-о… Просто я толстая! А так, все зашиби-и-ись… – всхлипывала Вероника.
Андрей обнял супругу свободной рукой.
– Солнышко, ты же знаешь, я люблю тебя всякую-разную! Всего три месяца прошло после родов, у многих девушек лишний вес задерживается. Потерпи немножко, скоро вернешься к своим формам.
– Ты не понимаешь! Не «только» три месяца, а целых три месяца! Весь гардероб можно на помойку выбросить! Не налазит ничего, вон, по швам трещит!
Андрей вскинул руки.
– Так это же не проблема! Бери карточку и вперед по магазинам! Купишь все новое! Ты почему молчала? Я же тебя не ограничиваю. Деньги, которые я зарабатываю, – наши общие! – осушила слезы мужская рациональность.
Конечно, не о халате, платьях и костюмах горевала Вероника. Но необходимость обновить гардероб уже не стояла, а подпрыгивала на повестке дня!
Два дня спустя. Скрестив руки на груди, Андрей молча наблюдал, как Вероника извлекает вещи из раздутого пакета. С каждой детской шапочкой, комбинезоном, «развивашкой», бутылочкой, слюнявчиком его пальцы сильнее впивались в бицепс.
– Не смогла пройти мимо этого ремня! Смотри, какой благородный коньячный цвет! В твоем стиле, под брюки и джинсы подходит. Тем более старый у тебя уже изрядно потрепался. А вот еще! Глянь, купила тебе под вельветовый пиджак! Прикольный, правда? – щебетала раскрасневшаяся Вероника, прикладывая галстук поверх скрещенных на груди рук супруга.
– А где твои вещи? – прервал ее Андрей, заглядывая в опустевший пакет.
– Мои? Ах, да! – Вероника вытащила из сумочки маленькую упаковку. – Вот, футболка. Черная. Стройнит меня…
Андрей вскинул руки.
– И это весь твой новый гардероб?! Ты накупила всякой ерунды нам с сыном, а себе ничего! Вероника, это уже не в первый раз! Да что с тобой не так? Может, тебе не в магазин, а к психологу сходить? От этого хоть толк будет!
Вероника – моя постоянная клиентка. Когда у нее «что-то не так» или «внутреннее самоощущение не бьет с реальностью», она приходит на очередной курс психотерапии. Не потому, что не в состоянии справиться самостоятельно, а чтобы сократить риск осложнений, сэкономить время, получить поддержку. Психотерапия прививает устойчивый навык заботы о себе и направляет к решениям по коротким, ровным дорогам. По одной из таких дорог Вероника направляется в мой кабинет.
– В этот раз Андрей настоял на визите к тебе. Говорит, со мной что-то не так. Я и сама понимаю: со мной «не так» неспособность ставить свои интересы выше интересов других, – Вероника одергивает черную футболку. – А что с этим делать – не знаю.
– А как ты НЕ выбираешь свои интересы? – усаживаюсь поудобней и проясняю запрос, предвкушая эстетику самораскрытия клиентки с помощью моих психотерапевтических вопросов.
Ответа нет. Вопрос повисает над нашими головами, как оборванный электропровод. Кажется, сигнал не дошел до адресата. Вероника смотрит сквозь меня. На мгновение я ощущаю себя незамеченной, неважной, ненужной. Отодвинутой какой-то. Мои плечи ссутуливаются, мышцы напрягаются, хочется скукожиться, уменьшиться, вжаться в кресло.
Какая простреливающая эмоция! Всего три минуты с начала сессии, а первое значимое событие – мой короткий, мощный внутренний отклик на проигнорированный вопрос – уже произошло.
Чтобы заглянуть во внутренний мир клиента и выбрать верную стратегию работы, я становлюсь чем-то вроде рентгена. Мой «психотерапевтический луч» подсвечивает приподнятую бровь, блуждающий взгляд, теребящие одежду пальцы, постукивающую по полу стопу. Интонацию, воспоминание, застывшую на кончике языка фразу. Паузу.
Каждое сказанное вами предложение несет не только прямой смысл, но и гигабайты зашифрованной между слов информации. Чувства, о которых вы говорите, и те, что не осознаете, но проявляете через мимику, вздохи, испарину на лбу, кручение кольца на безымянном пальце, – также становятся источниками информации о вас.
