Халатная жизнь
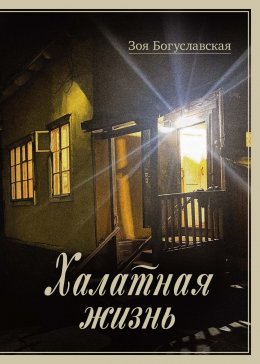
Персона
© Богуславская З. Б., 2025
© ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибри®
От издателей
Основа этой книги – расшифровки рассказов Зои Борисовны, которые она сначала называла диктовками, а потом придумала название Вспышки, и Вспышки стали превращаться в фотокадры прошлого с комментариями из сегодняшнего дня. Название «Халатная жизнь» Зоя Борисовна также предложила сама, и в конце книги вы прочитаете замечательно остроумное объяснение этому.
Для удобства читателя мы постарались соблюсти хронологию и выстроили диктовки разного времени не по дате записи (сохранив эти даты, потому что иногда они кое-что уточняют), а по годам, о которых идет речь. Но эта хронология не абсолютна, потому что‚ естественно, рассказывая о чем-то, Зоя Борисовна связывает разные события и людей, вспоминает, добавляет какие-то черточки к рассказу‚ и эту ткань нельзя нарушить, не порвав тонкие переходы мысли и эмоций. А они очень важны. Эмоции, ощущения, воспоминания.
Малая доля из собранного нами была опубликована в каких-то сборниках и статьях. Однако мы посчитали необходимым вернуться к некоторым довольно известным фактам и событиям, дабы не разрушить течение жизни и учитывая, что не всякий читатель достаточно осведомлен как о жизни Зои Борисовны и Андрея Андреевича, так и об истории московской, в основном, культуры середины ХХ столетия.
Эта книга очень личная. Мне особенно важно и дорого, что здесь звучит голос и интонации Зои Богуславской, всегда упрямые и свободные от стороннего влияния. Она так живет, так думает, так говорит и совершенно не боится, что с ней кто-то не согласится. Скорее она к этому и призывает – давайте спорить, давайте сражаться и отстаивать свои убеждения. Только при этом еще будем дружить и уважать друг друга. В этом вся мама.
Она никогда не была матерью, которая дрожит над своим ребенком. Мама всегда предоставляла мне пространство для самостоятельной жизни – возможность быть свободным, сильным и самодостаточным. Не могу похвастаться тем, что я понял и оценил это сразу. Свободой я пользовался, мягко скажем, легкомысленно. Бегал с пацанами, дрался, воровал яблоки в садах – обычное дворовое детство в одном из самых неблагополучных и криминальных районов Москвы. Не думаю, что маме мой образ жизни нравился. Скорее всего, она переживала и размышляла о том, как наставить меня на правильный путь.
Способ, который она выбрала, сильно отличался от общепринятой педагогической традиции. Мне не читали мораль и редко ругали. Мама верила – свобода это лучший воспитатель. Она сразу предоставила мне в распоряжение мир больший, чем я мог занять и освоить. Это была одежда на вырост, и я был просто обречен однажды совпасть с ней размером.
Мама всегда была моим другом. И не только моим. Вообще дружба была главным ее инструментом. Незаметно и ненавязчиво она всегда оказывалась рядом, когда я в этом нуждался, помогала, где я не мог справиться, и тактично отступала в сторону, когда моих сил было достаточно. Всю свою жизнь я советовался с мамой в момент принятия важных для себя решений. В детстве, в молодости, и когда я окончательно ушел из науки в бизнес. Маме не надо было знать математику и разбираться в технологиях или инвестициях, чтобы понять меня. Она не столько изучала обстоятельства моих проблем, сколько меня самого. Ее принцип универсален и точен – следуй собственной правде, делай то, что считаешь правильным и важным. Тогда все получится.
Я счастлив, что сейчас могу стать в каких-то вещах опорой для нее, счастлив, что могу разделить с ней радости и горе. Самой большой потерей для нее была и остается смерть ее мужа и моего отчима Андрея Вознесенского. В день его смерти она как будто превратилась в ослепительно неподвижный кусок льда. Казалось, она ничего не чувствует. Но надо было знать мужество и силу Зои Богуславской. Я помню, как отчаянно и горько плакала она, когда осталась одна с телом мужа, думая, что ее никто не видит.
Через год после смерти Андрея мама стала инициатором создания фонда имени Вознесенского. Первоначально предполагалось, что он будет заниматься изучением и популяризацией наследия поэта, но очень скоро стало понятно – имя Вознесенского не может стать только частью истории. Фонд учредил собственную премию «Парабола», чье название взяли из одноименной книги Вознесенского. Мама заразила меня своей энергией, и я стал думать о создании культурного Центра, где проводились бы мероприятия, посвященные поэзии, истории и современной российской культуре. В 2018 году на Большой Ордынке в особняке начала XIX века наш Центр Вознесенского наконец открылся.
Да, наверное, кто-то скажет, что мамина книга и сам ее характер принадлежат тому поколению, которое по большей части давно сошло со сцены. Ушли их ценности, страсти, их святая вера. Моя мама осталась едва ли не одной из последних. Порой я сам думаю, все это имеет скорее археологический интерес. Слишком многое изменилось в мире и в человеке. Но когда в прошлом году мы отмечали столетие Зои Богуславской, я был поражен увидеть столько прекрасных людей, тех, кто в любых других условиях никогда бы не встретился друг с другом. Журналисты, ученые, писатели, артисты, музыканты, и сотни людей, о которых я ничего не знал. Разных возрастов, принадлежащие к разным кругам, все они сочли своим долгом прийти ее поздравить. Зоя Богуславская объединила всех. Я тогда понял – при всей современной разорванности нашего общества есть то, что делает нас друзьями. Это именно то, во имя чего всегда жила моя мать, – честь, свобода, упорство и верность самим себе. Какими бы разными мы ни были. В этом мы все согласны с Зоей Богуславской.
Леонид Богуславский
Часть первая
Зоя
Я назову это «Письмом к сыну». Он – единственное существо в мире, которое значит для меня больше, чем потрясающе счастливые влюбленности в трех мужчин и в родителей, которых я любила безмерно. Именно ему я расскажу правду о том, что всегда было моей внутренней жизнью, а не только внешней.
З. Б.
Глава 1
Самые первые воспоминания
25 ноября 2016 года
Я очень любила своих родителей. Отца – Бориса Львовича Богуславского, в советские годы очень успешного человека, чуть ли не в 30 лет он стал главным конструктором в Станкострое. Я гордилась матерью, которую помню круглосуточно обложенной бумагами в обществе каких-то молоденьких медсестер. Склоненные над столом, они сидели ночами и делали что-то, что было для них важнее всего. Впоследствии я узнала, что это были исследования, связанные с созданием детского инсулина. Их накрыла кампания по борьбе с генетикой, начавшаяся в связи с одним из величайших по вредности постановлений Иосифа Виссарионовича Сталина, который загубил языкознание, загубил сельское хозяйство, загубил военную науку и так далее, и так далее.
Я сейчас не буду вдаваться в обсуждение человека, который определял время моей жизни до 53-го года, потому что тогда все было плюсом в мое детство и отрочество и стало таким минусом потом, когда я прочитала стихи, узнала биографии загубленных великих людей и поняла тот вред, который был нанесен всему развитию страны все годы, кроме времени целенаправленной, беспощадной борьбы с врагом с 41-го года, когда фашизм накрыл часть страны и мог поработить людей моей страны. Не об этом сегодня я хочу сказать.
Имея таких родителей, взрослость в понимании, которое у меня было в отрочестве, почему же я не могу вспомнить ни одного истинно счастливого эпизода моего детства? Почему? И сегодня у меня возвращается порой на какие-то краткие периоды то ощущение глубокой несчастливости, которая была у меня в детстве.
Моя мама родила меня в 1924 году. Будучи на шестом месяце беременности, она пошла хоронить Ленина. Да-да, в 1924-м! Тот год памятный – год смерти Ленина. И так получилось, что я родилась под знаком Ленина. Да что я! Вся страна десятилетия жила и воспитывалась под этим знаком. Безусловный символ – первый вождь, родившийся с революцией, создатель новопорядка в России, сменивший полностью режим, ценности, понимание жизни, конституцию‚ – все‚ вместе взятое, то, чем была Россия‚ на Советский Союз. И мама пошла хоронить Ленина, полагая, что это – наше всё.
Для моих родителей революция была очень важной положительной составляющей их работы, ценностей, их национальности, возможности учиться и ездить после черты оседлости, быть принятыми в любое учебное заведение – эти свободы были связаны с равенством, которого никогда не было доселе‚ они пришлись им по вкусу. Мои родители ликовали по поводу того, что случилась революция, не будучи никогда политическими или активно-социальными людьми. У них был один лозунг, который передался и мне навсегда: необходимо знание! И для отца, и для матери это была одна из связующих, которая позволила ей, студентке медицинского Харьковского университета‚ и ему, студенту технологического Харьковского института, полюбить друг друга, сойтись и, уехав по призыву на борьбу с эпидемией тифа после Гражданской войны, переехать в Москву и остаться здесь навсегда.
Я уже родилась в Москве‚ и никогда никакой другой праматери-Родины, или как хотите назовите, у меня не было. Я родилась 16 апреля, Ленин умер 21 января 1924 года, то есть за три месяца до родов мама с громадным пузом поперлась в эту толпу, считая своим долгом почтить память гения, который переустроил страну и жизнь. Так началась моя сопричастность с вождями.
Следующим вождем, как известно, был Сталин. Я о нем ничего плохого не знала, Сталин был наше всё. Мое поколение до Великой Отечественной войны жило в сознании, что ничего другого быть не может, что Сталин и есть тот фон, та власть и то жизнеустройство, которое легло на нашу биографию, на век, и, конечно, это очень усилила Отечественная война. Она заставила утвердить это понимание и анализ той текущей истории: «Сталин – наша слава боевая! Сталин – нашей юности полет! С песнями, борясь и побеждая, Наш народ за Сталиным идет!» Этот слоган, эта песня, эта звуковая мелодия и слова были тем фоном, на котором, казалось, наша жизнь начнется, продлится, и так мы будем помирать.
Тысячи людей с этим именем на устах погибали, и, конечно, победа в Отечественной войне соотносилась с ролью Сталина, и никакие лишние потери, неверные ходы, никакие оглядывания назад, в начало, не заставляли задумываться. Было одно – победа, и какой ценой она досталась, долго никто не анализировал. Только потом, когда появились первые книги, в какой-то мере правдиво отражавшие войну, высветилось, чем была война на самом деле и что потери, которые понес народ, и сталинское изымание из всех слоев интеллигенции, лучших ее представителей: военачальников, людей науки, искусства, – все это в котле нашего анализа прошлого впоследствии перемешалось и показало нам то, что происходило на самом деле.
Сталин был неотъемлемым благом в сознании нашего поколения, поэтому и я пыталась пойти на фронт; меня не взяли, и я поступила на скоротечные медицинские курсы, пошла работать в госпиталь с тяжелоранеными, где моя мать была завотделением в это время. Это был патриотизм в чистом виде, тот золотой патриотизм, который не надо препарировать, усиливать ни лозунгами, ни партийным воспитанием, это был единый порыв понимания того, что без такой Родины и без такого управления этой страной, без этого мироустройства невозможно жизнь себе даже представить.
Когда после XX съезда началось разоблачение преступлений сталинизма, мои родители не могли поверить и долго считали, что это какая-то роковая ошибка. Им все дала советская власть, они были за все благодарны ей – и вдруг… преступления власти!
Мои отец и мать познакомились, когда работали на борьбе с эпидемией тифа студентами. Они трудились и уже постепенно получали «премии» от первой советской власти – например, получили комнату в обширной квартире буржуев, которых тогда утесняли, как утесняли всех богатых, имевших большие площади.
Воспоминаний о пребывании там у меня отпечаталось мало. Когда я впоследствии говорила с мамой, она многое рассказывала. Например, моя мама очень хорошо готовила, все всегда восхищались ее блюдами, всегда было разнообразно и вкусно. И вот она мне рассказала, что научилась готовить в том доме, где их поселили в Москве. У этих хозяев была повариха, мама околачивалась на кухне, и повариха учила ее жизни и что-то готовить. И она потихоньку научилась всему, что готовилось для барской семьи, все эти рецепты печенья, салатов, мяса, все было взято оттуда. Мама всегда из малого могла приготовить нечто особенное.
Я была послушным ребенком, я редко перечила и бунтовала против родителей. А они были такие правильные, такие правдивые, такие совестливые, что, конечно, я всегда считала себя неравной им, их деятельности, их умению отдавать себя целиком тому общественному делу, той нити, которую они считали главной в своей жизни, а именно – работе.
Женщина с ребенком считалась обузой для революционного движения. Это было время, когда рождение ребенка, личная жизнь, быт были позором, мещанством; время, когда самым главным в жизни было – если твой портрет вывесили на красную доску, как портрет отличника производства, успешной ученицы, студентки‚ то есть шло поощрение сделанного для общества, государства, а вовсе не того, что достигнуто в семье, в личной жизни. Не было той многодетной матери, которая бы ощущала одобрение общества, не было той хозяйки, быт которой вызвал бы восхищение.
Это была другая эпоха. Но у меня-то! У меня было ощущение, что мои родители никогда не могли нарушить ни одной заповеди, и только потом я узнала, что они тоже что-то скрывали. Вот одно из воспоминаний.
У нас в квартире одно время жила полубезумная женщина – очень красивая, хрупкая немка, которую звали Гертруда. Почему-то мне никогда не давали с ней говорить и о ней никогда не рассказывали, но я видела, как она тенью проскальзывала в ванную или куда-то еще. Потом я узнала, что это жена репрессированного сотрудника (по-моему, его фамилия была Альперович) того исследовательского института, в котором работал мой отец с немцами. У нас была фотография, на которой были запечатлены все вместе – молодые‚ с интеллигентными, веселыми лицами ученые, сотрудники и преподаватели, которых посылали на повышение квалификации за границу (был такой период). Я жила тогда годовалая или двухгодовалая с родителями в Германии, когда они проходили повышение квалификации: мама в клинике Штерна, а папа на каком-то производстве. И эту Гертруду родители прятали в 37-м году, когда мне было около тринадцати лет. Вопросы пришли настолько позже, когда я уже стала человеком взрослым, хотя у меня бывали какое-то озарения, какое-то понимание и до того.
Сейчас не буду вдаваться в политическую, идеологическую составляющую моей жизни. Самым первым человеком, который начал открывать мне правду про режим и Сталина, был Леонид Зорин, драматург, внутренне поэт, удивительно закрытый в старости человек, которому оказался нужен только стол, рукопись и право творить. Он был самым близким другом нашего сообщества‚ или «пятибабья», как нас назвал Борис Слуцкий, – меня и моих четырех подруг, которые составили столь заметную талантливую группу уже с первого курса ГИТИСа. Зорин сказал мне впервые, что Кирова в 34-м году убили по приказу Сталина, потому что он оказался при голосовании в Верховный Совет более успешным, чем ему полагалось быть, то есть почти всенародным любимцем.
Но вернусь к детству. Мое детство всегда было насилием над тем, чем я была по-настоящему, потому что родители боялись, что я вырасту какая-то не такая, как они, что я переступлю через какие-то понятия, законы нравственности, поэтому были со мной строги.
Отец в 30 лет стал главным конструктором в Станкострое. Его послали на учебу в Германию, поэтому я с детства знаю немецкий язык. Это было до победы фашизма, до 1933 года. Мы вернулись. Потом отец защитил диссертацию, стал научным руководителем Института станкостроения имени товарища Сталина. У него вышло много книг, поколения студентов Станкина учились по учебникам профессора Бориса Львовича Богуславского, он вырастил плеяду молодых ученых. Его аспиранты постоянно клубились в нашей квартире. Его все время вызывали в республики, где он выступал оппонентом диссертаций на свои темы: в Грузию, Армению, Узбекистан. Многие его благодарили, потом ездили к нему в гости, даже когда его не стало, приходили к нему на могилу.
Отец был удивительно скромный человек, предупредительный. Когда он шел по деревне, близ нашей дачи, то снимал шляпу и здоровался с каждым встречным. Он был скромен и на службе.
Однажды его вызвали к министру тяжелого машиностроения, который в прошлом был его учеником, посоветоваться. Это было в июле, стояла страшная жара, отец ехал с дачи, оделся, как и положено для встречи с министром – костюм, галстук… А было ему уже 60 лет. Разговор закончился, министр пошел провожать его к двери и спросил: «Борис Львович, вам заказать машину или вы на своей машине?» Отец ответил: «Нет, я на электричке». Министр изумился: «Вы что, специально ехали сюда в такую жару на электричке? У вас что, машины нет?» Деньги у нас были. Но в советские времена, чтобы купить машину, надо было записываться в очередь и ждать годы. Каждое предприятие и организация имели свои лимиты. Или надо было обладать пронырливостью, иметь знакомства, пролезать, как тогда говорилось, «с заднего крыльца». Или же обращаться, как опять же тогда говорили, «в инстанции», демонстрировать ордена, медали, звания и прочее. Отец, разумеется, на такое был не способен. Министр, узнав, удивился, вызвал заместителя и приказал немедленно организовать продажу автомобиля Борису Львовичу Богуславскому. Так в нашем доме появилась первая машина, на которой ездил в основном мой сын Лёня, которому исполнилось тогда 18 лет.
Отец был всегда очень добросовестным, мало‚ я думаю, таких работников, он все делал по максимуму и до дотошности, всегда набело. Потом на этом же заводе имени Орджоникидзе он стал ученым и заместителем директора, но его должность не ощущалась абсолютно, он не брезговал помогать матери, когда это было нужно.
Мама моя – Эмма Иосифовна Розовская – болела постоянно и была хилая, но даже при проблемах с сердцем она всегда вертелась и все делала по дому. Наверно‚ я это от нее получила в наследство, моя подруга говорила, что у меня гомеостат – умение «выпрямиться» даже после тяжелой болезни. Потом, когда я увлеклась йогой и поняла, что мне нужно для поддержания здоровья, я выучилась этому возобновлению в себе ритма и перестала быть больным человеком, каким была лет до тридцати‚ – то падаю, то болею, то голова кружится.
Все это кончилось сегодня. Теперь у меня, в преклонном уже возрасте, из-за полного несоответствия моего характера и порывов с моими физическими возможностями, много падений и травм. Я всегда быстро двигалась, танцевать люблю до сих пор, себя ощущаю молодой и не всегда понимаю, что физических данных у меня уже таких, к сожалению, нет. Но мама была не спортивная‚ и она меня по этой части ничему не научила. Я ее помню зарывшуюся в бумаги, когда она занималась своими научными открытиями и просила, чтобы никто ее не трогал. Не до спорта ей было! Но она очень любила молодых, и с ней все время общалась молодежь и ее ученики.
Моя бабушка со стороны отца и моя мама часто «удочеряли», «усыновляли». Помню, что студентка ГИТИСа Алиса из Прибалтики, которая дружила с Колей Озеровым, тогда актером МХАТа, жила у моей бабушки очень долго. Жил у нее временами также и мой первый муж актер Новицкий. Бабушка была счастлива оттого, что с ней кто-то живет. Я полная противоположность бабушки, я не могла жить ни с кем, кроме Андрея, я все время хочу одиночества, другие люди мешают мне остаться с ним внутренне.
У нас в семье, конечно, главной была мама, она была лидером. Отец – вспыльчивый, и если он говорил «нет» или выходил из себя, то справиться с ним могла только мама – своей нежностью и любовью. Между ними была какая-то приспособленность к привычкам друг друга. Это сродни товариществу, как говорят, они вместе прошли огонь и медные трубы.
Ссорились крайне редко, но отец мог выйти из себя. Однажды он нас застукал, когда наша гоп-компания своровала с чужой дачи цветы. Нам они не нужны были, мы просто хулиганили. Отец вышел из себя, первый раз отхлестал меня ремнем, мои дружки разбежались. Так он раз и навсегда сказал мне, что чужое – это не твое. Я много раз потом находила деньги и всегда искала того, кто их потерял.
Мои родители даже не понимали, например, как можно хвастаться, говорить: «Я сделал то-то и то-то». Это выжигалось в нашей семье. Мне они привили самоотверженность, честность, умение стать необходимой в какой-то момент для человека, который нуждается в поддержке. И они очень ценили знания. Они исповедовали одну веру – и мать, и отец, что человек должен выйти в люди сам по себе, своими способностями. Для этого надо только одно – воспитать честным, надеющимся на себя и все умеющим делать, а дальше отпустить, голова все сработает сама.
Второй прививкой в моем воспитании, кроме данного родителями, было погружение в семнадцать лет в горе и катастрофу Великой Отечественной войны. Мама заведовала отделением в эвакогоспитале, вместе с ним мы приехали в Томск. Днем я училась в школе, вечером на курсах медсестер, после них работала в госпитале.
Там были тяжелораненые, которые уже не могли вернуться на фронт. Я, девочка, с ними разговаривала по ночам, выслушивала истории о том, как погибали их товарищи, молодые, красивые ребята. Был парень из Грузии, у которого оторвало ноги и руки. Он хотел, чтобы я его усыпила насмерть, но самое главное, чтобы жена не узнала, что он жив. У него было двое детей, он в 18 лет женился, и у него жена была молодая. Я разыскала ее, написала об этом. Без слез не могу это вспоминать. Она приехала, она целовала эти обрубки, увезла его и была счастлива, что он жив. Таких историй было очень много, я это вынесла.
И еще воспоминание. Мама заболела и попала в больницу. Я каждый день ношу крапивный суп и отовариваю хлебные карточки. Иду однажды, несу ей, а на меня налетает стайка мальчишек: «Тетенька, проверьте нам облигацию, может, мы выиграли». И показывают на сберкассу. Я захожу туда, проверяю: ничего они не выиграли. Иду дальше. И вдруг откуда-то с горы, это была самая высокая улица в Томске, опять бегут эти сорванцы и кричат: «Тетенька, тетенька, вы оставили карточки!» Они все мне вернули – голодные дети! Они догнали меня через полтора километра, голодные, в сорокаградусный мороз!
Эта прививка добра и сострадания сыграла очень большую роль и в выборе, и в решениях, в очень многих моих поступках в течение жизни. Я не верю в Бога, но верю в предназначение, в какое-то нами не познанное звено, которое может быть названо ангелом-хранителем. Слишком много я видела несправедливости, абсолютно непонятной для меня, гибельности для человеческой жизни, чтобы поверить в некое высшее существо, которое вершит жизнь на Земле и может остановить несправедливость.
Мои родители любили Андрея. Они очень тяжело переживали мой разрыв с моим вторым мужем Борисом Каганом, но ни разу не сказали ни одного слова осуждения, не отговаривали, они молча, со слезами на глазах, приняли ситуацию и полюбили Андрея. Мама болела, мы с Андреем приходили к ней, Андрей всегда спрашивал: «Какие там новости?» И она рассказывала нам – она слушала все новостные программы и хотела быть ему интересной.
Уход моих родителей был мучительным. Отец говорил: «Отпусти меня». Ему невыносимо было лежать в этих проводах, капельницах. С мамой оказалось еще страшнее. Позвонили из больницы, сказали, что она умерла. Я примчалась туда, вбежала к заведующей отделением, она говорит: «В коридоре лежит, мы ее не увозим в морг, она скончалась утром». Я подбежала, нашла эту кровать, взяла мамину руку, и мне показалось, что еще какой-то остаток тепла в этой руке есть. Я взяла руку, стала ее массировать, взывать: «Мама, я приехала». Вдруг показалось, что у нее дрогнуло веко. Стала еще сильнее ее массировать, восстанавливать кровообращение. Приложила зеркало к губам: дышит! Побежала к этой заведующей отделением, закричала: «Она жива! Как вы можете?» После этого я вытащила мать из больницы, и она жила еще три года.
Родившись под знаком Ленина, я впоследствии не испытывала особой любви к вождю, хотя для страны он был иконой. Когда Хрущев разоблачил преступления Сталина и сталинизма, Ленин остался как бы в стороне от преступлений режима, считалось, что были «ленинские нормы демократии», которые и уничтожил Сталин, а Ленин так и оставался иконой. Андрей тогда написал знаменитое стихотворение «Уберите Ленина с денег». Я очень хорошо его понимала, почему и откуда это взялось. Народ и страна жили в мифе о «самом человечном человеке». Пройдет много времени, прежде чем придет понимание преступности режима как такового, основоположником которого и был Ленин. Так что идеологема сталинских лет – правда: «Сталин – это Ленин сегодня». Эта неисчерпаемость ненависти ко всему, что выше их понимания, отбросила страну на много десятилетий назад, что ощущается сегодня.
Время идет, и оно настолько резко изменилось, как не менялось никогда в истории нашей страны. На дворе новая цивилизация – компьютерный век, век информационных технологий. Абсолютно новые системы, составляющие другую модель мышления и поведения. Это, конечно, глобальное ошеломление, но мне в новом времени живется неплохо. Во-первых, у меня работают молодые ребята, они всем этим уже владеют. Ощущение, что они родились с этими знаниями. Семилетний сын моей домоправительницы Лены уже отлично управляется с компьютером. Конечно, разрыв между теми, кто живет по старинке, и новым, компьютерным поколением колоссален. Людям, которые ничего в этом не понимают, очень тяжело. Но повторюсь, меня это не коснулось, я человек думающий, анализирующий и очень быстро начинающий понимать, что надо. Если мне это лень, то кто-то это за меня быстро сделает, и получается, что я все равно пользуюсь плодами технологических достижений века.
А поскольку сегодня мне уже 93 года, я воспринимаю жизнь как чудо, как высшую благодарность судьбе за то, что я на своих ногах, при своих ушах и глазах. Я практически здоровый человек: то есть я сама могу себя обслуживать, могу сама работать и продолжаю придумывать что-то на работе, потому что придумывание – это и есть мое привычное состояние. Я просыпаюсь, еще лежу в постели, а уже мысли вскочили в голову, и я ничего не могу сделать, не могу спать. Бесконечные воспоминания… или мне вдруг приходит в голову какая-то новая идея или впечатление, новое толкование старого смысла. Я вспоминаю встречи и людей. Этот мыслительный процесс происходит беспрерывно. Я всегда живу с лозунгом Татьяны Бехтеревой, которая говорила: «Умные живут дольше». И я, глядя вокруг, отмечаю: все, кому за 80 лет‚ – очень умные люди.
Вот моя подруга Инна Вишневская. Она очень давно лежит, не ходит, целыми днями смотрит телевизор. Я спросила: «Что же ты вообще делаешь, если ты не читаешь, не пишешь, а только смотришь телевизор?» Инна моментально ответила: «Как – что? Я думаю!»
И я поняла: она лежит, и перед ней проходит вся ее жизнь.
Глава 2
ГИТИС. Ленинградский проспект. Каганы
29 сентября 2020 года
Проживя долгий срок, я еще в состоянии не только диктовать, но и ходить, и даже работать. На моих плечах, кроме фонда, который занимается популяризацией творческого наследия Андрея Вознесенского и культуры его эпохи, а также координирует деятельность премии «Парабола» [1], появился еще и Благотворительный культурный центр Вознесенского. Председателем попечительского совета уже взялся быть мой сын Леонид Богуславский, я думаю, он будет моим правопреемником во всех моих акциях, связанных с Андреем Вознесенским, с моей памятью о нем, с моими сорока шестью годами, прожитыми вместе с ним, с этим ужасом его ухода из жизни, когда по всей логике и правилам должно было быть наоборот, – я, которая старше его на восемь с половиной лет, должна была уйти первой.
Именно поэтому, кстати замечу, у меня не было никаких документов, оформленных на меня, никаких завещаний, ничего – я настолько была уверена, что уйду первая и что мне не о чем в этом смысле не только беспокоиться, но и вообще грешить подобными мыслями. Потом пришлось все налаживать: дача, записанная на него, и так далее, и так далее, – но сейчас я не об этом. Продолжаю о моей жизни.
В Томске я работала в военном госпитале до поступления в Ленинградский театральный институт, который был там в эвакуации, проучилась год и перевелась в ГИТИС, когда вернулась после эвакуации в Москву.
Я никогда ни за что не боролась, ни за одну должность, ни за одну возможность. Но у меня всегда был четкий выбор. Идешь направо – песнь заводишь, налево – сказку говоришь. И выбор всегда был рискованным и необычным.
Например. Я учусь на подготовительных курсах технического вуза, сдала уже одну сессию, и вдруг, во время прогулки со своими девчонками в Томске, вижу объявление, что Ленинградский театральный институт производит новый набор на факультеты такие-то и такие-то и желающие могут прийти зарегистрироваться и сдать экзамены. Многое произошедшее со мной в жизни было глубочайшей случайностью.
Вот, например, еще история. Актерский факультет меня не интересовал, но я как-то шла мимо Малого театра, когда уже была студенткой театроведческого факультета ГИТИСа, и увидела объявление, что Малый театр набирает статистов. Я вхожу туда, попадаю на это прослушивание, участвую в нем и, проходя мимо Малого театра опять, обнаруживаю себя в списках тех, кто прошел. Я не спала несколько дней, волновалась, как это меня, с неоконченным театральным образованием‚ сразу же взяли стажером в Малый театр. Не могу же я упустить такой шанс! Но я никогда не могла ходить по той дорожке, по которой уже ходила. Мне нужно было переживать что-то новое. Я никогда не могла читать одни и те же лекции, именно поэтому я ушла с двух педагогических должностей. Только в дружбе и любви я сохраняла верность себе и людям.
Как-то я спросила, каково жить в постоянных повторах‚ у одной из самых почитаемых мною актрис, у Инны Чуриковой. Она ответила, что это не может быть скучно! «Я заново переживаю эту роль каждый раз. Самое главное для меня – выйти на сцену, оказаться нужной всем людям, которые смотрят на меня и с которыми я проживаю этот кусок жизни, который написан в пьесе», – ответила она. Я же‚ наоборот‚ не могу так жить, я не люблю повторяться или писать дважды про одно и то же. Поэтому вопрос с Малым театром отпал для меня сам собой. Я поняла, что не могу стать актрисой, потому что не выдержу этих повторов.
Но вернемся к рассказу о том, как я начала заниматься театром. Вот мы, четыре подружки, идем и видим объявление о наборе в Ленинградское театральное училище. Я смотрю на это объявление и вдруг слышу позади себя бархатный голос: «Девушка, что вы раздумываете? Они сейчас принимают всех! Идите, и вас возьмут». Под влиянием ли этого голоса или просто желания авантюры я оборачиваюсь и вижу молодого человека. Потом я узнала его – Георгий Новицкий. Он был необыкновенно красивым человеком, очень уютным мужчиной, с которым можно говорить обо всем, и уже довольно известным актером, и он как-то сразу выбрал меня и начал за мной ухлестывать. В тот же вечер он оставил нам билеты на ближайший спектакль.
Так я стала почти каждый день ходить в театр и приобщилась к театру. Поступив в Ленинградский театральный институт, я поняла, что не хочу больше нигде учиться. Когда я попала в театральный институт и доложила об этом своей семье, был настоящий скандал. Мои родители выступили категорически против. Отец пришел в ярость. Полгода я обедала отдельно, он не хотел со мной разговаривать. Мать жалела меня и покрывала как могла.
И надо же однажды случиться такому! Снова чистая случайность. Отец пришел домой, раскрыл объятия и сказал: «Доченька, иди сюда! Я так перед тобой виноват!» Оказывается, он думал, что если я пошла в театральный институт, то это я пошла в проститутки. «Сегодня ко мне на заводе подошел человек и спросил, не моя ли дочка напечатана в сегодняшней газете „Советское искусство“? И это оказалась ты!» – сказал он. Там была напечатана моя первая рецензия, которую я, второкурсница ГИТИСа, написала, когда меня попросила газета. Это был спектакль по Борису Полевому. И вот эта первая в жизни рецензия и была первой моей публикацией в жизни. Эта статья помирила меня с отцом. Тогда напечататься в газете было очень престижно и почетно. Газеты расхватывали, это была редчайшая возможность подышать не эвакуацией, не войной, а чем-то настоящим.
Потом один из профессоров, увидев, что я довольно необычный зверь, попавший в сети театрального увлечения, сообщил мне, что меня переводят из Томска в Москву‚ в московский ГИТИС.
Нас было пять подруг, выдающихся студенток ГИТИСа, – «пятибабье», мы очень дружили. Мы вместе ездили в еще заминированный Крым отдыхать, когда туда никого не пускали. Мы были звездами ГИТИСа, театроведческого факультета. Мы сдавали всегда с «переаншлагом», если можно это здесь употребить. Надо было, предположим, сдавать французскую драматургию, мы выпендривались и сдавали Расина, Мольера, Корнеля по-французски. Мы демонстрировали рвение, что все можно сделать лучше всех. И мы, сталинские стипендиатки (четверо из нас были сталинскими стипендиатками и получали стипендию вдвое выше обычной), были сверхотличницами.
В наше время такой статус не был позорным, в отличие от понятия «отличников», которое появилось у меня впоследствии – я говорю об «отличнике», который не шалит, не бузит, никогда не нарушает распорядок, не озорничает, так как он правильный ученик. У нас это была только демонстрация ума, памяти и способностей, демонстрация, что мы лучше всех, потому что мы это заслужили, так как мы знаем больше.
Постулат моих родителей о том, что только знания делают тебя значимым, дают объективную ценность твоим успехам, твоей работе и твоему будущему, сохранился у меня на всю жизнь. Я всегда ценила знания больше всего, мне всегда казалось, что день, прожитый без того, что я не узнала чего-то нового или не изучила чего-то, не прочитала книгу‚ – бессмысленный.
Мне всегда важно узнать больше, любить больше и делать больше и никогда не быть зависимой от того, что ты где-то чего-то не знаешь, что ты приехал в чужую страну и не можешь объясниться и у всех всё переспрашиваешь.
Я бы назвала главное свойство моей натуры – не быть зависимой. Откуда у меня это появилось, я не знаю. Но я могла все что угодно проделать, жить одна, не попросить чего-то необходимого, не потревожить кого-либо, не сделать полезное и выгодное для себя, лишь бы не быть зависимой от другого человека. Эта внутренняя свобода и жажда поступать, как я хочу, быть той, которой я хочу, то есть свободной, были во мне очень сильны. Итак, мы были и стипендиатки, и звезды нашего ГИТИСа.
Я училась на одном курсе с Инной Вишневской, Неей Зоркой, Таней Маршович. В институте нас знали все. Я в это время не очень была привержена поэзии и совсем мало, по сравнению с Нейкой и Инкой, образованна, поскольку их родители были гуманитарии. Инка знала на двух языках всю драматургию Расина и Корнеля, Нейка знала стихи.
Первые стихи привила мне Нейка Зоркая, которая на трудфронт взяла с собой тетрадку любимых стихов, от руки переписанных, – Ахматовой и Гейне. Когда она стала читать, я настолько вдохновилась, что бывает такая поэзия, что до сих пор знаю половину Ахматовой наизусть. Нас отправили на трудовой фронт, мы там грузили бревна. По Оке шли баржи с бревнами, которые нужно было поднимать и грузить на платформы. Поскольку мужчины воевали, там были одни девчонки. У половины начались кровотечения, и они сразу уехали. Но мы с подругами выдержали.
Там я полюбила стихи и там стала знаменита как девочка, которая поет Вертинского. Я его всего знала наизусть: мои родители были в Германии и купили там набор пластинок. Пение облегчало мне работу на трудовом фронте. И вот кто-то подловил, услышал, и началось: «А где работает, на каком секторе работает девушка, которая поет Вертинского?» И по вечерам после этой жуткой работы, у кого-то была, может, гитара, может, баян, даже не помню, и меня до изнурения заставляли: «В бананово-лимонном Сингапуре… Лиловый негр ей подает манто».
Это было для всех как Голливуд, как «Большой вальс» – фильм, от которого умирали все советские люди. Это была та жизнь, которой они никогда не видели и которая была сном.
Что еще помню из времени ГИТИСа. Помню один случай с Юзовским [2] – он у нас преподавал. У него был сын, он растил его один. Однажды‚ придя в библиотеку, он услышал поздравления коллег, которые через каждого второго поздравляли его с женитьбой. Он был страшно удивлен, а потом выяснилось, что шестилетний сын Миша стал подходить к телефону и на вопрос звонившего, с кем он разговаривает, отвечал: «Это его жена». Так родилась эта легенда.
Помню, как мы с моей подругой Инной Вишневской отдыхали в санатории в Болшеве. У нас самый прелестный период, мы болтаемся, мы на отдыхе, выезжаем в Москву на танцы, встречи. Нам хорошо и весело еще и потому, что мы вдвоем и понимаем друг друга с полуслова. Утром идем на завтрак и видим большую толпу людей, которая мрачно рассматривает стену, по которой будто ползет какой-то зверь.
На ней черным заголовком мгновенно впечатывается в нашем мозгу статья в «Правде», вывешенная на стенде: «Антипатриотическая группа театральных критиков». Одновременно мы читаем первые строчки, затем следующие, уже с фамилиями‚ и в шоке осознаем, что почти все перечисленные фамилии – это фамилии наших учителей в ГИТИСе. Те, на кого мы молились, те, кто был прославлен за рубежом как высшие специалисты различных видов искусств. Сразу же перечисляются Юзовский, Алперс [3], Эфрос [4] и другие. Они шпионы, они антипатриоты, они продавшиеся Западу враги. У меня темнеет в глазах, мы с Инной молча выползаем из этой кучи, прильнувшей к стенду, выбегаем на улицу и начинаем осознавать и обсуждать произошедшее. Уже с первой минуты мы поняли, что наша жизнь резко меняется и что прежнего счастья пребывания в институте больше не будет. Всем заменяют темы диссертаций, я получаю тему «Советская драматургия на московской сцене», которую впоследствии защитила в качестве кандидатской диссертации. Все наши учителя были уволены из Государственного института театрального искусства, их книги, их лекции были изъяты из библиотек, и дальше началась та длинная эпоха травли, когда были сосланы в лагеря лучшие специалисты.
Продолжаю про годы юности. У меня развилось два чувства в характере, абсолютно патологические. Первое – это сопричастность людям, личностям, награжденным свыше, от природы чем-то особенным, чем-то из них выпирающим, без чего они не могут быть счастливы. Сопричастностью к страданию таких людей. И второе – абсолютная ненависть к выбрасыванию еды. Я заболеваю, если вижу, что у меня что-то в холодильнике испортилось и моя помощница это выбрасывает. Ничего не могу сделать с собой, могу накупать лишнее, что портится, абсолютно не считаю и не берегу денег. Не умею финансировать, не умею накапливать, но абсолютно не могу видеть кусок выброшенного хлеба.
Еще одно раннее ощущение. Я вспоминаю бесконечные поездки в детстве в Крым, в Коктебель, которые надо было бы считать великой удачей оттого, что я туда езжу, что мои родители везут меня на юг, в здравницу Отечества, что я плаваю и так далее. Для меня же это была пытка ежегодная.
Меня навьючивали в дикую жару какими-то вещами и тянули на море, куда мне не хотелось. Я не буду перечислять, потому что я, конечно, по-настоящему, по-глубокому была абсолютно не права, но просто не сходилось мое понимание того, что мне хочется и что мне, вынужденно и правильно воспитывая, навязывала моя семья. Я этого не осознавала, но никогда не чувствовала себя счастливой, мне всегда хотелось куда-то убежать, что-то делать по-своему. Такая уродилась от природы.
И именно поэтому, что почти необъяснимо, когда я в первый раз вышла замуж, я столкнулась с тем, что мои родители по своим правилам (правильным правилам)‚ как вести себя, не приняли моего мужа. Он в это время, специально уехав из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего, ринулся за мной, девятнадцатилетней, в Москву и перешел в московский Театр Моссовета. Я вышла за него замуж, и четыре года или почти пять я была за ним замужем. Детей у нас не было.
Мы не жили в трехкомнатной квартире моих родителей, потому что однажды случился такой эпизод: мой муж пришел к обеду не вовремя‚ и отец, которого иногда охватывали приступы бешенства, особенно если нарушались незыблемые правила, а мы все уже сидели за столом, вдруг побелев, дрожащими губами произнес историческую фразу: «Георгий, если вы существуете в нашей семье, то вы должны приходить к обеду вовремя, то есть тогда, когда мать сидит за столом. Когда вы опаздываете, это мне (или нам, я уже не помню) не подходит».
Как только Георгий сказал, что он не может жить по правилам моей семьи, – даже при такой трещине, которая образуется в моей семейной жизни, – я пошла на отделение. И мы сняли комнату в том же доме. Мои мать и мой отец страдали от унижения оттого, что их единственная, обожаемая дочь переселилась в отдельную квартиру, когда у них есть собственная, полученная после маленькой комнатушки, в которую их поселили, когда они приехали в Москву. Но мой не менее гордый муж был внуком или даже сыном князя, в нем текла благородная кровь, отразившаяся в его потрясающей внешности, красоте, повадках, голосе, но с той же невероятной силой отразилась в его несогласии с чем-то в жизни. Благодаря этому человек, у которого было все, болел той скрытой болезнью, которой болеют так много русских людей. Он пил, потом это выявилось, и его запои отразились, конечно, страшным гнетом на нас и послужили‚ по существу‚ тому, что горячо любимого мною человека это разъединило со мной. Для меня было абсолютно невозможно унизительно бегать, искать его по утрам, спрашивать, где мой муж. Что сыграло, конечно, решающую роль в том, что я ушла, когда в меня так сильно влюбился Борис Моисеевич Каган и начал ухаживать за мной. Он вынул меня из семьи, из которой меня, может быть, ничто бы не вынуло, если б не его такое отеческое, с чувством юмора, превосходства, но всегда и с чувством почтения, любви отношение ко мне.
Я сегодня, оглядываясь на это, понимаю, что всегда выбирала свободу. Это звучит пафосно, но я не терпела насилия над моей личностью, если это не совпадало с каким-то внутренним ощущением. Но Господь Бог, судьба или природа наделили меня сильным чувством сопричастности людям, на талант которых, на само существование которых давит насилие и заставляет их жить иной жизнью, чем они могли бы, одаренные от природы. Это ощущение таланта, личности другого человека во мне родилось, может быть, именно в силу того, что я и в детстве должна была быть лучше всех в тех параметрах, которые предполагались нормами жизни большинства людей вокруг меня.
Начало совместной жизни с Борисом было для меня нелегким. Особо не раздумывая, мы поселились в квартире на Ленинградском проспекте, 14, где обитали его мать Рахиль Соломоновна, сестра Лена с мужем, младший брат Юра, а впоследствии и вернувшийся из ссылки отчим Борис Наумович. Меня познакомили и с отцом, жившим отдельно с новой семьей. Это был человек редкой деликатности, терпимости, одинаково любовно относившийся к каждому из нас. От него исходил поток нежности, молчаливого понимания.
Мое ощущение чужеродности в этой квартире было естественно. Здесь каждый имел свое, уже завоеванное духовное пространство. Кто была я? Начинающая карьеру любознательная аспирантка, а Борис уже в тридцать серьезный ученый, автор многих работ по кибернетике, лауреат Сталинской премии СССР. Первые три года я жила под влиянием превосходства людей нашей квартиры. Но мое врожденное чувство независимости и пример моих родителей, чья научная деятельность становилась активнее, сказывались все сильнее – я упорно пыталась реализовать свое предназначение. Борис довольно скептически, но доброжелательно относился к моим литературным поползновениям. Но была его сестра Лена – уже знаменитая писательница Елена Ржевская. Конечно же, представить себе еще одного литератора в этой семье было большой смелостью…
Квартира была очень занятная, очень элитарная. При скромности быта была претензия, но, с другой стороны, это советская власть всех воспитывала‚ что нельзя иметь лишнее, это считалось моветоном. В те времена негласно существовали определенные правила. Невозможно было, предположим, уйти из кухни и не вымыть свою тарелку, невозможно было уйти из своей комнаты, не застелив постель или не убрав за собой. Не было понятия чужого обслуживания, няня была у ребенка, а мы все делали всё сами, ну кроме ремонта, может, чистки по особым дням раз в месяц. Это выковывало очень интересные характеры, поэтому и я оказалась еще в детстве так приспособлена, и война меня выучила уметь делать все: от топки печки до уколов – все делать.
Конечно, самым особенным человеком в семье Каган была Лена – это точно, как у Булгакова в «Белой гвардии» есть Елена, вокруг которой крутится все. Елену нашу хвалили, потому что она действительно была литературно одарена. Я считаю ее очень талантливой писательницей. У нее был довольно узкий спектр впоследствии, но словами, слогом, тем‚ как она писала, как отсеивала все многословие, как была кратка, – я очень восхищалась. И она проходила среди нас как царица Савская. Борис мой был очень остроумный, говорливый, но по поверхности. Его не интересовало, что чувствует другой человек. Самый глубокий из всей семьи был Юрка, почему я с ним и дружила больше, чем и с отцом, и с Леной.
Вокруг Лены был культ не только из-за ее таланта, конечно, но и из-за того, что она стала вдовой в 19 лет. Елена Каган (писательский псевдоним Ржевская) была очень известна и как писательница, и тем, что она прошла все военные дороги от отряда, где воспитывали юных переводчиков и перебрасывали на фронт. В то время, когда началась ее военная судьба, она была женой Павла Когана, поэта, лидера всей плеяды тогдашних ифлийских и университетских поэтов. Все они погибли на войне: Коган, Кульчицкий, Майоров и другие. Об этих юных, не выросших в маститых поэтов, ходили романтические рассказы и легенды, и всегда было чувство печали. Широко цитировали Павла Когана: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» или «Бригантина подымает паруса». Это был вообще гимн всей молодежи. Фигура Павла Когана, которого я не знала, была фантастически привлекательная и романтическая. Лена пробыла недолго его женой. Его убили, она ушла восемнадцатилетней девочкой на фронт. Ее знание немецкого языка, очень плохое поначалу, ставившее ее в очень сложное положение, когда ей пришлось допрашивать пленных немцев, по молодости мозгов и по бесспорной талантливости и памятливости так быстро усовершенствовалось, что она в последние месяцы войны уже допрашивала свидетелей гибели Геббельса.
Павел Коган погиб уже в 1942-м, и Лена не так часто о нем вспоминала, потому что я-то ее застала уже замужем за Изей Крамовым, который был на самом деле Изя Рабинович. Крамов – литературный псевдоним. Исаак Крамов тоже был замечательным писателем, но иного склада, писавшим удивительно нежную, точную и тонкую прозу. Он был на редкость одаренным исследователем литературы, публицистом, но, конечно, рядом с Леной, как, например, рядом с Беллой Ахмадулиной‚ любой, будь он прекрасным писателем Нагибиным или дивным художником Борисом Мессерером, все равно оставался как бы на втором плане. Лена была особым даром, она сумела проявить неслыханное мужество в молодые годы и потом создала целый пласт литературы, в котором рассказала, что происходило в Берлине во время войны, и в чем состояла ее работа переводчицы. Изя был братом Леонида Волынского (Рабиновича), того самого, кто нашел Дрезденскую галерею, спрятанную фашистами‚ чтобы ее взорвать. Я непосредственно от него слышала всем известную фантастическую историю, как весной 1945 года лейтенант Красной армии Леонид Рабинович в составе своего батальона участвовал в боях под Дрезденом. На подступах к городу, у каменоломен, увидел под кучей мусора и камней часть какой-то картины, обнаженное плечо. Отрыл и не поверил своим глазам – это была «Саския» Рембрандта. Леонид доложил о находке высшему командованию и возглавил поисковый отряд. Он нашел блокнот, в котором зашифрованы были сведения о местах захоронения картин Дрезденской галереи в катакомбах. А поскольку знал немецкий язык и, как художник, знал, какие картины хранились в галерее, то расшифровал карту.
Все трое представителей семейства Каганов сделали блистательную карьеру, в основном с помощью серого вещества и таланта. Лена писала прозу всю свою жизнь‚ и сегодня ей за восемьдесят. Она приглашается на все конференции, что связаны с историей ВОВ, о ней снимаются фильмы‚ и она широко известный человек, несмотря на свою скромность. Голова ее осталась свежей, и она удивительно помнит все детали. Только что я побывала на ее последнем выступлении на даче в музее Булата Окуджавы, ныне покойного, где она рассказывала о Викторе Некрасове и о войне. Это было интересно, было очень много народу.
В квартире на Ленинградке была тайна, сковывающая нас всех‚ – Лена не могла рассказывать об этом никому – она видела труп Гитлера. В какой-то момент Сталин пустил слух, что Гитлер жив и скрывается где-то в Мексике или Южной Америке, он пустил его для того, чтобы мобилизовать народы перед лицом того, что враг жив. Тогда пересажали уйму людей, и Лену допрашивали – она была переводчицей, и она видела многое, и в том числе трупы Геббельса и всей его семьи, а все знали, что Геббельс убил их собственноручно, как убежденный эсэсовец. Лена видела их и видела Гитлера.
Самым младшим в этой квартире был Юрий Каган. Он был физиком, учеником Ландау и Софроницкого, поэтому окружение, связанное с физиками, тоже очень сильно влияло на меня тогдашнюю. Это десятилетие, которое я прожила там, пока мы не получили двухкомнатную квартиру, выглядело как материализованные стихи Бориса Слуцкого «Физики и лирики»:
- Что-то физики в почете.
- Что-то лирики в загоне.
- Дело не в сухом расчете,
- Дело в мировом законе.
- Значит, что-то не раскрыли
- Мы, что следовало нам бы!
- Значит, слабенькие крылья —
- Наши сладенькие ямбы,
- И в пегасовом полете
- Не взлетают наши кони…
Это стихотворение прошло по всем объединениям интеллектуального творчества. Его знали студенты, театралы, художники, все, потому что потому что действительно, не как писал Слуцкий, в моде были уже не физики, а лирики. Тогда была жизнь на самом деле в сращении физиков и лириков, страна подымалась очень быстро вверх по части осмысления прошедшего опыта и достижений мировой науки. Плеяда физиков того времени абсолютно неповторима: «могучая кучка», в которой было несколько нобелевских лауреатов и очень крупных светил: Ландау, Тамм, Семенов, Халатников и другие. И среди них вращался Юра, младший брат Каганов, на 10 лет моложе моего мужа и самый младший в этом физическом взрослом окружении, хотя он первым стал впоследствии сначала членкором, а затем и действительным членом Академии наук. Сегодня это крупный ученый, известный во всех странах мира. Он женился на дочке писателя Николая Вирты Тане Вирте, с которой и по сей день здравствует.
Вот эта квартира, наполненная высокими интересами, конечно, кружила голову. Но позднее случилось мое знакомство с более молодой когортой поэтов, появился на горизонте Андрей Вознесенский, с которым из знаменитой троицы поэтов я познакомилась последним.
В ту пору, когда моя дружба с Вознесенским только начиналась, я была хорошо знакома с поэтами старшего поколения – Борисом Слуцким, Женей Винокуровым, Давидом Самойловым. Потом чуть спустя получилось так, что у меня было несколько поводов сблизиться и стать поверенной в некоторых секретах Жени Евтушенко и Роберта Рождественского. С Борисом Слуцким и Самойловым я познакомилась в квартире Бориса Кагана.
Ну что еще вспомнить о моей той давней жизни? Рожала я в Ленинской библиотеке в научном зале. То есть я писала там диссертацию, когда все началось, позвонила мужу оттуда и сказала: «Бобка, я рожаю». Он сказал: «Еду». Он перепугался насмерть, он меня все-таки очень любил. Примчался с машиной, отвез меня из Ленинки в роддом.
Когда узнала вся компания гитисовская, все учителя, что я родила, это была сенсация, – все стали мне писать письма. И вот 17 июня 1951 года в клинике на Пироговке я лежу в каплях пота после тяжелых родов. Внизу толпятся мои друзья, мой муж Борис Каган, все шлют мне записки, поздравления. Пишут, что я родила самого крупного ребенка за эти сутки, 4 килограмма 200 граммов. Спрашивают: как назову? «Я предлагаю назвать Константином»‚ – пишет мне Костя Рудницкий, кто-то – Владимиром, а кто-то Родомиром. Длинное письмо от нашего гитисовского гуру Дживелегова [5], крупнейшего ученого с мировым именем, который преподавал у нас мировую литературу. «Боже мой, наконец-то, – пишет он, – наша обаятельнейшая Зоя Богуславская будет ходить без этой горы на животе и станет прежней. Поздравляю, Зоя! Женщин с ребенком у нас еще нет. Ты первая. Мы тебя все любим!» Письмо от Леонида Зорина: «Не слушай никого, Константинов было много отвратительных. Назови лучше сына Леонидом. Леониды были только достойные люди». Я улыбаюсь, ощущая дикую неимоверную слабость и непонятное чувство: неужели это я родила? Неужели в этой жизни будет что-то более важное, чем все остальное. Мельком соображаю, что, быть может, Леонид отличный выбор, потому что дедушка был Лев, а просьбой Бориса было любое имя без буквы «р», которую он не выговаривал.
Возвращаюсь из роддома, а мне предстоит защищать диссертацию, я ж родила за два месяца до защиты. Так что о том, чтоб я занималась только ребенком, речь не шла. Единственное счастье – у меня было большое количество молока. Мы уехали на дачу в Шереметьевское и там я работала, пока сын спал. Мне все помогали. Якобы. Но когда сын начинал кряхтеть, как дедушка так: «А-а-а, о-о-о», а потом раздавался крик, я это слышала через этажи, через террасы, и первая все равно подходила, не могла вынести крик – я так боялась, когда видела еще в роддоме надрывающихся детей, аж синеющих от крика. Я знала, что это вредно, хотя все говорили тогда, что так развиваются легкие, а я понимала, что это такие страшные нервы для ребенка, до сих пор не могу слышать, когда дети плачут. У меня это пунктик. Я грудь давала, он быстро очень успокаивался, посапывал и засыпал уже до утра. А я, бывает, изможденная в последней степени, почти не спала. Это было тяжелое дело – автореферат написать, быть готовой к ответу на какие-то вопросы оппонентов на ученом совете, это не то, что потом началось, – штамповали и за деньги, и без денег кандидатов. Мы были очень заслуженные кандидаты.
Дедушка и бабушка в семье Каганов были важней всего. Когда появился ребенок, я сказала: «Рахиль Соломоновна, вы целыми днями гуляете…» – она же ничего не делала, это потом я оценила, что она была неплохая тетка, но тогда она ответила: «Зоя, ребенок – это не я». Никто не хотел помочь мне с моим сыном. Его все очень любили, но одно дело любить, а он был хороший ребенок, обаятельный очень, мог с каждым человеком подружиться, так вот одно дело любить, и другое дело – тратить время и возиться. Возиться с ребенком никто не хотел. В квартире, в которой было пять комнат, минимум семь взрослых людей, ни один не соглашался хотя бы час погулять с ребенком, чтобы я могла заниматься делом. Потом появились няни, а пока, как только сын засыпал, я бежала к учебникам.
Вся семья Каганов часто собиралась вместе, читали стихи. Я, когда могла, присутствовала, иногда брала ребенка в коляске. Я всегда была заметным активным человеком, неравнодушным к общественным событиям, никогда не выступала, но всегда помогала, где-то мелькала, но из-за своей застенчивости, нелюбви к пиару, которая была у меня всегда, никогда не называла себя. И вот в аспирантуре меня вдруг выбрали секретарем комсомольской организации.
Аспирантура у меня, как известно, была в Институте истории искусств, во главе которого еще стоял Игорь Грабарь, академик и очень крупный художник и ученый‚ – позднее его именем был назван институт, и его заместитель Владимир Семенович Кеменов. Эти два ярких человека рулили той жизнью, и она была очень насыщенна и подлинна, посвящена искусству. И там меня вдруг выбирают секретарем комсомольской организации.
Конечно, как всегда, Нея Зоркая сунулась, предложила кандидатуру, единогласно проголосовали. Хотя мне это было настолько чуждо. Какой комсомол?! Я знаю, что моя энергетика, активность личности, креативная реактивность, я бы сказала, воспринималась очень многими как возможность посадить меня чем-либо руководить, мне предложения были вплоть до замминистра культуры, но я категорически не вступлю и не вступала на эту стезю.
Выбрали. А тогда что было делать? Не отказываться же! Секретарь комсомольской организации – это вроде как доверие друзей, общественная нагрузка. К счастью, аспирантура в Институте истории искусств последнее место, где кипит комсомольская жизнь: и по возрасту, и по интересам немногочисленных членов ВЛКСМ. Но раз секретарь – приходилось бывать и в райкоме, и в других организациях.
Очень скоро из комсомольского возраста мы вышли. Я стала работать редактором в издательстве «Советский писатель», выпустила книгу о Леониде Леонове, меня приняли в Союз писателей СССР. В Московской организации как-то стала формироваться группа для туристической поездки за рубеж – уже и не помню, в какие страны. Обыкновенная туристическая поездка. Я тоже решила мир посмотреть, стала оформлять бумаги, и вдруг мне говорят: «Тебя вычеркнули из списка». Я была ошарашена.
Удивленная и возмущенная, пошла за объяснениями к секретарю парткома Московской писательской организации, бывшему чекисту, автору кондовых советских книг в духе несокрушимого соцреализма. Сейчас его дочка одна из самых успешных писательниц детективного жанра, говорят, у нее самая большая читательская аудитория, самые большие тиражи.
Пришла к нему, спрашиваю: «Разъясните, я в чем-то виновата? Я не понимаю. Я что – зараженная, прокаженная? Почему группа едет, а меня снимают с поездки?»
Он повел себя исключительно порядочно. Сказал: «Дело в том, что в твоем досье есть какой-то момент, который заставляет меня не пускать тебя за границу, на всякий случай. Я не имею права об этом подробно говорить, но обещаю, что устрою прием у самого Егорычева».
Ну и ну! Николай Егорычев в 1962–1967 годах – первый секретарь Московского горкома КПСС. «Хозяин Москвы»! Моим делом будет заниматься первый секретарь Московского горкома КПСС, человек из высшего руководства страны? Когда я к нему пришла в кабинет, то увидела на столе бумаги с моей фотографией. «Вот какая история, дорогая Зоя», – сказал он мне. И рассказал то, о чем я никогда не знала, даже не слышала.
Хочу сразу сказать, что никогда родители не только со мной об этом не говорили, но они никогда об этом не упоминали. Я знала, что у мамы было три младших сестры – Ида, Рая и Даша. Ида и Даша вскоре после Октябрьской революции, в 21-м или 22-м году, уехали за границу, в Палестину. Государства Израиль тогда не было. Испугавшись то ли революции, то ли какая-то коммерческая, может быть, деятельность у них была, не могу знать. Уехали – и словно канули. Дома у нас о них никогда не говорили.
И вдруг этот человек, первый секретарь горкома партии‚ рассказывает мне следующую историю. Одна из моих теток была в России. Она приехала, чтобы навестить могилу моего дедушки, ее отца. Она приехала сюда, ее наши органы тут же засекли, потому что она остановилась в посольстве Израиля, уже Израиль был. Приехала на несколько дней, но при ней, может, какие-то бумаги были, и она была сочтена как лазутчик‚ и это отметили. Моей маме, родной сестре, она позвонила по телефону, потом я это все узнала от мамы уже, и сказала, что она приехала на несколько дней как работник посольства и хотела бы, чтобы мама ей показала, где могила отца. Они пошли с ней на его могилу.
Как оказалось, наши «органы» за тетей моей следили то ли с момента приезда, то ли от израильского посольства и полностью проследили ее путь и сколько часов они с мамой пробыли вместе. Они делали довольно добросовестно в это время свою работу, КГБ. За кого уж ее приняли‚ неведомо. Следили, все зафотографировали – и маму мою тоже. И все это попало в мамино тайное досье. Наверно, как «возможный контакт с иностранцами». Как строчка в анкете: «Имеете ли родственников за границей?»
Потом тетя вернулась в посольство и улетела. Но история эта как шлейф по наследству досталась мне. Первый секретарь Московского горкома КПСС товарищ Егорычев сказал мне: «Напиши заявление, что ты никогда не видела и не была знакома с твоими тетками, которые уехали до твоего рождения, что ты об их приезде не знала». Ничего другого он не требовал, никаких отречений от родственников. «Я о встрече моей матери тоже не ведала, но полагаю, – я написала, – что для приезда к нам был только один повод – повидать могилу родного отца, который захоронен здесь‚ при том что они люди религиозные. Я считаю, что если за ними других грехов не было, то это не грех, а положительное явление». Я написала это заявление, он скрепил своей подписью и, таким образом, снял с меня клеймо, черную метку, с которой я могла бы прожить в Советском Союзе всю жизнь до распада СССР – никаких заграниц, даже туристических поездок. Так было. Такие были времена.
Конечно, такое внимание к простому человеку – это был почти единичный случай, но так бывало даже у Сталина. Как известно, он вдруг среди абсолютной жестокости и уничтожения как родственников, так и бывших своих партнеров, братьев по революции, мог ткнуть пальцем в Берию и сказать, чтобы такого-то человека не трогали. Это были абсолютно единичные случаи при том количестве людей, которых просто по спискам, по деревням уничтожали, но такие были. Например, одним из таких случаев было то, что Сталин‚ подобно Мандельштаму и Мейерхольду‚ не уничтожил Пастернака и сказал: «Не трогайте этого юродивого». Даже он понимал, что тот разговор, который Пастернак с ним вел о Мандельштаме, мог вести только человек, у которого в голове нет никакого соображения выгоды. Все долго числили часть вины за судьбу Мандельштама лежащей на Пастернаке, который мог, может быть, сказав что-то другое, остановить процесс издевательства, пыток над Мандельштамом. А с другой стороны, наверное, не мог…
Первая нота, посеявшая сомнения в правильности моих убеждений, была сделана Леонидом Зориным. Мы очень дружили с этим замечательным драматургом, который тогда уже был полузапретной звездой – он написал несколько пьес, которые тут же запрещались. Самая главная, заслужившая постановление ЦК и вызвавшая кровохарканье у автора Леонида Зорина, была пьеса «Гости». Она была полностью запрещена, но и многое в последующих драматургически значимых пьесах проходило очень трудно.
Однажды он завел меня на кухню, дело было уже после окончания ГИТИСа – году в 1949-м, и у нас зашла речь о Кирове и об арестах. Он мне вдруг сказал: «Неужели ты не понимаешь, что Кирова убил Сталин?» Я была настолько этим ошарашена: «Почему? За что?» Он сказал: «Ну, конечно, потому‚ что он на XVII съезде партии получил больше голосов, чем Сталин. Это чистое уничтожение соперника». И естественно, никакого Николаева, якобы убившего Кирова из ревности, не было, – то есть эта версия, произносимая тихим возгласом «Ах, какая смелость! Убить из ревности!», была неверной, так как на самом деле был убран яркий соперник Сталина, будущий, может быть, преемник власти. Тогда уже было совершено огромное количество убийств, репрессий, связанных с «делом врачей», космополитизмом… То есть огромное поле, куда входили генетика, здравоохранение, военная стратегия, сельское хозяйство с Лысенко, было выжжено указами Сталина, выкосившими всех наших крупнейших ученых. Это ужасно осознавалось, особенно после «дела врачей», потому что мало кто понимал, что никакой Виноградов или Коган [6] или кто другой не собирались отравить или неправильно лечить Сталина, потому что это были лучшие врачи. И эта фраза Лени Зорина легла на целый хвост моих воспоминаний.
Леня Зорин был как шестая девица в нашем «пятибабье», потому что он ухаживал, а впоследствии женился на одной из нас, а именно на Рите Рабинович, которая потом стала Генриеттой Зориной. Блестящая, рано ушедшая (не помню, в каком возрасте, но она первая из нас ушла) в небытие, написав книжку об Андрее Лобанове, лучшую, которая была написана про этого замечательного театрального режиссера. Яркая брюнетка с еврейским отпечатком, с философским, сосредоточенно умным лицом с редкой улыбкой. Мы считали ее самой умной среди нас.
Глава 3
Работа редактором
20 ноября 2017 года
Возвращаюсь к своим воспоминаниям и расскажу про три моих необычных попадания в прессу.
Я уже защитилась, и поскольку я была все-таки очень бриллиантовым персонажем и в ГИТИСе‚ и всюду, то меня решили пригласить на самую почетную должность, а именно завотделом культуры МК. Это не сегодняшний «Московский комсомолец», тогда это было всевластно. Фамилия пригласившей меня была Славьева, и я запомнила ее на всю жизнь.
Она говорит: «Зоя Борисовна, мы вам предлагаем работать в МК». Вероятно, она думала, что я упаду в обморок от счастья. А я отвечаю: «Очень тронута», а сама знаю, что этого не может быть, она что-то недопонимает, может, посмотрела не туда, куда надо. Она говорит: «Значит, мы вам даем отдел театров». Я была бы большим начальником, а это всего 51-й год. Сколько мне лет-то! Она продолжает: «Вот, заполните здесь небольшую анкетку». Мы сидим за ее столом в райкоме. Я заполняю, и в 5-м пункте пишу, естественно, «еврейка» и понимаю, что со Славьевой будет, и мне за нее становится больно. Она читает и… помню, говорит так вкрадчиво: «Что ж вы не сказали, что у вас такой маленький стаж».
По-моему, она сказала даже не «маленький», а что «у вас практически нет стажа», а я отвечаю: «А вы что, не понимали этого? Я же при вас защитила».
Я ушла, честно говоря, счастливая, потому что никогда бы в партийном органе не стала работать.
Я работала в «Советском писателе» старшим редактором, когда меня взял к себе Борис Михайлович Храпченко [7]. Так я попала в журнал «Октябрь», где стала внештатным литредактором в отделе критики. Таким образом, карьеру я сделала через Храпченко и через писателя Леонова, потому что Храпченко обожал Леонида Леонова, и тот действительно был несказанно талантлив. Храпченко поручил мне сделать материал про Леонова, помог составить опросник, чтобы я поговорила с ним. И вот, когда пришло время ехать, я заболела, у меня поднялась высокая температура. Но я же камикадзе, и я к нему приехала с температурой. Я приходила к нему три дня подряд и записала все его слова. Получилось такое наставление писателям, как писать, ликбез про то, что есть писатель, разбавленное его рассуждениями. Практически он мне дал записать свой мастер-класс. Эта солидная публикация вышла в «Октябре» и стала страшно популярна. Ее читали во всех институтах, а моя фамилия даже не фигурировала нигде.
Во время публикации очерка мне пришлось лечь в больницу из-за язвы. И только впоследствии я узнала, что, когда Леонову выписали гонорар за статью, он его не взял и сказал, что «все это сделала Зоя Богуславская». Ему объяснили, что я в больнице и меня это не интересует. Это было мое первое большое выступление в прессе.
Следующий эпизод. В издательстве мне дали поработать с Галиной Николаевой, той, которая написала роман «Битва в пути», и мне его дали на редактирование. Я была счастлива, что мне, такой молодой, дали солидное произведение. Я очень гордилась этим, а потом узнала, что все, оказывается, отказались редактировать этот роман. Мне рассказали, что у Николаевой ужасный характер и никто не любит с ней работать. Но я ей отредактировала роман, что называется, с иголочки.
Дальше я сделала следующее: пришла к ней и сказала: «Галина Евгеньевна, я очень много поправила в этом романе. Почитайте это и отметьте все‚ что вы не примете, я закрываю глаза и подписываю в печать как есть». А в романе правки было море, но я решила, раз у нее такой характер, надо чуть-чуть отступить, как я всегда делаю. Она позвонила мне на следующий день и со всем согласилась. Я ей сделала качественный роман, который получил потом Ленинскую премию, но я никогда этим не хвасталась.
Николаева была контужена‚ и у нее часто возникали проблемы с сердцем, ее хоронили раз сто. Ей дали врача Бориса Вотчела [8]. Он пользовался исключительным успехом, и его давали только избранным. Однажды, когда он пришел к ней домой ее лечить, я как раз была у нее. Он на меня посмотрел и спрашивает: «Барышня, вы почему такая бледная?» А я говорю: «Да я всегда такая». Он подошел, пощупал пульс и спросил: «Скажите мне, слабость у вас бывает?» Я ответила, что очень часто. И он мне сказал следующее: «Пойдите и завтра же купите себе качественный кофе. Этот напиток создан для вас. Вы такой гипотоник, которого свет не видывал!» И вот всю свою жизнь я пью кофе два раза в день: утром и в 17:00.
Потом я пришла работать в комитет по Ленинским премиям, я попала туда через знакомого, что было в первый и последний раз в моей жизни. Я ужасно не хотела там работать, но Игорь Васильев меня почти заставил. Как-то он принес статью для «Октября», а в литературе он был совершенно бездарен, но я статью отредактировала, а он начал за мной ухаживать неистово, совершенно безответно. Тогда почему-то он решил сделать дело своей жизни и устроить меня в Ленинский комитет. Так я стала там заведующей отделом литературы.
Второе мое появление в прессе было следующим. Когда я работала в журнале «Октябрь» под предводительством Михаила Храпченко, состоялся знаменитейший рейс, когда 400 граждан Советского Союза поехали по пяти странам. Ехало очень много почетных граждан. Путевку предложили нашему главному редактору, но жена отговорила его, и он отдал путевку сотрудникам. В итоге поехала я.
Я оказалась в каюте с Эрой Кузнецовой, дочкой тогдашнего заместителя министра иностранных дел‚ – мы с ней были самыми молодыми на этом корабле. Мы очень подружились, и она меня учила азам пребывания в зарубежье. Я совершенно обалдела от количества вещей, которые видела вокруг себя‚ и, конечно, мне хотелось накупить всего и сразу и потратить все свои немногочисленные деньги. Но она меня научила и сказала, что я не должна покупать вещь в первом месте, где я ее увидела. «Потом найдешь вдвое дешевле ровно то же»‚ – сказала она. Но самое замечательное, конечно, было то, как я попала там в печать.
Нас кормили в заранее зарезервированных точках, это были рестораны или кафе. И в Италии нас повезли в ресторан, где, конечно, дали пасту, которую мы умяли за пять минут. На следующий день наши попутчики приносят газету с фотографией – я крупным планом‚ и по-итальянски написано: «Русская сеньора ест макароны». Меня сняли папарацци в этом ресторане в тот момент, когда я пыталась на вилку накрутить спагетти. Смеху было много, конечно! Это было мое второе попадание в прессу.
А третье было таким. Я уже была с Борисом Каганом. Он ухаживал за мной, всюду меня встречал, дарил не просто цветы, а подарки. Я не могу сказать, что я его сразу полюбила, но я с ним стала чувствовать себя женщиной. В Бориса была влюблена моя подруга, и я ему сказала, что не могу ответить взаимностью, потому что не готова обидеть подругу. Но он дал мне понять, что любит меня и никакая другая ему не нужна. Так я стала жить с ним в квартире на Ленинградке, а тогда квартира на Ленинградке это был синоним успеха и интеллигенции. Борис ввел меня в мир ученых, я познакомилась с Ландау и многими другими. Я была больше в кругу физиков, чем лириков.
Окончив театральный институт, театроведческий факультет, я работала, что называется, по специальности. В моем багаже было уже немало статей о театре и кино. Но каждый раз, в каждой статье цензура находила, к чему придраться. То объект не тот, то хвалю не то, что надо. Это было обычное дело, привычное – крест критики в те времена. Ведь критик пишет открытым текстом, напрямую, от своего имени. А вот художественные тексты, выдуманные, вымышленные события и персонажи – немного другое дело, тут устами придуманных героев можно было кое-что сказать. К тому времени вышли две мои монографии – о Леониде Леонове и Вере Пановой. Рукопись о Пановой терзали, как могли, но, когда книга все-таки вышла, лестное письмо о ней написал мне Корней Иванович Чуковский. Как-то, забежав, похвалил ее мой приятель Андрей Вознесенский. На удивление своему окружению, он стал бывать регулярно, читал новые стихи, приглашал на премьеры, одаривал смешными штучками. Однажды сообщил, что рекомендовал книгу Илье Эренбургу, который в ту пору покровительствовал литературному авангарду. Это отдельная история, я потом ее расскажу, но сейчас важно, что через неделю Андрей соединил меня с мэтром по телефону, и я выслушала его благосклонное мнение.
«Вот видишь, – сказал Вознесенский, – зачем ты тратишь время на какую-то другую писательницу, когда сама пишешь не хуже?»
Естественно, я не отнеслась всерьез к его словам. Мне мешало и то, что на наших полках стояли великие книги самиздата и тамиздата: Набоков, Солженицын, мемуары Надежды Мандельштам и Евгении Гинзбург, Борис Пастернак. На страницах журналов уже появились и появлялись замечательные повести и стихи моих современников: Юрия Казакова, Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц, Андрея Битова, Владимира Войновича, Георгия Владимова, самого Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Попытки приобщения к подобной литературе казались мне неслыханной дерзостью.
Да, я писала, но скрывала, что сочиняю пьески для студенческих спектаклей, в столе прятала небольшую повесть. Как-то из любопытства послала рассказ в журнал «Октябрь» – под псевдонимом Ирина Гринева. Моему изумлению не было предела, когда через пару дней, поздно вечером, к нам домой, на Ленинградское шоссе, 14, пришел пожилой человек и спросил, здесь ли живет Ирина Гринева. Дверь ему открыла Елена Ржевская и ответила, что таких здесь нет. А человек удивился: «Ну не может быть! Вот адрес под рассказом, мы хотим его опубликовать, надо побеседовать с молодым автором». Лена сказала: «Нет-нет, вы ошиблись. Что-то тут не так. У нас нет Ирины». И он ушел. Я стояла за спиной Лены – и не призналась.
Глава 4
Недиссидент
17 сентября 2014 года
Я никогда не причисляла себя к почетной когорте диссидентов, не выходила на площади, не делала публичных заявлений, не участвовала в правозащитных акциях. Кроме одной – в 1966 году подписала коллективное «Письмо 62-х» [9] в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Синявского приговорили к семи годам лагерей, Даниэля – к пяти годам заключения по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». За то, что печатали за рубежом (под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак) свои романы, повести, рассказы, эссе. Писателей обвинили в том, что их произведения «порочат советский государственный и общественный строй».
Это письмо – единственная публичная, можно сказать, антисоветская акция, в которой я участвовала.
Думаю, я никогда не была и не могла быть своей для власти‚ потому что органически не способна врать. Лгать для своей выгоды, выкручиваться за счет вранья, перекладывать вину на другого – органически не способна. Наверно, это от чувства абсолютной независимости, невозможности быть зависимой, несамостоятельной, ущемленной в моей личной свободе. Это же унизительно, если я должна ту жизнь, которую проживаю, объяснение поступков, которые я совершаю, искажать во имя того, что кому-то это выгодно и хорошо, во имя того, чтобы власть ко мне хорошо относилась.
Тогда в литературе появилась новая когорта, новый виток известности уже в современной жизни позже названных «шестидесятниками» писателей. Однако против этого термина очень много протестовали сами шестидесятники, несмотря на историческую славу их творчества и деяний, но очень любили этот термин историки литературы 80-х, делая это явление исторически детерминированным, то есть показывая, что эта эпоха к истории страны и к вечности не имеет отношения.
Эти были поэты на стадионах со стихами, которые они назвали эстрадной поэзией только потому, что ее стало возможно читать на стадионах при очень большом скоплении внимательно слушающих людей. Однажды Артур Миллер, сидя на стадионе во время творческого вечера Андрея Андреевича, спросил у меня: «А почему все эти люди сидят здесь? Что для них нового в том, что читается этим поэтом, очень талантливым, очень знаменитым поэтом, вслух? Эта книга, которую он сейчас представляет, не опубликована? Эти стихи автор сейчас читает впервые?» Я сказала: «Да нет, почему? Опубликована». – «Зачем же они тогда встают со своих мягких диванов, взбитых подушек и кресел и тащатся через такое расстояние на стадион „Лужники“, чтобы послушать то, что они могут в полчаса прочитать?» Я пыталась обозначить то явление, которое тогда только вступало в силу, а именно прилюдное чтение стихов. Это можно назвать молитвой, религией, это можно назвать даже пропагандой каких-то идей, это можно назвать и просветительством, потому что, конечно, стихи, которые там выбирались и читались‚ были отличными от того, что публиковались в газетах и что пропагандировалось из «ящика».
Очень многие стихи были либо под запретом, либо ждали запрета, а если даже они не содержали в тексте какого-то большого инакомыслия, то часто интонационно его вложить получалось. Например, у Андрея Андреевича так бывало: он мог поменять строчку: «…Дитя соцреализма грешное, вбегаю в факельные площади…», но это был тот момент, когда, конечно, «дитя соцреализма грешное» – в печати было вымарано, эта строчка опущена, но иногда вслух в эстрадном исполнении она читалась или проглатывалась, но так‚ чтоб можно было догадаться. Так‚ в стихе из «Озы», например, когда он читал «можно бы, а на фига», все подставляли, конечно, те три буквы, которые внутренне, безусловно, имел в виду поэт.
- Как сказать ему, подонку,
- что живем не чтоб подохнуть,—
- чтоб губами чудо тронуть
- поцелуя и ручья!
- Чудо жить необъяснимо.
- Кто не жил – что ж спорить с ними?!
- Можно бы – да на фига?!
Такого было много. Прозвучавшее публично иногда настолько опережало напечатанное в интонациях… Собственно, как весь спектакль «Антимиры» на Таганке, на который ходили как на исповедь политическую, как на истолкование исследования современности, которое не прочитаешь нигде.
- Провала прошу, провала.
- Гаси ж!
- Чтоб публика бушевала…
«ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ»
- Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
- Хороним.
- Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
- Хороним…
Взывание к тому, что люди не могли творчески состояться в полную меру, говорить в полный голос. Тогда было ущербное восприятие личности, культуры, она была как бы уцененной за счет цензуры или просто изуродованной, покалеченной. Скрытое убывание, угасание какой-то мысли внутри стиха, которая иногда интонационно, голосом, жестом, всей манерой акцентирования поэтом со сцены приобретала тот смысл первоначальный, который автор этого стихотворения вложил.
Но вернусь к «Письму 62-х», которое я подписала. Помню, меня раза три вызывали к генералу КГБ, который курировал Союз писателей. Разумеется, он числился в штате Московского отделения Союза писателей СССР как секретарь по организационным вопросам.
Виктор Николаевич Ильин был, безусловно, продуктом эпохи, начинал службу еще в НКВД, и в его биографии, наверно, были и чудовищные страницы, связанные с историей и деятельностью НКВД. Но мне кажется, он, во-первых, считал, что служил и служит честно, во-вторых, он способен был видеть человека в человеке, который перед ним.
Ильин вызывал для объяснения всех, кто подписал «Письмо 62-х». Ходили слухи, будто некоторые ссылались на то, что письмо они не читали, хорошие люди дали, а они и подписали не глядя. А кто-то якобы оправдывался тем, что его по телефону спросили: «Ты за отмену цензуры? Ну тогда мы и твою фамилию включаем».
То есть были варианты отвертеться в какой-то степени. Но это же унизительно!
– Кто дал тебе это письмо на подпись? – спросил Ильин.
– Да как я могу сказать? Дали и дали, – ответила я.
– Ну мы же знаем, Зоя, кто дал. Уже многие признались.
– Если признался кто-то и вы уже знаете, то зачем меня-то спрашиваете?
– Как «зачем»? Потому что твое признание освободит нас от необходимости применить к тебе другие меры… Это значит, что ты не придавала значения, кто-то тебе подсунул, не ты автор, не ты выдумала эту враждебную акцию.
– Не могу сказать.
– Ты дура или ты кто? – начал повышать голос Ильин. – Ты понимаешь, что тебя поставят в ряд неугодных, непечатаемых?
– Не могу‚ и все, – уперлась я.
– Глупая, ты что, не понимаешь, что будет? Ну тогда и черт с тобой.
– Виктор Николаевич, ну поймите меня, я человек в полном сознании, взрослый человек, ну как я могу делать вид, что меня кто-то уговорил, кто-то мне что-то «подсунул». Я подписала письмо в полном сознании, абсолютно отдавая себе отчет в том, что я делаю.
– А какой ты отдавала себе отчет?
– Я считала и сейчас продолжаю считать, что нельзя быть уголовно наказуемым за проступок, совершенный неким героем некоего произведения, что художественная литература, как и любая выдумка, как любая воображаемая ситуация, не может оцениваться по меркам уголовного дела.
Ильин махнул рукой, я ушла.
Были и другие вызовы в КГБ. И, конечно, последствия. Сразу же выбросили из журнальной корректуры мой роман «Защита». Его напечатали спустя пять лет – благодаря настойчивости заведующей отделом прозы Дианы Тевекелян и главного редактора журнала «Новый мир» Сергея Наровчатова. Роман перевели и издали во Франции, пресса, литературная критика откликнулись статьями, рецензиями. В том числе перед публикацией перевода во Франции крупнейший критик Кирилл Померанцев в «Ле Монд» или в «Русской мысли», не помню, написал почти полосу рецензии на мой роман, где обозвал меня «новым Достоевским», что этот роман сродни «Преступлению и наказанию». Я была на презентации, все шло своим путем.
«Защитой» даже заинтересовались наши телевизионщики, известный режиссер Леонид Пчелкин написал синопсис и подал заявку на многосерийный фильм. После чего меня пригласил председатель Гостелерадио Сергей Лапин, известный как еще больший запретитель, чем специальная цензура. Само по себе было удивительно, что он разговаривал с автором.
«Вы знаете, моей жене исключительно понравился ваш роман, – сказал он. – Не скрою, написан не без блеска, там очень интересные, глубокие характеры. Но мы никогда не будем снимать по нему фильм, тем более показывать по телевидению».
Я молчала, мне их «почему», их объяснения уже не были интересны.
А Лапин продолжал: «Я вам скажу почему. Потому что я никогда не допущу, чтобы на советском телевидении показывали художественное произведение, в котором адвокат побеждает в судебном процессе. У нас, в Советской стране, не может побеждать адвокат. Если предъявлено обвинение преступнику, и прокуратура его поддерживает, и дает срок, никакой адвокат никакой роли уже не играет».
Я пожала плечами.
Он еще приобнял меня, провожая, и добавил:
«Я очень хотел бы с вами встретиться еще раз, пригласить вас домой, чтобы с женой познакомить, которой вы так нравитесь, показать свою библиотеку, у меня большое собрание книг».
Эрнст Неизвестный рассказывал, что у наших начальников от идеологии, у идеологических работников высшего звена были огромные библиотеки, он сам видел. Там весь самиздат, весь авангард, который у нас не издавался: Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Платонов…
То ли это были двойные стандарты, то ли так требовала их работа, то ли еще что… Но надо отметить, что были среди них и такие, как Игорь Черноуцан, консультант отдела культуры ЦК КПСС, «куратор» литературы. Даниил Гранин называл его главным заступником свободомыслящих писателей. Он спас такое количество шедевров литературы, умея аргументировать перед вышестоящими начальниками оправданность и патриотизм данного произведения, когда оно написано пускай не с негативом, но с глубокой любовью к Родине. Еще несколько было таких либеральных людей, слава им и поклон, потому что они очень многих спасали и от изгнания, и от запрета. Благодаря им «заморозки» не превратились в лютые «морозы», как угрожал Хрущев. Хотя ведь сам Хрущев, как бы жестоко ни поступал с интеллигенцией под влиянием гневного безумия, которое иногда на него налетало, и был прежде всего главным творцом оттепели, олицетворением свободы после сталинизма…
Он, конечно, в отличие от товарища Сталина, был человеком совершенно другой эпохи, абсолютно не жаждущим крови. Всем, на кого он кричал на встрече с интеллигенцией, начиная от Эрнста Неизвестного, Вознесенского, Евтушенко, Аксенова, Голицына‚ – он все равно не требовал казни. Кричал про высылку Андрею, но тоже этого не сделал. Впоследствии, о чем Андрей много раз упоминал, Хрущев все-таки нашел в себе силы извиниться перед поэтом, которому он причинил столько страданий. Уже на пенсии он сам понял, что такое опала государства, вероломство и предательство людей, которые еще вчера были твоими друзьями, подхалимами и делали невозможное с точки зрения законности по отношению к своим фаворитам.
Однако вернусь к КГБ, к Ильину. Помимо того что роман выбросили из журнала, дважды меня снимали с писательских туристических зарубежных поездок. Ну, туристические вояжи… бог с ними. Тяжелее всего было в третий раз. Нас с Андреем пригласили в Австралию, на прекрасных условиях, с пятизвездочными отелями, гонорарами за его и мои выступления. Я должна была читать лекции в трех или четырех университетах‚ в том числе о русском литературном авангарде 20-х годов, о Маяковском, Лиле Брик, о Татьяне Яковлевой. Я уже выступала с этими лекциями в Париже, перед студентами Сорбонны, опровергала наветы, что в смерти Маяковского виноваты Лиля Брик и Татьяна Яковлева. И чуть ли не в последний день перед поездкой в Австралию, когда я оформлялась, чтобы получить паспорт, меня вызвал Ильин:
– Ты никуда не поедешь. Я понимаю, какой наношу тебе удар, но ты никуда не поедешь.
– Да как же так? Там забронированы гостиницы на нас с Андреем, запланированы уже лекции!
Он потупился, наверно, даже сочувствовал:
– Ничего не поделаешь, посольство наше отказало…
Андрей, вернувшись, рассказывал, что во всех гостиницах нам были отведены люксовые номера на двоих, в программах значилось, что нас двое… Что думали пригласившие нас австралийцы, как им объяснили мое отсутствие‚ можно только догадываться. Это, конечно, муссировалось в их прессе.
Путешествие Андрея в Австралию имело почти невероятную криминальную историю. И не только криминальную.
Так или иначе, хоть я и не выполнила условия контракта, но тем не менее Андрею заплатили гонорар и за мои несостоявшиеся лекции. Сумма получилась огромная, и он, будучи человеком с невообразимыми эскападами характера, невероятными порывами, взял да и купил мне какое-то потрясающее ожерелье, а к нему кольцо и браслет. Драгоценности упаковали в роскошный футляр, похожий на футляр из-под скрипки. Кроме того, он купил мне куртку и полупальто на меху. Мало того‚ норковую шубу, а вернее – манто. Андрея повсюду сопровождали его сумасшедшие русские поклонники, меценаты, которые владели в Австралии меховой фабрикой. Они привезли его туда и продали норковое манто с какой-то безумной скидкой. Утверждали, что это штучная, редкая вещь, что второе такое манто сделали по заказу какой-то принцессы.
Андрей говорил, что его буквально распирало от гордости, когда он вез эти подарки. Во-первых, они сами по себе стоят того, во-вторых, это хоть какая-то компенсация за то, что меня не пустили в Австралию.
Я его встретила в аэропорту Шереметьево, самолет прилетел ночью. Разобрав багаж, мы обнаружили, что одного чемодана нет. Все отнеслись к этому спокойно, нам объяснили, что рейс транзитный, несколько чемоданов по недосмотру не выгрузили в Москве – и они улетели в Лондон, через день-два вернутся и найдутся.
Неделю Андрюша чуть ли не каждый день ездил в Шереметьево. И действительно, вскоре чемодан вернули. Андрей примчался домой и стал доставать подарки, вибрируя от счастья, что его женщина, живущая, на зарплату и редкие гонорары, станет как принцесса.
Вынул белую спортивную куртку, я тут же ее примерила – как раз. Потом – кожаное пальто на рыжем меху, очевидно, это была лиса. И, наконец, со всякими гримасами полез на дно чемодана, куда упаковал самое драгоценное – футляр с ожерельем, кольцом и браслетом.
Футляра не было. Андрей перерыл весь чемодан – футляр исчез.
Потом он вспоминал, что ему советовали вынуть драгоценности из футляра и положить в сумку, держать при себе. Но ему хотелось, чтобы было красиво – драгоценности в футляре, похожем на футляр скрипки.
А норковое манто я не носила. Мне говорили, что некоторые дамы в Большой театр ходят в норке, распахнутой, и с бриллиантами на шее. Но это не мой стиль, я так не могла. И вообще, поняла, что эти меха никогда носить не буду. Норковое манто так и провисело в шкафу, пока его не стал просить один очень крупный художник. Для возлюбленной, ослепительной первой красавицы Москвы. Это был его подарок к ее дню рождения.
Денег за него мы получили немного по сравнению с действительной ценой манто, но ровно столько, что их как раз хватило на нашу первую машину – «Жигули» первой модели. Она доставила нам несказанное удовольствие. Другое дело, что все закончилось аварией, к счастью, без травм и даже ушибов. Характер не позволял Андрею быть сосредоточенным на чем-то; задумавшись, он забывал, что управляет автомобилем. В общем, нашу первую машину он разбил. К счастью, повторю, без последствий для здоровья.
Последняя беседа в КГБ была связана с выступлением Андрея в американском посольстве.
– Ну ты же взрослая женщина! – выговаривал мне Виктор Николаевич Ильин. – Ну, с поэтами бывает разное, какой с них спрос. Но у тебя-то есть голова на плечах! Такую умную бабу, как ты, надо еще поискать. И как же ты могла допустить, чтобы Андрей выступал на вечере в американском посольстве вместе с американским поэтом, когда все писали, что в это время наши враги устроили провокацию в Сан-Франциско?!
Я посмотрела на него ясными глазами:
– Кто писал?
– Весь мир писал.
– Виктор Николаевич, я не читаю несоветских газет, я не слушаю все эти зарубежные радиоголоса. Покажите мне газету, нашу, советскую, из которой я смогла бы узнать о провокации в Сан-Франциско.
Наверно, такой ответ ему в голову не приходил. Он на меня посмотрел, махнул рукой и с дикой досадой сказал:
– Иди!
И я ушла.
Так завершился сюжет с подписанием письма протеста, вызовами в КГБ и запретом на поездку в Австралию. Вполне благополучно завершился. Особенно по сравнению с репрессиями, которые обрушивали на диссидентов.
Конечно, меня охранял и ореол поэзии Андрея Вознесенского, его имя и слава. Его выпускали за границу, а я пять лет была «невыездной» – как в советские времена говорили. После этого я не испугалась, не перестала говорить, что думаю, но отпечаток остался на всю жизнь. Впрочем, с этим я сталкивалась и раньше. Это уже другая история, может быть, еще более бессмысленная. А может, и нет. С тех пор границы абсолютной бессмысленности стали размытыми.
Глава 5
Выигрыши
17 августа 2016 года
В нынешнем моем состоянии, когда вечность мне дала понять, что она гораздо важнее, я подумала о том, что у меня есть несколько постулатов, можно назвать слоганами. Поскольку сейчас дождливое настроение, я их расскажу.
1) Никогда не волнуйся по поводу предстоящих обстоятельств, волнуйся по поводу тех, что у тебя уже случились.
2) Счастья отпущено человеку в жизни очень немного. Оно может быть очень недолгим. Но если тебя наделили умением испытывать счастье оттого, что счастливы другие, то тебе счастья будет отпущено очень много.
Даже сегодня, в преклонном возрасте, я испытываю бурную радость, когда узнаю, что кому-то повезло, у кого-то что-то сбылось или случилось. Я умею быть позитивной в любых обстоятельствах. Если мне выпадает какое-то испытание, то я всегда думаю о том, что все не так плохо, ведь я не родилась в какой-нибудь голодной части Африки. Я не ем насекомых, чтобы выжить.
3) Никогда не радуйся несчастью твоих врагов. Радость на чужом несчастье тебя разрушает. Ты думаешь о том, что это справедливо, что он это заслужил, но это не так. Такая радость разрушает, одним концом она бьет по самому тебе.
4) Не бойся испытывать страх, он всегда живет в нас. Его надо научиться предчувствовать и настраивать себя. Настраивать на то, что может что-то случиться‚ и тогда этот страх не покалечит тебя.
5) Никогда не откладывай ничего не будущее. Его не будет, есть только настоящее. Свою жизнь надо проживать здесь и сейчас. Это время – твое, а будущее – неизвестно.
Мою жизнь сопровождали некоторые странные ситуации, к которым абсолютно не прикладывались ни мой характер, ни стиль поведения. В некую упорядоченность, благонравность, почти добродетельность, привитые мне в семье, вдруг могли вклиниться одержимость, азарт на грани сумасшествия, пробуждая жажду риска. Так, еще в третьем классе я могла вызваться ночью пойти в дальнюю пещеру, куда никто не решался войти, могла на спор сказать дерзость самому бандитскому десятикласснику, к которому ребята даже подойти боялись.
Казалось, сама судьба расставляла на моем пути эти встряски, выплески авантюризма, чтобы потом плавно погрузить в повседневность, буднично регулируемую моими обычными свойствами. Эти перепады были угаданы в «Озе», когда мы только познакомились с Андреем Вознесенским: «Пусть еще погуляется этой дуре рисковой… Пусть хоть ей будет счастье… От утра ли до вечера, в шумном счастье заверчена, до утра? поутру ли? – за секунду до пули».
К примеру, случай на бегах, за год до Вознесенского. Тогда, в начале 60-х, средоточием моей жизни, моих интересов было Московское отделение Союза писателей, возглавляемое поэтом-лириком Степаном Щипачевым. Здесь царила эйфория первой оттепели, когда казалось, что все начинается с белого листа. Все лучшие представители молодой писательской поросли верили, что цензура ослабела, началось пробуждение. Но вскоре наши иллюзии рассеялись. Щипачева и Елизара Мальцева сняли с их постов, а встречи Никиты Сергеевича Хрущева с интеллигенцией, разгром художественной интеллигенции поставили точку в том кратком сюжете.
Итак, 1961–1962-й, половодье свободы стремительным потоком влилось в сам образ жизни нашей компании, резко отделив времяпрепровождение в студенческие, аспирантские годы – с нынешним. Ошарашивали смелостью «Новый мир» Александра Твардовского, «Современник», Таганка, Шестое объединение «Мосфильма».
Именно в те годы одной из забав стали возрожденные бега на Московском ипподроме. Волею случая он располагался напротив Литературного фонда на Беговой улице, завсегдатаями его были писатели, артисты, люди из научного и делового мира. Однако мне там бывать не доводилось. Однажды Анатолий Гладилин, встретив меня в Центральном доме литераторов, все его называли просто ЦДЛ, стал уговаривать поехать с ним на бега. Заманивал меня тем, что будет «первоклассная команда»: Вася Аксенов, Жора Садовников, Жора Владимов и кто-то еще, сейчас уже не вспомнить. Казино, рулетки, все, что наводнило Москву в 90-х, тогда в помине не было, понятия о них не было. Играли в карты, почти невинно (покер, преферанс, кинг, подкидной), в бильярд.
Легендарным бильярдистом считался поэт Александр Межиров, в ту пору любимец женщин, человек с романтической репутацией, мэтр и мистификатор одновременно. Впоследствии он уехал в Штаты, как полагают, из-за истории с молодым актером, которого он сбил на дороге, будучи за рулем. Ходили упорные слухи, что Межиров не подобрал его, никуда не заявил‚ и кто, мол, знает, может, парня удалось бы спасти, если бы вовремя оказали помощь. Коллеги актера еще долго требовали возмездия, грозясь посадить Межирова, несмотря на его славу поэта, знаменитые стихи, начиная с «Коммунисты, вперед!». А потом затихли. Мои американские знакомые утверждали, что именно благодаря бильярду он сколотил некий прожиточный минимум.
Итак, основными посетителями, болельщиками, игроками на бегах, если говорить о писательской среде, были авторы, чьи имена прославил журнал «Юность». Уже гремели «Коллеги» и «Звездный билет» Василия Аксенова, «Дым в глаза» Анатолия Гладилина, повести Георгия Садовникова, «До свидания, мальчики» Бориса Балтера. Впоследствии Валентин Катаев полушутливо выделил Гладилина, когда опять же полушутливо выдумал новое литературное течение – мовизм.
Вокруг тогдашней «Юности» группировался и цвет современной поэзии: Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Наум Коржавин. Всех привечал и печатал Валентин Катаев. Впоследствии мне приходилось читать и слышать много нелестного о Катаеве, о годах, предшествовавших «Юности», со сладострастием оповещавших о том, какой ценой стоял он на ветру, обладая остро-наблюдательным волшебным талантом метафоризма и перевоплощения, но это не мои воспоминания, мои – о Катаеве в другом облике.
Тогда все мы выпорхнули из катаевской «Юности», как из гоголевской «Шинели», нас соединял незримый союз посвященных. Номер журнала невозможно было достать, новомодные выражения, сошедшие со страниц аксеновских повестей и стихов Евтушенко и Вознесенского, становились общеупотребительным языком молодежи: кадриша, чувиха, прикольный и тому подобное. Новый стиль был оппозиционностью, сопротивлением навязанному стандарту жизни в чем-то сильнее, чем политические декларации. Как впоследствии этот словесный андеграунд будет складываться из песен Владимира Высоцкого и Б. Г. – Бориса Гребенщикова [10].
Но в моей истории главный на бегах – Толя Гладилин.
– Сколько у тебя денег? – спросил он деловито, когда я согласилась поехать с ним. – Ты мало чем рискуешь, поставишь на ту лошадь, которую я скажу.
Толя был завсегдатаем, он знал наездников и лошадей, ставки.
– Три рубля, – сказала я, извлекая из кармана трешку.
– Не густо, – усмехнулся Толя. – Ну, ничего, глядишь, если повезет, можешь получить вдвое. Только слушайся.
Загипнотизированная уверенным взглядом его синих глаз, уже охваченная азартом, я согласилась на все. На покорность и подчинение.
Когда мы влились в муравейник бегов, морозный день набирал силу, на скамейках трибун все жались друг к другу. Помню пар от горячих пирожков с мясом, которые продавали за 5 копеек штука. Пока Толя делал ставки, я тоже захотела подкрепиться, но мне уже не досталось. Самое удивительное, что те, кому пирожки не доставались, поглощали эскимо и сливочное мороженое; при одном взгляде на них – кожа скукоживалась.
Прозвенели сигналы, начался пробный заезд. Очевидно, каждый должен был определить своих фаворитов и сделать ставку. Мои мальчики, как бывалые игроки, уверенно отобрали своих лошадок и наездников. Толя назвал мне одну из них – тоном, не допускающим возражений. Но я, завороженная одной лошадкой, не спешила соглашаться. После второго пробного заезда я уже твердо осознавала, что вопреки логике, совету Гладилина и обещаниям слушаться его все равно поставлю свои три рубля на грациозное создание, в которое влюбилась. Это был полный абсурд, так как моя фаворитка один раз пришла предпоследней, в другой – третьей от конца.
– Дура! – заорал Толя, узнав, что я буду ставить на совершенно шальную лошадку, которая не значилась ни в одном из его отборных списков.
Остальные молчали, Аксенов поблескивал смеющимся глазом, он уже ошалел от этого воздуха риска, опасности проиграться.
– Если тебе не жалко трех рублей, – сказал недовольно Толя, – отдай чувихе, вон той, с бантом, она себе мороженого купит. Ну, идиот, зачем только я тебя приволок!
Все это, конечно же, была перепалка с холостыми зарядами, но все же она внесла смуту в мое настроение. Однако вспыхнувшая вдруг любовь к изящной, орехово-паркетной лошадке с тонкими длинными ногами и гордо выгнутой шеей была непреодолима, я поставила на нее. Кинула последние три рубля на абсолютно бесперспективный номер… Звали ее, как потом оказалось, Клико.
Начался заезд. Я наблюдала, почти не реагируя на то, как резво, ускоряя бег, неслись одна за другой качалки с жокеями, их красные, синие камзолы были как трехцветные флаги. И вдруг осознала, что именно моя лошадка опережает их, вырывается вперед!
Уже не знаю, волею каких судеб она пришла первой? Можно догадаться, что ни один здравомыслящий человек на нее не поставил. Поэтому выигрыш, доставшийся мне, был астрономическим. На свои три рубля я выиграла 1500 рублей!
Такую сумму мало кто из нас в глаза видывал, она почти равнялась гонорару за напечатанную повесть немаленького объема. (По статистике, к которой я сейчас обратилась, средняя зарплата в СССР в 1962 году была 80,9 рубля.)
Трудно описать реакцию завсегдатаев бегов, какой удар был нанесен их престижу. На Гладилине лица не было. Миролюбивый Жора Садовников сказал: «Что ж, Заяц, приоденешься, накупишь шмоток. Будешь первая леди ЦДЛ». Вася Аксенов наслаждался эффектом случившегося. Сгруппировавшись, они охраняли меня до самой кассы, как драгоценную вазу, которую могут вырвать и разбить. Затем, из кассы, мы молча проследовали на стоянку такси.
– Ну что, – спросил Аксенов, – по домам? После поражения и истраченных впустую нервов можно на заслуженный отдых.
Он зевнул.
– Как-то не очень хочется, – сказал Жора, – вроде бы рановато.
Они не смотрели в мою сторону.
– У меня предложение, – сказала я, скромно потупившись. – Едем в клуб – выпьем, погуляем.
– А как же твои шмотки? – покосился на меня Гладилин. – Это ж нечестно.
– Шальные, незаработанные деньги должны быть истрачены достойным образом, – заявила я твердо. – Я вообще считаю, что выигранные деньги – не мои деньги. Едем в ЦДЛ, отводы не принимаются.
Этот вечер закончился под утро. Начали в ЦДЛ, потом ходили в разные злачные места ночного обслуживания, пели какие-то песни… В общем, все прогуляли.
На другой день эта история уже гуляла по «Юности». Катаев, скривив губы, как человек бывалый, по слухам‚ когда-то сам азартный игрок, пробормотал: «Не думал я, не знал, что Гладилин в жизни куда азартней, чем в прозе». Быть может, с этих его слов и возник у Толи Гладилина замысел повести «Большой беговой день».
В ту пору выигрыши посыпались на меня повсеместно. Однажды случилось невероятное и в Париже. После выхода моей повести «Семьсот новыми» в издательстве «Галлимар» состоялась шумная презентация, которая стала одним из самых счастливых событий моей жизни‚ – мне была подарена поездка на юг Франции. Замечу, что в набор сюрпризов, который когда-то предсказала мне Ванга: успешная работа, внимание прессы, замечательно талантливых людей, несомненно надо включить и эту неделю во Франции – тогда еще мало существовало переводов повестей о современной жизни. Выход книги во Франции тогда свел меня с Натали Саррот, Марком Шагалом и его женой Вавой, Антуаном Витезом, Брижит Бардо и многими другими знаковыми людьми французского искусства.
Я побывала сначала в Антибе в гостях у Грэма Грина и в музее Пикассо в Сан-Поль-де-Ванс, затем у Марка Шагала. Впоследствии я бывала у Шагалов много раз, познакомила с ними Зураба Церетели. И уже после смерти Марка Захаровича я не раз бывала у его вдовы Валентины Георгиевны (Вавы), рассказавшей мне невероятную историю убийства в их доме.
А в тот первый раз Шагалы настоятельно рекомендовали пойти к Клоду Фриу [11]. Я была в восторге, они тут же организовали нам билеты на премьеру балета Бежара «Мольер» в Монте-Карло. Бежар поставил балет поразительно изящный, с непривычной для меня в ту пору новой хореографией.
Ну как же: приехать в Монте-Карло и не побывать в казино. Казино, рулетка – понятия, жившие в моем воображении с «Игрока» Достоевского, гоголевских мошенников, «Пиковой дамы» и так далее. Для меня это были сумасшедше-сожженные биографии талантливых людей, костлявые старухи, увешанные драгоценностями, лихорадочно прожигающие ночи, молодые‚ неизлечимо больные неврастеники.
Сегодня, когда казино в Москве яркостью и количеством опережают число театров и музеев, все выглядит более буднично. В Марселе меня встретили, а затем переживали со мной все впечатления и Фриу – «Рыжая семейка», как я их окрестила. С ними мне всегда везло несказанно: высокотворческие до мозга костей эрудиты со знанием многих языков, они были влюблены в русскую культуру и обладали врожденным демократизмом и интеллигентностью. Мне повезло иметь таких идеальных спутников по стране, где найти улицу без собственной истории о великих людях почти невозможно. И вот оно, казино.
Первый длинный зал, по обеим сторонам ковровой дорожки тянутся десятки игральных автоматов. Увидев мои загоревшиеся азартом глаза, Клод Фриу сказал: «Ну ладно, попробуй, вот тебе 100 франков» – на меньшее автоматы не соглашались. Каково же было его изумление, когда в ответ на положенную монету, звякнув, высыпались еще пять. Неслыханное богатство в 400 франков (100 я вернула сразу). Испытывая терпение своих спутников, я стала бросать сотню, и в каждом монеты в жестяной желобок сыпались как из рога изобилия. В большом казино, помнится, я играть уже не стала, мы опаздывали на балет, чьи-то ставки уже были сделаны на большой круг. После балета Фриу заторопились, им надо было к утру вернуться обратно в Ниццу. Я же, побыв еще день, с Шагалами полетела обратно.
Вторая часть жизни отнимала все выигранное, оборачиваясь потерями – ограбление дома, нападение на меня с ножом, кражи сумок, кредиток и так далее. Однако потери я никогда не переживала так бурно, как выигрыши.
Глава 6
Литература. Солженицын, Гамзатов, ПЕН и другие
18 сентября 2015 года
Помню, что в тот день, который не предвещал ничего особенного, был выставлен на Ленинскую премию «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Мы обсуждали его на заседании Ленинского комитета. Уже нам было известно, что Твардовский пробился к Хрущеву и впервые, будучи столь опальным и столь часто ругаемым писателем, показал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына… Повесть не предвещала никаких специальных извивов. Все уже было сказано, все про это было написано. Но это была невероятная повесть. Страницы «Нового мира», где она была опубликована, были разорваны в клочья от желающих прочитать. Путь героя, который прошел сам писатель. И христианская сентенция в конце, после всех этих мук и лишений. Один из самых обыкновенных дней заключенного Ивана Денисовича выворачивал наизнанку все благие человеческие свойства. Это был шок! Но, повторяю, на заседании не предвиделось ничего экстраординарного. Божественная рука генсека уже пролистывала повесть, он пропустил ее и одобрил.
Я в это время заведовала отделом литературы комитета по Ленинским премиям и в этом качестве должна была написать обзор для членов жюри. Конечно, члены Ленинского комитета не могли сами освоить такое количество разных сочинений – музыкальных, художественных, литературных. Я написала все, что было сказано и обсуждено по этой повести Солженицына, в обзоре прессы, который подавался на сессию при обсуждении. Каждый перед тем, как начать обсуждение‚ мог прочитать эту книжечку, где было рассказано обо всех кандидатах‚ и сделать свои выводы. Это был всплеск людского мнения и элиты о необыкновенном произведении Солженицына. Не было ни одного ругательного или критического слова об этой повести. Каков же был шок у всех присутствующих, когда лишь только началось обсуждение Солженицына, вдруг вылез человек по фамилии Попов, министр РСФСР…
Маленькое отступление: поначалу в комитете почти не было чиновников. По-моему, туда входила Фурцева, но не больше. Почему именно Попов задал направление этого ветра, который подул в совершенно противоположную сторону, я сказать не могу. Я не знаю, кто ему это все рассказал. Но он вдруг выступил, стал очень сильно осуждать повесть Солженицына, а в конце закричал: «Кто написал эту комплиментарную и лживую оценку в этом обзоре?.»
Для всех это было равнозначно тому, чтобы утверждать, что пароход был белый, а сегодня он уже стал черный. В таком же шоке была и я. Мы не могли понять, почему мнение этого абсолютного профана в искусстве вдруг так резко поменялось и пошло вразрез с мнением генсека, который лично одобрил это произведение. Попов поднял меня и стал отчитывать за мою подборку отзывов. Он кричал, был страшно недоволен. И надо сказать, что я всю жизнь считала, что поведение человека непредсказуемо‚ и это даже доказала наука. Ведь один, слыша крик избиваемого ребенка, бежит на помощь, другой же, наоборот, бежит подальше, чтобы этого не слышать. Мое поведение впоследствии казалось мне героическим: я выпрямилась, хотя была абсолютно в беспамятстве. Я очень хорошо помню, как‚ сжав зубы, с трясущимися губами‚ сказала: «Товарищ Попов, вы имеете право меня уволить, но я не позволю на себя кричать».
Наступила гробовая тишина, все ждали, что же будет дальше, но в этой тишине прозвучал голос (я не помню, кто это точно был): «Ну что ж! Это же всего-навсего обзор». Но даже он побоялся сказать правду, что в этом обзоре не было ни одной строчки от меня, все это были цитаты из рецензий, которые тогда пестрели хвалебными отзывами в адрес повести. Дальше все замялось, отмели кандидатуру Солженицына. Я села, обо мне забыли. Я молча ушла домой, но дома у меня началась настоящая паника. Главным для меня было даже не столько увольнение, сколько этот крик. Но я никогда не позволяла себе отрекаться от собственного «я». Я никогда в жизни не позволила себе никому поддакивать или оболгать кого-то, вне зависимости от того, люблю я этого человека или нет. Во мне жило это христианское чувство, хотя я нерелигиозный человек. Возможно, это во мне воспитал отец, который всыпал мне ремня за то, что мы с подругами воровали цветы с другой дачи. Я кричала: «Папа, ну их же никого нет! Цветы погибнут». На что он мне говорил: «Это тебя не касается. Это не твое! Ты не имеешь права взять, если это не твое». Я запомнила это на всю жизнь и всегда отдавала все найденное.
29 сентября 2015 года
В то обманчиво-успешное время жизнь кипела ключом. В правление МО СП влилась волна абсолютно нового мышления, поступков, а главное, косяк новой литературы: Аксенов, Гладилин, Амлинский, Рощин, Шаров, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Марк Щеглов, Лев Аннинский. Все мы вошли в новое правление Московской писательской организации. И начались бурные заседания, планы, каким коренным образом изменить всю общественную жизнь в организации, как поощрять свободомыслие, как дать возможность публикации, создания новых журналов и газет, поощрить совершенно иную стилистику и направление ума – таковы были планы новообразовавшегося «начальства». Сбывалась песенка Булата: «Скоро все мои друзья выбьются в начальство… станет легче жить». Вот теперь друзья вышли в начальники. Все это кончилось некоторое время спустя, когда Щипачева сменил на этом посту Феликс Кузнецов, который во время недолгого своего правления учинил расправу над неформальным альманахом «Метро́поль», который сочинили Василий Аксенов, Виктор Ерофеев [12] и Евгений Попов.
Второй, а иногда главенствующей фигурой этого правления был прозаик, тогдашний секретарь парторганизации, представитель клана «деревенской прозы» Елизар Мальцев. В отличие от стилистики его романов, отвечавшей привычным эталонам соцреализма, по характеру он был прирожденный лидер. Безоглядно отстаивал свободомыслие, был взрывным, не поддающимся обработке человеком. Он добивался разрушения привычного стадного голосования, которое побеждало раньше на партсобраниях. Но уже через год с лишним все изменилось: стала уплывать из нашей жизни так недолго маячившая вольница.
Хрущев во время разгромных встреч с интеллигенцией в 1963 году уничтожил художественную студию Белютина, высмеял работы Эрнста Неизвестного, кричал на Голицына, издевался над Аксеновым. «Вершиной» всего этого явился его знаменитый вопль с перекошенной физиономией и вознесенным над головой угрожающим кулаком, когда он изгонял из страны Андрея Вознесенского. Его слова «Вон, господин Вознесенский, из Советского Союза, паспорт вам выпишет Шелепин!» надолго стали устрашающим красным полотнищем перед глазами прозревших писателей. Хрущев ерничал, красный от гнева, выглядел как в преддверии апоплексического удара. Он являл всем своим видом подстрекательство: «Ату их! Ату!» – и зал радостно кинулся истреблять ростки молодой поросли, инакотворчества и независимости, которые только-только начинали утверждаться во всех видах искусства. «Оттепель кончилась, – кричал он, – теперь будут только заморозки, мы не допустим поднимать руку на компартию, не будет послабления художникам, которые идут против нас». Гнев генсека, главы государства‚ стал сигналом для всех нижестоящих начальников, которые радостно подхватили, усиливая и развивая гениальные указания вождя.
Елизар Мальцев держался мужественно. Он бегал по инстанциям, пытаясь вырвать каждого проштрафившегося из мясорубки репрессивной машины. Вскоре и с ним расправились. Он был изгнан со всех постов и уже больше к руководству и к руководящему пирогу не допускался.
Много лет спустя какие-то истории уже в ПЕНе напомнили мне наше боевое прошлое.
Приоритетной деятельностью нынешнего ПЕНа [13] стала правозащитная деятельность. Мало кого интересует сегодня общественная жизнь, что, безусловно, отражается и на ПЕНе. Надо сказать, что произошла громадная и невозвратимая мена приоритетов, ценностей и интересов. Последним всплеском был организованный в 2000 году первый Всемирный конгресс ПЕНа в Москве. Усилиями Саши Ткаченко, который сейчас директор ПЕНа, Андрея Битова в качестве президента работали комитеты, обсуждались политические моменты раскола писателей. Приехали и крупные писатели из Аргентины, Мексики, был и Гюнтер Грасс, которого сделали центром западной общественной мысли и который сильно подвел ожидания многих общественных деятелей в том, что он укрепит авторитет ПЕНа в мировом общественном мнении. Октавио Пас был. Однако в центр обсуждения после круглых столов вышло письмо-выступление Гюнтера Грасса против войны в Чечне. Это письмо было поддержано Аксеновым, Поповым лишь в части пожеланий Грасса. Но они явились оппозиционным крылом всему законопослушному ПЕНу. Мне не понравилось письмо Грасса, равно как и позиция Васи и Жени. Слишком это все показалось политизированным, было какое-то желание защитить не столько несчастную Чечню и то, что в ней происходит, как засветиться в политическом бунтарстве. Это я не люблю никогда. Каждый из нас выступает против войны в Чечне. И находятся какие-то, как мне кажется, более точные адреса для этих возражений и протестов, чем подобный конгресс. Может быть, я и ошибаюсь.
А тогда, в 60-х, 70-х, мы еще не предчувствовали грядущего. Литературная жизнь в Москве и Ленинграде бурлила. Это напоминало 20-е годы, как о них рассказывали наши преподаватели. Почти ежедневно на обсуждении новых сочинений сшибались мнения, возникал новый «гамбургский счет», рождались репутации и сгорали, порой после первых солидных публикаций. Казалось, потерять эту атмосферу было невозможно. Литература стала делом жизни. Все жили литературой, все любили писателей, культ поэтов, которые выступали в «Лужниках», был очень высок. Андрей и Женя Евтушенко, который возглавил этот весь журавлиный клин, и Белла и Роберт, которого пела вся страна, а уж после «Семнадцати мгновений весны» и очень удачных его стихов, положенных на музыку, он стал культовым и в комсомольских бригадах, это был даже мостик к официальности. Обожатели были у каждого. Читки стихов и рассказов, дискуссии «по проблемам» стали повседневностью в Доме литераторов. Собирались на антресолях, обычно в 8-й комнате, а если количество людей превышало вместимость помещения, переходили на первый этаж, в Малый зал. В зависимости от оценок, которые давались на этих читках, рождались эпитеты, с десяток молодых почитались «гениями», сотни – «талантами», а все остальные «не лишенными интереса». «Бездари» в эти двери не стучались. Спорили о путях интеллигенции и свободе слова до хрипоты. Казалось, установления, которые рождаются сегодня, вечны. О, как же молоды и наивны мы были! Как скоро все это минет. И краткий период «оттепели» впоследствии, спустя 25 лет, и отрезок перипетий 1985–1989 годов будут черно-белой зеброй чередоваться с периодами запретов и гонений. Мнимым завоеванием свободы окажется и десятилетие Бориса Ельцина в 90-х, который посягнет на незыблемость авторитарного режима, правящей роли партии, ослабит цензуру в СМИ и даст выплеск наружу творческой свободе, уже неотменимой привычке говорить все вслух. А с другой стороны‚ это период, который породит ненависть и надругательство над законами братства и явление под названием «борьба компроматов». Свобода обернется своей обратной теневой стороной, выяснение отношений на дебатах, увы, будет чаще сводиться не к противостоянию смыслов, мировоззрений или точек отсчета, а выяснением личных отношений, вынесением на поверхность пузырей компрометирующих фактов.
С великим акыном Дагестана Расулом Гамзатовым у меня связан целый кусок моей жизни. Сказать, что я с ним дружила, было бы преувеличением, но, во всяком случае, и он в какие-то узловые моменты моей жизни возникал на моем пути, и я присутствовала при его триумфальном взлете. О великом поэте Дагестана ходило столько легенд, сочинено столько мифов, что из них можно составить отдельную книгу. О его блистательном остроумии, о его буйном нраве, об амурных похождениях, о громких скандалах. Он не вмещался ни в какие схемы и законы, в рамки действительности.
Расул Гамзатов – это огромная гора, многоэтажный, многоквартирный дом, насыщенный разными составными его жизни. Но начнем с того, что он был удивительный поэт, что было понятно только из переводов Якова Козловского, Наума Гребнева и Владимира Солоухина. Они донесли его стихи как бушующий горный поток. Кроме того, сама его личность давала так много пищи для пересудов. Человек, достигший в своей республике самых крупных высот и вместе с тем международного признания, оказывался замешан в крупных масштабов скандалах, связанных с его поведением, небезразличием к женскому полу, ради которого очень многое совершалось. Просто он во многом не умещался в рамки действительности.
Я видела его очень близко в его родных местах. Когда Расул Гамзатов получил Ленинскую премию, туда была направлена делегация, в которой были Ю. Завадский, А. Твардовский, критик-литературовед Орлов, мой хороший друг И. Васильев и я. Когда мы туда приехали, нас принимали очень хорошо. Орлов даже написал четверостишие:
- Я пошел бы выпить кофе в это дивное шале
- С Богуславской в алой кофте, первой девкой на селе,
- Но гнетет меня Васильев под башмак
- И в кишку путем насилья загоняет бешбармак.
В программе нашего посещения было, конечно, пребывание в ауле Гамзата Цадасы, легендарного отца Расула Гамзатова, чьим именем было очень много что названо в Дагестане и откуда был родом Расул. Там в каждом дворе были накрыты столы – это было чествование общенационального характера. Когда нам нужно было улетать, мы увидели, что помощники Расула побелели и начали перешептываться. Оказывается, что люди, которые нас доставили в аул на вертолетах, все улетели и обратно лететь не на чем. Началась легкая паника, потом выяснилось, что летчики обиделись, что их не позвали к центральному столу. Пока шли переговоры с летчиками, прошли еще сутки. Я запомнила этот дагестанский национальный характер и поняла, что даже всесильный Расул Гамзатов ничего не мог сделать в этой ситуации.
Глава 7
Театр: Ефремов, Любимов, Табаков
24 февраля 2016 года
Сидя в кабинете директора МХТ, в котором в прежние времена мне доводилось бывать очень много раз, теперь я, конечно, с трудом вычленяю те впечатления и те чувства, которые меня охватывали, когда я сюда попала впервые. Для нашего поколения Художественный театр был святыней. С него начинался театр, он был путеводителем.
Если подумать над тем, что является стержнем моей жизни, моей художественной биографии, то все объединил театр. Я любила театры, все, что здесь происходило‚ было зоной формирования моего менталитета, это была моя жизнь, это были мои увлечения. И, конечно, это был тот культурный слой, который уже никогда не выветривался. И так получилось, что сегодняшнее мое тесное общение с хозяином этого кабинета Олегом Павловичем Табаковым явилось продолжением всего того, что в этом театре было мне дорого, хотя и он полностью переменился. Произошла смена представлений, смена внутренней политики театра и всего того, что сосредоточилось в двух художественных руководителях, с которыми мне привелось видеться и общаться очень много.
Я познакомилась с Олегом Николаевичем Ефремовым, еще когда он был в театре «Современник». Ефремов был фигурой настолько мощной, сильной и настолько харизматичной, как сегодня бы сказали, что его обаяние способно было перефразировать человека, который уже сложился в своем представлении.
Я очень много раз видела, как он приходил, разговаривал с каким-то человеком, и тот, кто только что брюзжал, в общении с ним таял‚ и разговор переходил в искреннюю симпатию и восхищение. У него был талант лидера. Вместе с тем его облик совершенно об этом не говорил. Мог быть и праздничный пиджак с бабочкой на приеме в посольстве, а мог быть помятый пиджак, куртка, но всегда отложные воротнички из-под куртки. Помню, любовь к галстукам была общей в этом поколении.
Когда он ел, где он ел, часами пропадая на репетициях? Он не обращал на себя внимания. Самый яркий период его творчества пришелся на этот театр, и когда он ушел из «Современника», это вызвало очень большую волну недовольства им, потому что он забрал с собой только часть актеров «Современника». Тех, кто был с ним в школе-студии.
Театр «Современник» был первым смелым, даже манифестным‚ что ли‚ театральным организмом, который очень изменил представление о театре. У него была установка на современную драматургию. Театр был всегда набит. Надо сказать, что Ефремов преуспел сильно потому‚ что он привел в театр Михаила Шатрова, Михаила Рощина, Александра Гельмана, и полоса‚ заполненная их пьесами, заставила наше общество очень электризоваться в сторону общественных побуждений. Я скажу, что это было время романтическое, время общественного темперамента интеллигенции. Представим себе: Олег Ефремов – театр, Родион Щедрин – музыка. Это было удивительное время романтизации общественного сознания. Все мы за что-то и как-то пытались бороться и полагали, что мы можем переустроить страну, как-то научить свободе, что наши поступки, наши разговоры и наше творчество способны к демократизации.
Я вам скажу, что было военное поколение, которое в других странах назвали потерянным. В нашем государстве было глубокое разочарование людей, которые ценой оторванных конечностей, вычлененной молодости, потерянных иллюзий отстояли мирную жизнь, в которой потом очень многие и себя не нашли, и не могли найти тех благ и того отношения, которое они ждали. Это длится до сих пор, когда разговаривает наша власть о ветеранах.
Это было время иллюзий, и, главное, это было верой в то, что слово, общественное мнение способно что-то менять в этой жизни. Три фигуры: Олег Ефремов в театре, Родион Щедрин в музыке, Евгений Евтушенко в литературе – стали депутатами Верховного Совета СССР. Они были уверены, что‚ придя туда и разговаривая наряду с Сахаровым, создадут те перемены, которых они ждали. Потом они оттуда вышли, время переменилось, но в театре Олег Николаевич, намного ушедший вперед в своем общественном желании переустроить мир, с моей точки зрения‚ был патриотом до мозга костей. Его все, что касалось страны, волновало намного больше, чем личное положение, благоустройство. У него не было никаких особых машин, специальных ресторанов. У него не было ничего, что сегодня отличает очень многих людей, что ли‚ их эмблема, или лейбл, как мы бы сказали, наклейки, которые идут впереди них. Подъехал «бентли», яхта пришла в гавань – вот, ясно‚ какого масштаба этот человек. У Ефремова этого абсолютно не было не потому, что он не мог это иметь, хотя и не мог, конечно, но это ему было абсолютно не нужно, это была бы обуза.
Постановки Олега Ефремова-режиссера – это те витамины, которые обществу были нужны. Сейчас, когда мы оглядываемся на многие эти пьесы, например Шатрова «Так победим», на которую пришло все политбюро смотреть, а постулаты того, как победить, были заложены в пьесе Шатрова совсем не те, какие были привычны в дохрущевское время, то был рев в зале. Люди вскакивали с мест. Это было общественное явление. Драматургия и театр становились общественным явлением.
Я считаю, что Ефремов в театре был публицистом. У него были поклонники, сама Фурцева, М. С. Горбачев, который его так любил. Я помню, как мне рассказывал лично Олег Николаевич: «Понимаешь, я попытался подробно объяснить Михаилу Сергеевичу, чтобы он дал возможность поставить [14]. Цензура все равно шерстит эти вещи, но‚ сказал он, подожди немножко, дай только раскрутить маховик». Вот эта фраза прошла потом через многие годы Олега Ефремова, он все ждал, что маховик раскрутится, что свобода будет полыхать и забирать все более широкое пространство, что флажки «Охоты на волков» Высоцкого будут стоять все дальше. И не будут загонять всех в то русло передовой и нужной литературы, которую было большое желание раздвинуть, хотя и оставалась ровно такая же сила сдавливания.
Очень интересное прочитала последнее интервью Юрия Петровича Любимова. Его спрашивают: «Вы никогда не жалеете ни о чем? Вы сегодня поменяли бы что-то в вашей жизни, если б могли жить заново?» И он ответил для меня потрясающе и очень понятно: «Я никогда бы не тратил столько времени на борцов за свободу, как я потратил за свою жизнь, никогда. Потому что это все абсолютно пустое. Я бы сохранил свою жизнь, свое здоровье на то, к чему я предназначен».
Совершенно правильно, но он не был тогда сегодняшним Любимовым, а сегодня, говоря это, он не был бы тем Любимовым. Лидеров очень мало. И это совсем не многим удается. Вот Любимов – это человек, который входит в компанию, и уже все подстраиваются, что он скажет. Замолкают. Это объяснить нельзя. Он входит‚ и все ждут‚ пока он разденется, скажет что-то, а другой входит – все продолжают болтать свое. Это харизма.
Ефремова очень любили женщины. Почти каждая прима этого театра хотела быть с ним, обожала его и делала все для того, чтобы ситуация сложилась для него наиболее легким образом. И надо сказать, что никто из них его не разлюбил. Они оставались не просто лояльны к нему, он оставался частью их биографии, их жизни, которой они очень дорожили впоследствии. Это были красивые, милые и очень добрые к нему женщины. Это было как у крупных художников.
Эрнст Неизвестный, когда мы видели очередную барышню в его мастерской – а мы бывали там с Андреем Андреевичем очень часто‚ – говорил, что если у него ночью не было женщины, то на другое утро ему нечего делать. Может быть, такая крайность бывала у Пикассо или у Дали. Многим скульпторам, художникам нужна подпитка, допинг в виде красоты, любви к ним. Я думаю, что для Олега Ефремова это была та же страсть, что и театр, но театр – постоянная величина, он никуда не мог от него двинуться и ушел обратно в театр из общественного дурмана, натолкнувшись на многие запреты, цензуру.
Крах иллюзий, крах времени, которое постепенно ожесточалось, на его личности сказались очень сильно. Очень. Любимов уехал и осуществился, он был режиссером на Западе, имел громадный авторитет, не простаивая ни минуты. У Ефремова была одна, но пламенная страсть – Россия, театр. И ему хотелось посадить все эти деревья именно на родной почве. Он хотел, чтобы здесь спектакль гремел. Он пытался устроить так, чтобы и другие люди были в это вовлечены. Он был человеком коллективным, человеком команды, лидером.
У него потрясающие постановки. Как можно было так ставить спектакль, чтобы каждая фраза получалась отточенной, как рапира‚ попадала в цель общественной сообразности. Везде был подтекст. Прочитывалось любое имя, любой контекст‚ как какой-то манифест. Одновременно с этим, конечно, он открывал замечательных драматургов – Александра Володина, Михаила Рощина. Например, «Старый Новый год» Рощина. Искрометная комедия. И актеры были – Вячеслав Невинный, Евгений Евстигнеев, большая плеяда влюбленных в Ефремова актеров, с которыми он ссорился, расставался. Были очень крупные величины, которые покинули Ефремова. Не ужился Олег Борисов, гениальный актер, какие-то были противостояния с Иннокентием Смоктуновским. С женщинами, с актрисами было легче.
Я очень любила Ефремова по-человечески, у него обаяние было несказанное. Мне так интересно с ним было, и я очень долго с ним говорила, иногда часами.
Началось наше сближение с ним, когда однажды кто-то из театра передал ему мою пьесу. Называлась она «Обещание». Это была пьеса о том, что наступает время тотальных обещаний. Герой-изобретатель очень важной вещи долго стучится к министру, тот откладывает, понимает, что надо переменить всю структуру, чтобы это сделать, но обещает. У меня там фраза была, что если раньше человек, который обещает, думал, что он выполнит это обещание, то теперь человек обещает, лишь бы кто-то ушел, и знает, что он этого не будет делать и не выполнит. И вот последняя фраза, когда все иллюзии героя развеяны, он уезжает‚ и ему говорит его возлюбленная: «Что ты опять куда-то едешь, ты видишь, это все бесполезно!» А он отвечает: «Ну я же не могу не думать. Они же не могут мне запретить думать. Мысль – это мое единственное царство свободы здесь».
Так вот этот последний монолог и всю пьесу вдруг возлюбил Ефремов до такой степени, что он примчался в Переделкино к нам и сказал, что берет ее мгновенно. Он сказал: «Это поставит сто театров Советского Союза. Я тебе это гарантирую». Но этим его иллюзиям не дано было сбыться. Он был занят и куда-то уезжал, не мог ставить, поручил это Лилии Толмачевой, которая начала репетицию‚ и мы с ней уже что-то придумывали. Но я очень мало вмешивалась, я никогда собой не интересуюсь до той степени. Я сделала и отдала.
Буквально посреди этих репетиций вошли три человека из Московского горкома КПСС, услышали последний монолог, что царство мысли это есть наша свобода, и сказали, что в Художественном академическом театре это никогда не будет поставлено.
Ефремов был, конечно, огорчен, что спектакля не будет‚ и мы с ним как-то отдалились, потому что, как известно, мы больше всего любим людей, которым мы сделали хорошее. Мы любим тех, в чьих глазах светится благодарность за добро. А здесь получилось плохо. Но это был человек такого темперамента, который вообще долго ни на чем не задерживался. Он был всегда одержим, одержим тем, что он делал в эту минуту.
Я его очень любила за фильм «Три тополя на Плющихе», и об этом фильме была одна из первых моих больших статей. Потрясающий фильм, поставленный Татьяной Лиозновой. И я все время думала: господи, ну пошли ему удачу. И вот уже в поздние времена, лет за семь до его кончины, он поставил «Три сестры» Чехова. Этот спектакль был несказанно талантлив. Все шли, и я в том числе, на премьеру с жутким ощущением: ну как после «Трех сестер» Немировича-Данченко можно иметь успех, поставив этот спектакль. Но у Ефремова был удивительный спектакль, в котором оказалось так много грусти о несостоявшемся, так много несбывшегося. Это был исторический спектакль.
Скажу, что Олег Ефремов был глубоко одинок в последние годы. Но это был человек, который не мог жить без темперамента. Он был лишен действий, он читал очень много, он был очень образованный человек. Хотя на вид такой паренек рабочий, смышленый, хитроватый, с взглядом очень цепким. А он человека, сидящего напротив, пронизывающе узнавал за 15 минут. Он понимал‚ кто перед ним, хороший или плохой, и выбирал‚ как коллекционер‚ тех людей, кто будет идти в команде именно с ним.
И вот последняя наша встреча. Он пришел на банкет, на юбилей Зураба Церетели в ресторан «Метрополь». Я сильно опоздала. Андрей Андреевич уже был внутри. Я вхожу в фойе, в котором слышны отголоски гогочущего зала. Зураб со своей широтой, там человек триста, если не больше. Вся интеллигенция, все очень любили Зураба. Нельзя сказать, что они все любили его искусство, но его любили все. И я иду с каким-то подарком, не знаю, с цветами‚ может, уже не помню. И вижу сидящего Олега Николаевича в фойе. Сгорбившегося. У него были потрясающие руки и пальцы. Если посмотрите его фотографии, то увидите лежащую руку на коленях – это почти как у Вертинского руки. У Вертинского половина эстетики – это были широкие взмахи, пальцы пианиста. У Ефремова также. Его движения были удивительно гармоничны и сообразны. Он сидел, полностью расслабившись, опустил голову, невидящим глазом смотря куда-то. Он не увидел, что я вошла. Но я, увидев эту позу, кинулась к нему. Мне было так больно за него. Еще вчера все бежали за Ефремовым, и вот он сидит одинокий. Тут же полно гостей! Подсядьте к нему!.. Как когда-то после крика Хрущева, Вознесенский шел по лестнице‚ и все делали вид, что смотрят куда-то в другую точку, я громко позвала его – у меня какое-то мгновенное непроизвольное желание помочь. И тут я закричала: «Господи, Олег, что ты здесь делаешь?» Он поднял голову, встал и сказал: «Жду машину». Я говорю: «Ну, дай я с тобой посижу-то». Он говорит: «Ну что ты, тебя там все ждут». Я говорю: «Да я с тобой посижу». Это было очень горькое чувство у меня.
Все прошло, ничего уже не будет. Это говорил человек, который, может быть, уже принял это состояние публичного одиночества, бывшее одним из главных постулатов Станиславского в Художественном театре… А следующий раз, когда я увидела Олега, уже был в том зале, куда вся Москва пришла прощаться с ним. Меня провели поближе к гробу, и мы с Андреем молча стояли.
Я очень люблю его сына Мишу Ефремова. Я с ним не дружу, но он удивительно талантлив. Ефремов со мной в одном из разговоров обсуждал, что Мишу увольняют из театра и требуют от Ефремова определить, что важнее‚ театр или сын. Он мне тогда сказал очень важную вещь: «Ты понимаешь, какая у меня дилемма? Ты понимаешь, они правы, что такой поступок (а он кого-то ударил) нельзя простить, дисциплину нужно вводить в театр. А с другой стороны, я понимаю, что он погибнет, если я его уволю. Погибнет как человек, как актер». И он выпросил какую-то квоту его пребывания и как бы его прощение на какое-то время.
Его простили, оставили на какое-то время. Он один из самых интересных актеров этого поколения, с таким же вспыхивающим‚ ярким темпераментом абсолютной естественности отца.
Олег Ефремов был реформатор в искусстве, в понимании времени и искусства. А Олег Табаков таким был в жизни. Например, он всем актрисам театра, у которых есть дети до 18 лет, платил 10–12 тысяч рублей ежемесячно. Ефремов был гораздо жестче. В нем была одновременно жестокость и беззащитность, как это ни банально звучит. У него были ахиллесовы пяты, он был в чем-то очень уязвим, и это место можно было проткнуть.
Он был уязвим, когда недооценивалось то, чему он посвящает жизнь. Ему могли сказать, что дом его обокрали, он не побежит даже. Но если скажут, что его актера или пьесу запретили, он будет бороться до язв, до крови.
Олег Павлович Табаков был истинно народный актер. С самого начала, от пьес Розова он не был режиссером, он не был широкого склада реформатором, он был директором театра «Современник», потому что команда под руководством Ефремова создавала новый театр «Современник». Само слово «Современник» говорило, что они ориентируются на современные пьесы, он был частью того, что называется актерским становлением этого театра. Его амплитуда актерская для меня не имеет ограничений. В «Амадее» глубоко трагическая роль, у Островского Прибытков в «Последней жертве», и вместе с тем мультяшки, Матроскин, которого узнает по голосу вся страна. Мне рассказывали, что, когда он входил во власть, чтобы что-то потребовать для театра, он говорил голосом Матроскина, и все подписывалось. Он может в течение разговора спокойно сыграть несколько ролей, но так, чтобы это видели. Он может высмеять. У него самое настоящее блистательное актерское дарование.
Табаков как губка. Он переходит, перетекает из одного состояния внутреннего в другое с максимально коротким отрезочком. Вместе с тем говорят и другое, что он в жизни играл. То есть говорил то, что не чувствует, что не любит, или говорил, что хорошо относится к тем, к кому плохо относится. Он очень умеет быть обворожительным для того, кому ему нужно понравиться. То есть он использует вещи, которые наблюдает и в своих ролях. Но я не думаю, чтобы это было в быту, в дружбе или в чем-то еще.
У Олега Табакова был первый самый молодой инфаркт. Чуть ли не в 25 лет. И сейчас, по-моему, уже три позади или четыре. Это нервы, это душа. И такая непроницаемость, и такая комедийная маска, и внешнее безразличие, очень страшное для человеческого организма. Дольше живут люди, которые умеют выплеснуть истерику, крик, темперамент, скандалисты, а людям внутреннего разрыва гораздо тяжелее и хуже.
Кабинет Ефремова был аскетическим, как он сам. В нем висело несколько портретов, может‚ несколько фотографий спектаклей. Сейчас здесь вы видите перенасыщенность сувенирным искусством, памятными дипломами, грамотами. Вся история МХАТа здесь. За моей спиной Немирович, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов – все основоположники, и Ефремов в ролях. Табаков, я думаю, – это собиратель. Вот он в театр сколько приглашает людей. У него несколько площадок. Он хочет всех набрать к себе. И все сделать. Он жизнелюб.
Табаков хочет построить школу для одаренных актеров, где с младенческих лет люди‚ одаренные тем или иным талантом‚ пестовались бы и выкристаллизовывались в гениев. У него школа есть в Бостоне. Табаков очень образованный человек. Он говорит свободно на немецком, на английском. Это я проверяла. Эти два языка подвластны в какой-то мере мне тоже. Он любит словечки‚ в свою речь вставлять немецкие слова, особенно когда иронизирует. Табаков – человек мира. Его личность складывается, на мой взгляд, вот из этих двух вещей. Перевоплощение актерское и эта собирательность. Он поставил ряд спектаклей, но нельзя сказать, что они выдающиеся. Они не составляют пики истории этого театра. Но его деятельность строителя этого театра феноменальна, другого такого нет.
В какой-то мере это было свойственно и Станиславскому, и Немировичу-Данченко. Они же построили все эти студии. Вахтангов, Таиров, Мейерхольд – все они выплыли оттуда.
У Табакова нет ни усадеб, ни яхт, ни «бентли». Он не честолюбив в этом направлении. Он честолюбив в театре, он хочет, чтобы отметили то, что он выстроил после Станиславского, вернул соборность этому искусству. В затылке у него есть какие-то кнопки, связи, которые будут выруливать этот театр, если тут что-нибудь случится. А в театре, да еще на пяти сценах‚ это сложно. Каждую минуту что-то случается. Кто-то хочет покончить с собой, кто-то скандалит… Театр же очень большое‚ как бы сказать, варево, в котором не всегда благовидность торжествует. В театральной среде, вообще в среде искусства, соперничество играет такую важную роль.
Глава 8
Кинематограф: Тарковский, Наумов, Кончаловский и другие
2000-е годы
Как-то году в 1963-м в моей квартире на Ленинградском шоссе, 14 раздался звонок с «Мосфильма»:
– С вами говорит Владимир Наумов. Мы тут придумали объединение «Писателей и киноработников». Не хотите стать членом редсовета?
– Хочу. – На первом же заседании обнаруживаю: за столом – сплошь мужчины, я – единственная женщина…
Сохранилась фотография в американском журнале «Лайф», где запечатлен почти весь творческий состав Шестого объединения: Александр Алов и Владимир Наумов (руководители), Андрей Тарковский, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Елизар Мальцев, Григорий Бакланов, Лазарь Лазарев, где-то между Михаилом Швейцером и Александром Борщаговским поместили и меня.
Попасть на страницы этого знаменитого издания – верх признания даже для американца. Если его имя хотя бы мелькнуло в каком-то материале «Лайфа», это могло повлиять на взлет его карьеры кардинально.
Планы объединения были обширны. С ним сотрудничали самые талантливые люди, имена которых позже станут знаковыми в кинематографе и литературе того времени [15]. Мы разбирали заявки, читали сценарии, отсматривали фрагменты фильмов, оценивая пробы и готовый материал.
Впоследствии история развела по разные стороны баррикад бунтарей-единомышленников, некоторые вчерашние неразлучные сотоварищи стали злейшими врагами, кое-кто покинул пределы Родины. Но в начале 60-х мы были сообщниками в борьбе с цензурой, мы мечтали о некой вольности изображения, отсутствии стереотипов в понимании современности и прочтении классики. Нам виделась уникальная лаборатория кино, новая волна как плацдарм для свободного эксперимента, кровно связанного с талантами современной литературы. Руководство объединения всячески помогало этому, подкармливая бедствующих гениев, выплачивая аванс неугодным и запрещенным.
Много лет спустя Василий Аксенов не без ностальгии вспомнит: «В то время не так легко было заработать денег, однако на „Мосфильме“ существовало писательское объединение. Туда можно было прийти с заявкой на сценарий, подписать договор и уйти с двадцатипятипроцентным авансом. И, что самое приятное, если даже сценарий выбрасывали в корзину или запрещали, деньги оставались у тебя».
Новое сообщество быстро завоевало авторитет. В коридорах главной студии страны мы ощущали себя элитой, с нами каждый хотел подружиться. Мы еще не ведали, что опасные, хитрые обходы установлений власти грозят расплатой, что раздражение начальства растет и нам все труднее будет лавировать, отстаивая свои планы, идеи, фильмы.
Цензура бдила, старалась отслеживать любую недосказанность, запрещая фильмы еще на стадии сценария, особо выискивая пессимизм, секс, упадничество. Каленым железом выжигались «карамазовщина», «достоевщина», «толстовство», страшным приговором, как клеймо, звучало – «декаданс». Не в чести было вообще изображение интеллигентов. Героями должны были быть в основном «люди труда», персонажи волевые, несгибаемые, не сомневающиеся ни в чем. Такими изображались защитники Родины (лучше – павшие в бою) и ударники производства.
Даже фильмы по военным повестям: «Звезда» Эммануила Казакевича, «Спутники» Веры Пановой (впоследствии, после прочтения лично И. В. Сталиным, к удивлению цензоров‚ удостоенной Сталинской премии первой степени), «В окопах Сталинграда» («Солдаты») Виктора Некрасова – вызывали шквал критики. Ленты эти не вписывались в схемы стратегически спланированной победоносной войны. Позднее Сергей Довлатов, сетуя на резкое падение интереса к серьезной литературе, ерничал: «Раньше нами хоть ГБ интересовалась, а теперь до нас вовсе дела никому нет».
И все же парадоксальным образом сквозь заградительные решетки пробивались и высококачественные фильмы. Случалось и так: образованный цензор, оставшись наедине с творением художника, отмеченного богом или популярностью у публики, хотел выглядеть перед будущим поколением человеком, понимающим в искусстве, а вовсе не душителем талантов. Таковые водились и в руководстве «Мосфильма». Глядя на экран, они не могли не осознавать, что присутствуют при рождении фильма, за которым, быть может, мировое признание, и старались тайно облегчить его прохождение. В те годы негласное покровительство высоких поклонников сопутствовало Любимову, Окуджаве, Евтушенко, Высоцкому, Вознесенскому, Ахмадулиной, Твардовскому, Краснопевцеву, Гроссману, Солженицыну и другим. Кроме того, «Мосфильму» необходимо было хоть как-то выполнять план, давая художественные результаты. Движение наших картин на Запад, на международные фестивали порождало спрос на качество. Победа фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» на Каннском кинофестивале («Золотая пальмовая ветвь»), картины «Иваново детство» Андрея Тарковского в Венеции («Золотой лев»), оглушительный международный успех «Баллады о солдате» Григория Чухрая поначалу вызывали растерянность властей: прорыв в мировое кино спустя три десятилетия после первой волны 20–30-х (Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Козинцев, Ромм) не был предвиден и осознан.
Мало кто из нас предполагал, что оттепель заморозится так скоро, что эти «наезды» – лишь первый, поверхностный слой тех трагических событий, которые уже на пороге. Жестокость, беспредел в отношении художников иного стиля, рискнувших отстаивать собственное видение искусства, не совпадающее с официальной концепцией, еще были неведомы постсталинскому поколению. Ведь тогда казалось, что история нашей культуры пишется наново.
Начало 60-х, впоследствии названных «легендарными», – это взрыв новой литературы, живописи, театра и кинематографа. И, конечно же, неограниченная свобода «авторской песни», ознаменованной именами Окуджавы, Галича, Визбора, Кима, ставшего всенародным идолом Высоцкого‚ – они изменили сознание нескольких поколений.
В литературе – выход в «Новом мире» под руководством Александра Твардовского ошеломительной повести о лагере, о ГУЛАГе – «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Начинается расцвет «деревенской прозы» – произведений Бориса Можаева, Владимира Тендрякова, Василия Белова, повести о «непридуманной» войне Виктора Некрасова, Василия Гроссмана.
Вспыхивает «зеленая лампа» нового журнала «Юность», который возглавил Валентин Катаев. Уже признанный почти как классик (повесть «Белеет парус одинокий» входила в школьную программу), он оказался человеком, безоглядно чтившим талант непохожих сочинителей, он печатал «непричесанных» молодых людей, сказавших свое, новое слово в литературе. «Интеллектуальная проза», «исповедальная проза», как ее ни назови, началась с «Юности». В поздних повестях «Святой колодец», «Трава забвения», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец» Катаев явил совершенно новую прозу, получившую восторженное признание современников.
В те же 60-е годы из насыщенного раствора вольницы выкристаллизовывались время от времени и новые общественные структуры.
В 1961 году случился переворот в Московской писательской организации – под светлым руководством поэта Степана Щипачева было выбрано новое правление – из вчера еще разруганных, «аполитичных» и полузапретных молодых литераторов. Все они почти сплошь были авторами «Юности». Вместе с Аксеновым, Евтушенко, Вознесенским, Гладилиным, Шатровым, Амлинским, Рощиным, Щегловым была избрана и я.
Вопреки расхожему мнению, в 60-х власть боролась с инакомыслием художественным даже более беспощадно, чем с «чуждой» идеологией. «Уничтожалось все непохожее, можно было делать только заданное, привычное», – вспоминал впоследствии Михаил Ромм. Блюстители режима могли выпустить «в свет» повесть, фильм, заставив автора, к примеру, изменить финал, «правильно расставить акценты». А вот индивидуальный стиль, почерк таланта, самобытность перекройке не подлежали. Любая особость художника вызывала ярость, шлифовать стиль, не разрушая саму ткань фильма, не получалось.
У катаевской «Юности» была и маленькая предыстория. Василий Аксенов (впоследствии реализовавший свою идею в альманахе «Метро́поль») носился с проектом нового журнала. Катаев придумал название «Лестница». Мы все были помешаны на этой идее. Кто-то вместе с мэтром пошел к министру культуры П. Н. Демичеву, чтобы озвучить необходимость создания молодежного журнала. Но Демичев название не одобрил, обещал подумать, и все застопорилось.
Как обычно, когда начальство хочет уйти от решения, идея погрязла в дебрях бюрократических инстанций, идея «Лестницы» канула в Лету. А потом тому же Катаеву, задолго, кстати, до получения «гертруды» в петличку (звания Героя Социалистичекого Труда), но уже классику, чье влияние на комсомольское поколение ассоциировалось с Пашкой и Гавриком [16], легко разрешили открыть новое издание для молодежи. Его предложили назвать попросту: «Юность».
Появление в журнале «Юность» стихов Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Новеллы Матвеевой, Юнны Мориц, повестей и рассказов Анатолия Гладилина, Юлиана Семенова, Бориса Балтера, романа «Звездный билет» Василия Аксенова было воспринято молодежью на ура.
Чуть позже «Юность» опубликует и мою повесть «Семьсот новыми». В «Литературной газете» вышла разгромная статья, меня обвинили в формализме, что только добавило повести популярности. Однако издание отдельной книгой запретили. Тем временем повесть перевели и издали во Франции, и только через четыре года – в России. Инициаторами французской публикации стали Лиля Брик и Натали Саррот – гуру «новой волны», прозаик и драматург, перевернувшая сознание поколения наряду с Сартром и Симоной де Бовуар. Разразившийся по этому поводу скандал стал знаковым в моей судьбе.
Итак, сродни битломании, джазу, рок-н-роллу, литература насыщалась дерзостным сленгом, шоковым поведением героев, вступавших в любовные связи с невиданной легкостью, начисто сметавших привычные нормы приличия. Оттепель вроде бы набирала обороты, и нам казалось, что настает полная свобода стилей, образа мыслей и все зависит только от нас.
Из пьес Виктора Розова, Александра Володина, Михаила Рощина, Юлиу Эдлиса, Эдварда Радзинского в театре «Современник» хлынули на улицы пламенные споры о жизни, началось расшатывание трона В. И. Ленина в драмах Михаила Шатрова. Сленгом наших тусовок заговорили на улицах, в молодежных компаниях: «кадриши», «чувихи», «поужинаем и позавтракаем одновременно?». Так стали обозначать наш быт, отношения, как в свое время грибоедовским «Служить бы рад, прислуживаться тошно» или по Ильфу и Петрову: «Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!». Конечно же, большой вклад в освобождение языка, нравов внесло всеобщее помешательство на Хемингуэе.
Где-то с 64-го года театральные аншлаги переместились на Таганку. Каждый новый спектакль Юрия Любимова встречали на ура, сам режиссер стал кумиром. Первое его открытие – поэтические спектакли. Постановка «Антимиров» Андрея Вознесенского вызвала небывалый ажиотаж. Выдержав около тысячи представлений, этот спектакль по-новому высветил таланты Владимира Высоцкого, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Зины Славиной, породив фанатов стихотворно-театрального жанра и новых поклонников Вознесенского. (Второй бум театральной популярности Андрея случился почти 20 лет спустя в Театре Ленинского комсомола после спектакля «„Юнона” и „Авось”» Алексея Рыбникова и Марка Захарова.)
Потом на Таганке были «Павшие и живые» – одно из самых сокровенно-исповедальных сочинений режиссера, на стихи фронтовых поэтов, ныне живущих и тех, что не вернулись с фронта‚ – Всеволода Багрицкого, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. Затем – «Пугачев» Есенина. «Пропустите, пропустите меня к нему… Я хочу видеть этого человека!» – кричал Высоцкий на разрыв аорты.
Второй этап жизни Таганки, по замыслу Любимова, определяли инсценировки современной прозы – Федора Абрамова, Бориса Можаева, Юрия Трифонова, поднимающие острейшие проблемы жизни. «Дом» по Ф. Абрамову, «Живой» Б. Можаева, почти все написанное Ю. Трифоновым и, как высший аккорд, булгаковский «Мастер и Маргарита» взрывали зал, превращали сцену в трибуну. Все, что звучало шепотом на кухнях, произносилось прилюдно, открыто. Имена Юрия Любимова, а вскоре и художника Давида Боровского становятся в ряд мировых величин современного театра.
А мы, вчерашние студенты ГИТИСа, что поклонялись Улановой, Хмелеву, Плисецкой, Бабановой, Чебукиани или Андровской, ощущаем «Современник» и Таганку своими единомышленниками. Сами мы начинаем печататься в толстых литературных журналах, нас читают. Я попадаю в самые известные компании, вожу дружбу с кумирами: Булатом, Володей Высоцким, Олегами – Ефремовым и Табаковым, Микаэлом Таривердиевым, Леонидом Зориным, Михаилом Ульяновым, Лилей Толмачевой, Игорем Квашой, Валерием Золотухиным, Вениамином Смеховым, я – участница посиделок после громких литвечеров, головокружительных балетов, рискованных постановок и концертов. В нашей квартире на Котельнической Высоцкий будет петь свои новые песни, которые записывает мой пятнадцатилетний сын Леонид, шумные сборища кончаются далеко за полночь, а когда мы празднуем Новый год, то и утром.
Наступает пора расцвета клубной жизни. Песни Галича, Высоцкого, Булата, Алешковского из подполья перемещаются в ЦДЛ, Дом актера и Дом кино. Именно здесь теперь регулярные вечера поэзии, чтение новых рассказов, пьес. Часов в шесть-семь мы идем в ЦДЛ или Дом актера, не сомневаясь, что без всякой договоренности там уже найдется десяток знакомых, а клубная жизнь уравняет нас, начинающих, в правах со знаменитостями. «Гамбургский счет» ведется только в творчестве, быт общий: ты гений, я гений, что делить? Места хватит всем.
Почти невероятным сегодня кажется, что в те годы вовсе не существовало публично-компроматной агрессии. Грязные разоблачения осуждались, драки, конфликты возникали на почве сплетен, ревности, без особых поводов. «И тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, он был не пьяный…» Чаще рукоприкладством выясняли отношения, сильно напившись, перемирие обычно наступало легко, через день «противники» могли мирно сидеть за общим столиком, и кто-то платил за двоих.
И еще. В эти годы небывало возрастает роль общественного мнения. Когда начинаются громкие процессы над писателями, то нам кажется, что наши возмущенные письма в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Иосифа Бродского остановят репрессии и гонения… Этим иллюзиям тоже придет конец.
Но вернемся на «Мосфильм». Теперь и здесь климат резко меняется, усиливается давление на руководство, даже картины Алова и Наумова, несмотря на данный им определенный карт-бланш, подвергаются все более жесткой цензуре. Сквозь колючую проволоку продираются «Мир входящему» по сценарию Леонида Зорина и «Бег» по Михаилу Булгакову.
Ко времени съемок фильма «Мир входящему» Леонид Зорин был уже очень знаменит. Он был десятилетним мальчиком, когда его талант отметил не кто иной, как Максим Горький. В 25 лет его первую пьесу поставил Малый театр! Мы тесно дружили еще со времен ГИТИСа, я была свидетелем и взлета его редкого таланта, и трагических сломов судьбы.
После успеха первых пьес Зорин поверил, что ему позволено больше, чем другим, и с размаху сочинил комедию «Гости». Он впервые в советской литературе жестко обозначил водораздел между творцами и хозяевами жизни – циничными и беспощадными. Попадание было точным – власти предержащие в «гостях» узнавали себя. Скандал случился невиданный. Со времен постановления ЦК КПСС о Зощенко и Ахматовой (1946 года), решений о пьесах Леонида Леонова «Метель» и «Волк» – такой уничтожающей критики, разгрома и травли писателя не было. Зорина довели до нервного срыва, у него началось внутреннее кровотечение – попал в больницу. Мы по очереди навещали его.
Наверно, творческая энергетика, неостановимо влекшая его к письменному столу, да безмерная любовь к сыну Андрею (сейчас он лингвист мирового уровня) спасли писателя от тяжелой депрессии. Нынешние поколения хорошо знают знаменитый фильм «Покровские ворота», снятый Михаилом Козаковым по пьесе Леонида Зорина.
Фильмы – как блины, их надо есть горячими. Даже киноклассика через пять-шесть лет не всегда сохраняет яркость вызова, силу воздействия на современников. К примеру, в картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» (вышел на экраны в 1965 году под названием «Мне двадцать лет») центром и кульминацией был документально зафиксированный поэтический вечер в Политехническом музее. «Политехнический – моя Россия!» – писал Андрей Вознесенский.
- В Политехнический!
- В Политехнический!
- По снегу фары шипят яичницей.
- Милиционеры свистят панически.
- Кому там хнычется?!
- В Политехнический!..
Фильм Хуциева запечатлел, как читают свои стихи молодежи – в основном молодежи – Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Михаил Светлов, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава‚ Борис Слуцкий, Григорий Поженян… Фильм отчетливо обозначил для чиновников опасность прямого воздействия подобных вечеров на сознание советской молодежи. Вскоре картину, в которой не было ни грамма политики, запретили – на 20 лет. Но даже после этой долгой паузы ее выпустили с изъятиями и сокращениями, сильно изуродовавшими замысел режиссера. И, увы, показанная в другую эпоху, эта картина, как и многие другие, уже не имела того шумного резонанса, который сопутствовал их закрытым просмотрам в 60-х.
Появился и новый жанр – звучащая поэзия. Вечера поэзии в «Лужниках», которые снимал и показывал на ТВ Ионас Мисявичюс, стали для мировых СМИ точкой отсчета непонятного Западу нового явления культуры – публичного чтения стихов одного автора перед тысячной аудиторией. Вскоре поэтов, подобно звездам-исполнителям, будут приглашать во Францию и Америку, Италию и Мексику, поэтические фестивали, как русские сапоги и «Калинка», войдут в моду. Но началось-то все с запечатленного в фильме Хуциева вечера в Политехническом.
Сегодня почти неправдоподобно-абсурдными кажутся претензии, отбросившие показ некоторых фильмов на десятилетия.
Вот как вспоминает о том времени и режиссере картины выдающийся актер Станислав Любшин, сыгравший одну из главных ролей в фильме Марлена Хуциева:
«Это уникальный человек и удивительный художник. Что он пережил с „Заставой Ильича“! Газеты про него писали такие гадости: мы не видели фильм, но он антисоветский. Картина лежала на полке, и все то, что Марлен открыл – настроенческое, чеховское, – пошло гулять по другим фильмам.
Когда показывают хронику тех лет, я вижу, что все это из нашего фильма. Художественная картина стала документом времени.
Когда показ „Заставы Ильича“ закончился, я увидел, что режиссер Леонид Луков („Два бойца“, „Большая жизнь“), сидевший за нами, – без орденов и медалей. А ведь они были на его груди перед просмотром. В ресторане, где мы отмечали выход фильма, Марлен поговорил с ним, и Луков почему-то ушел. Мы спрашиваем: „Что случилось?“ Оказывается, Луков сказал: „Марлен, извините, я понял, что всю жизнь врал“. Таким потрясением стал для него наш фильм. А сколько Луков сам страдал! Как Сталин его громил. После вскрытия выяснилось, что у Лукова чуть ли не четыре инфаркта было…
А в истории вокруг „Заставы Ильича“ мы ничего не понимали. Молодые были. Почему все хвалили и вдруг начали ругать? Причем одни и те же люди.
Очень известный режиссер сказал: „Марлен, посмотри, каких ты подонков показал. Почему они на Красной площади перед Мавзолеем танцуют и кривляются?“ Все говорилось под стенограмму, которая шла потом в ЦК. Такое началось! Обнаружили идеологические ошибки, приезжали одна за другой комиссии. Мы ходили на все обсуждения. Я лично хотел узнать, что плохого мы сделали.
Прошло открытое партийное собрание. Вся киностудия Горького должна была осудить фильм. Григорий Чухрай записался семнадцатым на выступление. Первым вышел режиссер Андриевский, сказал, что запуск такого сценария – это ошибка студии, куда только партия смотрела, это антисоветский фильм.
Мы стоим с Колей Губенко и ничего не понимаем. Чухрай не выдержал, выскочил без очереди и произнес: „Как вы смеете так говорить? Мою картину «Баллада о солдате» тоже называли антисоветской. Меня обвиняли в том, что показал солдата, а не генерала. Как это так? Зачем солдат отдал мыло? Он что же, не будет неделю мыться? Наша армия, значит, вшивая?“ Своей речью Чухрай сломал ход собрания. Больше никто не выступал».
Казалось, что могло не устроить начальство в картине «Мир входящему»? Конец войны, триумфально освобожденный Красной армией поверженный город. Однако наряду с привычными атрибутами победоносного финала в ленте Алова – Наумова отчетливо прозвучала тема разрушения основ жизни любой войной. Мы увидели трагические следы разгрома и запустения, полуживые магистрали и переулки вчера еще мощного государства Германия. Подробности, запечатленные авторами, застревали в памяти гораздо глубже, чем сюжет. Бредущие по пустому городу двое победителей: истощенный солдат, волочащий раненого командира Ямщикова…
Одиночество этой пары среди разбросанных по мостовой манекенов в разодранных модных платьях и висящих бюстгальтерах, опрокинутая детская коляска, раздавленная танком, летящие по асфальту страницы чьих-то книг, рукописей, гонимая ветром утварь, обои – вызывали острую стыдливую жалость и к победителям, и к поверженным. Все это бытовое, домашнее и глубоко связанное с тысячелетним понятием добра, своего дома‚ катастрофически не соединялось с представлением о той побежденной стране, которую они абсолютно не знали, но должны были ненавидеть, потому что ею правил фашизм. Бедствие людей, крах их уклада жизни омрачали ликование вошедших в город победителей. Настрой фильма Алова и Наумова резко контрастировал с оптимизмом, эйфорией тогдашних военных киноэпопей, он будоражил совесть, возвращая к мыслям о тотальной катастрофе уничтожения самой жизни идеологией насилия, о цене, заплаченной за победу, о неисчислимых бедах, которые не закончатся после завершения войны. «Ах, война, что ты сделала, подлая…»
Увы, одной из самых запретных тем 50–70-х станет видение войны, осмысление итогов войны рядовым солдатом, семьей, потерявшей кормильца. И в Россию, хотя и намного позже, придут проблемы «потерянного поколения» – поколения Первой мировой войны.
После выхода фильма «Мир входящему» Лев Аннинский заметил, что обыденные реалии здесь окружены совершенно непривычным и нереальным антуражем. «Какой неистовый, сверхнапряженный воздух режиссуры! – писал он. – Не здесь ли разгадка странной, обманчивой „ординарности“ этой ленты? Уникальное состояние, владеющее Аловым и Наумовым, по обыкновению‚ вселяется в традиционные прочные рамки, а типичные фигуры шофера, солдат и офицеров выдают… безуминку. Критики пытались оценить происходящее со здраво-реальной точки зрения, но это было невозможно».
Как же случилось, что столь негативное отношение властей и чиновников к картине «Мир входящему» не помешало руководству «Мосфильма» предложить его создателям возглавить новое объединение? Владимир Наумов в книге «В кадре», написанной совместно с актрисой Натальей Белохвостиковой, его женой, пишет, что этим они обязаны самому времени:
«Время! Наступило другое время. „Все смешалось в доме Облонских“. Процессы происходили странные, как будто необъяснимые… „Винтики“ вдруг заметили, что они люди. В период оттепели начали пробуждаться от спячки человеческие характеры, начали действовать, сталкиваться противоборствующие силы, возникали странные, неоднозначные отношения, принимались решения, которые порой невозможно было логически объяснить. Даже у высших руководителей проклевывались завиральные мысли, идеи. Этот разрушительный микроб стал проникать и в их души. Тот же Хрущев, который обзывал „пидорасами“ художников и покрыл себя позором во время знаменитых встреч с интеллигенцией и последовавшими репрессиями, в то же время позволил напечатать повесть Александра Солженицына „Один день Ивана Денисовича“».
Но сегодня мне хочется ответить и на другой вопрос. Зачем надо было режиссерам такого таланта и масштаба взваливать на себя неблагодарную ношу руководства? Ведь обеспечивать новую структуру организационно значило не столько творческую работу с одаренными людьми, но дикое количество текучки, бюрократических согласований, вызовы «на ковер» по первому окрику начальства, ежедневное противостояние официозу.
У самого Наумова есть объяснение – для тех лет типичное. У нас всех была иллюзия, что мы можем поменять климат в искусстве, давая дорогу непризнанным талантам, опальным художникам. Вера, убежденность, что в наших силах обновить кинематограф, сделать его более широким и свободным, заставляла каждого из нас бескорыстно и безвозмездно участвовать в общественной жизни, входить в новые структуры управления творческими союзами.
На этой убежденности: «все, что не запрещено, – разрешено» и родилась у Алова и Наумова идея экранизации «Бега» Михаила Булгакова. После мучений с «Миром входящему», уже предвидя все предстоящие мытарства, они шли на риск, готовясь отстаивать свой замысел до последнего.
В те годы молчание вокруг творчества Михаила Булгакова, самого сложного и блистательного (наряду с Андреем Платоновым) прозаика середины 30-х годов‚ было тотальным. После триумфального успеха у зрителей в 1926 году «Дни Турбиных» шли на сцене всего три года. В 1929 году пресса обвинила Булгакова и театр в идеализации и пропаганде Белого движения, спектакль сняли с репертуара. Но еще через три года, в 1932-м, неожиданно вернули – по указанию самого Сталина. Он писал: «Основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: „Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь“, „Дни Турбиных“ есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».
Спектакль шел на сцене до 1941 года. Затем имя и творчество Михаила Булгакова попали под полный запрет. Десятилетия спустя, когда Алов и Наумов замыслили сделать фильм по «Бегу», они натолкнулись на сопротивление чиновников всех уровней. Константин Симонов, на пике славы вхожий «в верха», пытался сделать хоть что-то для памяти Булгакова. Он дружил с его вдовой Еленой Сергеевной и советовал ей начать хотя бы с попытки публикации «Театрального романа». О возвращении на сцену «Дней Турбиных» с политическим ярлыком «оправдание белогвардейщины» речь не могла идти, а об экранизациях и подавно. Даже студенческий спектакль по Булгакову, поставленный актрисой Софьей Пилявской в училище МХАТа, был уничтожен после двух показов.
И все же невероятное свершилось, Алову и Наумову удалось снять и показать «Бег». Думаю, существенную роль сыграл здесь подбор актеров, каждый из которых имел влиятельный круг почитателей и громадный вес в общественном сознании. А для Елены Сергеевны регулярные встречи с любимыми режиссерами «Бега» были в те дни, быть может, единственной соломинкой, поддерживающей ее интерес к жизни, дававшей ей силы для борьбы за наследие Булгакова.
Картина «Бег», бесспорно, стала событием. Ее критиковали за расплывчатую композицию, подлавливали на исторических неточностях, но это тонуло в хоре голосов, восторженно принявших ленту, в которой было столько актерских шедевров – Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Владислав Дворжецкий. Думаю, чудо выхода картины на экран, кроме актерского ансамбля, свершилось из-за темы обличения самого понятия «эмиграция». Власти полагали, что зритель осознает гибельность побега, превращающего эмигранта в отщепенца и изгоя. Смотрите, мол, вот они – вчерашние властители жизни, герои, теперь растоптанные, оказавшиеся на самом дне общества. Каждый из них, прозябающих в нищете, сломленных унижением, превращен в отбросы.
Ленту «Бег» миновала участь другой работы Алова и Наумова – «Скверного анекдота» по Достоевскому, запрещенного к показу на 20 лет.
«Анекдот», быть может лучшее создание Алова и Наумова, вышел смехотворным тиражом к зрителю уже в 80-е годы и не вызвал большого резонанса, лишь творческая интеллигенция высоко оценила филигранное мастерство режиссеров, силу проникновения их в «подполье души» русской. Увы, Александр Алов уже не узнал об успехе своей картины – он скончается, не дожив до 60 лет.
Смерть Алова, лидера, генератора идей в тандеме с Наумовым, стала для нас катастрофой, она надолго выбила объединение из творческой формы. И до сего дня Сашу вспоминают как художника безоглядной отваги, но в то же время человека негромкого, предпочитавшего больше молчать и делать. Насколько на виду был Наумов, яркий и артистичный, настолько незаметен был Алов. Он любил уходить в тень, разыгрывая стратегию самых дерзких замыслов, порой проводя их только через Наумова, а тот акробатически, виртуозно действовал за двоих в публичном поле.
Пользуясь стойким уважением киносообщества, наши худруки откалывали номера на грани фола. Их широко известные проделки не иссякали в самые драматические моменты жизни киносообщества. Когда Володя Наумов вел диалог с партнером, которого хотел убедить, он был абсолютно неотразим. Он мог спорить до хрипоты, переходить за все рамки дозволенного в озорстве и розыгрышах. По «Мосфильму» гулял рассказ о том, как глава другого объединения, Иван Пырьев, имевший безоговорочное влияние на Алова и Наумова, спровоцировал обоих подкараулить Никиту Хрущева около мосфильмовского туалета и, воспользовавшись моментом, убедить его не объединять Союз кинематографистов с другими творческими союзами. (В свое время Михаил Ромм, их учитель, ревновал обоих к Пырьеву, а потом довольно болезненно отнесся к созданию ими Шестого объединения.)
Пырьев, постановщик лакированных комедий, обладавший редкой харизмой, масштабом замыслов, был сродни юной парочке в их проделках. Он был уверен, что мизансцена в туалете беспроигрышна. Сам мэтр-жизнелюб был хорошо известен как любитель поерничать и посквернословить. Певец колхозного рая в «Кубанских казаках», он был, несомненно, личностью неординарной, он не раз защищал Алова и Наумова от гнева начальства.
Наумов подробно пишет в книге, как после туалетной неудачи Пырьев орал на Алова, употребляя все мыслимые и немыслимые эпитеты, обвиняя, что тот упустил фантастическую возможность пообщаться с вождем, когда тот был равен всем смертным.
Через несколько лет Александр Алов, фронтовик, инвалид, уйдет из жизни, не выдержав ежедневного напряжения, сопровождавшего создание каждой картины, не осуществив и половины предназначенного ему талантом – как многие яркие люди того времени.
Нервы трепали всякому, кто хотел отойти от стереотипа. Тяжело и абсурдно складывалась в объединении судьба дипломной работы вгиковца Элема Климова «Добро пожаловать‚ или Посторонним вход воспрещен». В ней уже угадывался масштаб личности будущего создателя «Агонии», «Иди и смотри».
Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» молодого Климова, восхитительно остроумный, безоглядно смелый, вызвал ярость начальства. Картину уродовали нещадно, о списке купюр и замечаний и вспоминать тошно. Стиль веселой ненависти режиссера к молодым бюрократам, воспринимающим подростков как газон, который стригут под линейку, был непереносим для чиновников. Быть может, все бы обошлось без такой жестокой реакции, не будь столь блистательно исполнение роли начальника пионерлагеря Евгением Евстигнеевым.
Трудно проходила и трагикомедия режиссера Алексея Коренева «Урок литературы», снятая на киностудии «Мосфильм» в 1968 году по мотивам рассказа Виктории Токаревой «День без вранья».
Вызвал негодование фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Режиссера прославленной ленты «Человек идет за солнцем», получившей международное признание, критиковали именно за яркость, праздничность красок, за непонятную грусть поэтического стиля. Но к этому я еще вернусь.
Кульминацией конфликта с руководством «Мосфильма», конечно же, стали съемки картины Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Сохранилась стенограмма обсуждения сценария, которую через сорок лет извлекли из секретного архива для Андрона Кончаловского – соавтора сценария. Кончаловский принес мне ее в подарок, прочтя в ней мое выступление на решающем этапе приемки, в какой-то мере повлиявшее на спасение фильма. Сегодня уникальная стенограмма – документ времени, который отражает изощренные издевательства, нескончаемые мелкие придирки тех, в чьих руках была судьба фильма, непонимание масштаба и природы таланта Андрея Тарковского.
Каждое новое заседание комиссии (а их было пять-шесть, точно не помню) демонстрировало твердость руководителей нашего объединения и его совета. Некоторые коллеги по-разному воспринимали замечания чиновников, но не было среди нас соглашавшихся на варварское уродование авторского замысла. В то же время противостояние с руководством мешало дальнейшим планам объединения. Только освободившись от обязательств по картине Тарковского, можно было запускать следующие фильмы. Как почти в любом коллективе, наступает момент и у творческого сообщества, когда терпение и энергия иссякают и тот или иной художник уже не хочет платить собственной творческой биографией за несправедливость верхов по отношению к кому-то другому.
Атмосфера сгустилась до критической точки. Мы отчетливо понимали, что сценарий в последнем варианте во что бы то ни стало должен быть принят и запущен в производство. Запустить – значило получить государственное финансирование, иных путей в те времена не существовало. Упорство Шестого объединения сильно напрягало руководителей «Мосфильма», они осознавали, что вовсе замотать картину «Андрей Рублев» им не дадут. Уже поползли слухи о гениальном фильме, запертом в недрах студии; любая, даже частичная огласка происходящего могла вызвать протесты, увеличить число сторонников фильма, приоткрывающего пласт национального бытия Руси.
Судьбоносный день наступил 16 января 1963 года, когда пятый или шестой раз состоялась читка нового варианта сценария – при полном составе художественного совета, членов главной редакции «Мосфильма» и экспертной комиссии. Впоследствии я не смогла сосчитать количество рабочих просмотров уже осуществленного фильма, в которых мне довелось участвовать, изъятий из картины текста, целых эпизодов. Думаю, что видела фильм 13–14 раз.
Обстановка с самого начала было настороженно-воинственной. Сам текст, то, как он читался Андроном Кончаловским, создавал ощущение редкостной значительности, некоего чуда, вызывая острое желание чуть ли не аплодировать.
Каждый из нас понимал, что Тарковский на грани нервного срыва и дальше так продолжаться не может, дальнейшие претензии означали бы неприкрытую травлю. Председательствовал в тот раз Юрий Бондарев, литературный глава объединения. Для нас, в начале 60-х, это был человек, прошедший войну, автор смелых, по тому времени, военных повестей, что окружало его имя и поведение неким хемингуэевским ореолом. Его жена Валя часто приглашала нас в дом выпить и закусить разносолами собственного изготовления. Но и в застольях он редко говорил о фронтовых впечатлениях. Бондарев вел заседание мягко, был терпим, заложенная в нем и проявившаяся впоследствии идеологическая воинственность не ощущалась вовсе. Он всячески пытался примирить худсовет и чиновников Главного управления, ведя свою линию.
Этап за этапом проходила я, вместе с худсоветом, мучения и издевательства, которые чинились над сценарием и картиной, составившей славу отечественного и мирового кинематографа. «Андрей Рублев» открыл могучий, бескомпромиссный дар Тарковского, дар художника, который не мог и не хотел идти на компромисс с совестью, жить в искусстве по чужим лекалам. Все его картины стали самовыражением творца, который видел жизнь сквозь волшебный фонарь преображения, открывшего зрителю новое кинопространство, доселе не существовавшее.
Конечно, Тарковский освоил созданное великими предшественниками – Эйзенштейном, Феллини, Бунюэлем, Бергманом. Последние фильмы Тарковского‚ «Грехопадение» и «Ностальгия»‚ снятые в Париже и в Швеции, несут на себе печать исповеди, по существу, уже авторского завещания, постижения смысла жизни. В этих фильмах‚ как в двойном реквиеме, художник воспроизводит состояние человека, осознающего приближение и неизбежность конца. Думается, в основу его киноразмышлений легли и многие обстоятельства последних лет терзаний на Родине, в чем-то спровоцировав его столь безвременный уход. Алексей Герман, называя имена режиссеров, недосягаемых для соперничества, признается, что, к примеру, «Сталкера» он снять бы не смог.
Странно, что все случившееся с «Андреем Рублевым» я воспринимала так лично. В дни обсуждения сценария режиссер Тарковский был для меня лишь автором «Иванова детства», но этот дебют произвел на меня столь сильное впечатление, что любой его следующий фильм мне виделся событием. Каждый, кто запомнил на экране мальчика, соединившего в себе взрослую яростную ненависть к фашистам и мечты ребенка, ждал продолжения, развития таланта режиссера. Для меня «Иваново детство», бесспорно, стало одним из самых ярких впечатлений в жизни.
Теперь, когда у меня появилась возможность привести выдержки из обсуждения сценария, я смогу в какой-то степени передать ту человеческую трагедию, которая разворачивалась на наших глазах, душевное состояние автора, вынужденного выслушивать бред не слишком осведомленного в искусстве чиновника. Напомню, что ее мне дал Андрон Кончаловский.
На зеленой с черным папке надпись: «Стенограмма заседания художественного совета. Обсуждение сценария. Шестое творческое объединение. А. Кончаловский А. Тарковский».
В обсуждении сценария были моменты, когда одна неудачная реплика могла решить его судьбу. Образчиком лицемерия, например, было предложение одного из руководителей студии‚ Данильянца. «Поскольку мы все здесь запутались, – горестно пожал он плечами, – давайте пошлем этот вариант сценария в главную редакцию, надо найти там умных людей, которые выведут ситуацию из тупика».
Как и все мы, он хорошо понимал: это значит – похоронить.
Многие настаивали на сокращении сценария до одной серии.
– Мне кажется, что сценарий абсолютно не нуждается в сокращении. Ведь сегодня вы рассматриваете лишь литературное произведение, это же только прообраз будущего фильма, – сказала я. – Редкий случай, когда все записано авторами гораздо подробнее и длиннее, чем будет снято для экрана. К примеру, сцена охоты. Я могу назвать несколько таких моментов, где подробности в записи служат обогащению замысла, насыщению действа информацией. Давайте, наконец, сдвинем ситуацию с мертвой точки, дадим возможность работать создателям картины с этим вариантом. На какой-то стадии только сам Тарковский ослабит или усилит напряжение, но для этого он должен уже работать с камерой. Дадим ему возможность. В режиссерском сценарии появится некоторый воздух, заиграет юмор, которым насыщен сценарий. Давайте доверимся режиссеру, прекратим эти издевательства над его психикой. Мое мнение: сейчас в каких-то сценах есть потери, сценарий может быть замучен. Предлагаю немедленно утвердить этот литературный вариант, дав возможность Андрею реализовать на съемках все приемлемое для него из сказанного.
Той же точки зрения придерживалось руководство объединения, однако Юрий Бондарев, подводя итоги, все же предложил отказаться от развертывания фильма на несколько серий.
Фильм запрещали чуть ли не 20 раз на стадии литературного сценария, настолько его боялись. Причем сейчас это смешно говорить, когда у нас вся страна превращается в полуклерикальное государство, все молятся, службы в церкви транслирует телевидение, а тогда боялись икон в фильме – этого неистового утверждения христианства и язычества одновременно, со сценами обнаженных купальщиц в языческом празднике. Тарковский, буквально пробегая мимо меня перед заседанием, сказал: «Если они и сегодня затопчут, то больше я не могу, я больше этим заниматься не буду, и меня не будет». Имел ли он в виду отъезд или что-то другое, я не могу сказать, но на меня это произвело глубочайшее впечатление, и я спонтанно выступила:
– Дорогие товарищи! Но это же нельзя, как можно столько терзать литературный сценарий? Давайте сделаем так: у вас есть замечания, у всех есть замечания – прекрасно. Дадим возможность режиссеру эти замечания реализовать, если он с ними согласен, и утвердим литературный сценарий, дав возможность делать режиссерский сценарий.
В этом предложении содержалась и хитрость, понятная профессионалам-киношникам: таким образом открывалось бюджетное финансирование, начинали идти государственные деньги, сценарий становился как бы государственным предприятием…
Совершенно неожиданно нашим союзником предстала Н. Д. Беляева из главной редакции. Я редко видела, чтобы человек с такой страстью отстаивал свою точку зрения. Будучи куратором фильма, она выступила против затягивания решения резче всех.
– Для меня история с этим сценарием выходит за пределы наших творческих, производственных обстоятельств. Для меня она вырастает в нечто другое. Присутствуя на многих заседаниях и обсуждениях, я не слышала ни от кого, что эту картину не нужно делать. Все соглашаются, что фильм должен быть снят, и для меня это незыблемо. Два года тянется какая-то резина. Причем непонятно, может быть, товарищи встречаются с некоторыми людьми, которые активно против. Для меня это как какой-то неуловимый дух, с которым бороться трудно. Я просто пользуюсь тем, что ведется стенограмма, хочу заявить, что историю с этим сценарием я считаю преступлением против народа. Это преступление. Прошу так и записать. Видите ли, я, может быть, скоро умру, и я хочу умереть с чистой совестью! – почти выкрикнула она в конце.
Наступила зловещая тишина. Тарковский долго молчал, грыз ногти, в глазах то и дело вспыхивало бешенство, он пытался себя сдержать. Потом, медленно растягивая слова, поблагодарил присутствующих за внимание к сценарию. Черты худого лица заострились, он делал нечеловеческие усилия, чтобы не сорваться. Я неотрывно смотрела на него, опасаясь самого худшего.
– Для меня выступление Данильянца было неожиданным, – сказал он. – Во-первых, мы уже сделали три варианта сценария помимо договора. По договору мы имеем право не делать больше ни одной поправки, больше вариантов сценария писать мы не будем категорически. Не будем писать по ряду причин, также и финансового свойства, но и не только поэтому, а и потому‚ что принципиально считаем сценарий законченным. Тем более что после обсуждения, которое было сегодня, все замечания, которые мы сегодня получили, сводятся, по существу, к сокращению и уплотнению вещи. Что это для нас означает? Работа над режиссерским сценарием для нас означает не просто разрезание его на кадры. «Много серий» не будет, будут две серии, как и было задумано, – обернулся он к Бондареву.
Потом в мою сторону:
– Конечно, многое, что пишется в литературном варианте, уйдет на второй план, станет более лаконичным, что-то уйдет на третий план, что-то вообще, потому что я все равно знаю, что материал нужно как-то ужимать…
Он остановился, казалось, потерял ход мыслей. Это было мучительно для всех. И потом уже – на вскрик:
– Я хочу только, чтобы был зафиксирован последний вопль души: дайте мне возможность скорее работать, иначе я дисквалифицируюсь как режиссер! Я не знаю, как буду проводить пробы, как буду ставить камеру. Я хочу заняться своей непосредственной режиссерской работой. …Больше я не буду вдаваться ни в какие подробности. Короче говоря, я благодарен еще раз художественному совету и умоляю: помогите, чтобы начались съемки… Я уже теряю силы!
Этот крик стоит у меня в ушах. Теперь, вспоминая, пробую спроецировать его слова в будущее, заглянуть в трагедию ранней смерти Тарковского, вспомнить‚ как мучительно и медленно он угасал, до последней минуты не прекращая съемок нового фильма. Уже совсем обессиленного, его привозили из больницы, делали обезболивающие уколы, и он продолжал работу. Так ведут себя художники, одержимые собственным талантом, для которых дар заполняет все их существование, даже тогда, когда физическая оболочка уже истончена и разрушена.
А дух остался. Так умирал в Париже и Рудольф Нуреев, привозимый в коляске в Grand Opera на репетицию балета Стравинского. Сродни этому и смерть Андрея Миронова, Олега Даля.
А тогда, 3 октября 1963 года, сценарий был утвержден «в основе» с обязательством «доработать» на стадии режиссерского варианта «в духе высказанных замечаний». Думаю, что ощущение, охватившее всех нас после заключительных слов Тарковского, заставило чиновников пойти на эти уступки.
Да… в случае с Тарковским объединение одержало победу. Но какой ценой? «Андрей Рублев» выйдет в прокат, искромсанный цензурой, много позже. По ходу продвижения картины на экран Тарковский переживет не одну тяжелую депрессию, которая скажется на всей его дальнейшей работе и в России, и за рубежом. В России он снимет пять картин высочайшего художественного достоинства, каждая из которых несет следы трагического разлома души, восприятия автором творчества как мученичества. Одиночество и непонимание, длительные бесцельные простои после каждой новой картины приведут Тарковского к решению покинуть Россию.
Андрон Кончаловский в книге «Возвышающий обман» предполагает, что Тарковский в силу природы его таланта, несовместимого с общепризнанным взглядом на искусство, несколько преувеличивал накал преследований.
«Ему казалось, – пишет Кончаловский, – что против него плетут заговоры, что ему планомерно мешают работать. Убежден, намеренного желания препятствовать ему в работе, во всяком случае в последние годы, не было. Просто сценарии, которые он предлагал вверху сидящим, казались им странными, заумными, непонятно о чем. В них не было социального протеста, способного их испугать. Андрей не был диссидентом. В своих картинах он был философ, человек из другой галактики».
Мне кажется, это не совсем так. Тарковский каждый раз загонял обиду внутрь, осознавая, что против него (его эстетики и таланта) ведется организованная кампания – его воображение в периоды бездействия усиливало трагическое состояние. Если человек этой силы воли, абсолютной жесткости, бескомпромиссности все же терпит издевательства над своей личностью‚ это не может остаться без последствий. Он мог снимать (рассказывают, но достоверно не установлено), как лошадей сбрасывают с колокольни Андроникова монастыря, как горят коровы, добиваясь исторической подлинности и достоверности.
Может быть, дело в том, что ему захотелось увидеть это прошлое, чтобы сказать о том, из каких корней растет эта сегодняшняя жестокость. Как эти варвары в XV веке строили жизнь. Через какие пытки и ужасы все это происходило.
И опять извечный спор, что важнее, жизнь или искусство, поскольку в угоду искусству сжигались дома, сжигались раритеты, артефакты. И никто еще не обрел право без суда лишать человека жизни.
Эта жесткость, бескомпромиссность Тарковского разрушала его здоровье, работа над «Андреем Рублевым» не позволяла переключиться ни на что другое – картина стала в те годы делом жизни.
После отъезда Тарковского за границу начнется массовый исход из страны писателей и художников, отличающихся духовной группой крови от общепринятой. На какое-то время тихо, без огласки и политических комментариев уехал из СССР и Андрон Кончаловский. Уехали Михаил Калик, Фридрих Горенштейн, позднее – Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и многие другие – цвет тогдашней интеллигенции. Судьбы их сложились по-разному.
Вынужденная эмиграция коснулась почти всех первопроходцев нового искусства, экспериментаторов, носителей рискованных тем и характеров. В живописи, монументальном искусстве – Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Лев Збарский, Оскар Рабин, Юрий Купер…
Никогда не забуду, как прощались с Эрнстом Неизвестным. Он получил распоряжение «убраться из страны» чуть ли не в 48 часов, в два дня. А ему надо было освободить мастерскую на Сретенке, где хранились все его работы, скульптуры. Абсолютно непредставимо, как можно это сделать в такой срок.
И мы побежали к нему – и проститься, и помочь, я очень хорошо помню, как мы вдвоем с Андрюшкой бежим по Сретенке, дикий холод, ветер. И видим метров за сто до его мастерской, как по улице нам навстречу летят листы с графикой Эрнста. Он, видно, выкидывал, или ветер выносил – это было так страшно, даже невозможно передать. Мы собрали пачку, но больше не могли, мы боялись, что он уже уедет и мы не успеем проститься.
Еще долго висела у нас на стенах эта графика.
Я была куратором фильма Михаила Калика «До свидания, мальчики». Автор поэтической сказки «Человек идет за солнцем», Михаил снял одну из самых щемящих лент о трагедии двух влюбленных, разлученных войной. В Израиле он не вписался своим наивно-романтическим дарованием в жизненный распорядок перманентно воюющей страны. Я больше не видела его картин.
Многие эмигранты были успешны, но мало кто превзошел достигнутое ими в СССР. А сегодня почти все уцелевшие вынуждены одной ногой стоять на земле, приютившей их (Израиль, Франция, США, Швеция, Германия…), другой – здесь, в России. Наше объединение сотрудничало со всеми уехавшими, вытаскивая запрещенные к печати или появившиеся в самиздате вещи.
Между первым и вторым арестом Александра Солженицына была попытка реализовать хоть что-нибудь из его сочинений, хотя само имя его в те годы уже изымалось из обращения. И вот – чудо! Удается подписать авансовый договор на экранизацию рассказа «Случай на станции Кречетовка». Даже повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в «Новом мире» Александром Твардовским с благословения самого первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, не могла быть упомянута. Власть испугалась потока «лагерной» литературы. Время стремительно менялось, заморозки крепчали.
Я была знакома с автором «Архипелага ГУЛАГ». Встречались в Театре на Таганке – Любимов был близок с семьей Солженицыных, навещал их во все времена, и теперь, к 80-летию Александра Исаевича, поставил на Таганке спектакль «Шарашка» (по главе из романа «В круге первом»), сам сыграв Сталина. Году в 65–66-м Солженицын был и на спектакле «Антимиры» по стихам Андрея Вознесенского. Потом посидели, попили чаю в кабинете Юрия Петровича.
Впоследствии возникли слухи, что Солженицын раздраженно высказывался о Вознесенском, называл его талант холодным. Но тогда, на Таганке, Александр Исаевич хвалил и стихи, и актеров, хотя мне казалось, что все увиденное было ему чуждо – он художник другой галактики.
Спектакль «Антимиры», который, как известно, выдержал на Таганке свыше тысячи постановок, неизменно собирал полные залы. Несомненно, какое-то эстетическое влияние, восприятие нового у поколения 60-х шло и через «Антимиры». Десятилетия спустя встречались люди, которые, узнавая Андрея в аэропорту, на улице, на каких-то обсуждениях и приемах, говорили: «Мы воспитаны на ваших стихах и „Антимирах“»… Почти все стихи, прозвучавшие в «Антимирах», знали наизусть. Конечно же, благодаря Любимову и артистам – Владимиру Высоцкому, Вениамину Смехову, Валерию Золотухину, Зинаиде Славиной, Алле Демидовой и другим. Важно и то, что в первых спектаклях (а потом только в юбилейных) стихи читал сам автор, что подогревало интерес.
Итак, по просьбе Александра Алова я взялась поговорить с Александром Исаевичем о возможном договоре. Увы, мы хорошо понимали, что сейчас фильм по Солженицыну никто не разрешит, однако это был именно тот случай, о котором упоминал Аксенов‚ – на стадии заключения договора нас не контролировали, а аванс автор мог не возвращать, даже если картина не состоялась. Для материально не благоденствующего, запрещенного писателя это было благом в то время. А там, полагали мы, глядишь, и наступят другие времена. С Александром Исаевичем мы встретились, договор подписали.
Следующая встреча случилась у нас в Переделкине. Это было зимой. Дома были в сугробах, снег чуть подтаивал, на дороге слякоть мешала езде, машины буксовали. Мы знали, что Солженицын скрывается на даче Корнея Ивановича Чуковского, тщательно оберегаемый хозяином. Позднее он довольно долго жил у Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Его пребывание там описано подробно в книге Галины Павловны.
Сохранилась фотография Андрея и Александра Исаевича, довольно удачная. Когда открылся Дом русского зарубежья, я отдала ее Наталье Дмитриевне, вдове Солженицына, директору музея.
Был момент нашего пересечения, который оставил след в поэзии Андрея.
Итак, Корней Иванович позвонил мне в Дом творчества.
– Зоя, не собираетесь ли вы в Москву?
Живя там, я часто бывала у него в гостях. Началось с того, что он прочитал мою монографию о Вере Пановой, похвалил и пригласил на дачу. Потом он дарил мне свои книги, и «Чукоккалу», в которой были и стихи Андрея. Очень памятен был вечер в его доме с приехавшей из Сан-Франциско Ольгой Андреевой-Карлейль – внучкой Леонида Андреева, художницей и писателем, которую Корней Иванович знал еще ребенком.
– Собираемся, – ответила я, – пытаюсь завести машину. А что?
У меня был жигуленок третьей модели, исправно бегавший уже не первый год, водитель я была классный.
– Не добросите ли моего жильца до столицы?
Мы с трудом въехали на дачу Чуковского, а на обратном пути забуксовали. Непролазные сугробы перекрыли дорогу. Андрей с Александром Исаевичем толкали машину, я выворачивала руль, делала раскачку. Александр Исаевич толкал основательно, деловито, как привык исполнять всякий физический труд. Вспомнилась основательность, с которой работал Иван Денисович в повести одноименной. Андрей толкал изо всех сил, был он тогда тощим, не особенно сильным, но чрезвычайно храбрым в каких бы то ни было физических столкновениях и как петух врывался в середину дерущихся и тогда обладал недюжинной силой и стремительностью, а главное, его внутренний нервный аппарат и желание победить и первенствовать – оно как бы придавало ему еще силы. Он рассказывал несколько случаев, когда брал верх над людьми увесистыми, с мускулами, потому что был ныркий, ловкий и, обегая вокруг, вот как слон и моська, доставал противника. И вдвоем они вытолкнули машину, конечно, испачкались, потом пришлось немножко почиститься‚ и я вместе с ними враскачку, сидя за рулем, вперед-назад, все-таки вырулила машину‚ и мы поехали в город. Жаль, не могла это заснять, была бы неслабая фотка. Стихотворение Андрея об этой истории, которое он посвятил мне, заканчивалось строчками: «…Он вправо уходил, я влево, дороги наши разминулись».
В город мы ехали почти молча. Я из-за задержки очень торопилась, потому что время было потеряно, мне казалось, что он спешит‚ и, честно говоря, и мы спешили тоже, какая-то была впереди встреча‚ и не хотелось, чтобы люди ждали. Но в какой-то момент я, видимо, ехала слишком быстро, а я вообще по натуре гонщик, и Александр Исаевич стал нервничать и попросил ехать тише. Пытаясь успокоить его, я похвасталась, что вожу машину в таком режиме с 18 лет, всегда безаварийно, волноваться не стоит. Солженицын отреагировал жестко: «Зоя Борисовна, я не для того претерпел все: и тюрьму, и лагерь, чтобы из-за вашего лихачества или случайности рисковать жизнью. Езжайте осторожнее, пожалуйста».
Осторожнее так осторожнее, я сбросила скорость. Мы дотянули до Москвы, ни о чем не спрашивая. Подъехав к Арбату, Александр Исаевич внезапно тронул меня за плечо и попросил: «Высадите меня здесь. Когда я пойду, не оглядывайтесь. Не хочу, чтобы знали, куда я направлюсь». Сухо поблагодарив, он попрощался со мной и Андреем и вышел. Мы застыли, ошеломленные. Минут десять не решались двинуться с места. Тогда я подумала, что в человеке, прошедшем ГУЛАГ, всю жизнь не исчезнет зэк. Конечно же, и в мыслях у нас не было запоминать его передвижения. Нам рассказывали, что и в США, в Вермонте, Александр Исаевич оградил свою усадьбу высоким забором с проволокой.
Жизнь в других кинообъединениях складывалась ненамного благополучнее. Правда, авторитет крупных мастеров старшего поколения: Ивана Пырьева, Григория Александрова, Михаила Ромма, Григория Козинцева, Александра Зархи и других – помогал некоторым их лентам продираться сквозь частокол инстанций. К тому же у каждого из них часто срабатывал внутренний редактор, которого Александр Твардовский почитал опаснее, чем цензуру. Порой, не дожидаясь указаний, предугадывая возможные претензии начальства, мастер сам уродовал свое детище.
Некоторые писатели и режиссеры создавали повести-сказки и фильмы-сказки, что позволяло им иносказательно протаскивать запрещенные темы, расцвечивая фольклорными мотивами ткань ленты. Успех картин Григория Александрова и Ивана Пырьева был всенародным. Часто это был мастерски выполненный госзаказ на тему «Эх, хорошо в стране Советской жить!». В придуманном мире иногда творили и Любовь Орлова, и Марина Ладынина, и Сергей Лукьянов, и Николай Крючков – они были нашими тогдашними Кларками Гейблами, Мэрилин Монро, Жанами Габенами, Джуди Гарленд.
Когда началась горбачевская перестройка (1985), с полок сняли 50 (может‚ и больше) мосфильмовских картин. Увы, немногие из них выдержали испытание временем. Даже «Застава Ильича» Марлена Хуциева – культовая картина, ослепительно ярко-отразившая взрывной настрой, ликование поколения начала 60-х годов, или фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики» – душераздирающее прощание уходящих на войну, в никуда, восемнадцатилетних ребят – будучи показанными сегодня, в наше грубое время вседозволенности, оказались наивно-романтическими. Стерся пафос бунта против серости, ограниченности, ушел ассоциативный ряд.
Конечно, сказалось и качество съемок, сам способ показа. За прошедшие 40 лет технические и другие возможности кино ушли далеко вперед. И вот парадокс: сегодня, когда экраны заполнены насилием, стрельбой, ненормативной лексикой или разгулом секса, фильмы 40–50-х воспринимаются сказками с добрым юмором, бесконфликтностью, за которую мы их в то время шельмовали. Отбрасывая недостоверность общего смысла, зритель впитывал мастерство их создателей, панораму яркой зрелищности той счастливой жизни.
Во время хрущевской оттепели, когда еще не устоялась идеология власти в новых условиях, в хаосе осмысляемого и запрещенного смогли проскочить немногие смелые творения мастеров искусства. Даже после марта 1963 года, когда Хрущев орал на интеллигенцию, выгонял Андрея Вознесенского из страны и вопил: «Теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы!» – не так просто было повернуть процесс вспять, заглушить ростки вольности, проросшие во все сферы жизни и искусства.
Та встреча вождя с интеллигенцией, запечатленная на пленке, ныне может быть проанализирована и оценена по достоинству. Неостановимо было новое мышление; занесенный кулак Хрущева и протянутая им рука прощения тоже были веяниями нового десятилетия, когда громили, но не расстреливали, запугивали, но не сажали. Сотни тысяч вернувшихся из лагерей, жертвы сталинских репрессий, тоталитарного режима уже несли правду истории. Мы узнали такое, что, казалось, возвращение власти в тот строй и систему взглядов уже невозможно. Заблуждение развеялось, хотя и не полностью, в 1965 году, когда начался процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
В то же время иллюзия свободы заставляла нас продвигаться в запретное пространство вольницы, а власть, например, уже не могла закрыть «Современник» и Таганку.
Противоречивость эпохи отражалась и в странном поведении министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой. Бесконечные запреты, которые она озвучивала, ее попытка держать под бдительным оком личную жизнь каждого крупного художника, в особенности посланцев культуры за рубежом, ее смертельный страх перед «аморалкой», гневом Хрущева и ЦК неожиданно сменялись отвагой, желанием понять и защитить талант. Она рисковала, поддавалась интуитивным чувствам. Назначила бунтаря Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа, разрешила репетиции острых пьес Михаила Рощина, Михаила Шатрова, Александра Гельмана, в какой-то момент не дала снять Юрия Любимова с поста художественного руководителя Таганки (потом, правда, испугалась). Она способствовала и назначению Алова и Наумова руководителями нового объединения. Впоследствии некоторые художники (Майя Плисецкая, Людмила Зыкина, Григорий Чухрай) с благодарностью вспоминали о том, как она их защищала.
В конце 70-х стало очевидно, что идеологически «построить» два «новых» поколения советских людей, вкусивших оттепели и увидевших западный образ жизни, уже не удастся, уже невозможно. Именно эти молодые в середине 80-х, при горбачевской перестройке и гласности, рванутся в свободное плавание, решительно осуществляя замыслы, о которых мы в 60-х и мечтать не смели.
Появятся картины, далеко шагнувшие вперед‚ – «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, «Покаяние» Абуладзе, ленты о фашизме. После смерти Алова продуктивность в Шестом объединении резко упала, потеря соавтора и друга для оставшегося в одиночестве худрука долго мешала ему обрести форму.
С тех пор я часто встречала Владимира Наумова на чьих-то юбилеях, презентациях и, увы, похоронах. Седой, худощавый, высокий, он сохранил шевелюру, блеск глаз, подвижность и быстроту реакции. Он неизменно доброжелателен. Однажды я заехала к нему на «Мосфильм», захотелось побывать в комнатах, где сиживали 40 лет назад, увидеть, что сохранилось от того Шестого объединения. Разумеется, почти все неузнаваемо перестроено. Только насыщенная фотографиями, афишами, книгами приемная худрука напоминает о былом. И появившаяся сравнительно недавно книга «В кадре».
Нам не дано предугадать, достигнет ли нынешний российский кинематограф уровня тех былых шедевров. А наше содружество в Шестом объединении «Мосфильма» напоминает уже комету, которая, падая на Землю, теряет свой свет.
Часть вторая
Андрей
Предпервая глава
20 января 2016 года
Я иногда думаю о том, что моя привычка слушать радио, смотреть телевизор и читать прессу приносит мне другую информацию, отличную от той, которую я помню. Меня всегда поражает, что в освещение жизни Андрея Вознесенского, в некоторые воспоминания, вкрадывается такой большой процент мифологии. Когда человека уже нет и он не может ничего возразить и опровергнуть, люди начинают выдумывать многие вещи. Сейчас моей побудительной причиной рассказать какие-то истории об Андрее, свидетелем которых я была, является желание передать свою версию случившегося, а вовсе не опровергнуть.
Для меня интересен сам факт того, что неполучение желаемого вызывает в человеке сильное желание домыслить, вообразить. Меня это никогда не задевало… хотя, конечно‚ задевало, раз я через столько лет про это вспоминаю. Но чувство юмора всегда стирало обиды. У меня очень сильное и не раз спасавшее меня чувство юмора и умение смеяться над самой собой. Я могу посмеяться и над тем, как выгляжу‚ и над тем, что говорю.
К таким историям относятся рассказы некоторых женщин, которые прочитывали поступки и рассказы Андрея совершенно не так, как это было на самом деле. Мне кажется, что они и сами понимали, что это не так, но самоутешение и желание восстановить свое достоинство в этих историях всегда превалировали. Я никогда не комментирую подобные вещи, так как считаю, что если человеку удобнее и приятнее так думать, то пусть он так и думает.
Как-то раз мне так позвонила женщина и стала кричать в трубку, как я смогла его приворожить, ведь он не мог меня полюбить, у меня ребенок, возраст старше и что-то еще. Я это абсолютно спокойно выслушала и после паузы сказала: «Девушка, неужели вы думаете, что, сделав такой звонок, вы что-то измените и вам станет лучше? Вы могли эти 10 минут потратить на что-то другое. Эти 10 минут – они неповторимы, они больше не повторятся в вашей жизни, а вы их истратили на то, чтобы сказать гадость, чтобы отомстить. Вы разрушаете не мою жизнь такими звонками, вы разрушаете свою жизнь».
Моя жизнь с ним мне всегда казалась абсолютно отдельной от того, что говорят там, за чертой. Я могу сказать одно: меня никто никогда так не любил, как Андрей. Но ведь любовь не только в том, что ты не глядишь на кого-то другого, что не участвуешь в чьей-то другой жизни. Он хотел быть со мной всегда, не мог расставаться со мной даже в командировках. Это было тяготение, желание быть с этим человеком, которое невозможно обмануть, невозможно подделать. Я не говорю сейчас о последних годах, когда он так тяжело болел. У него было ощущение, что если я дома, с ним, то на свете все хорошо, что бы ни случилось в это время. Это внесло свои ограничения в мою жизнь, но это чувство было взаимным.
Я никогда не сетовала на то, что он болен и я вынуждена так много и постоянно им заниматься. У меня никогда не было ощущения досады или обиды. В любом качестве, в котором он существовал, быть с ним я считала счастьем. Не важно, что я делаю: ищу способы избавить его от боли, пересаживаю или перестилаю ему постель. Именно к концу жизни к нашим отношениям примешалась полная необходимость друг в друге. Главное, конечно, это было общение. Если у него что-то случилось, кто-то позвонил и что-то рассказал, у него была острая необходимость разделить это со мной, поведать мне. Какие-то составляющие нашей любви с течением болезни ушли, но вот это тяготение, эта необходимость в постоянном общении друг с другом стали еще сильнее.
Аня Саед-Шах [17] вспоминала об одном из своих интервью с Андреем. Она спросила его про других женщин, ведь, конечно, он ими увлекался, а он ответил: «Зоя – это моя жизнь». Это сказано в том смысле, что, если бы я ушла первой, не знаю, как он бы себя повел. Если он меня «терял», пусть даже на два дня, потому что я чем-то другим была занята, он не мог в это время существовать. Он не мог отделиться от меня даже в те два раза, когда я полностью исчезала из его жизни. Для него это всегда кончалось полной трагедией, абсолютным безумием.
Он относился ко мне трогательно нежно и тревожно, что очень сильно отразилось на его стихах. Не обязательно они посвящены мне, он мог даже быть увлечен другой женщиной в тот момент, все равно строчки пропущены через его существование со мной. Я же могла от него отделиться, только если появлялся какой-то интерес в работе, в общении с другими людьми. Но когда мы уже встречались, носами потерлись друг об друга, я обязательно отчитывалась, все ему рассказывала, где я была и что делала.
Когда он заболел и лишился возможности жить полной жизнью, для меня вдвойне стало важно все ему рассказать, чтобы он через меня мог прочувствовать, понять. Таким образом я восполняла его невозможность жить полной жизнью. Иногда я даже специально шла в какую-то компанию, в которую не очень хотела идти, для того чтобы ему потом рассказать.
Я вдруг читаю в какой-то газете, как один из актеров театра (кажется, Маяковского) говорит, что бриллиант песенного творчества Раймонда Паулса – песня «Миллион алых роз», – связана с тем, что Вознесенский был в это время влюблен в Людмилу Максакову и ей написал эти стихи. И что сама Людмила ему об этом говорила. Я не вступаю ни в какую полемику на эту тему, ни с Людмилой, ни с этим актером. Но несколько человек меня почти вынудили рассказать историю создания «Миллиона алых роз». Расскажу два эпизода и все, что я про это знаю.
Что касается Максаковой, то‚ говоря об увлечениях Андрея, я уже много раз говорила и про нее. Рассказывала и про то, что все женщины поражались тому, что Андрей в какой-то момент просто сбегал от них и уже никогда не возвращался. Они не понимали, что увлечение длится недолго, что он исчезал в ту минуту, когда они переставали быть объектом его вдохновения.
Мне он всегда говорил, что ревновать я его могу только к поэзии. А они всегда удивлялись, ведь еще вчера он был с ними, но вот его уже и след простыл. В каком-то смысле Андрей был слабым человеком, он не мог сказать в глаза человеку, что все кончено. У него было сверх меры деликатности, а по отношению к женщине – и чувства вины. А если у этой женщины начиналась какая-то агрессия по отношению к нему из-за этого, то она вызывала у него чувство брезгливости.
Я не помню, чтобы он с кем-нибудь когда-нибудь выяснял отношения, в этом смысле он был «трусом», поэтому всегда исчезал. Я это уважаю, потому что лично я создана совершенно по-другому. Я считаю, что справедливо сказать правду человеку, который меня любит или хорошо ко мне относится.
Мой первый муж Борис Каган должен был быть с моей близкой подругой Галей Рабинович, он предназначался для нее, но стал ухаживать за мной. Мне было ужасно стыдно перед ней, и я не нашла ничего лучше, кроме как усадить ее на стул и сказать, что‚ Галя, давай не будем на него рассчитывать, что мне это не нравится. Я всегда брала на себя откровенность и раскаяние, я никогда не врала и не пыталась скрыться. Я никогда не юлила, а говорила так, как есть, даже если меня вызывала на какие-то разборки власть.
Итак, история про «Миллион алых роз».
Несколько лет подряд мы отдыхали в Пицунде, мы очень любили это место. Там с нами бывал Зураб Церетели и много кто еще. Однажды нас там даже с Сусловым познакомили. Мы шли возле дачи Суслова, и Шеварднадзе [18] увидел, как мы с Андреем гуляем, и спросил у Суслова, знает ли он поэта Вознесенского лично. Суслов ответил, что лично не знает, на что Шеварднадзе предложил нас пригласить и тут же нас выхватил с прогулки и познакомил. Все это длилось буквально минуту.
И вот мы живем в Пицунде, и в какой-то момент раздается звонок Люды Дубовцевой [19], которая очень любила стихи Андрея и все время отмечала его дни рождения на радио «Маяк». И вот она звонит и говорит, что сейчас находится в Латвии, и Раймонд Паулс дал послушать одну прекрасную мелодию, которая ей безумно понравилась, и Раймонд хочет, чтобы Вознесенский написал на нее стихи. Что это было бы для него счастьем.
Я прослушиваю мелодию и понимаю, что она потрясающая, а у меня, во-первых, абсолютный слух, а во-вторых, музыкальное образование. Я восхитилась загадочностью и мелодичностью этой музыки. Андрей согласился, но он впервые писал текст уже для готовой музыки. Рядом с нами тогда была Грузия, и Андрей очень хотел написать про Пиросмани, его живопись всегда глубоко сидела в нем. Как обычно, он запал и с головой ушел в работу.
Через несколько дней он мне показал текст, я попробовала подобрать мелодию на пианино, чтобы сопоставить текст, и мы сразу же отправили его Людочке. Она пришла в восхищение и отдала все Раймонду, и завертелось-закрутилось. Мы впервые услышали эту песню в исполнении Аллы Пугачевой. Это был концерт в «Лужниках», где она, сидя на качелях, поет «Миллион алых роз» [20].
Такого успеха не имела ни одна песня в то время. Разве что песни военных лет или гимн. Успех был запредельный и перекинулся далеко за рубеж. Многие рассказывали нам, как слышали ее в ресторанах Европы и Америки, где ее перепевали на других языках. Артур Миллер [21] рассказывал нам, что слышал ее в Америке.
А у нас с Андреем был такой случай. Мы были в Японии (я туда выбралась с трудом из-за своих подписей и других дел)‚ и для нас как для почетных гостей устроили прием в крупном ресторане Токио. И каково же было наше изумление, когда мы услышали молодую японку, которая вместе с оркестром пела «Миллион алых роз».
Я спросила у сидящих за столом, знают ли они, чья это песня. Когда я сказала, что это стихи Андрея, началось что-то невообразимое. Певица потом позвала нас на ужин, подарила Андрею огромный букет роз и смотрела влюбленными глазами. Позже мы ее встретили уже в японском посольстве на приеме в Москве, она специально отправила нам приглашение, и Андрей также подарил ей огромный букет роз.
А вот Алла Пугачева никогда не любила эту песню. Почему, я не знаю, возможно, потому‚ что она стала для нее клише, штампом, и по собственному желанию она очень редко ее пела. Последний раз она спела ее на юбилее Андрея, на его последнем юбилее, который устроили в театре «Мастерская Петра Фоменко». Тогда она сказала, что никогда не забудет этот период своей жизни и их дружбу с Андреем. Она меня спрашивала, что спеть‚ и мой ответ был однозначным: «Андрей будет счастлив, если ты споешь „Миллион алых роз“». И это был последний раз, когда я слышала эту песню в живом исполнении и видела слезы на щеках Андрея. Это были и печаль, и восторг, и жалость к самому себе, к тому, каким он был, когда писал эти строки. Вот это и есть история создания этой песни и ее судьба.
Какое-то странное любопытство к другой жизни, но абсолютно не с точки зрения быта, сплетен или уклада личной жизни, любви, меня всегда притягивало бессилие человека или‚ наоборот‚ его непонятная магическая сила выполнить свое предназначение на земле.
Каждому человеку отпущены какие-то таланты, но один реализовывает их полностью, а другой просто не приспособлен к действию. Мой талант – в общении с людьми. У меня есть странное, но счастливое свойство – я почти никогда никого не выбирала сама, не пыталась увлечь собой или познакомиться, всё всегда происходило случайно. Я не помню, чтобы попросила познакомить с кем-то или просилась попасть на какую-то тусовку или прием. Этого никогда не было. Мне выпадало – и я выбирала. Или судьба, или это ангел надо мной какой-то. Хотя я человек нерелигиозный.
Я помню, как я забыла сумочку в Париже в автомате, и бежала на тоненьких каблучках, которые впивались в раскаленный асфальт. Добежав, увидела, что все висит нетронутым на крючочках, и, найдя свой паспорт, сумку, я долго не могла понять, что это наяву, не во сне, что я это все не потеряла.
И другой раз, когда я ехала за рулем в Шереметьевское. Праздновали какое-то событие – мама, папа, а я была не в состоянии вовремя доехать и мчала по шоссе в Шереметьевское, где была наша летняя дача, в полной темноте, опаздывая. Для меня опоздание, неисполнение обещания или что я кого-то заставила волноваться или ждать непереносимы, этим очень многое объясняется в моей жизни. Когда я уже проезжала Долгопрудный, станцию, пруд на Савеловской дороге, из-за поворота бесшумно вырулил мотоциклист. Он, чтобы скостить путь, естественно‚ вырулил на левую полосу, по которой с бешеной скоростью ехала я. Когда я услышала этот шум, тормозить ни ему, ни мне было абсолютно невозможно. И я поняла, что сейчас под моей машиной умрет этот человек, – он был без каски, без всего. И в этом шоке я все-таки вывернула руль на пять сантиметров и проскочила мимо него. Я больше никогда его не видела. Но когда он остался позади, притормозила на обочине, сбросила руки с руля, откинула голову на сиденье и сидела не дыша еще полчаса, опаздывая, ни о чем не думая, а только понимая, что жив он, жива я, что ничего не случилось, и эта беспредельная опасность – убить или покалечить другого человека – прошла мимо меня.
Вот так же случайно создавалось мое единение с Андреем Вознесенским и наша долгая, счастливая жизнь, несмотря на обстоятельства, окружавшие нас, даже такие‚ как крик Хрущева, когда я не была еще его женой, но была близким другом.
И все отношения мои с Андреем Андреевичем у меня складывались действительно так: я его никогда не удерживала, отпускала не потому, что считала это правильным, а потому, что иначе не могла. Я всегда отвоевывала кусок своей жизни, свое право на общение с кем-то, на восприятие меня как отдельного человека, другого немножко, чем Андрей.
Характерно, что у меня почти нет фотографий с Андреем вместе в конце его вечеров, когда он буквально облеплен восторженными поклонниками его таланта, – я уходила или за кулисы, или в зал, чтобы дать ему возможность получить наслаждение от того, что мне было не так интересно; я хотела отпустить его для его счастья быть самим собой, любить аплодисменты, бесконечные похвалы, облизывания в прямом смысле в желании дотронуться до его одежды, погладить его волосы, плечи, пустить его в ту ауру, которую он заслуживает и которая во многом тоже питает его творчество.
Это отпускание Андрюши в то пространство, где ему нравилось, где он мог быть счастливым, где‚ может‚ напишется что-то‚ – это состояние его воодушевленности я берегла как зеницу ока. И, может, за это мне воздалась его, не буду говорить даже любовь, а просто абсолютная приверженность мне.
Так складывалась моя жизнь. У Ларисы Максимовой есть слова в книге «Великие жены великих людей», что я «шла по своей орбите». Я всегда воспринимала себя как отдельного человека, поэтому долго сопротивлялась, когда Максимова сказала мне, что интервью со мной будет помещено в этой книге. Я ей говорила: «Ну почему жёны? Ну напишите „великие женщины“», – но вышло так, как лучше было для продажи книжки.
Кира Прошутинская, с которой я соприкоснулась во время съемок четырехсерийного фильма А. Малкина «Андрей и Зоя», вела на ТВ программу «Жена», и я, будучи такой вредной и такой неприятной сволочью, как я про себя иногда думаю, не могла заставить себя дать ей интервью в этой программе. Я всем говорила, что я не «жена», но я не могла объяснить, почему я так говорила. Я была, может быть, лучшей женой, которую можно представить, и не только с Андреем, но еще и для двух мужчин, которые были моими мужьями до него, но я никогда не ощущала этой своей роли – полностью быть женой, хотя я ухаживала, беспокоилась.
Я очень сочувствующий человек, очень переживающий и очень наблюдательный. Я всегда вижу‚ как человека травмируют слова, чей-то жест. Это мое главное свойство – знать, что человек ощущает, что делает его счастливым или несчастным. Могу ли я что-то изменить в его сознании или поведении, чтобы ему было комфортно жить на этом свете? Особенно сильно это было по отношению к Андрею.
Мы поженились сразу после крика Хрущева и полной изоляции Андрея в обществе. Я уже рассказывала, что те люди, кто раньше, когда он оказывался на улице, в саду‚ перебегали дорогу, чтобы прикоснуться, взять автограф, высказать почтение; эти люди теперь, идя по тротуару с другой стороны, делали вид‚ что не узнали его, и потихонечку сворачивали, чтобы не здороваться, не увидеться и не проявить свое полное неумение помогать чему-либо, кроме насыщения своего восторга, своего любопытства, когда человек на вершине.
Как описать тогдашнего Андрея? Если грубо, это было то, что пишет Гоголь о Хлестакове: «соплей перешибешь». Это было абсолютное несоответствие его глаз, голубых, искрящихся, способных передавать дикую грусть и страдание и одновременно вдохновение‚ – казалось, что это романтический юноша вертеровского склада – и худющего длинного тела, выпирающего на тонкой шее кадыка. Обнимая его‚ появлялось ощущение, что ты его сейчас раздавишь и его косточки лопнут. Нас, как и многих в ту пору, свел Дом творчества «Переделкино». Андрей зашел в мою комнату и пригласил на чтение стихов. Потом он часто вбегал с цветами или смешными подарочками из Риги, какие-то смешные с розыгрышами изделия.
Позднее был такой случай. Андрей привез мне в подарок пару попугайчиков-неразлучников. Это были существа необыкновенного оперения, радость от одного взгляда на них была несказанна. «Если один умрет, второй не может без него жить»‚ – сказал он, уже выбегая.
В ту пору внизу, на первом этаже Дома творчества‚ жил тяжелобольной поэт Михаил Светлов. Он уже не поднимался наверх и вообще почти не выходил из комнаты. И вот вдруг однажды кто-то заскребся в в дверь моей комнаты‚ и вошел Светлов. Я ахнула. Стала суетиться, двигать ему кресло поближе к двери, но он отмахивался, посидел молча, сказал пару фраз, я уже не помню, о чем‚ и вдруг произнес: «Я, пожалуй, пойду обратно, ха-ха. Знаете, Зоя, в вас влюблен поэт Вознесенский. Имейте в виду: это серьезно». Он хитро прищурился. И было непонятно, как это понимать. То ли надо опасаться этого, то ли, может, это и не так, потому что поверить поэту нельзя, во всяком случае, я была поражена скорее не тем, что он сказал, а тем, что это сказал Он, тем, что это был именно тот повод, ради которого он поднялся.
Глава 1
Оза
18 декабря 2011 года
Когда однажды, в 1963 году, поэт Андрей Вознесенский постучал в дверь моей комнаты в Доме творчества в Переделкине и принес цветы, я была удивлена, но спокойно его выслушала. Он сказал: «Я завтра вечером выступаю в Доме творчества, буду читать стихи, мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли». Я, конечно же, согласилась, но не могла понять, почему он решил персонально пригласить именно меня.
В то время его слава в нашей стране была уже оглушительной. И не только в нашей – он летал в Америку, имел там успех. Вознесенский был номер один, несмотря на славу Евгения Евтушенко, который всегда был лидером по характеру, а Андрей – антилидер. Но был особый состав общества, читателей, которые предпочитали Андрея. Ему поклонялась молодежь, он был тем светочем, в руках которого зажегся огонь. Такая верность его таланту оставалась до конца его жизни и осталась поныне, молодежь приходит до сих пор ко мне 12 мая, когда я устраиваю день его памяти в Переделкине. Все это я рассказываю для того, чтобы показать полное наше несоответствие, мы были далеки друг от друга, несмотря на общий писательский круг.
Я не шумный, не компанейский человек, а кошка, которая гуляет сама по себе. Наверно, я неосторожный человек – могу сказать правду даже тогда, когда эта правда для меня опасна. Я член Шестого творческого объединения писателей и киноработников на «Мосфильме». Я работаю в Комитете по Ленинским и Государственным премиям. Мне 38 лет. У меня муж, сын Леонид. Ничто в моей жизни, в моем тогдашнем облике и поведении не говорило о какой-либо особой любви к поэзии. Если честно, я плохо знала ее. Да, конечно, Ахматова, Блок… но почти не знала Пастернака, Мандельштама. Что во мне могло привлечь Андрея? Да, я тогда уже дружила и с Василием Аксеновым, и с Робертом Рождественским, круг Андрея был мне знаком. Но не более. И все эти два года, что длилась наша просто дружба, я пыталась объяснить себе, почему его так влечет ко мне?
А потом постепенно стало вырисовываться, что он придумал образ совершенно другой женщины – не той, какой я считала себя, какой меня считали другие. Другие думали, что я очень смелая, в школе все знали, что я могу ночью пойти в страшный овраг, могу плавать в шторм, могу постоять за себя, я верный друг‚ но вокруг меня и в моих поступках никогда не было ореола романтизма.
В какой-то момент я осознала, что Андрей настолько не привык к нормальному, взрослому поведению, к внутренней свободе, которая всегда была во мне, что именно это вызвало его внутреннее восхищение и вместе с тем страх за меня, понимание, что такая самостоятельность опасна. Первый порыв его души – стремление меня защитить. Оказывается, даже во время жуткой ситуации после дикого крика Хрущева он переживал еще и за меня.
В книге Василия Катаняна – младшего я прочитала много лет спустя слова Андрея: «Казалось, что нужно защищать меня. Но на самом деле нужно было защитить Зою, потому что я ужасно боялся, что гонения могут начаться и на нее». Это его чувство, что меня нужно оберегать, удерживать, что я‚ не дай бог‚ куда-то денусь или со мной что-то случится, не давало ему покоя. Это было всегда, с первых его стихов. Он всегда меня защищал, в каждой строчке. Поэма «Оза» – романтический, поэтический ураган его помешательства на мне.
К тому времени по Москве уже вовсю ходили слухи о нас, уже публиковались его стихи, в которых без труда угадывалось, что они посвящены мне. Пересуды для меня невыносимы вообще, я не любила и не люблю, когда обо мне говорят, а уж когда обсуждают мою личную жизнь – абсолютно нетерпимо. Но для Андрея, наоборот, публичность его чувств – это была его поэзия, что для меня было совершенно невозможным.
Он впервые читал «Озу» в Большом зале Консерватории имени Чайковского и, как я узнала позже, сказал моей приятельнице Ире Огородниковой: «Приходи и сядь рядом с Зоей, потому что ей может быть плохо». Там были Рихтер, Нейгауз – люди, которые собирались у Пастернака и восхищались стихами подростка Андрея. После выхода поэмы «Мастера» Борис Леонидович написал ему: «Я счастлив, что дожил до вашего восхождения и успеха… Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро». И вот этим людям, всему залу он читал «Озу».
Это было не просто публичное признание в любви, а почти обожествление меня. Для меня это было ужасно, потому что я замужем, у меня ребенок, я нормальная женщина из нормальной семьи. Мне было очень стыдно, я была в ужасе оттого, что все вокруг понимают, о ком речь.
Я не представляла и не представляю, как можно публично говорить такие интимные вещи. Как можно меня подставлять, замужнюю женщину, сидящую в 5–6-м ряду. И на глазах у людей, которые уже знали меня, про меня. И вдруг это прилюдное обнажение нервов, это оскорбительное, как мне казалось, выдавание посторонним людям того, что есть только наше или только его чувство. Вот как оно может быть разделенным, если впервые сказано на зал в тысячу человек? На этих вот этапах, подступах к тому, что стало потом нашим соединением уже на всю жизнь, это еще было возможно. Но никогда – когда я стала уже женой.
Тогда люди кричали: «Ты с ума сошла! Ты бросаешь семью, любовь, благополучие, ребенка и уходишь к поэту, который сегодня любит тебя, а завтра он полюбит что-то другое. Ты – всего лишь объект его увлечения, объект поэзии, но ты не есть живая женщина, которую он будет любить, которой он будет помогать и которой он будет, условно говоря, подавать стакан воды, если она болеет».
А я отвечала: «Я прожила 12 лет в одной жизни. Вы говорите, что год, и он меня бросит? Значит, год я поживу другой жизнью».
Конечно, мой внутренний, скрытый, усыпленный авантюризм, желание риска, желание абсолютной смелости идти на рискованные поступки – были во мне всегда. И еще: была невозможность бросить его на этой стадии, когда он истончался, истаивал, и меня уже врачи вызывали, говорили, что я гублю великое поэтическое явление современности и что я буду нести ответственность. Эти разговоры, конечно, только могли подтолкнуть к чему-то, но на самом деле решили всю невозможность жить после публикации этой поэмы, невозможность существования прежней семьи. Стихи как будто материализовались, поэма «Оза», собственно, и стала последним поводом моего разрыва с прежней жизнью. Но конечно, не с сыном, поскольку я ни на одну минуту с Леонидом не расставалась. Муж, Борис, вел себя очень благородно. Чем был наш разрыв для него – не буду, не могу. Не имею права говорить.
Поэма началась с того, что однажды он сказал: «Я еду в Дубну, не хочешь ли ты сделать вступительное слово на моем вечере?» Я почти сразу же согласилась.
Дело было еще и в том, что я тогда была замужем за Борисом Каганом – известным ученым, конструктором, доктором наук, лауреатом Сталинской премии. Его младший брат Юра Каган – физик-теоретик, впоследствии – академик, действительный член Российской, Европейской, Венгерской и Германской академий наук. Он и доныне главный научный сотрудник Института сверхпроводимости и физики твердого тела. Так что многие наши друзья, знакомые – люди из мира науки, физики, я была знакома с Игорем Таммом, Яковом Смородинским, Львом Ландау, другими великими.
Сама по себе Дубна, Объединенный институт ядерных исследований – отдельная повесть, отдельная книга. Дубна была островом свободы, ареной поисков, дискуссий и споров, открытого обмена мыслями и мнениями, потому что физики ощущали себя особыми людьми, в определенной степени независимыми от идеологии и партийной пропаганды.
Интеллектуальная раскрепощенность ученых, атмосфера свободной мысли привлекала в Дубну поэтов, артистов, режиссеров, бардов. В некотором роде получить приглашение на выступление в Доме ученых считалось неким знаком отличия, признания. С другой стороны, и дубнинцы жадно тянулись ко всему тому, что происходит в художественно-литературном мире Москвы и Ленинграда. В Дубну приезжали Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Арсений Тарковский… Молодые физики устраивали в коттеджах так называемые квартирники – там пели Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Юлий Ким…
Более чем показательно, что Андрея Вознесенского пригласили в Дубну уже после кремлевского разгрома, устроенного Хрущевым. Многие тогда сторонились, опасались испортить карьеру общением с опальным человеком. А Дубна – официально пригласила, устроила творческий вечер в Доме ученых.
Потом Андрей в одном из интервью говорил: «Были еще ядерщики и прочие оборонщики, которые купались в государственной любви, которые были элитой в греческом смысле – культуру знали, за поэзией следили, жили пусть в закрытых, но теплицах… Физикам больше присуща умственная дисциплина, гуманитарий разбросан, пугливое воображение… Физик – другая организация ума и другая степень надежности. В общем, я не видел в жизни лучшей среды».
Я писала о физиках и, конечно же, обрадовалась возможности побывать в Дубне, в знаменитом Институте ядерной физики, увидеть своими глазами Бруно Понтекорво и Дмитрия Блохинцева, увидеть синхрофазотрон… Потом я написала повесть «…И завтра», ее опубликовали в журнале «Знамя», перевели и издали за границей. Конечно, все, что относилось к сути дела, науки, открытий, я переиначила, придумала, но цензура, разумеется, бдила. Корректуру послали на отзыв академику Сахарову, и Андрей Дмитриевич написал: никаких секретных материалов здесь нет, а есть некоторые данные, которые опубликованы уже в научной печати.
Все это будет потом, в 1967 году. А тогда мы с Андреем поехали в Дубну, в Институт ядерной физики. Хочу особо отметить: это был не личный какой-то междусобойчик, я официально поехала туда читать вступительную лекцию по направлению Бюро пропаганды художественной литературы – была такая мощная контора в системе Союза писателей.
Публика уверена, что там и возник наш роман. Но никакой близости не было, это была предыстория нашей любви. Там родилась его поэма «Оза», которая, после вступления, начинается строчками:
- Женщина стоит у циклотрона —
- стройно,
- слушает замагниченно,
- свет сквозь нее струится,
- красный, как земляничинка,
- в кончике ее мизинца,
- вся изменяясь смутно,
- с нами она – и нет ее,
- прислушивается к чему-то,
- тает, ну как дыхание,
- так за нее мне боязно!
- Поздно ведь будет, поздно!
- Рядышком с кадыками
- атомного циклотрона.
У него было абсолютно ложное чувство, что я все время в опасности, что меня надо защищать. И так парадоксально случилось в нашей жизни, что его желание чувствовать себя сильным, волевым мужчиной, каменной стеной – столкнулось со страшной болезнью, которая последние 15 лет жизни сковала, ограничила все его возможности. Спасало лишь то, что он осенен даром стихосложения, что он пишет стихи.
Как он любил, чтобы я его собирала перед выходом на люди, тем более если предстояло выступать со сцены! Я ему подсказала: вот голубой пиджак сегодня тебе пойдет, а не серый. А он очень любил серый костюм, он его сам купил, но я смеялась, говорила: «Ты в нем выглядишь как старый большевик». Пиджак-то уже большой был, Андрюша страшно исхудал. Он соглашался, мы его переодевали. Лицо его всегда было живое, сохранялось до последнего, почти не было морщин, следов старости, громадные голубые глаза так аукались с синим пиджаком. Где бы мы ни были, перед выходом он обязательно просил: «Причеши меня», и я его всегда причесывала.
Про Андрея всегда говорили и писали, что он одет как денди. Он сто раз меня спрашивал перед тем, как ехать на съемку или на вечер, как он выглядит. Я должна обязательно одобрить или сказать, что рубашка не подходит к этому пиджаку, подобрать шелковые платочки, повязанные вокруг шеи, под рубашкой. Они стали неотъемлемой частью его имиджа. Ему всегда было тесно в галстуке, он считал, что галстуки – синоним официоза.
Он часто рассказывал, с чего началась его встреча с Рональдом Рейганом, президентом США, в его Овальном кабинете. Едва Андрей вошел, Рейган воскликнул: «Боже, какой на вас синий пиджак элегантный! У меня точно такой. Это Валентино?»
Признаюсь, меня эта сцена несколько коробила: это что же, глава великой страны и великий поэт из другой великой страны не нашли для начала разговора других тем, кроме обсуждения пиджаков? Но сейчас понимаю: во-первых, что было – то было, а во-вторых, они были нормальные живые люди.
Полгода прошло со смерти Андрея. Все те же почти неубывающие сны, воспоминания. Каждый день что-нибудь доводит до слез. Стоит кому-то произнести: «Вознесенский», и я не могу сдержать конвульсий. Почему нервная система оказалась так зависима от мыслей, от воспоминаний? Я этого не понимаю. Прошло уже полгода, надо бы научиться владеть собой, но удается с трудом. Я надеюсь, что хотя бы к годовщине у меня получится.
Из Министерства печати позвонил Владимир Викторович Григорьев, наш очень хороший знакомый, человек, готовый подставить плечо в тот момент, когда это необходимо. Сказал, что речь идет об увековечении памяти Андрея, об учреждении фонда Вознесенского.
Я вплотную занялась фондом его имени. Мой сын Леня мне помогает. Ведь фонд – это предприятие, как бы бизнес. Леонид, владеющий максимально прозрачным бизнесом, сам лично перелопатил все бумаги и документы, когда стал вместе со мной соучредителем Фонда Вознесенского. Сейчас таких, как Леонид, кто так безупречно ведет дела, – единицы. Леонид никогда не вмешивается в деятельность фонда, касающуюся творчества, он следит за всеми документами и платит львиную долю всех премий и гонораров.
Очень хочется сделать, создать… и хочется, и «не можется». Потому что любое восстановление его жизни, собирание книг, вещей для меня очень тяжело. Все время странное состояние, как в первые дни, – состояние психологического тупика. О чем ни думаешь, все время упираешься в одну мысль: уже не будет…
16 апреля. Прошел мой первый день рождения без него. Мне не хотелось никого видеть. Был только Леня. На следующий день мы пошли покупать мне подарок, я выбрала красивый синий пиджак.
12 мая его день рождения, 1 июня – годовщина, как мне пережить эти две даты… буду готовиться.
Он ушел на 77-м году жизни. И я уверена, что он еще спокойно мог жить с этими лекарствами лет десять…
Он понимал, что угасает, уходит. У него очень много пророческих стихов, строчек… «Спасибо, что не умер вчера». За несколько недель до кончины: «Мы оба падаем, обняв мой крест».
11 января 2011 года
Я не была на встречах Хрущева с интеллигенцией, не сподобилась быть приглашенной. В канун того дня, 8 марта 1963 года, Андрей позвонил и сказал: «У тебя нет, случайно, томика стихов Александра Прокофьева?» Я помнила, что был какой-то очень сильный и хамский наскок Прокофьева на кого-то в прессе‚ и поняла, что, наверное, Андрей что-то хочет процитировать на этих встречах с интеллигенцией, поэтому ему нужен этот том. Я знала, что будут эти встречи, что Андрей идет, и сказала пару каких-то напутственных слов, как говорят близкому другу, которого понимаешь с полуслова. Я с приятельницей в тот день пошла в один из кабинетов Дома актера на улице Горького, еще было живо то здание, там существовали кабинеты полунаучного свойства, где хранились стенограммы, пьесы, вырезки. Можно было туда прийти и добыть материал не только по текущим постановкам, но и по прошлому в истории театра. Это была рабочая часть Дома актера. Мы туда пошли за какой-то вырезкой, и‚ уже спустившись вниз‚ у раздевалки я наткнулась на Юрия Александровича Завадского. Он был в страшном волнении и смятении. Вдруг бросился ко мне. Хотя, естественно‚ я чтила этого необыкновенного режиссера, за которым еще шла слава красавца-мужчины, героя, который ездил на каждый спектакль Улановой в Петербург и возвращался потом к себе в театр. И вдруг я вижу его в таком смятении, вижу, что ему просто плохо, он в отчаянии. Он рассказал мне о встречах с интеллигенцией и добавил: «Вы представляете, он гнал Вознесенского с трибуны и кричал: „Уезжайте из нашей страны!“ Он гнал поэта из собственной страны! Представляете себе! Как это может быть?! И главное, что в зале никто ничего не предпринял, все вопили, кричали…» Он заткнул уши, лицо было в страдальческой гримасе, как будто бы этот вой звучал еще до сих пор в его ушах.
Таким образом, я впервые через час после этих встреч, еще до звонка Андрея, узнала о том, что было.
Можно себе представить мое состояние, когда только что вечером он говорил со мной. Я понимала, что все произошло не только по отношению к нему как таковому, что это вообще беспрецедентная мизансцена. И как после нее реагировать? Возьмут ли его и сразу арестуют после выхода из зала? Что у него конфискуют? Какова будет мера после такого страшнейшего публичного приговора главы государства? Высылок тогда никаких еще не было, первая произошла в 1974 году, когда выслали Солженицына.
Я немедленно кинулась к телефону разыскивать Андрея, понимая, что может случиться самое непредсказуемое и страшное. Я стала его искать. И не сразу его нашла, потому что он, конечно, скрывался. Но он сам позвонил мне через какое-то время. Позже я узнала, как он выходил из Кремля, как орали все. Кто был в зале, потакая и угождая Хрущеву.
Это был ярко освещенный зал, и кричащий, вопящий Хрущев – впоследствии это попало на пленку. Андрей мне рассказал, что он уходил в полной темноте, один шел по кремлевскому двору, и его нагнал поэт Володя Солоухин, что Андрей запомнил на всю жизнь.
У него Андрей прокоротал эту ночь. Он был после этого крика изгнан отовсюду, книги изъяты, имя вычеркивалось‚ и невозможно было даже цитату привести из его стихов. Помню, что в это время выходила моя вторая в жизни книга, монография о Вере Пановой. И туда я всунула его стихи «Плачет девочка в автомате» – то, что теперь поет Женя Осин и стало шлягером его группы, было впервые напечатано полностью в книжке о Пановой. Мы торжествовали потом, что цензура это не отловила и первая публикация появилась. Но об этом позже.
Кстати, второй публикацией стала его рецензия на переводы Пастернака, которая прошла в «Иностранной литературе», а остальное все было изъято. И‚ конечно, вырваться из этой репрессивной мясорубки, машины каждому, кто попал как объект гнева главного властителя, было невозможно.
Глава 2
Не ссоры
20 марта 2015 года
За все прожитые годы ссорились мы редко. Только по принципиальным поводам. А еще – когда ему хотелось делать то, что противопоказано его здоровью или его образу. Но было у нас несколько крупных размолвок – когда мы еще не поженились. Наша дружба началась задолго до того, во многих компаниях мы бывали вместе.
Дружба возникла очень давно, в переделкинском Доме творчества. Андрей уже носил мне бесконечно подарки, из Америки привез какие-то немыслимые сувениры, и все это было так трогательно. В это время у меня вышла вторая книжка – монография о Вере Пановой. Я очень любила ее как писателя, мне была близка эта прозрачная проза, обращенная не к крупным, трагедийным событиям, а к человеку. Особенно я любила повесть «Сережа». В этой книжке о Пановой я поместила стихотворение Андрея «Первый лед» – вначале без подписи, анонимно. Ведь после того совещания в Кремле, после ора Хрущева имя Андрея было запрещено даже для упоминания. Ни цензура, ни редактор не возражали против цитирования каких-либо стихов в моей книге, а уже в последней корректуре я вставила фамилию: Андрей Вознесенский.
