Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре
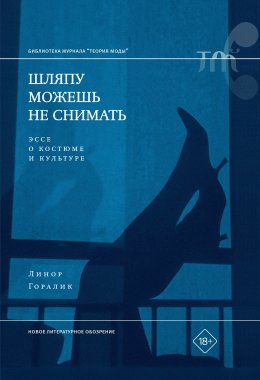
УДК 391:008
ББК 71.063.2
Г67
Составитель серии О. Вайнштейн
Редактор серии Л. Алябьева
Линор Горалик
Шляпу можешь не снимать: Эссе о костюме и культуре / Линор Горалик. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Библиотека журнала „Теория моды“»).
В книге Линор Горалик* собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
В оформлении переплета использована © Photo by Kathy Cat on Unsplash.com
ISBN 978-5-4448-2833-5
© Л. Горалик, 2025 © С. Тихонов, дизайн обложки, 2025 © ООО «Новое литературное обозрение», 2025
18+
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР ДЖУЛИЯ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР ДЖУЛИИ
От автора
Эта книга – сборник моих эссе на темы, которые я определила бы (с большим волнением и некоторым смущением) как «костюм», «культура» и «общество». Здесь объединены эссе за последние пятнадцать лет, выходившие в первую очередь в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура», сотрудничество с которым для меня – огромная честь и огромная радость и которому я исключительно благодарна за поддержку и доверие, – как благодарна «Новому литературному обозрению» и «Коммерсант Weekend»: тамошние эссе тоже есть в этом сборнике. Спасибо, дорогие коллеги: Людмила Алябьева, Ирина Прохорова, Елена Нусинова – вы придали мне храбрости и вдохновили на работу, на которую без вас я, скорее всего, просто никогда не решилась бы. И спасибо всем, кто был причастен к публикации этих текстов – кто редактировал и корректировал их. Я знаю свои недостатки и знаю, насколько лучше вы сделали в итоге мои исходные материалы.
Собирая эти эссе в единую книгу, я сделала две вещи: прошлась по ним с минимальной, но значимой для меня редактурой и разместила тексты в определенном порядке, отличном от хронологического. Главным элементом моей редактуры было подчеркивание собственных слабостей: я шла по текстам и терпеливо расставляла такие слова, как «мне кажется», «на мой взгляд», «наверное» и «создается впечатление, что…», везде, где (как мне кажется) я звучала слишком уверенно и директивно, – хотя выяснилось, что подобных слов и выражений в моих текстах, к счастью, и так немало. Это было очень важно сделать: мне хотелось всячески обозначить, что каждое мое эссе представляет собой не попытку убедить читательниц и читателей в чем бы то ни было, но попытку пригласить их к размышлению на предложенную тему. Я очень надеюсь, что мне это удалось.
Я разделила сборник на три части. В первую часть, «Мальчик в кофточке с пуговицами», вошли эссе, посвященные позднесоветским вестиментарным практикам и вестиментарным практикам ранней постсоветской эмиграции. Иными словами – это эссе о том, как люди справлялись с одеждой на излете эпохи СССР, в период его медленного и тошнотворного издыхания – и сразу после. Меня остро интересует эта тема – костюм советского и постсоветского «переходного периода» – и в двух других частях этого сборника ясно слышны ее отголоски. Вторая часть называется «Шляпу можешь не снимать» и объединяет несколько эссе, так или иначе связанных с разнообразными вестиментарными практиками: здесь собраны разговор об определенном типе антуража fashion-съемок, эссе о коммуникативной функции современного эротического костюма, и другие работы, связанные с бытованием костюма и его смысловым пространством. Наконец, третья часть книги – «Но ты, моя любовь, – ты не такая!» – это эссе на темы, связанные с культурными и общественными феноменами, интересующими меня: от маркетинга до критических онлайн-коммуникаций.
Тексты этой книги могут показаться очень разными, если смотреть исключительно на их подзаголовки, в высушенном виде обозначающие центральный тематический стержень каждого эссе. Но для меня все эти работы, в сущности, об одном и том же: о том, как частные лица каждый день решают частные проблемы, связанные с вестиментарными (а иногда – просто культурными) заботами. Я думаю, это единственное, что по-настоящему захватывает меня, что заставляет меня жадно расспрашивать, фиксировать, предпринимать попытки анализа и, наконец, писать тексты (а пишу я такие эссе мучительно, переписывая по десять раз и испытывая терпение редакторов повторными срывами дедлайнов из страха сдать ужасную, кривую, косую, бесконечно слабую работу). И здесь я хочу вернуться к благодарностям: огромное спасибо Людмиле Алябьевой, всегда поддерживавшей этот мой узкий интерес, всегда терпевшей мои «завтра сдам!» и ставшей инициатором этой странной книги. И не могу передать, как я благодарна моим информантам – тем, без кого были бы невозможны эти эссе, тем, кто писал и рассказывал мне о своем глубоко личном опыте, тем, кто доверял мне свои воспоминания, истории, впечатления. Невозможно перечислить здесь всех поименно, но я безмерно благодарна каждой, каждому, всем. Спасибо огромное.
Часть I
Мальчик в кофточке с пуговицами
Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года
В последний день ноября 1989 года я улетала из аэропорта Шереметьево-2, где у моих родителей навсегда отобрали советские паспорта, в настоящем джинсовом комбинезоне, надетом поверх связанного мамой свитера с рукавами летучая мышь, и в немыслимых, ненавистных зимних сапогах-дутиках – на два размера больше, чем мне нужно, потому что они перешли мне по наследству от сына друзей друзей родителей. Наши чемоданы старательно и брезгливо шмонали, и один шмонатель сказал другому: «Хрена себе у них какие шмотки!» Шмотки у нас были – купленные на рынках у рома, поляков, кооперативщиков, поддельщиков, – «набор отъезжающего», который ни при каких обстоятельствах не носили перед отъездом: лучшее, с муками добытое, предназначенное для новой жизни там – и выброшенное через полгода, потому что даже чистенькие поношенные вещи из даримых нам безымянных пакетов с помощью эмигрантам оказались в сто раз лучше всего этого бесценного, втридорога купленного богатства, по диковатости которого «русских» можно было углядеть за три километра на протяжении нескольких лет. Впрочем, несколько лет эти вещи, к счастью, не выдерживали. 1 января 1990 года мне пришло письмо от одноклассника из родного города: «Как ты? Уже освоилась? Можешь узнать, сколько стоит кожаная куртка?» Это была совершенно понятная и совершенно уместная последовательность вопросов: меня тоже интересовало, сколько стоит кожаная куртка.
Когда я начала расспрашивать знакомых (а затем и незнакомых) людей о том, что носили в 1990 году, мне немедленно стало ясно, что дискурс памяти здесь оказывается много интереснее дискурса фактов. Восстановление точной датировки в вопросе появления легинсов на территории позднего СССР может быть полезным и занимательным для историка, занимающегося проблемой того, как мировые модные тенденции просачивались сквозь дыры в ржавеющем железном занавесе (кстати, в опросе участвовала дама, утверждающая, что она была первым человеком, надевшим легинсы «по эту сторону [железного] занавеса»). Но для восстановления общей вестиментарной картины 1990 года мне кажется куда более интересным рассмотреть другие вопросы: каким тогдашний костюм предстает сегодня в памяти тех, кто его носил? Где и почему память, в ходе разговора на эту тему, «схлопывает» даты и подменяет одни понятия и факты другими? В каких терминах люди описывают одежду того времени? Какие эмоции вызывает сама эта тема? Как в 1990 году изменился вестиментарный язык – и как он изменился с тех пор? Оговорю заранее, что далее в тексте я буду опускать слова «по воспоминаниям моих респондентов», «в описании участников опроса» там, где речь идет о сухих фактах (в основном – о точной дате появления в тех или иных регионах тех или иных конкретных элементов костюма).
Нижеследующий текст есть описание реконструированного мира, и факт того, что этот мир именно реконструированный, ретроспективно исследованный, важен и принципиален: смещения и «схлопывания», подмены и контаминации оказываются главными элементами этого мира, его весомыми составляющими, из которых можно делать выводы куда более интересные, чем из подлинных фактов истории. Аналогичное явление характерно для работы психотерапевта: «что запомнилось» и «как запомнилось» зачастую оказывается важнее того, что происходило в жизни клиента на самом деле. Один из ста пятидесяти с лишним участников опроса писал вслед собственным ответам на вопросы моего интервью: «Внезапно я понял, что часть того, что я рассказал, относится к году, наверное, 89‑му, а что-то и позже происходило, но почему-то склеилось в один пельмень». Сам факт возникновения этой агломерации-«пельменя» крайне интересен: тема недифференцируемости 1990 года в вопросах о костюме (в отличие от проверочных вопросов о, скажем, заработках или политике, на которые респонденты часто отвечают довольно точно) всплывает примерно в каждом десятом интервью – вплоть до радикальных утверждений наподобие следующего: «Мои впечатления от того времени и примерно до 1998–1999 годов, что вообще никакой особой моды не было». Обратная сторона этого явления – очень точные ответы, твердо разделяющие 1990 год и годы последующие и предыдущие, обычно построены на привязке событий личной жизни к периоду обладания тем или иным конкретным элементом гардероба (тема «отдельного предмета гардероба» сама по себе является принципиальной и рассматривается ниже довольно подробно).
Этот текст построен на материале более чем полутора сотен интервью, частью (около сорока) – устных, в большинстве своем – письменных, полученных в результате проведения подробных опросов online (в основном посредством блог-сервиса LiveJournal). Подавляющее большинство опрошенных относится к так называемой «наиболее активной части населения»: за редкими исключениями (приблизительно 8%), в 1990 году они находились в возрасте 10–25 лет со вполне представительным распределением по возрастным группам (до 12 лет в 1990 году – около 20%, от 12 до 16 лет – приблизительно 30%, от 17 до 21 года – примерно 27%, старше 21 года – приблизительно 15%). Различие ответов в зависимости от возраста опрашиваемого само по себе оказалось интересным (о чем подробно написано далее). В качестве других разделительных линий можно назвать социальный статус отвечающего и регион проживания: большинство опрашиваемых жили в 1990 году в СССР, некоторые в настоящее время проживают за границей.
Двойственная эмоциональная окраска большинства услышанных мной воспоминаний крайне характерна (это, вероятно, будет прослежено и в других материалах данного номера) для воспоминаний о 1990 годе в целом: в этих нарративах, за редкими исключениями, нет ни однозначной ностальгии, ни однозначного неприятия: «Эх, было время! Вспоминать не хочется, но было и весело тоже». Амбивалентное отношение, как будет видно из дальнейшего материала, распространяется почти на любой аспект темы «одежда 1990 года»1: от значений одежды до возможности одеваться по желанию, от свободы в выборе костюма до «парадной формы». Такая двойственность образует поразительно точную рифму к двойственности, а то и к множественности смыслов, возникшей в тот момент в другом языке: языке самой одежды.
Отталкиваясь от часто применяемого в теории костюма подхода к наряду (outfit) индивидуума как к высказыванию, которое интерпретируется другими в рамках «языка костюма», общего для всех представителей данного среза социума (с очевидными оговорками касательно социального слоя, географической общности и ряда других параметров), можно говорить о том, что самым ярким, на мой взгляд, явлением в языке костюма 1990 года оказывается эффект «вавилонской башни», возникший почти на всем позднесоветском пространстве2.
Этот эффект возник в первую очередь по причине нарушения логики и временного цикла бытования одежды на всех социальных уровнях. Во-первых, традиционный для Советского Союза дефицит и связанные с ним практики ношения и приобретения одежды в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов приобрели крайние формы. В результате люди практически потеряли возможность следовать принятым и допустимым в той или иной среде вестиментарным нормам, совершать привычное «высказывание» на языке костюма. Во-вторых, новые источники приобретения одежды (например, увеличение числа тех, кто совершал поездки за границу) и новые ориентиры в моде (иностранные фильмы и телесериалы, распространившиеся в СССР западные каталоги готовой одежды – такие, как Otto и Neckermann, – и одежда тех же «выездных») привнесли в язык позднесоветского костюма принципиально новые средства выражения, которые часто фетишизировались и подвергались непредсказуемому переосмыслению по сравнению с исходной средой бытования. Эти «знаки новой одежды» были редки, им приписывалось особенно высокое значение.
В-третьих, в конце 1980‑х годов в СССР происходила «ползучая» отмена униформы. Постепенное ослабление неписаных требований к одежде в целом ряде областей социальных практик (отмена школьной формы; ослабление категорических требований к костюму на целом ряде предприятий; появление общественных деятелей-«неформалов», нарушавших все правила внешнего вида и поведения, ранее обязательные для «застегнутых на все пуговицы» советских функционеров) привело к резкому расширению возможностей языка одежды в тех областях советской жизни, где он был априорно редуцирован. Однако одновременно шел и противоположный процесс: терялись или размывались значения элементов одежды в случаях, в которых до того костюмные коды считывались совершенно автоматически, были привычными и понятными.
В-четвертых, стремление к свободе, к самостоятельному высказыванию в костюме (к этому, как и к любому проявлению нонконформизма, в советские годы относились крайне настороженно) привело в конце 1980‑х годов многих людей к проявлению большей индивидуальности в одежде, зачастую – подчеркнутому, даже вызывающему.
Все эти причины в совокупности привели к распаду общего «языкового» пространства костюма – а за этим у многих сформировались недоверие к любым костюмным кодам, общая неуверенность в том, что они адекватно считывают «высказывания» в одежде, совершаемые окружающими людьми, и страх перед тем, что окружающие не поймут их собственные «высказывания» (зачастую остро не устраивающие самих «носителей» костюмных кодов в силу ограниченности доступных выразительных средств – и ограниченности средств финансовых).
Мне не удалось найти более или менее подробных описаний того, как конкретно решали «проблемы коммуникации» строители этой семиотической «вавилонской башни» и, главное, как восстанавливалось взаимное понимание в первичный период исчезновения общего языка. Исчезновение же единого костюмного кода на позднесоветском пространстве запустило, на мой взгляд, долгосрочный (в некоторых аспектах – не завершенный и по сей день) процесс создания принципиально нового вестиментарного языка. Однако в первое время – в качестве реакции на распад – был быстро, но конвульсивно, с заметными социальными усилиями выработан необходимый для переходного времени «новояз», в некоторых отношениях очень редуцированный по сравнению с советскими временами, а в других, напротив, намного более богатый значениями.
Одним из методов сохранения коммуникаций в нарушенном языке костюма стала, по-видимому, острая зависимость от немногих сохранившихся общих «слов», выдвижение их на первый план, обострение и расширение их смысла. Например, таким важнейшим «словом» стало понятие «вкус» (чаще всего воспоминание моих респондентов о том, как в 1990 году в сознании людей активизировалась идея «вкуса», сопровождается тем, что и само слово «вкус» становится в ответах максимально «нагруженным»). Параметр «вкуса» можно было сохранить в костюме даже при крайней бедности и чудовищном дефиците. «Вкус в одежде» считывался как общее «послание», был сравнительно универсален и мог защитить от агрессии «новояза» тех, у кого не было возможности следовать моде. Он же был и способом самоограничения для тех, кто имел возможность пользоваться новыми выразительными средствами, но не понимал, как применять их на практике: «Ангорские пушистые свитера с люрексом и стразами на груди, которые были тогда просто писком и шиком, у нас дома считались моветоном»; «…я отбрыкивалась от лосин, от свитеров с люрексом и ободков на голову»; «…очень благодарна отцу за его хороший вкус. В моем гардеробе не было ничего вульгарного никогда…» (респондентку, в то время – подростка, «одевал» выезжавший за границу отец). Другим примером ужесточения смыслов немногих сохранившихся «слов» может служить лексикон «богатства» и «бедности», хотя и здесь случались ситуации сбоя, нарушения коммуникаций в силу того, что одежда и предметы косметики приобретались по случаю: «…морда в „Ланкоме“, а стрелки на колготках клеем замазаны». Ярчайший пример интерпретации сигнала «богатство/бедность» – следующая ситуация (респондентка и в 1990 году могла позволить себе одеваться по своему вкусу и выбору): «Как-то раз всей этой кооперативной тусовкой поехали в лес на турбазу <…> Было холодно и очевидно грязно, но обещали полный гламур и обманули, конечно, так что я, одевшись для леса, чувствовала себя в самый раз. <…> Зато были там две парикмахерши, прихваченные в последний момент для четности, – так вот они были в вязаных люрексовых платьях, кружевных колготках и на каблуках, и одна из них дружелюбно спросила меня: „Тебя привезли картошку чистить, да?..“». Эта тема – постоянного ношения всего «самого лучшего», вне зависимости от обстоятельств, – повторяется в воспоминаниях очень часто – в качестве необходимости делать свое «костюмное выказывание» понятным, пусть хотя бы по одному параметру.
Помимо привязанности к немногим сохранившим свои смыслы «словам» и «высказываниям» в костюме, в качестве метода сохранения коммуникаций нередко использовалось ужесточение используемого языка одежды, создание нерушимого, пусть и небольшого, пространства смыслов, внутри которого высказывания оставались понятными и легко интерпретируемыми. Естественно, такое пространство могло искусственно поддерживаться в основном внутри малых групп: «Законодательницей мод в нашей компании была девочка, которая косила под бизнесвумен. Она придумала дресс-код, отступление от которого считалось „вульгарным“. Носить можно было только короткие юбки или брюки и куртки. Длинные юбки, платья и длинные пальто/плащи были объявлены „вульгарными“. Краситься и носить золотые украшения, а также туфли на каблуках тоже было „вульгарно“». Здесь отчетливо видно построение этого малого, но легко «верифицируемого» смыслового пространства; существенно, что оно строится вокруг сохранившего понятность «слова» («вульгарность») и напрямую соотносится с уже затрагивавшейся темой «вкуса». Вот другое воспоминание о таком искусственно созданном групповом коде: «В сентябре 1990 года я перешла в новую школу в центре города. Там мода очень сильно отличалась от моды окраины: те девочки, кто носил яркую одежду или яркие аксессуары (резиночки, шнурки…), а также лосины, назывались „лохушками“. Также нельзя было подворачивать джинсы, завязывать шнурки на обуви и заправлять свитера в джинсы». Здесь жесткость «дресс-кода» куда выше, чем в обычном подростковом мире: она подчеркивает возникавшую в тот момент сложность дифференциации «свой – чужой» по признаку одежды. Жесткость, социальная принудительность этого кода напоминает отношение к одежде и косметике в молодежных субкультурах (о которых речь идет далее), – но здесь ни о какой субкультуре речи не идет: подростки в описанном классе осознавали себя, вероятно, как «девочек из центра», не более того. Поддержание такого «регламента» в подростковой среде, не связанной с субкультурами, – по-видимому, вообще характерная черта второй половины 1980‑х и особенно 1990 года.
Часто создание нового языка одежды затрагивало и вербальные коммуникации: «„Правильные“ дети носили все навыпуск и главное – одежду называли жаргонными словечками: рюкзак назывался „бэг“ (от английского „сумка“), майка – „тишка“, джинсовая куртка – „джакет“, носки – „сырки“, пуховик – „даун“ и т. д.»
Интересным аспектом общей костюмной дискоммуникации стала зависть, которую респонденты, по их воспоминаниям, испытывали к группам, тем или иным образом выработавшим общий язык в одежде раньше или успешнее других. Безусловными лидерами на этом пути были именно представители субкультур, тогда называвшиеся в официальной речи неформалами. В особенно выгодном положении оказались те, кто имел возможность наследования или заимствования кода у групп, существовавших до распада общего языка. Например, новая волна молодых хиппи, возникшая на позднесоветской территории, получила щедрое, прекрасно структурированное наследство первой волны хиппи, так называемой Системы. Панки и металлисты заимствовали язык аналогичных западных движений. Даже гопники находились отнюдь не в пустом семиотическом пространстве: они, насколько можно судить, воспроизводили в своей одежде устоявшийся язык рабочих районов3. Люди, ассоциировавшие себя в тот период с той или иной неформальной субкультурой, были среди немногих респондентов, чьи ответы говорят не о распаде костюмного языка, а о его уверенном поддержании: «Как одеты другие, рассматривалось с точки зрения свой/чужой»; «Да, это (одежда. – Л. Г.) было важно для меня, поскольку я был вроде как неформалом. Одежда была своего рода отличительным знаком». Респондент, который в те времена «хипповал, естественно», сегодня пишет: «Одежда практически совпадала с идеальным о ней представлением, ни до, ни после подобного не было», – высказывание крайне редкое, почти невероятное среди опрошенных. Другое в высшей степени интересное высказывание – «…в школе и „на районе“ – очень важно (как ты одевался. – Л. Г.). В среде хиппарей и панкующих, с которыми я общалась, – очень не» (то есть совсем неважно). Такие ответы прямо указывают на то, что в описываемых группах существовал вполне устоявшийся язык одежды, противостоявший языку широкой среды.
Те, кто не причислял себя к неформальным группировкам, часто указывают не просто на понимание их влияния и на соблазнительную понятность их языка («Неформалы тогда сильно влияли на моду – кто к какой тусовке относился, можно было определить сразу»; «Огромное влияние на моду оказывала гопническая культура – шапки-пидорки, спортивные костюмы…»), но и на прямую зависть, вызванную этой простотой и наличием стабильных, принятых ориентиров в этой среде: «Очень завидовала „хипповавшей“ сестре и ее подружкам. Очень важно было не выглядеть вульгарно-„пошло“».
Из-за распада общего языка костюма к этой «глухоте» (то есть к неспособности правильно интерпретировать чужой костюм как «высказывание») прибавилась и «немота», невозможность сконструировать внятное «высказывание» из доступных средств, создать понятный другим костюм, – поскольку семантическое пространство многих новых предметов одежды оказывалось смещенным или не вполне определимым: «Помню, что жутко завидовала барышне из соседнего подъезда, которая носила тренировочные штаны „Адидас“ из такой шелковистой ткани с полосками по бокам – и к ним лаковые лодочки с бантиками»; «Мы ходили парадно гулять по Невскому в спортивных костюмах»; «…у моей подруги были „мыльницы“ (пластмассовые пляжные туфли в дырочку, пользовавшиеся бешеной популярностью в конце 1980‑х. – Л. Г.), она их обула на классную вечеринку зимой с шерстяными колготками»; «…мы доставали длинные кожаные пальто „а-ля Штирлиц“ с погонами, не понимая, что во всем мире это была как бы гейская униформа»4. Наряд переставал быть связным высказыванием, зато высказыванием, хотя бы в самой общей форме сообщавшим о «модности» носителя, могла становиться одна-единственная вещь, как если бы в предложении необходимо было опустить все слова, оставив одно, и не обязательно главное – например, обстоятельство времени (невольно думаешь об аналогичной технике чтения советских газет, применявшейся советскими интеллигентами в более ранние десятилетия). О разных аспектах этой «власти одной вещи» в тогдашнем гардеробе речь заходит очень часто; мы рассмотрим этот феномен в одной из следующих глав.
Языковые нарушения в костюме 1990 года и его хронологических «окрестностей» касались не только непосредственно «высказываний», то есть построения и понимания индивидуального костюма, но и целых «языковых модальностей», то есть типов костюма; хорошим примером здесь, видимо, может послужить смутность и искаженность представлений о парадном, «выходном» костюме. Во все времена (и по сей день) парадный костюм обладал удивительной дуальностью свойств, одновременно сохраняя архаическую, традиционную ноту в одежде (что часто свойственно официальному языку в целом) и в то же время демонстрируя наиболее ярким способом представления носителя костюма о «лучшей», «самой модной» одежде5. Однако, когда речь заходит о парадном костюме 1990 года, респонденты в очень большом числе случаев буквально не могут вспомнить хоть какие-нибудь элементы одежды, зарезервированные именно для торжественных случаев. Причин этого «вытеснения» сразу несколько: элементарный дефицит; износ старой парадной одежды, автоматически переводивший ее в категорию обыденной, а то и непригодной, и, безусловно, все то же разрушение общепринятого языка костюма, из‑за которого прежнее парадное платье оказывалось чрезмерно архаичным, в то время как новых представлений о выходной, нарядной или «формальной» одежде не было вовсе. Интересно наблюдать, как участникам опроса запомнилась часто возникавшая необходимость поступаться одним из параметров пары «традиционное/новое и лучшее» в пользу какого-либо другого, чтобы их выходной костюм выполнял хотя бы одно из требований. Либо, как сформулировал один из опрошенных, «…парадная – это была просто любая новая одежда»: «…очень условно-парадная. То есть обычно комбинировалось что-то из повседневной носки»; «верхние части от (импортных. — Л. Г.) спортивных костюмов носились как выходные или даже нарядные вещи, с джинсами или юбками». С другой стороны, в качестве «выходного» костюма могли использоваться предметы парадные, но заведомо устаревшие или взятые у старших родственников: «платье, сохранившееся с выпускного»; «мамино платье из семидесятых»; «реквизированный у папы костюм». Мы опять наблюдаем ситуацию, в которой «высказывание» должно было зачастую восприниматься только по одному параметру, говорить о носителе костюма «хоть что-нибудь».
Нам мало известно о том, как строители вавилонской башни воспринимали постигшую их разноголосицу, но жители позднесоветского пространства, насколько можно судить по проведенным мной интервью, воспринимали поразительную эклектичность тогдашнего костюма с удивительным стоицизмом. Как сформулировал один из участников опроса, «не было представления, что эта дикость безвкусна; вообще [было] спокойное отношение к мешанине». Другой участник останавливается на этом же эффекте подробнее: «То есть были и весьма приличные американские джинсы, привезенные знакомыми, и тут же турецкие джинсы-„пирамиды“6. Еще свитера хипповские соседствовали с финской ярко-зеленой курткой, а кроссовки – с кожаными полусапожками с Рижского рынка. <…> В общем, что нашел, то и надел». Этот стоический тон свойствен большинству опрошенных. Вероятно, все они интуитивно понимали, что пространство смыслов в области одежды разрушается необратимо, и поэтому смирялись с нарастающим «языковым» хаосом, но одновременно с этим – пытались выработать новый язык (или, по крайней мере, поддерживали групповой «диалект»), а не грустили по поводу утери старого советского стиля: он был заведомо скучным и казенным и – по крайней мере, в 1990 году уж точно – не вызывал ностальгии.
Общепринятый взгляд на 1990 год как на год стремительного распада советских социальных практик, год отказа от нарабатывавшихся десятилетиями навыков и разрушения устоявшихся методов ведения быта и решения повседневных проблем входит в поразительное противоречие с тем, что происходило в этот момент в области костюма. Классическое представление о том, что платье способно поразительным образом «консервировать» черты былых эпох и отживших социальных установок, воплотилось в одежных привычках 1990‑го в максимальной степени. Этот год в области костюма оказывается апофеозом советских практик, моментом напряжения всех сил и демонстрации всех умений, приобретенных в сфере добывания и ношения одежды в период советской власти.
Опыт советского дефицита (который на фоне окончательного опустения магазинов в 1990 году начал казаться многим чем-то вроде ограниченного изобилия) оказался стартовой площадкой для развития выдумки, на которую голь оказывается особенно хитра именно в тяжелые времена. Если в предыдущие годы те, кто не умел доставать одежду или создавать ее самостоятельно, могли одеваться – пусть плохо, пусть скучно, пусть социально-презренно, но все-таки одеваться – в советских магазинах, то в 1990 году эта возможность почти исчезла: для обладания минимальным набором одежды, не говоря уже об одежде модной, новой или качественной, почти каждый из опрошенных должен был прилагать нетривиальные и значительные усилия.
На вопрос о том, откуда, собственно, в 1990 году бралась новая одежда (в вопросе уточнялось: «…не обязательно „свежекупленная“, – просто то, что можно было надеть на себя сегодня и чем ты еще вчера не обладал»), по крайней мере 10% респондентов дали ответы, указывающие на случайность и неочевидность источников приобретения новых элементов костюма: «Не знаю», «Не представляю себе», «Не могу даже вообразить», «Покупки новых вещей в этот период я не помню», наконец – исчерпывающее: «Ниоткуда». Это «ниоткуда» подчеркивает значение первой и главной из советских практик бытования носильных вещей, достигшей своего пика в 1990 году, – донашивания. Как сказал один из респондентов, «одежда бралась – в шкафу», уточняя: «в моем и в отцовском». Это был один из главных эффектов советского и особенно позднесоветского донашивания: донашивались не только свои вещи, но любые, которые еще можно было носить. Гардероб полностью превратился из индивидуального в семейный; советская практика обмена вещами между сестрами, матерью и дочерью, отцом и сыном достигла пика. «Основное носимое мной в 1990‑м было носимое мамой в 1970‑е», «…еще у меня был шелковый кружевной эстонский лифчик с лебедями, который <…> мой дедушка привез бабушке из заграничной командировки ДО ВОЙНЫ!». Иногда ситуация доходила до фантасмагорической: «…все младшие дети в семье носили вещи с надписью „Саша Гаврилов“ – так мама метила мою одежду перед пионерлагерем». К 1990 году внутри этой системы стерлись не только поколенческие, но даже гендерные границы: «я носила носки старшего брата, трусы, по-моему, тоже (одни так точно помню)»7; «носила дедушкины рубашки в клеточку на два размера больше (чем нужно. — Л. Г.)»; «У нас денег особенно не было, поэтому я в основном донашивала вещи брата и старшей соседки». Кстати, это вынужденное расширение круга, в котором обменивались поношенными вещами, к 1990 году достигло также невиданных прежде масштабов: «…у нас в МГУ профком устраивал замечательные акции – все приносили старые детские вещи, и можно было меняться». Сам факт того, что эта ярмарка обмена была организована профкомом крупной организации, показывает, как высока была не только приемлемость этого метода пополнения гардероба, но и его необходимость. Вечная советская практика откладывания вещей «на черный день» и тут оправдала себя в полной мере, наряду с другими советскими костюмными практиками. Это распространялось даже на ткани, из которых можно было что-нибудь сшить, и на старые вещи, из которых теперь, в момент невозможности получить одежду нормальными способами, пытались соорудить что-нибудь пригодное для носки: «В тот год многие обращались не столько сшить из новой ткани, сколько перешить что-то из старых вещей»; «В шкафу лежали „распорки“ – распоротые старые вещи, из которых в этот год что-то пытались шить за неимением ткани»; «…в 1990 году я как раз сшила себе летний сарафан из узбекского хлопка (лежал у мамы в шкафу со времен ташкентского землетрясения)».
Постоянное ощущение на себе чужого и старого упорно описывается в ответах как мучительное, а часто – и унизительное переживание. Так, одна из респонденток в устном интервью рассказывает, что в 1990 году в школе (восьмой класс) за ней закрепилась кличка «Прощай, молодость!» – по бедности она не носила никаких вещей, кроме перешедших к ней от матери и теток. Об эпизодах, когда удавалось получить что-нибудь свое и подходящее по размеру, многие участники опроса, бывшие в тот период ограниченными в средствах, говорят как о подлинных подарках судьбы. Вещь не могла позволить себе надоесть или выйти из моды – ее носили до тех пор, пока можно было носить, все, кто мог ее носить; идея о том, что у предмета одежды есть жизненный цикл, перестала быть релевантной одновременно с представлением о том, что у каждой вещи есть свой хозяин. Вещь перестала быть индивидуальной собственностью и стала предметом общего пользования, как полотенце в бараке.
Еще одна, совсем уж специфически-советская практика в 1990 году стала особенно неизбежной для приобретения новой одежды: это регламентированное распределение, зачастую осуществлявшееся по крайне своеобразным алгоритмам, сформировавшимся в 1960–1970‑х годах и изображенным, например, в фильме Э. Рязанова «Гараж»8. К этим алгоритмам следует отнести «отоваривание талонов», «выигрыши по заказу» (когда, скажем, на каждый отдел НИИ «спускались» две пары женских зимних сапог и желающие тянули жребий за право их приобрести – вне зависимости от цвета, фасона, размера и прочих малозначительных факторов), «распределение по месту работы» (когда на те же две пары сапог заранее записывались в очередь) и последующее перераспределение материальных благ частным способом – скажем, обмен или перепродажа. Если до 1990 года эта практика была альтернативным методом приобретения чего-нибудь особо дефицитного, то к 1990 году, когда в категорию особо дефицитной перешла вся одежда, продолжавшие действовать (пусть и в урезанном виде) советские схемы распределения приобрели особую важность: по воспоминаниям одного из опрошенных (подтверждаемым и другими ответами), «в 90‑м записывались на любую вещь – просто потому, что это была вещь, потом можно было получить за нее другую вещь, более подходящую». Одновременно алгоритмы, по которым осуществлялось социальное «коловращение» одежды, перешли с уровня частных, локальных, «разовых» взаимодействий на уровень групповых ритуализованных практик: «…покупали всё только на распродажах в НИИ. Тянули жребий. Доставалось часто не то, что было нужно. Поэтому в холле висели объявления: „Меняю то на се“»; «…как раз в тот год у нас была третьекурсница, у нее была тетрадочка, и весь институт ходил к ней записывать выигранные вещи и спрашивать, не меняет ли кто-нибудь подходящее; какая была ее выгода – не знаю, наверное, что она сама всегда находила себе нужное». Существование в рамках этой системы чаще всего вело одновременно к поразительной эклектике в костюме частного лица и поразительному же однообразию в костюме группы лиц: «А вот плащ „по талонам“ у меня был, потому что плащ был румынский, а на румынские вещи талоны давали на заводе „Двигатель революции“, где у тети работала подруга. Она нам отдала свой талон. У нас в классе почти у всех были такие плащи, потому что завод „Двигатель революции“ находился в нашем районе». Люди, по роду своей службы получавшие униформу, почти всегда использовали ее в качестве повседневной одежды: «…знакомый ходил в милицейской форме, даже на дискотеки, ему повезло, что не надо париться было»; «…для показательных выступлений на Красной площади выдали спортивные костюмы, куртки даже, даже красивые, она была так счастлива, [потом] носила, не снимая». Расширенной версией распределения было прикрепление людей к разного рода спецателье и спецсекциям. Если до 1990 года принадлежность к кругу прикрепленных» позволяла одеваться хорошо или престижно по меркам тогдашнего общества, то в 1990 году эти источники иногда оказывались единственной надеждой на теплое пальто или приличные брюки. Небольшое разнообразие ассортимента спецраспределителей выглядело в последние годы существования СССР невероятным изобилием на фоне пустых прилавков обычных магазинов. Иногда возможность одеться в спецраспределителе доводила до трагических курьезов: «…у нас была знакомая, уже под пятьдесят лет… Так ее в том году кто-то устроил в распределитель для начальства, и она сошла с ума. Обычная женщина, а стала деньги занимать, продавала книги…» Совершенно аналогичную реакцию на изобилие товаров в магазинах часто описывали советские граждане, случайно оказавшиеся в заграничной командировке. Я помню рассказ знакомого о туристической группе, сумевшей в 1985 году объединить усилия, чтобы в Польше ради покупки дубленок продать все ценные вещи, которые у них были с собой, причем эта продажа – так как подобные операции были советским туристам запрещены – происходила по очень сложной и многоступенчатой схеме. Показательно, что двое входивших в туристическую группу мужчин продали тогда свои обручальные кольца, будучи твердо уверены, что жены оценят их поступок положительно.
В 1970–1980‑х годах для многих людей по разным причинам участие в неофициальных схемах распределения (проще говоря, покупки по блату) было зазорным или казалось слишком сложным: надо было искать «нужных» людей, затем просить их… В 1990 году покупка по блату перестала считаться зазорной (иначе все равно многое купить было невозможно), и люди, раньше уклонявшиеся от участия в подобной деятельности, теперь стали прилагать большие усилия для того, чтобы включиться в разнообразные «серые» схемы покупок – например, на «закрытой» распродаже в «Детском мире». Участие в неофициальном распределении для многих сделалось необходимостью, потому что оно стало нужно для решения насущных будничных проблем, а не для самоценной погони «за тряпками».
В ситуации распада системы экономических связей схемы распределения в 1990 году оказались важны, как никогда прежде. Предметы одежды больше часто не воспринимались как предназначенные для определенной социальной группы. Из пространства смыслов одежды нередко выпадали все понятия объединения по социальному признаку, понятия социальной самоидентификации хозяина – кроме, как уже сказано выше, субкультур.
Та же тенденция укрепления и обострения значимости коснулась еще одной важнейшей советской практики обретения костюма – хенд-мейкинга, самостоятельного создания или изменения предметов одежды9. Роль ателье и портних, всегда очень значительная в СССР, стала еще более важной. Однако к профессионалам могли позволить себе обратиться далеко не все. У человека, интересующегося историей бытования костюма в ХX веке, может создаться впечатление, что масштабы, которые женское (а зачастую и мужское) рукоделие приобрело в Советском Союзе, практически несопоставимы ни с одной развитой страной того же периода. Кажется, за редчайшими исключениями, не существовало советской семьи, в которой представители хотя бы одного поколения не умели создавать одежду своими руками: шить, вязать, на худой конец – ушивать или перешивать приобретенные другими путями вещи. Впрочем, это же касается и остальных бытовых навыков – это наиболее четко выражено формулой Александра Чудакова: «В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь всё»10. Чаще всего такие умения шлифовались многолетней практикой и достигали уровня, сравнимого с профессиональным. Если до позднесоветского периода хенд-мейкинг в большинстве крупных городов СССР помогал разнообразить гардероб, получить в свое распоряжение модную вещь или сократить себе усилия по добыванию одежды и выстаиванию очередей, то к 1990 году хенд-мейкинг стал жизненно необходимым занятием. За иглу взялись даже те, кто никогда не предполагал в себе интереса и способности к этому занятию. Как писал один из участников опроса, шивший много и, по-видимому, хорошо (я еще буду цитировать его не раз), «собственно, и шить-то я начал не от безденежья, а от безысходности». Даже те, кто, по собственному утверждению, ничего не делал в тот год своими руками, в следующей фразе мимоходом замечают: «Футболки и старые джемпера красила, в черный и „кляксами“»; «…из лично моих приемов – покраска морально устаревшей (да и просто устаревшей) одежды в черный цвет». Здесь видно, насколько такие мелочи (сегодня вполне способные восприниматься как проявления энергичной креативности) «не считывались» на фоне масштабов, которых хенд-мейкинг достиг в 1990 году. Рукоделия переставали существовать в качестве хобби и превращались в необходимое занятие: «…некоторые женщины отчаянно посещали курсы макраме, фриволите и шитья с вязанием». Одна из корреспонденток рассказывает, что в 1990 году научилась шить «что угодно», добавляя: «…новая одежда бралась, когда появлялась ткань. Идей хватало».
В 1990 году было практически невозможно купить не только одежду, но и ткани, поэтому и их респонденты добывали с большими усилиями. Более того, изменилось отношение к тем материалам, из которых в принципе могла быть сделана одежда: «…в девяностом, оказавшись в Курске, я совершил со товарищи набег на свалку кожевенной фабрики, туда выбрасывался неликвид – огромные, прекрасные коровьи шкуры; отличная, хорошо прокрашенная замша. <…> …В тот год <…> вся наша компания красовалась в замшевых жилетах… с ними можно было ходить в осенней куртке зимой, а куртка-то была одна на все про все». Как один из вариантов хенд-мейкинга своего апогея достигла и всегда бытовавшая в СССР практика модификации одежды: переделки, подгонки, «примоднения» – словом, превращения добытой вещи в подходящую. Уже упоминавшийся дефицит ткани привел к возникновению «распорок» – кусков старой одежды, распоротой по шву и сложенной в шкаф в ожидании новой участи; как уже говорилось, век одной вещи в позднесоветский период оказывался поразительно долгим. То же самое касалось новых вещей, никак не подходящих хозяину: «…себе я трикотажное платье шила, закупившись мужскими вьетнамскими майками огромного размера»; «…у нее (мамы. — Л. Г.) было полно шьющих подруг, которые чего только не создавали, – вплоть до сумок из голенищ старых сапог – сами шили»; «…в окрестных магазинах (Бирюлево, жопка города Москвы) продавались мужские кальсоны и балахоны, из которых мы шили модные кофточки». В моменты, когда невозможно было достать остро желанную вещь, самостоятельное творчество могло приводить к истинно поразительным результатам: «У меня зрение было из рук вон, стекла тогда очковые были только натурального прозрачного цвета, а хотелось темных, но чтоб и видеть при этом. Брала свои родные очки в толстой розовой оправе, специальную такую прозрачную цветную – фиолетовую! – пленку для рукоделия <…> и то ли на клей, то ли на скотч цепляла вырезанные в форме стекол куски пленки к родным стеклам изнутри». Кстати, переделывание и приспособление имеющегося распространялось, конечно, не только на одежду и аксессуары: «…стрелки на глазах рисовала акварельным черным карандашом из роскошного немецкого набора для рисования»; «…помню, что девчонки в классе добавляли к белому лаку те или иные чернила, перемешивали и красили ногти этим»; «…девочки в лагере, у которых не было косметики, соскребали цветную известку со стен и подводили глаза, как тенями». Невольно вспоминаются и каша из топора, и советы из «Науки и жизни» по превращению пылесоса в вентилятор, и сохранившаяся с 1940‑х годов практика рисования стрелок от чулок на голых ногах11. Таким образом, исчезло представление о цельном облике предмета одежды – аналогично тому, как и его обладатель потерял сходное убеждение в том, что он проживет свой век по заранее заданному социальному сценарию, что жизнь не перекроит его, скажем, в представителя другой профессии и не подгонит по своей мерке под образец другой социальной группы, другого класса общества12.
Всегда высоко котировавшееся в Советском Союзе знание (пользуясь шуточным выражением тех лет) «рыбных мест», то есть обычных магазинов, неизвестных широким массам и все же позволяющим купить более или менее качественную одежду, к 1990 году, по воспоминаниям опрошенных, стало восприниматься как бесценное. Понятие «рыбности», правда, к этому времени сильно расширилось, включив в себя места, где можно было купить любую, хоть какую-нибудь вещь, пригодную для носки: «Я купил себе рабочие турецкие ботинки толстой, чуть не чемоданной кожи. На стройке купил. Такие дела…»; «…белые маскировочные костюмы, купленные в магазине „Охотник“»; «…у нас была очень стильная девушка, так вот она купила в военторге сапоги и плащ-палатку…». Один из опрошенных сообщил, что в армии, в свою очередь, новые гражданские вещи скупали у новобранцев. За элегантными вещами москвичи ходили в художественные салоны, в том году смягчившие условия приема вещей на реализацию, и в Измайлово – и там и там можно было приобрести работы разного рода умельцев. В регионах еще доживали свой век остатки «Березок», а по мере их умирания новый смысл приобретали комиссионки – «работать» с этими магазинами в 1990 году научились даже те, кто еще за пару лет до этого брезговал и теми и другими заведениями.
Из воспоминаний участников опроса возникает четкая картина того, что одежду было невозможно купить нигде – и тем не менее спорадически, непредсказуемо ее приобрести можно было где угодно. Советские фарцовщики и спекулянтки (по сути, выполнявшие ту же работу) потихоньку переходили от полуподпольной торговли с рук, то есть в индивидуальном порядке, и от практики торговли на дому, при которой клиент мог рыться в развалах многократно перемеренных тряпок, к организации стихийных блошиных рынков13. Торговцы стали собираться на определенных территориях, причем территории эти множились, расширялись и переставали быть подпольными. Некоторые из стихийно сформировавшихся в ту пору вещевых рынков стали вполне «официальными», организованными и действуют до сих пор (например, вокруг больших стадионов в Москве), по-прежнему обеспечивая людей дешевыми носильными вещами. Впрочем, как заметил один из корреспондентов, «тогда вообще все со всеми торговали понемножку». Вещь в тот год потеряла не только заранее известное назначение, фиксированную форму, постоянный смысл и предопределенный жизненный цикл – она потеряла среду обитания. Теперь она была бродяжкой, для которой гардероб хозяина не становился последним пристанищем: хозяин в любой момент мог передать или перепродать ее.
Тонкий вещевой ручеек, просачивавшийся на советскую территорию из-под железного занавеса, в 1990 году окреп и расширился по мере того, как занавес поднимался: всего, что было связано с «индивидуальным импортом», стало больше, значение любых импортных вещей на общем сером фоне обострилось донельзя; здесь вновь практика, бытовавшая в советские времена, поразительно окрепла на фоне общего распада таких практик в других областях. В частности, страны Балтии, в советские времена служившие источником «приличных» вещей, теперь стали местом, куда постоянно ездили позднесоветские «челноки». Вещи из «Прибалтики» котировались ниже импортных, но, насколько можно судить, выше сделанных в России: «…красивый свитер. Мне его привезли из Таллина, так что он правда был красивый». Следом за «Прибалтикой» очень часто в качестве родины «приличных вещей» респонденты упоминают Минск: «Как раз в 90‑м году она (мама. — Л. Г.) привезла много белорусского трикотажа экспериментальных минских фабрик. Они шили одежду маленькими партиями, очень интересную, даже, я бы сказала, авангардную. Поэтому я всегда имела репутацию модницы»; «…что-то покупали в Минске – там было получше с выбором»; «…на рынках Минска и в комиссионках можно было вполне прилично одеться». Как и в советские времена, «заграницей» для остальной страны служила Москва, но в 1990 году, как заметил один из участников опроса, «„ни-че-го“, которое было в Москве, по сравнению с нашими местами было „до хре-на“». Москва превратилась из источника «одежды получше» в источник одежды как таковой – пусть хоть бы и мужских кальсон: «…отец привез из Москвы шерстяные подштанники, мы их перешивали». Зато в сравнительно хорошем положении находились портовые города: моряки (точнее, обычно – жены моряков) и раньше торговали с рук или сдавали «хабар» в комиссионные магазины, а теперь они в открытую демонстрировали его на стихийных рынках (да и комиссионные, по воспоминаниям респондентов, в том году резко преобразились: по мере увеличения числа «выездных» и уменьшения ограничений на закупку частными лицами иностранной валюты импортные вещи стали однозначно преобладать в комиссионках). Приезжавшие в СССР иностранцы (которых в 1990 году стало значительно больше) освоили метод продаж всего, что можно было купить на родине за бесценок. Если прежде эти вещи осторожно толкали фарцовщикам, то теперь обладатели «невидимой» помады или цветных прищепок для белья спонтанно организовывались в постоянные торговые точки, куда тянулись знающие граждане: «…той весной в нашем подмосковном поселке появились вьетнамцы. Они расположились на практически заброшенном „колхозном“ рынке, разложили свой нехитрый, но яркий товар на раскладушках и… Торговля началась. Первая запомнившаяся покупка – сиреневая тряпочная ветровка. Сшитая криво-косо вьетнамскими умельцами, она тем не менее была писком моды…»; «…сестра была маленькая <…> ей покупали колготки с поезда Пекин – Москва, многие в Кирове ходили к нему и покупали одежду. Только не совпадали размеры, у них маленькие были. <…> …И вообще, там просто была одежда, а в магазинах не было».
Усиление и обострение советских практик приобретения одежды в 1990 году выглядит особо впечатляюще еще и потому, что они сопровождались, видимо, все возраставшим отвращением к советскости прежней одежды. Это качество основной массы носильных вещей с понятным единодушием фиксируют почти все респонденты. Уже упомянутая гиперсемантизация отдельных, оставшихся понятными элементов и понятий в момент распада цельного «языка» одежды – и говорения об одежде – прекрасно видна на примере слова «советский» и стоявшего за ним смысла. «Советскость» в костюме прочитывалась моментально и безошибочно, слово это в 1990 году имело однозначно негативный смысл (параллельно с тем, как слово «советский» приобретало столь же негативный смысл в политической и иной речи): «…принцип различия был – одет по-советски/не по-советски». Один из респондентов рассказал о возможности добывать с государственного предприятия футболки, которые выносили из производственного помещения еще до нанесения на них рисунка – это делало футболку «несоветской»: «с рисунком носили только лохи». Кажется, и сама государственная промышленность в том году сделала по крайней мере одно судорожное усилие для того, чтобы «проглотить» неприличное слово в языке одежды, сделать советское несоветским. По воспоминаниям одного из интервьюируемых, «…советские швейные предприятия ударно шили коричневые школьные платья, а они враз стали никому не нужны. Тогда советские швейные предприятия приделывали к платьям белые манишки, пришивали игривые пуговички и продавали в „Детском мире“ под видом платьев парадных». Можно представить себе, насколько удачным и малозаметным был такой обман.
Среди ответов, присланных мне респондентами, было два, хорошо характеризующих ситуацию с воспоминаниями о социальном значении костюма в 1990‑м: «Одежда говорила о человеке почти все»; «Одежда ничего не говорила ни о ком». Поразительным образом, в восстановленной по воспоминаниям картине года эти два ответа совершенно не кажутся противоречивыми; не имеют они и отношения к разному пониманию заданного вопроса. Они указывают на разницу в оптике, с помощью которой те, кто дал эти ответы, рассматривают окончательно сформировавшийся в 1990 году остро дуальный подход к одежде в качестве средства коммуникации: ее либо не замечали, интуитивно понимая, что язык одежды нарушен, и исключая костюмное высказывание из общей семантики внешнего облика человека, – или, наоборот, рассматривали очень внимательно, пытаясь, как уже говорилось ранее, уловить остатки понятных «слов» сквозь раздражающие шумы.
Наряду с другими рассматривавшимися «словами», сохранившимся и понятным качеством в языке костюма оказалась «успешность» – и, как и многие другие «слова одежды» в тот момент, она приобрела расширенный и утрированный смысл. Dressing for success, «одежда для успеха», одежда как маркер социального статуса и благосостояния, всегда имела в Советском Союзе особое значение (как, впрочем, и в других странах с низким благосостоянием частных лиц во все времена и в любую эпоху): здесь миллионер и рабочий не могли носить одну и ту же модель джинсов Lee, вполне устраивающую обоих с точки зрения соотношения «цена/качество». Однако в 1990 году к транслируемым одеждой смыслам «успешности» или «неуспешности» добавилась принципиально новая составляющая: теперь костюм говорил о том, насколько успешно его хозяин встраивался в вырастающий на глазах принципиально новый мир. Формировалось новое, жесткое и жестокое требование к успеху: если в периоды стабильности успех так или иначе означал умение эффективно встроиться в стабильные структуры, найти свое место в их налаженном механизме, то в позднесоветские годы успех стал означать принципиально противоположное: умение вовремя выйти из этих распадающихся структур и самому создать для себя новое социальное место в хаотической новой реальности. Для тех, кто в 1990 году умел (и мог позволить себе в финансовом плане) найти, достать, купить, заказать, приобрести «настоящую вещь», она становилась немедленным и крайне важным заявлением об успехе – осязаемом и неподдельном, – тем более что в других областях критерии успеха и неуспеха становились все более призрачными: твою должность могли упразднить в любой момент, но твое кожаное пальто оставалось с тобой. Некоторые элементы костюма считались априорным свидетельством успеха его владельца: «Мы смотрели какой-то сериал про бедных фермеров, вроде „Рабыни Изауры“ (sic! – Л. Г.), и я спросила: „Мама, почему он называет себя бедным? У него же есть джинсы и джинсовая куртка?“»; «…когда собрал (приличный костюм. — Л. Г.), почувствовал себя лучше, меня даже стали пропускать в ресторан „Потсдам“. А до этого мучился каким-то синдромом плохой одежды – не мог знакомиться с девушками, даже с теми, которые заложили на то, во что ты одет». Для тех же, кто не мог принять энергичного участия в борьбе за социальный успех в новых условиях, одежда, наоборот, абсолютно теряла свой социальный смысл. Если приходилось носить что угодно, не имея возможности сознательного выбора, то одежда не говорила о ее владельце ничего (и, конечно, таким образом, говорила о нем все). Многие из респондентов явно очень остро чувствовали в 1990 году эту составляющую одежды как едва ли не единственного верифицируемого маркера успеха: «Одежда казалась не просто вещью, частью имиджа – а самой ценностью жизни… <…> А ее полнейшее отсутствие в свободной продаже будоражило, заставляло охотиться на шмотки и радоваться удачным операциям по их захвату». Эта тема гордости по поводу возможности приобрести и носить сколько-нибудь достойную одежду появляется постоянно, подчеркивая не только значение одежды как символа успешности, но и ее значение в сохранении индивидуальности, права на выбор образа «я» (о чем речь подробно пойдет позже): «В то лето „выбрасывали“ в разных местах, я эти места выучила и, если не соврать, две недели ездила по магазинам каждый день»; «Горжусь тем, что ни разу, ни разу не надела ужасных советских панталон». Начать носить «советские панталоны» означало не просто перейти на некрасивое и неудобное белье – это означало капитулировать, расписаться в собственной неуспешности14.
Два наиболее заметных параметра, в соответствии с которыми участники опроса говорят об одежде 1990 года как об «очень важной» или об «абсолютно неважной», – это возраст и материальное положение респондента в описываемый момент. Возраст в данной ситуации играет совершенно особую роль: молодежь традиционно придает важное значение построению собственного имиджа и соответствию нормам своей социальной группы, а в переходном 1990 году к этому прибавился эффект «чистого листа». Носить было нечего – но зато носить можно было все, что угодно. Особенно остро это переживалось в процессе постепенной отмены школьной формы. Поэтому многие мои корреспонденты из младших возрастных групп описывают свою одежду 1990 года со смесью восторга и ужаса: «…криво-косо пошитое, но какое-то „свое“. Господи, что за кошмар мы носили! Но зато как было весело!» Внезапная свобода в возможности выбора одежды и исчезновение нормативов оказались настолько ценными для молодежи, что молодые люди часто готовы были простить окружающему миру даже унизительную нищету. Представители же старшего поколения, начиная с тех, кому в 1990 году было больше двадцати лет, куда менее единодушны в выражении веселья; особенно это касалось тех, на ком лежала ответственность за иждивенцев (например, за детей или пожилых родителей). В этих случаях часто было не до имиджа: невозможность достать теплую детскую куртку или теплые ботинки вызывала у опрошенных брезгливость и отчаяние. «С одной стороны, ощущение полного облома и внутренний дискомфорт от собственного вида. С другой – голова болела о том, чтоб детей одеть-накормить, так что о собственном гардеробе думать было некогда и даже как-то стыдно». Одна из корреспонденток, которой в 1990 году было шесть лет, предложила ответить на мои вопросы маме, которой тогда было двадцать семь: «Я спросила свою маму, она говорит: отстойный был год, вспоминать не хочется». В дальнейших ответах этой женщины на вопросы нашей анкеты повторяется слово «повезло», применяемое к любой необходимой вещи – случайно приобретенному пальто или теплому костюму. При этом через несколько строк выясняется, что у мамы была репутация хорошо одевающейся дамы, даже модницы: «…вообще переделывала всю одежду, шила из старых вещей, обшивала себя и всю семью, поэтому всегда была одета лучше всех. Ее спрашивали: „Где достала?“ – а это все было самодельное. Из вещей своего отца делала себе одежду». Здесь хорошо видно, как воспоминание о необходимости «переделывать всю одежду», «шить из старых вещей», «из вещей своего отца», «обшивать всю семью» по ночам (это выражение фигурирует в другом пассаже) полностью отравляет воспоминание о комплиментах и «модной» репутации: красота, достигнутая такими большими и настолько вынужденными усилиями, радости не приносит.
Влияние же материального положения, в котором участники опроса находились в том же году, оказывается менее однозначным. С одной стороны, были люди, безусловно довольные своим костюмом в силу возможности доставать качественные и модные вещи: «…мама [—] бывшая спекулянтка <…> Наша семья в основном общалась с людьми своего круга. Т. е. опять же все были одеты из „Березки“. <…> Все, о чем мечтала, да и мечтаю, всегда становится реальностью»; «…мечта не расходилась с реальностью; ощущала себя самой красивой, мне завидовали» (папа респондентки регулярно привозил вещи из‑за границы). С другой стороны, далеко не всегда те, у кого были деньги и кто мог позволить себе покупать вещи у спекулянтов, пользоваться магазинами наподобие «Березок» или даже выезжать за границу, поминают свой костюм образца 1990 года добрым словом15. Дело тут не в эстетических критериях, а все в той же необходимости добывать, выискивать, почти всегда соглашаться на вещь не потому, что она нравится, а потому, что ее можно приобрести. Кроме того, в отличие от линейного понятия возраста, нелинейное понятие «материальной обеспеченности» в 1990 году стало особо зыбким: появились как люди, потерявшие источники дохода, так и те, кто впервые в жизни неожиданно приобрел деньги, превышающие прожиточный минимум, и мог позволить себе тратить их на одежду. К этой категории относились, например, ранние предприниматели-кооперативщики и полузаконные предприниматели всех сортов, а также представители некоторых профессий, которым открытие железного занавеса дало шансы на новую жизнь: так, одна из участниц опроса, художница, пишет: «…у нас вдруг стали покупать картинки – сперва отъезжающие за границу, а потом и местные коллекционеры, намеревавшиеся устроить какой-то музей. Это важный момент: людей, у которых вот именно в эти годы после долгой нищеты вдруг завелись деньги – при том, что образ жизни и круг общения совершенно не переменились, было, наверное, не очень много. То есть это более-менее специфический опыт». Иногда человек оказывался «модником» в результате чистейшего счастливого случая, без усилий со стороны носителя костюма. В таком случае результатом изменения статуса становились не только радость, но и недоумение: «…кроме того, как раз в 90‑м родители съездили в Америку и привезли оттуда, кажется, несколько чемоданов всяких тряпок, себе и мне. В Штатах в том году носили изумрудно-зеленое, и в результате изумрудно-зеленым у меня оказалось все: от рюкзака до варежек»; «…никогда не интересовалась тряпками, но тут сестра съездила во Францию и привезла кучу всего, и оказалась в центре внимания…». У тех же, кто в 1990‑м не нашел новых возможностей для приобретения вещей, разговор о значении одежды иногда вызывает реакцию отторжения, едва ли не неуместности самого вопроса: «Как-то у меня нет ощущения, что мы в тот момент ели нормально…»; «Было чувство, что живем в глубокой заднице, жрали макароны и картошку, примерно так же жили и все остальные ребята из нашего класса, поэтому одежная неполноценность не ощущалась». Даже те из представителей этой группы, кто, наоборот, сообщает о значимости одежды в 1990 году, говорит об этом как о травматической составляющей личного самоощущения. Так, одна из участниц опроса в перечислении предметов своего гардероба в том году ставила в конце некоторых пунктов пометку «(страдала)»: «…какие-то немецкие юбки (страдала) <…> купальник был вязаный белый (опять страдала)…» Эти ощущения явно были неприятны настолько, что вызывали активное желание их забыть: «…помню духи, может быть, и то, что это были ужасные времена остальные ужасы память услужливо стирает»; «…ужасные времена. Не хотела бы сейчас одеваться так, как одевалась тогда»; «Как хорошо, что те времена закончились!». Особенно мучительно переносили предельно выросшее значение костюма как маркера социального статуса те, кто в тогдашней бедности оказывался одним из немногих представителей более обеспеченного класса и был вынужден «соответствовать» (слово, встречающееся по крайней мере в десятке полученных мной интервью, часто даже без дополнения, как имеющее самоочевидный референт: «Хотелось соответствовать»; «Было нужно соответствовать»: «…в музыкальной школе меня „ставили на место“ девочки из семей, где папы ездили в заграничные командировки. Сейчас я понимаю, что они над моей одеждой издевались <…> Мне почему-то казалось, что [они] сами по себе прекрасные, мне хотелось с ними дружить, гулять, мне в голову не приходило, что, оденься я так же, буду не хуже их».
Подобно тому как в расшатавшемся языке костюма 1990 года особое значение приобрели некоторые сохранившиеся «слова», так в столь же расшатавшемся глобальном языке коммуникаций того момента особое значение приобрели некоторые сохранившие свой смысл атрибуты – осязаемые, заметные атрибуты повседневного материального мира, среди которых одним из наиболее заметных и понятных была одежда. Любое высказывание здесь воспринималось очень остро, в него вчитывались дополнительные смыслы. На подбитые ватой плечи носителя модного костюма ложился груз необходимости отвечать за свою одежду, «соответствовать» ей: ты не мог быть одет «никак» лишь потому, что сегодня тебе было лень одеться хорошо. Расхожая американская фраза «You are what you wear» («Ты то, что ты носишь»), подразумевающая простую необходимость относиться к своему костюму внимательно, в СССР в это время приобретала почти буквальный смысл: костюм нередко становился не одним из элементов имиджа, по которым определяют вкус, достаток и социальный статус человека, но основным, системообразующим элементом для оценки; по тому, что ты носишь, можно было с большой вероятностью определить не столько твое отношение к одежде, сколько меню твоего ужина.
Сложный язык моды всегда требовал от своих носителей соблюдения определенных правил унификации и в то же время определенных правил разнообразия в костюме – подобно тому как язык, используемый при вербальных коммуникациях, для нормального своего бытования требует одновременно единства смыслового пространства и в то же время гибкости использования, обеспечивающей ему возможность приспосабливаться и выживать в постоянно меняющейся реальности.
Для того чтобы оценить процессы, связанные с проблемами унификации и разнообразия костюма в 1990 году, мне придется обсудить некоторые аспекты бытования костюма в советском пространстве в целом – здесь проблемы однообразия/разнообразия всегда стояли особенно остро. Однообразие в одежде советских граждан, поражавшее иностранцев, было вызвано не только пресловутым дефицитом и схожестью всех продуктов советской текстильной промышленности, но и социальными аспектами бытования костюма – в частности, чрезвычайной ригидностью советских дресс-кодов, почти не допускавших индивидуального подхода к повседневному (а зачастую и к выходному) костюму. Кроме того, необходимо помнить, что в советском пространстве костюм человека был индикатором не только и не столько его личных вкусов и даже социального статуса, сколько его благонадежности внутри действующей государственной системы. Длина подола, ширина штанин, форма стрижки, цвет помады имели не индивидуальное и даже не социальное, но политическое значение. Борьба с нарушением дресс-кодов советской повседневности была не только идеологической, но и буквальной: разрезание «дудочек» и насильственное обрезание длинных волос хиппи в отделениях милиции являются буквальной иллюстрацией того, как «общество моделирует облик индивидуума»16. Из-за действия этих факторов построение полноценного индивидуального имиджа становилось в советские годы задачей почти неразрешимой – и чаще всего требующей целенаправленных титанических усилий по доставанию или созданию соответствующей одежды. На эти усилия, безусловно, был способен далеко не каждый. Более того, далеко не каждый был готов взять на себя смелость резко выделяться в своем внешнем облике, даже в «вегетарианские» времена относительной терпимости к ширине воротников и длине пиджаков – во время, скажем, хрущевской оттепели. Любой костюм, сколько-нибудь заметный в общем монотонном пространстве, обычно становился немедленной и очень громкой заявкой, по интенсивности сравнимой с тем, как сегодня воспринимаются костюмы некоторых (и даже далеко не всех) особенно радикальных молодежных субкультур (панков, некоторых разновидностей готов, неонацистов).
Таким образом, почти во все периоды существования советской власти индивидуум был вынужден соблюдать постоянный тонкий баланс между естественным желанием хорошо выглядеть, носить то, что идет и нравится, выделяться, привлекать внимание, наконец, просто быть «на уровне» моды – и необходимостью соблюдать беспримерно жесткий социальный код. Дополнительную трудность, безусловно, создавал пресловутый дефицит. В результате в пространстве целой страны возник феномен «одной вещи», безусловно, заслуживающий подробного самостоятельного исследования. В общих чертах он видится таким: поскольку в советский период фактически невозможно было построить и определить модный стиль, силуэт, имидж, акценты – словом, тонкое и не всегда вербализуемое сочетание факторов, которое определяет модность костюма в каждый момент времени (и которое в коммуникациях, основанных на восприятии костюма, видимо, аналогично понятию «дискурса» в коммуникациях вообще), то понятие «модности» атрибутировалось отдельным вещам, конкретным аксессуарам или предметам гардероба. Исключение, пожалуй, делалось только для категории «импортное»: почти любая импортная вещь считалась модной априорно, особенно в годы острого дефицита. В остальном же модной оказывалась конкретная вещь – и любые отклонения от представлений об этой вещи оказывались немодными. Если в моде были «черные юбки годе ниже колена», то понятие модности не включало в себя «силуэт, расширяющийся книзу», «длину „миди“» и даже «синюю юбку годе ниже колена» – почти всегда предмет должен был иметь совершенно фиксированные характеристики, что объясняется крайней ригидностью тогдашнего костюмного языка, в котором высказывания зачастую не имели смыслового оттенка и, чтобы быть верно понятыми, должны были «произноситься» крайне четко, едва ли не «по слогам». Однако обратной стороной этого ужимания понятия «модный» до четко фиксированных элементов костюма стал тот факт, что наличие хотя бы одной модной вещи в гардеробе делало обладателя этой вещи «модным»; хороший пример этого приводит одна из участниц опроса, упоминая по другому поводу: «…брат служил в армии в ГДР и прислал оттуда яркий рюкзак вместо ранца, такие рюкзаки были культом [даже] у старшеклассников, поэтому я в младшей школе чувствовала себя звездой». Интересно, что в целом этот феномен, существовавший на протяжении нескольких десятилетий практически на всем пространстве огромной страны, обычно свойствен самым отсталым и бедным социальным группам общества. Примеры такой «акцентуации» одной вещи можно найти, скажем, у Гиляровского и Горького или в описаниях повседневного быта беднейших эмигрантских гетто США. Да и в нашем случае грань между модностью и бедностью часто оказывалась пугающе тонкой: «…ходил в белых штанах по московской грязи зимой. И стирал их каждый день. Из принципа – и потому, что других не было».
В вопросе разнообразия/однообразия индивидуального костюма происходила подлинная смена парадигм. На смену прежнему порядку вещей пришли «новое разнообразие» и «новое однообразие». «Новое разнообразие» отличалось от старого тем, что отпала необходимость соблюдать сформировавшийся в брежневскую эпоху баланс между жесткими социальными нормативами костюма и индивидуальными пожеланиями его носителя: как уже сказано, нормативы стремительно разрушались. На смену строго контролируемому однообразию пришла возможность одеваться без оглядки на железные правила (что далеко не всегда доставляло радость и зачастую вызывало смущение, неловкость и растерянность – такие примеры приводились выше). Дополнительным фактором «нового разнообразия» стало появление в 1990 году подлинно других вещей – привозимых из‑за границы или создаваемых индивидуально в силу невозможности приобрести желаемое, но, так или иначе, остро отличных от того, что на протяжении десятилетий предлагала гражданам советская промышленность. В 1990 году круг обладателей этих вещей стал расширяться благодаря практикам самодеятельного импорта и стихийной торговли.
Проиллюстрировать механизмы возникновения и бытования «нового разнообразия» можно при помощи ситуации, возникшей в 1990 году со школьной формой. На протяжении десятилетий эта форма казалась совершенно неотъемлемым атрибутом жизни всех представителей молодого поколения. Школьную форму в Советском Союзе носили с семи, а иногда и с шести лет – и как минимум до четырнадцати (ученики, уходившие из школы в ПТУ), а чаще – до семнадцати, а иногда и восемнадцати лет (ученики двенадцатых классов в некоторых республиках СССР). Именно в этот возрастной период человек зачастую учится воспринимать себя, и потребность в самовыражении становится для него огромной, мучительно острой и системообразующей. В отличие от западных учебных заведений, нередко практикующих ношение формы по сей день17, советская школа требовала полной унификации внешнего вида: существовал практический запрет на аксессуары, макияж для девочек, разнообразие причесок – словом, на то, что составляет уникальный облик даже при ношении униформы18. Именно с этих элементов внешнего облика в позднесоветское время началось медленное движение в сторону грядущей свободы, в сторону ослабления ригидных требований к облику индивида: все больше и больше школ закрывало глаза на модные прически, ношение бижутерии, расцвечивание школьной формы значками и брелоками, макияж, в том числе лак для ногтей. Существовавшие даже в самые строгие времена методы осторожного украшения и варьирования самого школьного платья, особенно девичьего (гипюровые и шелковые плиссированные фартуки, красивые воротнички и манжеты, сшитые на заказ платья более замысловатого фасона и из лучшей ткани, чем стандартная форма), к 1988–1989 годам перестали быть осторожными: например, допустимый в некоторых школах вариант одежды для девочек «темный низ – белый верх» стал нередко превращаться в «цветной низ – розовый/голубой/салатовый верх», пиджак от школьной формы у мальчиков заменялся «взрослым» пиджаком, вместо строго положенных голубых или белых сорочек появлялись другие, более приятных для носителя цветов, юбки укорачивались до остромодной длины мини. В 1989 году, по воспоминаниям большинства участников опроса, живших в больших городах, школьная форма уже вытеснялась из школы стихийно, и зачастую приказы директора о допущении того или иного разнообразия в одежде учеников поспешно подписывались по факту – чтобы легитимизировать тенденцию, с которой в изменившейся социально-политической атмосфере не представлялось возможным справиться. Наконец, именно в 1990 году в разных регионах страны школьная форма стала официально отменяться, однако зачастую этой отмене предшествовала напряженная борьба учеников с учителями. Одна из участниц опроса, в частности, пишет: «…я перешла в лицей, где успешно боролась за отмену школьной формы (хотя заслужила от классного руководителя прозвище „говорящие штаны“)». При этом та же респондентка позже указывает, что для нее одежда была не важна, наряды не особо интересовали ее. Ее вызов был борьбой не за возможность одеваться модно, с шиком, каким-нибудь особенным образом, – это была в чистом виде борьба против однообразия, и именно так очень многие опрошенные мной описывают свой протест против школьной формы вплоть до ее официальной отмены: «Нет, чувства [что при наличии доступных вещей одевалась бы в том году иначе] не было. Был огромный кайф от того, что не надо носить школьную форму».
Таким образом, на примере школьной формы механизмы возникновения «нового разнообразия» прослеживаются с максимальной отчетливостью: младшее поколение, интенсивно выступающее за разрушение старых дресс-кодов; важность самой возможности разнообразия как таковой, даже при отсутствии возможности или желания полностью воплотить в костюме индивидуальный образ; стихийность и необратимость происходящих процессов; их интегрированность в общесоциальный процесс разрушения прежних институций; то, что «ползучая отмена» началась исподволь, задолго до того, как перешла в фазу открытого сопротивления прежним нормативам. И наконец, для очень многих разрушение бытовавших структур превратилось не в праздник свободы, а в утомительную повседневную работу: необходимо было постоянно искать баланс между прежним (теперь невнятным) кодом «униформы с отступлениями» – и новым кодом «успеха»: «Школьной формы в нашей школе не было, поэтому постоянно стоял вопрос: „Что надеть?“ Что надеть, чтобы угодить и маме, и учителям… Чтобы подружки позавидовали… И перед детьми побогаче в грязь лицом не ударить…» Таким образом, «новое разнообразие» требовало параллельного возникновения «нового однообразия», все той же хоть сколько-нибудь понятной общей системы кодов, общего языка одежды, способного обеспечить минимальные коммуникации в новом «вавилонском смешении» позднесоветского костюма.
Один из участников моего опроса написал: «В отличие от сегодняшних тенденций, нужно было быть как все, не выделяться, с ног до головы быть одетым по стандарту». На фоне описанного выше «нового разнообразия» эта фраза может показаться парадоксальной, но ничего парадоксального в ней нет: она сообщает о том, что код «модности» (а именно о модном костюме шла речь в соответствующем вопросе) оказался, как уже описывалось выше, предельно жестким, причем в отличие от устоявшихся, существовавших десятилетиями кодов «старого однообразия» это «новое однообразие» возникало на глазах. К его требованиям надо было приспосабливаться стремительно, соответствие им предполагало серьезное обновление гардероба, что на фоне одновременных дефицита и бедности часто вело к фрустрации. Но, с другой стороны, этот код «нового однообразия» был понятным и простым. Практически не ставилась сложная задача построения индивидуального имиджа, соответствующего трудноуловимому «стилю этого года», – достаточно было просто иметь вещь, которая была признана модной, чтобы считаться модным человеком. Эту вещь часто носили, не снимая, – она играла роль, близкую к роли татуировок или знаковых элементов костюма в некоторых субкультурах. Ее, в отличие от более ранних периодов советской истории, не берегли для торжественных случаев: она была слишком важна для того, чтобы проводить большую часть времени в шкафу. Важность сообщения, которое несла модная вещь (выше мы уже писали о распаде ситуационных кодов одежды, в том числе и кода «парадное/официальное»), вела к тому, что ее обладатель ради трансляции этого сообщения был готов терпеть серьезные неудобства: «…у меня приятельница лисий горжет носила летом. С кожаной курткой». Очень часто респонденты, описывая одежду, вызывавшую у них восхищение или желание обладать, отталкиваются именно от этого принципа единичной, гарантированно «модной» вещи, которой можно было внятно маркировать свой костюм: «Упоительно мечтала о джинсах „Avis“, а мне почему-то купили „Levi’s“, и я долго не верила маме, что это настоящие джинсы»; «…черные лосины, которые обязательно бы блестели». Недаром героиня фильма «Зигзаг удачи» (1968) полагала, что, обрети она такое же белое пальто, белую шапку и белые сапожки, как у соперницы, она бы тоже оказалась красавицей.
В то время как обладатели одинаковых «советских» вещей испытывали от факта этой одинаковости тоскливую неловкость, обладатели одинаковых, но однозначно модных вещей ощущали не раздражение от появления на людях в одном и том же наряде, а некоторое единство: «…при всем при том свитер был не штучной дизайнерской вещью, в городе был как минимум еще один точно такой же – у знакомой девушки, мы от этого чувствовали немыслимое родство душ…» «Новое однообразие» в результате оказывалось исторически двухслойным. Его «слоем», пришедшим из прошлого, было негативно воспринимаемое однообразие советской одежды, которую люди были вынуждены донашивать, потому что у них не было ничего другого, а «слоем» из настоящего времени – гордая унификация новой, «модной» одежды, нарушаемая лишь некоторыми категориями лиц – например, художниками и дизайнерами, способными и готовыми самостоятельно создавать уникальные наряды, или представителями субкультур – впрочем, строившими собственное, тщательно соблюдаемое однообразие внутри своей группы.
Одной, интуитивно понятной, иллюстрацией феномена «нового однообразия» может служить категория «импортного». Другой, более интересной и заслуживающей ближайшего рассмотрения может служить категория цвета в одежде 1990 года. Как минимум половина участников опроса заостряют свое внимание на теме цвета, причем не в качестве простой описательной характеристики тех или иных элементов костюма, а в качестве самостоятельной ценности, штриха, совершенно необходимого для того, чтобы считаться общепринято-модным: «Одежда моя того периода запомнилась именно цветовыми воплями – желтыми и розовыми. Особенных элементов кроя, фурнитуры не вспоминается»; «Главное – хотелось чего-нибудь яркого, прямо „вырвиглаз“»; «Тканей не было таких, какие хотелось купить, – ярких, жутких (но тогда модных) расцветок». В 1990 году тенденция европейской и американской моды – после «кислотной», нарочито химической цветовой экспрессии начала и середины 1980‑х годов – стала стремительно поворачиваться в сторону цветового лаконизма, царившего на протяжении большей части «монохромных девяностых» с их уважением к черному и серому или, по крайней мере, к костюмам, выстроенным в одной сдержанной цветовой гамме – скажем, охряной, «льняной» (здесь немалую роль сыграла мода на экологизм) или сиреневой19. Однако, по всей видимости, страсть к ярким, свободно смешиваемым цветам, вспыхнувшая на позднесоветском пространстве, следует объяснять не столько типичным для СССР запаздывающим восприятием мировых тенденций, сколько простой психологией: во-первых, на фоне тусклой в большинстве своем отечественной одежды яркая вещь немедленно воспринималась как «иная» и удачная; во-вторых, существует множество примеров того, как любовь к ярким цветам вспыхивает в наиболее лихорадочные моменты истории, в моменты выхода индивидуума и общества из затяжной депрессии к пугающему, еще зыбкому, но новому миру (в качестве примера можно упомянуть буйство цвета, ставшее одной из определяющих характеристик западной моды конца 1940‑х – начала 1950‑х годов; другой пример – яркость и экстравагантность моды в период после Гражданской войны в США): «Кажется, у меня были штаны с цветными пятнами – не камуфляж, но такой какой-то фактуры; даже эта неоднородность цвета сильно веселила глаз»; «Тогда было легче (выделиться. — Л. Г.), в сшитом пальто из „Бурды“ и с ярким шарфом или чалмой, среди серого унылого месива…»; «…еще были у меня галифе безумного зелено-салатового цвета, которые не оставляли равнодушным ни одного прохожего»; «Помню, она отдала белые ботинки. БЕЛЫЕ. Ботинки. Это вот был символ красивой жизни».
Таким образом, разнообразие цвета стало еще одним критерием «нового однообразия» модного костюма: «Любая цветная вещь становилась модной»; «…модная вещь обязательно должна была быть безумного цвета». Для достижения хоть какого-нибудь цветового эффекта использовались любые ухищрения: перекрашивание, пришивание ярких заплаток, ношение броских аксессуаров собственного производства (напульсников, которые отрезались от махровых носков; шейных платков из обрезков ткани)… Особое место в этом процессе «раскрашивания» скучных вещей занимали появившиеся в 1990 году цветные шнурки. Эти шнурки упоминаются по крайней мере в полутора десятках полученных мною интервью: «…шнурки носили куда угодно и как угодно, с ними можно было пережить даже старые ботинки». Шнурки, в отличие от яркой одежды как таковой, были легкодоступны – в крайнем случае их можно было сделать самим: «Были модными яркие флуоресцентные шнурки. Мы с подружкой их сами красили (кипятили с тюбиком краски в каcтрюльке) и носили с кедами. На настоящие шнурки денег не было». Изобретательности в применении цветных шнурков для придания яркости облику не было предела: «…ботинки, которые завязывались на шнурки разного цвета: один был ярко-рыжий, другой – ярко-зеленый»; «Ооо. Эти шнурки… <…> Какое-то время было ужасно модно носить эти шнурки не только в обуви, но и на шее, завязанные по типу галстука»; «Причем их носили не только в туфельках и кроссовках, но и на голове (вместо ленточек), а также ими „шнуровали“ джинсы, заранее проделав в последних дырочки»; «…мы плели из них браслеты»; «…а для красоты привязывали на ранцы или сумки цветные шнурки…». Это и было «новое однообразие» в самом ярком своем проявлении: в процитированных ответах очень заметна ограниченность палитры, с помощью которой «новое разнообразие» силилось преодолеть ригидность «старого однообразия».
И «новое однообразие», и «новое разнообразие» одежды 1990 года и практик ее ношения были частью одной и той же важнейшей проблемы, относящейся к самой сущности костюма. Принято считать, что костюм служит одновременно для того, чтобы встраиваться в социум и выделяться из него. С одной стороны, при помощи костюма мы помогаем себе обрести групповую идентичность, с другой стороны – при его же помощи мы отделяем себя от группы и заявляем о себе как о личности, он говорит о нашей уникальности, о наших желаниях, амбициях, претензиях, – наконец, он просто говорит: «Вот я», «Я существую». В 1990‑м, когда советское семантическое пространство стремительно разрушалось, высвобождая индивидуума из-под своего колоссального веса, а новое, еще не сложившееся, не давало однозначных критериев, базового алфавита, на основании которого это высказывание могло бы строиться, задача создания подлинно индивидуального костюма требовала длительного поиска возможного решения. Если это решение удавалось найти, оно становилось поводом к совершенно определенной и совершенно заслуженной гордости, звучащей в голосах участников опроса даже сейчас, по прошествии пятнадцати лет.
«Вдруг сейчас поняла, что почти от всех предметов одежды было впечатление – „не мое“», – написала одна из участниц опроса, чем и дала исчерпывающее обобщение рассказам очень многих респондентов о том, что они воспринимали собственный костюм как чуждый: донашиваемый за другими, купленный не по выбору, а по случаю, сшитый из чего попало – то есть по-настоящему чужой, в прямом и переносном смысле слова.
Ситуация, в которой создание индивидуального костюма становилось крайне трудоемкой и неординарной задачей, вызывала обычно одну из двух реакций: смирение, исключение собственного костюма из сферы намеренных коммуникаций, сознательное или бессознательное принятие решения о «незначимости» одежды («В моем окружении (научные сотрудники и школьные учителя) никто хорошо не одевался, не придавали этому особого значения (или делали вид) – благородная бедность!») – или, напротив, всплеск творческой агрессии, поиск способа заговорить «своим голосом» наперекор навязываемому обстоятельствами невольному «мычанию».
На тех, кто принимал решение идти вторым путем, работало то, что в момент распада единого языка едва ли не любое высказывание естественным образом оказывается по-своему альтернативным, выделяющимся на фоне остальных именно из‑за отсутствия общего «большого стиля», основы для сопоставления (чем и отличалось «новое разнообразие»). Таким образом, одним из общепонятных слов в языке костюма 1990 года, наряду с некоторыми приводившимися выше, оказалось слово «другой», «иной», «оригинальный» (в широком смысле); как писала одна из интервьюируемых в ответ на вопрос: «Важно ли было, как вы одеты?» – «Очень важно и переживательно. Подружки одевались лучше (дороже). Зато я – более оригинально». Зачастую слово «другой» использовалось по интересной схеме: в свете невозможности сделать при помощи костюма утвердительное индивидуальное высказывание костюм часто использовался для построения того же утверждения методом «от противного». То есть для того, чтобы сказать: «я – не все остальные». Речь зачастую шла не о сознательной альтернативности, а о том, чтобы компенсировать именно невозможность одеваться так, как хочется, в соответствии с самоощущением, компенсировать чувство собственной «неуспешности» в новом мире, уже описанное выше. «Чтобы окружающие меня за немодность не дразнили, я придумала гениальную отмазку: мне не нравится быть как все. Более того, я в нее искренне поверила». Иногда такая заявка о собственной индивидуальности делалась путем присвоения идентичности группы, в которой код одежды был более комфортным и легко усваиваемым: «…помнится, очень хотелось быть особенно одетой, но средств не было, поэтому стиль назывался – типа „хиппи“».
Для выражения «инакости» человека его костюм мог быть намеренно утрированным и театрализированным, причем практика эта распространялась отнюдь не только на богему, представителей творческой молодежи или субкультур, как это бывает в рамках устоявшегося модного пространства: театрализация костюма была необходима в качестве компенсации за невозможность одеться по желанию при помощи менее экспрессивных методов: «Ходил в поношенном папином пиджаке, но в петлице носил пластмассовую алую гвоздику»; «…наша компания пыталась создать некоторый „намек на историчность“, лично я вышил сам методом „ришелье“ три или четыре кружевных ворота… <…> …ручная вышивка, колет, прочие прелести. Играли, как могли». Иногда показная театральность принимала буквальный характер: «Иногда брала в театральной студии костюмы (под платья конца XIX в.) и ходила в них»; «Игралась в Машу из „Чайки“: „Отчего вы все время ходите в черном? – Это траур по моей жизни, я несчастна“». Определить, была ли интенция носить «все черное» эстетической или прагматической, трудно – как уже указывалось, перекрашивание вещей в черный цвет было одним из самых простых и распространенных методов создания костюма, сколько-нибудь пригодного для носки. Когда один из интервьюируемых пишет: «…вот одноклассник мой как-то в школу в ватнике ходил в порядке эпатажа», то, вспомнив многократно цитировавшиеся здесь жалобы на невозможность достать теплую одежду, начинаешь предполагать, что эпатажность одноклассника была в лучшем случае лишь одной из причин ношения ватника.
К откровенной театрализации костюма, конечно, были готовы далеко не все; большинство пыталось найти способы менее радикальными методами «индивидуализировать» старые вещи, вынужденно остающиеся в носке. В первую очередь для этого использовался уже описанный выше хенд-мейкинг, но в этих случаях одежда часто не перешивалась, а украшалась. Использовались аппликации, вышивка, заплатки; уже упоминавшийся корреспондент, начавший шить «не от безденежья, а от безысходности», пишет: «…делались какие-то простейшие изменения – бралась классическая рубашка с потайной застежкой, ей расшивалась в тон, скажем, виноградными листьями, планка над пуговицами – вещь моментально превращалась в шедевр»; другое высказывание: «Хиппующие девушки и юноши сами себе шили одежду из джинсы и расшивали ее нитками и бисером». Художественно проделанные дыры в джинсах, создание простой бижутерии требовали и того меньших навыков: «Покупала кучу безвкусных бус и клипс и делала из них что-нибудь очень экстравагантное»; «…одежда покупалась в магазине, а потом изнурительно портилась, чтобы не казалась свеженькой…». Часто упоминающееся опрошенными рисование шариковой ручкой по джинсовой ткани было и того доступнее (и, кстати, соответствовало обаятельному желанию «портить приличные вещи» в рамках новообретенной свободы). Иногда эффект «нового однообразия», вызванный появлением модных, но одинаковых вещей, создавал парадоксальные ситуации, требовавшие вмешательства: «…в 90‑м наша школа с углубленным изучением английского языка начала серию модных в то время обменов (с иностранными школами. – Л. Г.) <…> К нам приехали немцы и подарили нам всем на бедность по паре настоящих голубых джинсов, правильного цвета, фасона и вытертости… Сорок пар одинаковых джинсов для классов „А“ и „Б“… Мы еще менялись, размеры подбирали… На заднем кармане я что-то вышила и стала от всех отличаться» (уже упоминавшаяся гордость за любую нормальную одежду в этом ответе гораздо заметнее, чем недоумение перед странной – и, возможно, несколько неловкой при других обстоятельствах – ситуацией подобного подарка).
Совершенно понятно, что вещи, украшенные и модифицированные своими руками, не выглядели как созданные профессиональными модельерами. Иногда это подчеркивалось, было сознательной частью высказывания, но чаще эта кустарность раздражала носителя костюма, воспринималась как вынужденный компромисс при невозможности приобрести что-нибудь «настоящее»: «У одной подруги папа – всемирно известный ученый, по нескольку раз в год ездил за границу. Она говорила: „Моя любимая фирма – Naf-Naf“, и я падала в обморок от зависти. Это у нее я „слизывала“ плиссированные юбочки с водолазками и „маленькие черные платья“. У нее были „настоящие“ рюкзаки, куртки, джинсы…»; «…наш друг умел по швам, по цвету ниток отличить самострок от „фирмы“, и вещь сразу браковалась, даже если ты в ней готов был спать от счастья. Иногда поддельное и смотрелось неплохо, но осадочек оставался».
В наиболее выгодном положении, безусловно, оказались дизайнеры и художники. Для них наступившее «новое разнообразие» оказалось настолько благодатным, что они в некоторых случаях, кажется, фактически не замечали существовавшего бок о бок с ним «нового однообразия». Многие из этих людей, нередко страдавших от ригидности советских дресс-кодов, от общественного неприятия любой альтернативы в одежде, в 1990 году были, по-видимому, счастливы возможности наконец позволить себе реализовать в костюме творческие фантазии, несмотря на необходимость преодолевать мучительную нехватку материалов. «Я сшила себе пиджак из мебельного бархата с золотом», – здесь трудно не вспомнить бархатное платье, сшитое Скарлетт О’Хара из бархатных занавесок по довоенным выкройкам, отысканным верной Мамушкой на чердаке; «В 90‑м году купила гобелен с индейскими мотивами и двумя швами, сшила из него жилет. Это была лучшая вещь в институте»; «…между прочим, не забывайте художественный холст: его можно было не натягивать на подрамники, а шить. Получалось очень авангардно». Эта категория участников опроса часто отмечает даже свое умение создавать уникальный костюм из обычных, неприметных и ненавистных всем прочим «советских» вещей: «…завязывала узлом на животе папину рубашку и вставляла в узел два цветных карандаша»; «сестре на выпускной купила длинную юбку в обычном магазине – никто не додумался эту юбку „хватать“». Те, для кого создание одежды было творческим актом, приносившим удовольствие, особенно – в рамках новой свободы костюма, составляют одну из двух крайне немногочисленных групп, представители которых в ходе опроса вспоминали о своей одежде 1990 года с теплом и восхищением (немалую часть этой категории составляли неформалы; второй категорией были в основном те, кто имел доступ к импортным вещам): «…У меня было очень много знакомых девушек, художниц и жен художников. Как они шили, вязали, какие делали украшения – я слов таких не знаю, чтобы достойно о них рассказать. Некоторые свитера, которые вязала на машинке прекрасная девушка Таня, я помню до сих пор. Натуральный Пауль Клее, только в другой технике. Словом, в этой среде (частью которой был и сам респондент. — Л. Г.) рукоделие было нормой».
Те, кто оказался способен на фоне нищеты 1990 года создать себе индивидуальный костюм, испытывали гордость совершенно иного порядка, чем уже упомянутая гордость за умение что-нибудь достать. Они преодолевали не просто тяготы окружавшей их реальности, но ее наиболее неприятные свойства; они демонстрировали не просто «новую успешность», но успешность ассертивную, преодолевающую нормативы не только бедности, но и нового богатства: «У меня был удивительный гардероб всех оттенков холодного серого цвета – сапоги, брюки – в талию, что было невероятно, замшевая куртка с огромным красивым воротником вроде ламы, который заканчивался где-то у середины бедра (меня тогда так и называли, если надо было опознать: „Девушка с воротником“)».
Процесс выработки нового языка одежды, новой практики российского городского костюма в раннюю постперестроечную эпоху оказался по многим параметрам изоморфен общему процессу выработки опыта жизни в новой реальности: острое желание немедленно «отринуть все старое» соединялось с травматическим ощущением того, что в реальности это сделать невозможно. Возникший хаос заставлял людей проявлять удивительную изворотливость и предпринимать титанические усилия для решения базовых повседневных задач. Изменение устоявшихся жизненных сценариев нарушало картину собственного «я», мешало понять, какой должна быть саморепрезентация в каждый конкретный момент времени; наконец, наличие перед глазами вожделенных ориентиров усиливало неприязнь к нередко возникавшей в жизни частного лица нищете текущего момента, но зато распаляло фантазию, заставляло предаваться мечтам о новом мире – мире, где новый человек облачится в новые костюмы, чтобы начать в них новую жизнь.
Новое часто возникает там, где устремления и фантазии требуют большего, чем может предложить окружающая реальность. 1990 год был, в самом широком смысле слова, годом, когда реальность форсировала возникновение мечтаний и фантазий, касающихся любых сфер существования – от элементарного бытового комфорта до принципиально новой системы жизни, приходившей на смену стремительно рушащейся старой системе. Приземленная и высокая фантазии на фоне свойственных 1990 году тревоги, хаоса и бедности оказывались тесно переплетены и интенсивно подпитывали друг друга: воображение рисовало сцены из жизни, доселе недоступной (и практически неизвестной) очень многим обитателям позднесоветского пространства, и эти сцены подразумевали принципиально иные декорации и принципиально иные костюмы, необходимые для их проживания.
Когда перед интервьюируемыми ставился конкретный вопрос о расхождении мечты и реальности в том, что касалось их одежды 1990 года, диапазон ответов колебался от: «[Хотелось] всего совершенно другого!» – до «Ни о чем не мечтал – все равно ничего не было». Эти два ответа, сформированные очень по-разному, сообщают в некотором смысле одну и ту же информацию: зазор между мечтой и реальностью у многих был так велик, что мечта никаким способом не могла воплотиться хотя бы частично. Это ощущение было настолько дискомфортным, что некоторые видели в «мечтаниях» об ином гардеробе психологический вред, пустое растравливание ран: «Конечно, хотелось одеваться не так <…> но хотение было совершенно платоническим. Заставляла себя об этом не думать, все равно [не было] ни сил, ни времени, ни денег»; «Импортные шмотки детей дипломатов казались просто из другой жизни и как-то не воспринимались всерьез…», наконец, исчерпывающе и лаконично: «…о другом мечтать не имело смысла».
И все-таки настолько отрицательные ответы, при всей своей показательности, очень редки. Подавляющее большинство участников опроса рассказывают о своих костюмных мечтах подробно и с энтузиазмом, и из их ответов складывается крайне интересная картина: в 1990 году мечты людей, связанные с одеждой, по всей видимости, были или крайне локальными, скромными, или, наоборот, глобальными. Нередко респонденты вспоминают, что им хотелось иметь конкретные, очень четко описываемые предметы туалета, или, напротив, о том, как они представляли себе сцены из принципиально другой жизни, в которой костюм играл бы принципиально другую роль.
Существование огромного числа микрофантазий вызывалось, по всей видимости, крайней ограниченностью диапазона возможностей, узостью костюмных вариаций времен «нового однообразия». Одна из моих корреспонденток в ответ на вопрос о своих мечтах того времени, связанных с одеждой, пишет: «…была бы возможность, носила бы что-нибудь (подчеркивание мое. — Л. Г.)». Буквально в следующей фразе она продолжает: «…мечты были, в общем, стандартные – очень хотелось колготки сеточкой, белую кружевную блузку, легинсы и трикотажное мини-платье с широким поясом». Мы видим здесь эту невольную суженность представлений о «совсем другом» и поразительную, вплоть до фактуры и цвета, детальность фантазий о конкретном предмете туалета. Доминанта «одной вещи», уже обсуждавшаяся раньше, распространялась не только на сферу реального, но и на сферу фантазии: «Завидовала страшной завистью девочке из школы, на класс старше, были у нее красные сапожки с каким-то присобранным голенищем», «…хотел „пирамиды“ (это такие джинсы, как вы помните) и „wrangler“, а также вельветовую куртку типа „как из психушки“»; «…хотел себе черную кожаную куртку».
Казалось бы, такая бедность фантазийного мира входит в противоречие с идеей о мечте как необходимом стимуле для выработки принципиально нового языка, но, к счастью, наряду с микрофантазиями существовали и макромечты: мечты о костюме как способе бытовать в ином, более ярком и разнообразном мире, сама возможность существования которого в 1990 году казалась совершенно неочевидной: «…роскошный пеньюар, какие-то красивые платки на голову, как в кино, элегантную одежду для ресторана – прямо какие-то глупости»; «Хотела, как ни странно, деловых костюмов (куда бы я их носила?)»; «…хотелось какой-то „правильной“ классики. Чтобы было в гардеробе маленькое черное платье». Здесь, в отличие от микрофантазий, костюм, по-видимости, играет вторичную роль, является всего лишь атрибутом фантазии об определенной жизненной ситуации, то есть макромечты: «…я мечтал стать богатым злодеем, командиром шайки головорезов, при этом ездить на дорогой машине».
Пожалуй, едва ли не единственной точкой, в которой макро- и микрофантазии опрошенных сходились, оказывалось понятие «настоящей вещи» применительно к носильным вещам и аксессуарам. Это слово повторяется в ответах десятки раз, на письме оно нередко выделяется заглавными буквами, в разговорной речи произносится с крайне интенсивной интонацией, иногда – с усиливающим повторением: «Джинсы были не настоящие, а польские»; «…у меня мечтой был <…> настоящий качественный трикотаж…»; «Хотелось настоящие, НАСТОЯЩИЕ нормальные ботинки…». Смысл «настоящего» в многочисленных высказываниях респондентов раскрывает двойственность тогдашней ситуации с одеждой: с одной стороны, «настоящее» фигурирует тут как антоним «поддельного» – изготовленного кооператорами или сшитого собственноручно; с другой стороны, «настоящее» – это, насколько можно судить, принадлежащее к иной, «настоящей» жизни («настоящий трикотаж», «настоящие ботинки»), то есть к жизни, где вещь, предназначенная для носки, качеством и видом оправдывает свое назначение и соответствует ему. Даже те, кто шил вещи сам и был доволен полученными результатами, часто чувствовали, что эти вещи не соответствуют критерию «настоящего» в силу невозможности достойно прожить весь положенный им цикл, полностью выразить исходный замысел в процессе превращения из «настоящего» сырья в элемент «настоящего» костюма: скажем, уже цитировавшийся мной респондент, много, хорошо и с удовольствием шивший и модифицировавший одежду в том году, пишет: «…но при этом постоянно угнетало то, что все это – конфетка из дерьма, а был бы шоколад, так, может, действительно конфетка бы получилась». Таким образом, к безусловному принятию импортного как хорошего в качестве ориентиров для создания нового языка костюма прибавлялось «настоящее»; множества «импортного» и «настоящего» в значительной степени пересекались, но не совпадали полностью. Не совпадающее с импортным подмножество «настоящего» оказалось очень важным – в нем поместились вещи тех, кто ориентировался не на «новое однообразие», а на «новое разнообразие»: на индивидуальность, вкус, творческий подход к костюму, не отменяемые бедностью. Именно из этих двух категорий – обладатели «импортного настоящего» и обладатели «индивидуального настоящего» – в тот год сложилась прослойка новых трендсеттеров, крайне важная для развития моды и особенно необходимая, системообразующая в обществе, где после распада старого языка костюма должна была сложиться принципиально новая система отношений между людьми и вещами.
Схема распространения инноваций в обществе, созданная Эвереттом Роджерсом20, часто и эффективно используется для описания распространения модных трендов в процессе их жизненного цикла (ее можно оспаривать, особенно сегодня, но ей трудно отказать в популярности). Роджерс делит общество на пять категорий. Первыми идут «пионеры» (innovators) – дизайнеры, разработчики костюма, стилисты, создающие новые «слова», «выражения» или «интонации» в языке костюма. От них эти слова перенимают (и начинают «обкатывать на языке») так называемые «первопреемники» (early adopters) – люди с широким кругозором, чувствительные к переменам и внимательно относящиеся к собственному имиджу; обычно это публичные фигуры – представители богемных и политических элит и высших эшелонов бизнеса. Под влиянием первопреемников новый модный тренд переходит (не без видоизменений, связанных, скажем, с массовым производством, попыткой сделать предмет более доступным в финансовом плане или менее вызывающим – в плане коммуникативном) к «раннему большинству» – достаточно широкой прослойке общества, состоящей из людей социализированных, интересующихся новостями моды и готовых изменять свой костюм в соответствии с модой. После того как тренд подхвачен и растиражирован «ранним большинством», его перенимает «позднее большинство» – те, кто более традиционен в своих пристрастиях в одежде, кто меньше подвержен влиянию перемен моды и менее чувствителен к интонациям ее языка; обычно эти люди перенимают тренд постольку, поскольку необходимость купить новую одежду совпадает с присутствием тренда почти во всех предлагаемых на рынке коллекциях. Чаще всего финансовые возможности «позднего большинства» ограничены, и оно лишь частично ориентируется на мнение сколько-нибудь широкой группы о своем костюме. Наконец, уже практически отживший свое тренд, давно заброшенный и пионерами, и первопреемниками, и даже ранним большинством, докатывается до условного низа модной пирамиды – до «отстающих»: обычно это люди, относительно ограниченные в средствах, ориентирующиеся в большой мере на мнение непосредственно близкого окружения, не придающие своему костюму особого значения и в еще меньшей мере интересующиеся модой.
Подавляющее большинство потребителей в больших городах промышленно развитых стран (приблизительно 80%) относится, по теории Роджерса, к «позднему большинству» – то есть к тем, для кого костюм важен в значительной мере, но все-таки не является одним из главных ориентиров в построении собственного имиджа; к тем, кто ценит возможность одеваться в соответствии с желанием и настроением, не тратя на заботу о костюме лишних сил и размышлений, но при этом выглядеть современно и располагающе. Для «позднего большинства» «раннее большинство» и «первопреемники» являются важнейшими ориентирами в мире моды, даже если «позднее большинство» не признается себе в этом или не отдает себе в этом отчет; именно под их влиянием складывается интуитивное понимание того, что сейчас «носят». С «первопреемниками» моды представители «позднего большинства» обычно непосредственно не контактируют напрямую: этих людей они видят по телевизору, на страницах газет или на сценах концертных залов; они – своего рода «дальние трендсеттеры», их авторитет высок, но влияние лишено персонального оттенка; демонстрируемые ими ситуации зачастую тяжело примерить на себя, они существуют лишь в качестве глобальных ориентиров. Представители «раннего большинства», с другой стороны, обычно оказываются среди знакомых, близких или дальних, они нередко проживают ситуации, близкие твоим, что усиливает их влияние и их авторитет в качестве законодателей мод; можно сказать, что они служат «ближними трендсеттерами».
В разговоре о ближних ориентирах – то есть о тех, кто был однозначно (по ощущениям вспоминаемого 1990 года) хорошо одет и кому, если бы была возможность, хотелось подражать, – впечатляющее число респондентов описывает свое отношение к этим людям как «зависть». Причем вежливые оговорки, часто принятые при подобных высказываниях («белая зависть», «завидовать по-хорошему»), здесь часто не делаются, зависть не вуалируется, за нее не извиняются и о ней не сожалеют. Из общности интонаций создается впечатление, что тогдашняя зависть воспринимается как полностью адекватная реакция на существовавшее положение вещей, как реакция настолько естественная из‑за огромного зазора в возможностях говорящего и трендсеттера, что к ней не примешано чувство вины, – как если бы это была зависть к героине фильма или принцессе из сказки: «Потрясающий длиннющий шарф… Было завидно, я ей так и говорила»; «Всем импортным „привозным“ вещам, которые были у подружек, я очень завидовала»; «У моей одноклассницы родители часто ездили за границу… У нее было много пар моднючих кроссовок, всевозможные джинсы, прикольные рюкзаки. Тогда были модны юбки-тюльпаны, с моей точки зрения, уродующие любую девочку. Я радовалась, когда она в такой в школу приходила». Впрочем, самих «ближних трендсеттеров» эта зависть, по-видимому, нередко пугала, омрачая радость от возможности прилично одеться: «Шубка у меня была из кроличьих шкурок, достали по случаю, так завистливые одноклассницы ее у меня „общипали на счастье“, так и ходила года три в обгрызенной шубе»; «…не хотела носить джинсы, чтобы меня не считали модной и не шептались за спиной». Уже упоминавшаяся корреспондентка, в 1990 году вернувшаяся в Советский Союз с Кубы, где работал ее отец, пишет: «Это был такой крутой рюкзак, что один мальчик мне сказал, что, если я появлюсь с таким рюкзаком на улице в „союзе“ (то есть СССР. – Л. Г.), меня убьют». Пусть предсказание мальчика выглядит утрированным – оно хорошо показывает, что в силу тогдашней фактической невозможности «позднего большинства» перенять тренд у «раннего большинства» положение трендсеттера часто оказывалось не таким уж приятным.
Среди имен знаменитостей – то есть глобальных трендсеттеров, – на кого в 1990 году хотелось бы походить участникам опроса, ни разу не фигурирует ни одна отечественная знаменитость. Называются имена западных музыкантов и киноактеров, персонажей популярных кинофильмов и солистов рок-групп: «Тогда я хотел себе черную кожаную куртку. Но не „косуху“, а умеренную косуху, как у солиста группы „Depeche Mode“»; «Я мечтал о такой же рубашке, как у Брайана Ино, когда он давал интервью советскому телевидению. Рубашка была в мелкие темные цветы и застегнута была на верхнюю пуговицу». Даже молодое поколение позднесоветской эстрады (например, Валерий Сюткин или Жанна Агузарова), судя по воспоминаниям, не слишком годились в тот момент на роль общепризнанных законодателей мод. Эта парадоксальная, на первый взгляд, ситуация (у маркетологов принято считать, что локальные звезды нередко являются первостепенными трендсеттерами культуры) отчасти, по-видимому, объясняется полной дискредитацией всего советского и постсоветского, в том числе – советских и постсоветских авторитетов любого рода; исключение, возможно, делалось для рок-звезд нового поколения. Можно также предположить, что целевая аудитория тогдашних звезд ощущала их собственную зависимость от западных моделей, ориентированность на стилевое подражание западным авторитетам (начиная с таких звезд первой величины, как Валерий Леонтьев и Алла Пугачева). Второй причиной возможного равнодушия к собственным звездам могла быть появившаяся в соответствующий период возможность знакомиться с иными представлениями о моде и стиле по западным фильмам, число которых в прокате и на видеокассетах резко увеличилось. «Моей сестре хотелось одеваться, как Джулия Робертс в фильме „Красотка“ („Pretty Woman“), причем проститутские ее шмотки тоже нравились, [высокие] сапоги особенно» (фильм «Красотка» у разных опрошенных упоминается четырежды, например в таком сочетании: «Ориентация – „The Working Girl“ (гардероб начальницы Мелани Гриффитс) и „Pretty Woman“ (беленькое платье, в котором Джулия Робертс рассекает по Родео-Драйв)»). Другим неоднократно упоминающимся «источником вдохновения» оказываются латиноамериканские сериалы «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут». Здесь очень интересно обратить внимание на очередное историческое «схлопывание»: «Рабыня Изаура» была впервые показана по телевизору в 1987 году (в 1990‑м показана вновь), трансляция мексиканского сериала «Богатые…» началась в 1992‑м, «Красотку», вышедшую на экраны США в 1990 году, российские зрители вряд ли могли увидеть до 1991 года (за редкими исключениями), но впечатления от взгляда на принципиально другую жизнь оказались столь сильны, что опрошенные видят их как элементы единого, цельного переживания. Утрированные костюмы героев в латиноамериканских мелодрамах были постоянной темой пародий на Западе (в качестве примера можно привести фильм Майкла Хоффмана «Soapdish» (в русском издании на DVD – «Мыльная пена»)21 или вымышленный сериал «Invitation For Love», отрывки из которого фигурируют в сериях первого сезона сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»22), – но в позднесоветском мире они были окном в новый, почти недосягаемый мир. Пожалуй, сходный эффект ранее произвела «Рабыня Изаура» – и этот эффект был еще более парадоксальным, потому что речь идет о псевдоисторическом нарративе, действие которого разворачивается в XIX веке. Кажется, единственным глобальным трендсеттером, действовавшим на территории СССР и оказывавшим заметное влияние в 1990 году, был журнал «Бурда», который, по-видимому, смело можно называть культовым: по крайней мере два поколения советских женщин добывали его номера всеми правдами и неправдами и штудировали от корки до корки; «Бурда» упоминается в ответах участников опроса десятки раз. Журнал делал если не саму одежду, то хотя бы идею красивой одежды общедоступной и давал некоторую надежду претворить эту идею в жизнь. Бок о бок с «Бурдой» существовали еще более труднодоступные каталоги доставки, привозившиеся на территорию Советского Союза в качестве журналов мод: «Если бы могла, я бы просто надела ВСЕ нравящиеся мне модели „Бурда моден“ за год и купила бы весь каталог „Отто“»; «…один из них опять же брат из ГДР прислал, чтоб мама смотрела, что модно за границей, и, может, себе что-то наподобие сшила; я их листала, смотрела, что можно заказать в журнале и как бы я была хороша». Каталоги, с их тщательно выстроенными постановочными фотографиями, зачастую изображающими моделей в бытовых ситуациях, рисовали такую же невообразимую, другую реальность, какая возникала перед «едоками картофеля», перешивавшими старые вещи в позднесоветском 1990 году, во время просмотра кинофильмов «Working Girl», «Красотка» или «Выпускник». Здесь «беленькое платьице» или «проститутские сапоги» имели не значения «вещей самих по себе» – они были атрибутами другого мира, к которому обращались тогдашние макромечты участников опроса. Эти макромечты, в свою очередь, становились ориентирами для создания новой реальности – реальности, в которой может быть место пеньюару и деловому костюму, маленькому черному платью и красным присобранным сапожкам.
По мере того как железный занавес полз в стороны, треща проржавевшими швами, глобальные и локальные тренды внутри страны, переживающей один из своих тяжелейших кризисов, постепенно смыкались. Полулегальный рынок импортной одежды становился легальным. Меньше чем через пять лет в российской печати начнутся жалобы на глобализацию и засилье импортной одежды, на потерю традиции русского костюма (якобы магическим образом сохранявшегося в народном сознании в советские времена), и несбыточная мечта об импортном цветном рюкзаке будет казаться унизительным кошмаром. Параллельно в 1990‑х годах начнется интенсивный процесс реконструкции отечественной текстильной промышленности, которая сегодня демонстрирует вполне конкурентоспособные модные марки и достаточно успешные стратегии работы с локальным рынком; начнет складываться ситуация, когда качественную отечественную вещь нередко предпочитают определенному диапазону низкокачественных импортных вещей. Приход на рынок большого числа как отечественных брендов, работающих в широкодоступной ценовой категории, так и недорогих западных брендов, рассчитанных на «бюджетный» сектор рынка, позволяет любому желающему строить индивидуальный костюм в соответствии с глобальными модными тенденциями, с одной стороны, и с собственными чаяниями – с другой.
Разрушившийся к 1990 году язык костюма, возникший в годы советской власти, прошел несколько тяжелых стадий, но к сегодняшнему дню сменился (по крайней мере, в больших и средних городах России) сравнительно хорошо структурированным новым языком, обеспечивающим достаточную легкость коммуникаций. Из этой точки времени костюм 1990 года, мучения, связанные с его приобретением, неуверенность в транслируемом и считываемом высказывании, одновременные эклектизм и однообразие, творческая эпатажность и стыдливая бедность тогдашней одежды вспоминаются со смесью гордости и отвращения: то, что пережито, удалось пережить, то, что отстроено заново, удалось отстроить.
В августе и сентябре 2006 года, когда шла работа над этой статьей, в российские магазины, торгующие одеждой крупных западных брендов, начали поступать в полном объеме коллекции осенне-зимнего сезона. Общеизвестный эффект, благодаря которому на мировых подиумах периодически демонстрируют ностальгические фантазии на тему тех или иных (зачастую совсем недавних) периодов прошлого, на этот раз проявился в глобальных изменениях силуэта: на смену отголоскам 1950‑х годов с их расширяющимся от талии силуэтом, оборками, пастельными цветами и мелкими рисунками пришли длинные свитера с люрексом, крупные украшения, мини-юбки, джинсовые костюмы и блестящие легинсы – набор мечты, которую мои корреспонденты описывали в своих рассказах о 1990 годе со впечатляющим единодушием и не менее впечатляющим ужасом. День за днем я читала те женские форумы и онлайн-сообщества, в которых приняты обсуждения темы «Что надеть», раз за разом заводила разговоры со знакомыми с целью услышать их мнение об этом новом тренде – и раз за разом получала от тех, кому в 1990 году было хотя бы двенадцать лет, реакцию активного отторжения, неприятия новой моды: «…не могу надеть лосины, от одной мысли дурно делается»; «Только не рукав «летучая мышь»!»; «Девочки, а вы готовы опять носить свитера с легинсами? Что-то не могу себя заставить…». Вожделенные атрибуты модности времен 1990 года в огромном числе случаев явно не вызывают у россиянок ностальгии; в то же время на Западе этот тренд, кажется, выглядит закономерным и принимается рынком на «ура» – по ностальгическим причинам. Не исключено, что пережившие 1990 год здесь, на территории ныне бывшего, а тогда еще существовавшего СССР, свыкнутся с этим трендом, если он продержится достаточно долго: возникнут новые коннотации, старые ассоциации распадутся, и на два-три сезона войдут во вполне индивидуальные и в то же время вполне «соответствующие» гардеробы новых модниц. Но пока что продавщицы четырех крупных магазинов в «Охотном ряду» объяснили мне, что легинсами практически не интересуются. Черными и цветными, импортными, блестящими.
Благодарность
Сердечно благодарю Сергея Ушакина за многочисленные библиографические подсказки, данные мне во время работы над этой статьей.
Позор и гордость: переделка одежды как «сверхсоветская» практика в «смещенных девяностых»
Сложно было в гардеробе найти что-то в изначальном виде, все было изначально чем-то другим.
Ирина Свиридова, участница опроса
В этом был эпатаж. В этом была свобода. В этом была радость. В этом была доля клоунады. В этом был дух времени.
Екатерина Демидова, участница опроса
Стыдно рассказывать.
Дмитрий Аношин, участник опроса
«И в 90‑е, и раньше я перешивала все, что могла найти в шкафах у родственников, – написала Мири Цук, участница устроенного мной опроса о переделках одежды в 1990‑х годах (подробнее о нем речь пойдет ниже). – Особенно гордилась джинсовой юбкой из дядиных протертых штанов, даже в школу в ней ходила в старших классах. Как вспоминаю, до сих пор обдает волной стыда, до того был фасон пошлый и исполнение корявое, но тогда все носили, что попало, а претензии были только у учителей, но я врала, что на форму денег нет»1. При желании на анализе этого высказывания можно было бы построить весь задуманный мною текст – так удачно оно инкапсулирует основные проблемы, кажущиеся автору важными в рамках заявленной темы. Здесь упоминается и «раньше» – то есть период, предшествующий собственно 1990‑м годам, и обнаружение вещей в шкафах у родственников, и тотальность подразумеваемой практики в рамках одного частного гардероба и в рамках всего социума, и гордость за уникат, получившийся в результате кустарного refashioning-а, и последующий, «взрослый», стыд за его качество, и часто возникающая тема лжи окружающим касательно собственной вестиментарной ситуации – и все это лишь те аспекты сказанного, которые лежат относительно на поверхности.
Заданный мной в собственном Facebook2 и в Facebook проекта личных историй PostPost.Media3 вопрос «Как вы переделывали вещи в 1990‑х годах и какие эмоции при этом испытывали?» собрал около трехсот двадцати ответов, которые мне удалось дополнить примерно тридцатью офлайновыми интервью; этот корпус был значительно расширен за счет использования материалов, собранных мной при работе над эссе «Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года»4. Эти ответы совершенно очевидным для меня образом показывают среди прочего, что изолированный разговор о российских 1990‑х как о жестком хронотопе применительно к вестиментарной ситуации может оказаться несколько искусственным: судя по всему, имеет смысл говорить о «смещенных девяностых» – то есть о периоде, начавшемся в конце 1986 года, со стартом второго этапа перестройки и эпохи гласности, приведших к потеплению отношений с Западом, смягчению цензуры, доктрине нового мышления, появлению кооперативов и распаду прежних дресс-кодов в частности и прежнего вестиментарного языка в целом (там же). В огромном числе случаев респонденты, на мой взгляд, не всегда различают (когда речь идет именно о вестиментарных практиках) последние годы существования СССР и начало 1990‑х годов, так как эти практики служили ответами на одни и те же общеизвестные вызовы: от острого усугубления проблемы дефицита до необходимости изменения стратегий самомоделирования в условиях нового, несовершенного и не полностью сформированного вестиментарного языка (там же), от появления новых образов для модного подражания в виде западной прессы и западных сериалов и кинофильмов до усиления и легализации частной торговли и необходимости интеграции предлагаемых ей товаров в гардеробный обиход в зависимости от финансовых возможностей респондента и его семьи. В силу всего вышесказанного именно об этом периоде – о «смещенных девяностых» – в этом эссе и пойдет речь.
Практику переделки предметов гардероба – их перешивания, перемоделирования, редекорирования и создания из предметов, не относившихся прежде к области вестиментарного (для наших целей объединим их не идеально точным, но вполне подходящим термином «апсайклинг»), – с целью продления периода их использования путем сообщения им иных практических и символических функций – можно, по-видимому, полагать основным способом получения новой одежды и новых аксессуаров в обиходе доиндустриального человека, – но, разумеется, индустриализация ни в коем случае не положила конец массовым практикам апсайклинга. Речь в этом эссе не идет об апсайклинге как о современном хобби (в основе которого нередко – хотя и не всегда – лежат сложно связанные между собой творческий импульс и этические установки), но о возвращении апсайклинга в широкий обиход каждый раз, когда индустриальная система обеспечения населения (за исключением малочисленных элит – которые, впрочем, зачастую не избегали общей участи) продуктами легкой промышленности и, в частности, предметами гардероба переставала справляться со своими задачами. В России и СССР процесс массового апсайклинга (как и процесс массового создания одежды с нуля5) по большому счету никогда не прекращался6 – он лишь становился более или менее масштабным и требовал большей или меньшей «глубины техник» (то есть сложности переработки исходной вещи – об этом речь пойдет далее, в разделе 7) в зависимости от доступности и качества исходных материалов. «Глубокий» массовый апсайклинг (перелицовка, изменение гендерной принадлежности вещи, требующий значительных технических умений бриколаж, существенное изменение размеров, создание одежды из неподходящих для этого материалов) эпохи постреволюционной разрухи, послевоенного периода, жесточайшего дефицита постперестроечного периода и ранних 1990‑х годов мог сменяться «мягким» апсайклингом (редекорирование, посадка по фигуре, несложное придание модного силуэта) периода относительного благополучия эпох оттепели или застоя, – но и в эти эпохи существовали те, для кого нормальной практикой была сложная переделка старой вещи в новую. Масштабы присутствия «апсайкловых» вещей в гардеробе конкретного человека в каждый исторический период определялись его персональными обстоятельствами, – такими среди прочего, как обеспеченность, близость к советским источникам «сырья» для новой одежды и к источникам знаний о моде (западные или дефицитные советские журналы, доступ на закрытые просмотры, возможность смотреть зарубежное кино), наличие портновских и рукодельных навыков у него самого или его близких, творческий потенциал – и так далее. Официальные советские нарративы, поддерживая апсайклинг как якобы часть единой системы продвижения идеи советского homo faber7, «человека творящего», умельца и создателя нового социалистического общества8, на самом деле не могли не поощрять апсайклинг из чисто прагматических соображений, так как вслед за промышленностью, не справлявшейся с обеспечением граждан необходимыми предметами гардероба, не могли обеспечить такие дискурсы «советской моды», которые удовлетворяли бы символические и эстетические запросы населения9. Ольга Вайнштейн замечает, что «искусство чинить и переделывать вещи оставалось приметой советской культуры, сохранявшееся как национальная традиция даже в условиях эмиграции»10; однако именно в «смещенных девяностых» эта ситуация в силу ряда обстоятельств создала, как мне представляется, некоторый «парадокс сверхсоветскости» во многих бытовых практиках этого периода вообще – и во всем, что касалось приобретения новых предметов одежды (в том числе – методами апсайклинга) в частности: все, что умел изобретательный «человек советский», – доставать и обмениваться, ремонтировать вещи и переделывать их, организовывать стихийные рынки и торговаться (или торговать) на рынках реальных, устраивать вещевые лотереи на рабочих местах, превращать неносибельное в носибельное и так далее, – для многих вдруг оказалось востребовано в эти годы крайней нужды и крайнего дефицита больше, чем когда-либо (об этом подробно пойдет речь в разделе 4); речь фактически идет о тотальной мобилизации советских навыков вестиментарного бытования. Одна из моих респонденток отметила: «Вся моя советская жизнь меня как будто к этому готовила, и я даже испытывала азарт, когда какое-то мое старое умение пригождалось, как если бы я всегда была солдат в запасе, а тут война, наконец: ну, слава богу, вот теперь я покажу, на что способна, – и в бой, делать из десяти прихваток курточку для сына». По истечении советского времени советскому человеку понадобились все его специфически советские умения, чтобы одеваться в новом, несоветском мире11.
Возможно, именно это сильнейшее диалектическое напряжение между «несоветским» духом нового времени и ультрасоветским характером вестиментарных практик придает воспоминаниям об апсайклинге в интересующий нас период двойственную эмоциональную окраску. С одной стороны, рассказы об апсайклинге нередко сопровождаются репликами, аналогичными следующим: «Жуткие времена, которые не хочется вспоминать»; «ощущение неудобной, неудачно сидящей одежды и белья – самое ненавистное воспоминание 90‑х»; «до сих пор, если продавец в примерочной говорит: „Можно немножко подшить“, я немедленно переодеваюсь в свое и ухожу, – наподшивалась». Очень важным представляется мне следующее свидетельство: «Старшая сестра примерно в эти же годы увидела, как кто-то выбросил хороший еще плащ на синтепоне. Дождалась ночи, притащила его домой, отстирала в машинке и сшила ребенку теплый непромокаемый комбинезон. Говорит, что стыдно было очень, и вообще вспоминает с ужасом», – тема стыда возникает в этих воспоминаниях не раз, и нам еще придется к ней возвращаться. Однако такие высказывания соседствуют как с прямыми ностальгическими нотами («…а еще мы перешивали джинсы в юбки, и у меня ностальгически застонало в груди от этих моделей этого года, которые сшиты так, словно они перешиты из джинсов»; «…В этом был эпатаж. В этом была свобода. В этом была радость. В этом была доля клоунады. В этом был дух времени», так и с очень показательными высказываниями двойственного характера: «Эх, было время! Вспоминать не хочется, но и весело было тоже»; «Вот время было, а? Как будто с высокой горы летишь: жутко и восторг»). Далее, в разделе 4, будет показано, как эта двойственность относительно вестиментарных практик вообще и апсайклинга в частности проявляет себя еще ярче: речь зайдет о причинах для переделки вещей как таковой и о том, насколько респондентами двигала практическая необходимость, а насколько – стремление к воплощению творческого порыва (и, безусловно, видится важным заметить, что уже в работе над эссе «Антресоли памяти» я сталкивалась с показавшимися мне убедительными свидетельствами того, что на вестиментарные воспоминания проецируются крайне амбивалентные отношения респондентов со всем этим сложным историческим периодом в целом). Однако уже сейчас можно рассмотреть другой пример эмоциональной неоднозначности в привязке к апсайклингу: двойственность того, как воспринимались те самые навыки советского homo faber, которые были необходимы для сохранения и создания предметов гардероба и которыми, в силу исторических особенностей, на позднесоветской и постсоветской территории обладали в первую очередь женщины12 (впрочем, в разделе 5 речь пойдет о неоднозначной гендерной специфике апсайклинговых практик). Так, одни респондентки испытывали, по их воспоминаниям, благодарность к советским урокам труда, которые доселе считали ненавистными и бесполезными («Учительница труда рассказывала, как перелицевать пальто. Я удивилась: кому оно надо? И, главное, зачем. Она объяснила, дескать, снаружи затерлось, а с другой стороны – как новенькое. Но мы остались в недоумении. А потом году в 1995 мне пришлось перелицевать пальто матери, чтобы сшить брату куртку. Мне было 20, брату 12»), или к хобби советского времени, прежде не воспринимавшимися, как практическое подспорье («Взяла и переделала эту муфту в пафосную меховую сумку, сплела ручки и украшения макраме из шнуров (кто б знал, зачем и когда может пригодиться на редкость бесполезное умение плести макраме)»), в то время как другие едва ли не винили советскую систему «сделай сам» в случившемся кризисе: «А привыкли, что человек должен сам все уметь, и всем было наплевать, как мы будем жить. Нужно пальто? Сошьешь, хоть из покрышек, а сошьешь. Страна умельцев, и ни о ком заботиться не надо». Сильная эмоциональная окраска этого высказывания представляется неслучайной: вся тема, как мы еще не раз увидим, часто вызывает у респондентов сильный отклик, поскольку находится на стыке нескольких триггерных нарративов: персональной вестиментарной истории, личной истории «смещенных девяностых» (непростого и полного значительных событий времени в жизни почти каждого российского человека старше определенного возраста), творческих способностей, зачастую – истории семейных и межперсональных отношений. Еще одним свидетельством эмоциональной насыщенности темы может, пожалуй, служить та точность, с которой респонденты вспоминают мельчайшие подробности создаваемых тогда апсайкловых объектов: «Одна теперь известная художница, Жанна Кадырова, поразила на втором курсе института: пришла в пальто, а на пуговицы наклеила маленькие рисунки, графику, и залила прозрачным лаком, – вот стильная красотища»; «Все ткани до сих пор помню на ощупь»; «Часть швов была бледно-зеленая, а часть – бледно-голубая, каких ниток хватило».
«Как-то я не помню никаких особых эмоций, все так жили, что-то перешивали и переделывали», – сообщает одна из респонденток, и этот лейтмотив – апсайклинга как абсолютной нормы вестиментарного бытования в интересующий нас период – встречается у респондентов регулярно: «в этом был дух времени»; «получил в руки вещь – готовишься сразу резать»; «Наше поколение только так и одевалось. Иметь руки из плеч – это было нормально. Выделялись скорее те, кто не умел рукоделить». Это подчеркивает ситуацию напряженной мобилизации советских навыков – в значительном числе случаев и в предыдущие годы советская продукция воспринималась скорее как заготовка (исторические параллели с полуготовым платьем тут очевидны), как своего рода полуфабрикат13, чем как вещь, которую можно немедленно начать носить (Голубев говорит о домашних DIY-практиках как о части советского символического порядка14), – однако в значительном количестве случаев советская вещь все-таки соответствовала условному советскому представлению о вестиментарной норме и вестиментарном языке. С точки зрения большинства потребителей, ей требовался неглубокий апсайклинг: посадка по фигуре, подгонка, небольшое декорирование. С наступлением же постперестроечного периода и 1990‑х годов вещи, которые можно было добыть в советских магазинах (или «советские» вещи, лежащие в шкафах), оказались полностью за пределами как новых модных вызовов, так и нового костюмного языка, и апсайклинг, требовавшийся им, иногда был исключительно глубоким, вплоть до радикального. Речь могла идти не только о перелицовке или бриколаже из нескольких вещей, но и о превращении зонта в детскую куртку или обложек для паспортов в кожаную куртку. В силу сложившейся ситуации (как снабженческой, так и индивидуально-финансовой) даже у тех жителей страны, которых вполне устраивала бы продукция, доступная в советских магазинах, больше не было возможности ее приобретать, – а вещи от кооперативов, спекулянтов или с вещевых рынков для многих оказывались недоступными, и это заставляло включиться в систему апсайклинга (или углубить апсайклинг по сравнению со своими прежними практиками) даже тех, кто раньше не был причастен к этой теме: «В жизни раньше не бралась за иголку, а тут просто выбора не было – ну, и постепенно раздухарилась я». Даже технически годная одежда, уже имеющаяся в гардеробе, оказывалась для многих невыносимой в силу своей застарелой советскости и подлежала апсайклингу: «Что-то носить еще было можно, но уже нельзя, если вы понимаете»; «В одно время, пожалуй, у меня не было ни одного предмета гардероба хоть как-то не переработанного или не улучшенного мной самой»; «Сложно было в гардеробе найти что-то в изначальном виде, все было изначально чем-то другим».
Наконец, еще одной важнейшей причиной для возникновения «общества апсайклинга» в постперестроечно-постсоветское время стала открытость самого общества к принципиально новым визуальным кодам, к перестройке вестиментарного восприятия, к появлению в поле зрения уникатов, не соответствующих единой общепринятой норме. Явно созданный своими руками, зачастую технически несовершенный, иногда экстравагантный результат апсайклинга больше не казался вызовом общественному вкусу, – он сам по себе эффективно встраивался в общую картину построения нового индивидуалистического общества, в котором мода больше не диктуется сверху, но в явном (а не в завуалированном, как это зачастую происходило в советское время) виде нередко создается индивидуумами в силу их возможностей, творческих амбиций и персонального понимания главенствующих тенденций. Это объясняет, по всей видимости, почему в воспоминаниях об апсайклинге этого периода так часто заходит речь о вещах, технически неудачных и «непрофессиональных», но зато «модных», «производящих фурор» и в силу этого носившихся с гордостью и удовольствием. В этот период вестиментарная норма не требовала от вещей аккуратности и технического совершенства с прежней жесткостью – индивидуальность, модность и эпатажность могли в ряде ситуаций цениться гораздо выше, потому что лучше отвечали тому самому «духу времени»: «За один вечер с помощью неотрегулированной и несмазанной ножной швейной машинки две штанины этих странных леггинсов были сострочены в один „чулок“. Присобачила к нему какую-то петлю через шею и назначила всю конструкцию выходным платьем. На свадьбе мы произвели фурор»; «Сейчас нитка торчит – фу, говно вещь, а там не то что нитки – там швы не сходились, но я была круче всех и это знала». Екатерина Деготь замечала, что «cоветский предмет <…> базируется на презумпции того, что нравится, того, что он среди своих, что человек человеку не волк. Как вся советская эстетика, этика и общественное (да и политическое) устройство, такой предмет валиден только при условии заранее созданной общности между людьми, только в обстановке консенсуса, иначе его чары мгновенно разрушаются»15. Это замечание еще раз доказывает, на мой взгляд, сверхсоветскую природу некоторых аспектов постсоветского апсайклинга: созданные в его рамках вещи были приемлемы, потому что были общеприняты.
В небольшой дискуссии, развернувшейся под моим вопросом о постсоветском апсайклинге в Facebook, одна из пользовательниц платформы недоуменно поинтересовалась: «Почему в 90‑е? Я и сейчас так делаю иногда», и ей ответили: «Тогда это было довольно массово, и не из любви к искусству, а от необходимости в чем-то все-таки ходить». Однако глубокий анализ советских DIY-практик (разумеется, не только связанных с одеждой) раз за разом эффективно демонстрирует16, что объяснять стремление потребителей, вовлеченных в практики апсайклинга, исключительно бытовой необходимостью и скудостью советского потребительского обеспечения было бы в корне неверно: этот фактор, безусловно, присутствовал, и присутствовал в очень значительной мере, но зачастую творческое начало, желание создавать, моделировать, преображать вещи, быть вовлеченным в созидательный процесс и наслаждаться плодами его трудов (что тоже, по-видимому, может рассматриваться как прагматические результаты – однако в другом понимании) оказывались исключительно сильными мотиваторами, заставлявшими апсайклеров преобразовывать гораздо больше вещей, чем требовала суровая необходимость, а сам апсайклинг делать куда более глубоким, чем нужно было бы ради решения исключительно прагматических проблем. «В этом был эпатаж. В этом была свобода. В этом была радость. В этом была доля клоунады», – признается одна респондентка. «У меня все это вызывало восторг и вдохновение, казалось, что с каждой новой вещью и настроение, и сама жизнь вокруг меняется», – сообщает другая. «Мы перешивали постоянно. Так понимаю, не только из бедности», – осторожно добавляет еще одна участница опроса, обнажая сложную диалектику «бедности» в этой ситуации: под «бедностью» может пониматься невозможность купить младенцу теплый конверт, а может – невозможность достаточно модно и разнообразно одеваться каждый день для выходов на работу: «Носила две пары брюк, пока не сшила себе еще две из старых отцовских, и чувствовала себя нищей». Мотив «не только бедности», а целого комплекта причин, ведущих респондентов к масштабному и регулярному апсайклингу в указанный период, – очень распространен: создается впечатление, что недостаток средств и товаров в целом ряде случаев служил еще одной легитимацией включения в гардероб и постоянного ношения творчески переработанных вещей, даже если эти вещи не были «профессиональными» в плане качества: «Двигало мной, помимо жесткой нехватки средств в семье – и тогда, и позже, в институте – желание одеваться не как все, отличаться от других»; «Чувства помню – азарт и удовлетворение от результата»; «А любила я это дело. Все получалось – особенное, интересное, местами красивое. Плюс сознание, что ничего не пропадало»; «Мне нравились все эти „эксперименты“, и умение из чего-то старого или негодного смастерить новое, и возможность не ходить в штопаном, чиненом, или явно с чужого плеча, приносило радость».
Многие респонденты и респондентки говорят о чувстве сродни творческому азарту, которое постепенно овладевало ими по мере прихода понимания, что их навыков и способностей хватает для довольно смелых экспериментов, а общество, как говорилось выше, готово принимать их вестиментарный выбор: «У меня были прямо фантазии о переделках, я жадно искала, во что бы еще вцепиться, словно высвободилась какая-то возможность»; «Идей было больше, чем вещей, у меня руки чесались еще что-то переделать, я почти ничего два раза не носила»; «идеями, помню, тогда просто фонтанировали»; «До появления секондов шили что-то невообразимо смелое и прекрасное». Здесь оказывается значимой, в моем представлении, фраза еще одной респондентки: «Радость, юность, все только начинается», – не исключено (эта версия требует проверки), что количественный анализ на гораздо более масштабной выборке (захватывающей не только апсайклинг, но и другие практики самомоделирования в указанный период) показал бы, что эта смелая готовность «фонтанировать идеями» и воплощать их в жизнь была свойственна в первую очередь младшему поколению – и не только потому, что оно в целом зачастую оказывается менее консервативным в вестиментарном плане, но и потому, что постперестроечный период чаще вспоминается именно теми, кто находился тогда в относительно молодом возрасте, как время невероятных свобод и возможностей (в том числе – в области самоизобретения и саморепрезентации), тогда как старшее поколение чаще говорит о финансовых и бытовых трудностях, в том числе – связанных с необходимостью «одевать» себя, младших членов семьи и неспособных позаботиться о себе или дезориентированных новой культурно-экономической ситуацией родителей (что, конечно, не мешает упоминать и свободу, и большие ожидания – как свобода и большие ожидания не мешают младшим упоминать тяготы постперестроечной жизни: «Мне 17, маме 43. Совершенное счастье от процесса творения!»). Впрочем, память об апсайклинге как о вынужденной практике зачастую обнаруживается как раз у более юных участников опроса, вынужденных носить результаты апсайклинговых усилий старших членов семьи, или просто у представителей младшего поколения, которые предпочли бы роскоши творческого апсайкла возможность носить «настоящие» (то есть созданные промышленным образом, желательно – вне СССР, или, на худой конец, сшитые профессионалами – см. раздел 10) вещи: «Из самого ужасного, что помню – штопка колготок. У меня тонкие светлые волосы и мама меня научила ими штопать колготки абсолютно незаметно»; «Швея париться не стала и просто обрезала низ шубы, и из большущего куска сделала громадную муфту и пришила ее к шубе впереди. Из стандартного вида изделия длиной до колен, получилось квадратное нечто длиной примерно до попы с гигантским карманом-кенгуру-муфтой впереди. Ну а так как денег на другую одежду не было, я всю зиму ходила в этом кошмаре. До сих пор помню, что из‑за этого ужаса и стыда ходить в нем, не оставалась гулять после школы с ребятами и потеряла часть друзей :(»; «В семь лет я выросла из детской осенней куртки, и мама тогда удлинила мне рукава и подол вставками из старого зонта. Зонт был детский, с узнаваемым рисунком, такие зонты были примерно у всех детей, и я очень стеснялась ходить в зонте, хотя даже в свои семь лет понимала, что решение было суперкреативное, и бело-зеленый зонт по цвету идеально к куртке подходил, и вставки были необычной геометрической формы, – мама очень постаралась»; «В целом от перешивания ощущения были скорее неприятные, потому что все это было не по моему выбору и желанию, а мама с бабушкой решали», – и, наконец, одно из самых радикальных свидетельств о разности ситуаций, в которых оказывались представители двух поколений, когда старшим необходимо было обеспечить младших хоть какой-то одеждой на период холодов, а младшие оказывались в невыносимой для себя ситуации: «У моей прабабушки сохранилась вещь из двадцатых, наверное, годов. Шляпка-клош из меха, извините, домашней кошки. Такой, серо-полосатой, узнаваемой. И вот год, наверное, 91‑й, зима, у меня нет вообще никакого головного убора. Мама находит эту шляпу. У меня истерика, говорю, что в этом не пойду никуда. Мама говорит, что все решит, ночь не спит… Утром у меня модной формы капор. Из той же кошки. И мама уверена, что проблема решена, я теперь с удовольствием буду ходить в школу в этом. Похоронила. Сказала, что потеряла».
Зачастую комфортность или дискомфорт от ношения результатов апсайклинга в огромной мере диктовались средой общения респондента или респондентки. Так, бывшая студентка МАрхИ рассказывает, что «покупали только обувь/сумки/перчатки. Все остальное шили/вязали. По привозной Бурде. Девочки в МАрхИ рукастые, так что никаких проблем. Еще и туфли расписывали и бижутерию пекли в духовке», – что, судя по всему, свидетельствует о принятии, если не поощрении, апсайклинга как проявления творческого начала в этой среде. Однако, если анализировать слова других респонденток, может создаться впечатление, что их окружение было куда менее милосердным к вестиментарным плодам кустарного труда: «Когда я подозревала, что все-таки понятно, что [я ношу это] не от хорошей жизни, то вечный фоновый страх разоблачения»; «Самым грандиозным проектом, еще до замужества, было перелицованное мамино пальто. Я еще и видоизменила фасон. Долго не носила – кузина сказала „ты в нем как нищая“, ну я и подумала: чо это я, пойду куплю страшную китайскую куртку на синтепоне, как все»; «Происхождение вещей не афишировалось, перешивать – в нашем кругу считалось признаком бедности». Иногда для того, чтобы преодолеть отношение окружающих к апсайклингу и перестать испытывать острый дискомфорт от ношения «ненастоящих» вещей, требовалось внутренне измениться: «Когда стала постарше, то появилась бравада и сознательное игнорирование социальных ожиданий насчет одежды. Но все это, конечно, сильно завязано на унижении от невозможности выбора. Даже если были деньги, отнести их можно было только на омерзительнейший китайский рынок, что воспринималось как дно позора. Борьба за красоту и собственный стиль с попеременным успехом». Но зачастую даже попытки работы над собой не помогали преодолеть неловкость за собственную бедность: «Элитная школа и я, самая умная, но в крепдешиновом платье в цветочек, перешитом из безразмерного маминого, и в бабушкиных сапогах. Прочла брошюру про аутотренинг и приучала себя не чувствовать их взгляды. Никогда не испытывала такого презрения к себе. Никого так, как их, не ненавидела».
Иногда апсайклинг давал чувство, что респондент, даже не спасая себя и членов семьи от крайней нужды путем, например, создания теплых зимних вещей («пальто дочке из папиной шинели с чердака – а то бы мы эту зиму не пережили»), в целом участвует в общем усилии по борьбе с нуждой, создавая себе новые предметы гардероба вместо того, чтобы расходовать семейные ресурсы на покупку: «Гордилась тем, что все переделывала из старого или шила, не купила, кажется, за семейные деньги ни одной вещи». Не будучи «настоящими» вещами, получившиеся в результате апсайклинга уникаты могли, в конце концов, брать на себя аналогичную роль «настоящих» вещей – роль товара – и, таким образом, помогать бороться с нуждой, не становясь частью гардероба своих создателей или их непосредственных близких: «Самый крутой перешив – это когда мать с подругой в начале 90‑х в уцененке скупили всю партию обложек для паспортов и партбилетов из натуральной кожи, отмочили в специальном растворе, чтобы размягчить, и нашили из них сумок и даже куртку. Но тиснение „КПСС“ и „СССР“ все равно кое-где проступало. Но это было даже хорошо. Распродали все на Арбате за день»; «Огромный свитер оранжевого цвета из Германии, выданный в школе в качестве гуманитарки… я распустила, связала из него 10 пар носков, и мама смогла на рынке обменять их на продукты. На этом свитере мы прожили месяца два»; «Моя мама покупала в переходе на Пушкинской (Москва) лоскут – трикотажные обрезки с какого-то швейного производства – и шила из них юбки, платья, спортивные костюмы – и мне, и на продажу». Даже сами навыки апсайклинга могли эффективно монетизироваться или служить основой для бартера: «Знакомые интересовались, где достали? Ну а потом начали тащить нам [с мужем] свои отслужившие джинсы, плащи, а мы шили из них куртки для их детей. В награду получали привезенные из сел картошку, разные овощи, яйца, сало».
Упоминающийся в предыдущем примере тандем мужа и жены, шивших детские куртки, показателен. Большинство описываемых случаев апсайклинга приходится на долю женщин17, и большинством респонденток, спонтанно поучаствовавших в моем онлайн-опросе, тоже оказались женщинами, – но представляется неверным считать, что апсайклинг в «смещенные девяностые» оказался сугубо женским делом лишь потому, что надомное шитье и рукоделие, связанное с текстилем, было традиционно женской практикой18. Представляется более верным предположение, что для выживания в новых социально-экономических условиях были необходимы «сверхсоветские» DIY-умения всех членов семьи (не только применительно к вестиментарным практикам). В эпоху тотального апсайклинга умение перешивать и переделывать одежду опять становится «как материальным, так и символическим женским капиталом и метафорой женской успешности» – как это было в доиндустриальной крестьянской России19 и, безусловно, в куда более значимой мере, чем в период 1960‑х – ранних 1980‑х годов. Однако теперь и мужчины зачастую принимали активное участие в апсайклинге вещей (как раньше могли принимать участие в их «доставании» или приобретении за границей), если имели соответствующие навыки (здесь нельзя не отметить, что такая ситуация, безусловно, не была распространенной и что, судя по всему, забота о гардеробе всех членов семьи ложилась в первую очередь на женщин). Во-первых, среди моих спонтанных респондентов около 7% были мужчинами (большинство из них делали неглубокий апсайклинг, вроде окрашивания футболок и обрезания джинсов, но некоторые пускались на переделки значительной сложности), а во-вторых, в свидетельствах многих женщин упоминаются мужчины-апсайклеры, помогавшие женщине справляться с задачей наполнения гардероба: «В середине 90‑х у меня был прекрасный тандем с моим тогдашним молодым человеком. Он умел шить, а я умела вязать. И вот он мало того что шил новые вещи, стильные по самое немогу, но и переделывал из старых. Помню, сшил мне шикарные шерстяные шорты персикового цвета из старой маминой юбки. У меня они жили очень долго, пока не закончилась мода носить зимой шорты на колготки. Я, в свою очередь, покупала по дешевке в секонде страшные свитера ради ниток, распускала их и вязала новые»; «Муж моей тети отлично шил, самоучка. Из рабочих рукавиц сварщика, из грубой замши разных нелепых цветов, сшил куртку»; «из Алжира везли шерсть уже в виде готовых изделий, поэтому они [врачи] вязали с дикой скоростью везде и всегда, кроме операционной, даже мужчины, – в частности ее папа-уролог вязал пледы»; «В 1990 мне был 1 год. А за пару лет до этого мой папа привез себе из Афганистана настоящие крутые джинсы. И вот в 1990 году папа взял швейную машинку и перешил свои роскошные джинсы на меня. Перенес все карманы и заклепки, лейбочки и пуговицы. Я была самым роскошным годовалым ребенком в Челябинске и, возможно, во всей России начала 90‑х». Однако по прошествии тяжелых лет, уже в конце 1990‑х годов, судя по свидетельствам респондентов и респонденток, эти же мужчины начали отказываться от практик апсайклинга и шитья (как, впрочем, и многие женщины); с некоторой вероятностью, временная необходимость в навыках и временный же творческий порыв не смогли полностью изменить гендерные установки, и апсайклинг предметов гардероба продолжил быть преимущественно женской сферой.
Способность советской вещи иметь исключительно долгую культурную биографию20 – то есть ее способность переходить от обладателя к обладателю, перешиваться, переделываться в другой элемент гардероба, затем становиться рипком21 или тряпкой22 и даже в этом качестве служить до последнего – в интересующий нас период приобретает совершенно особые масштабы, – и это оказывается еще одним примером «сверхсоветскости» постсоветского вестиментарного порядка: «А еще одни джинсы мы с одноклассницей в хлорке варили, потому что хотелось белые, но имелись в наличии только грязно-синие»; «Моя подруга отдала мне такие вываренные белые джинсы, когда перестала в них помещаться, но на них было уже полно пятен, и я их сварила в коричневой краске, получились восхитительно рыжего цвета. А потом я перестала в них помещаться и отдала другой подруге, она сварила их в радикально-черном цвете». Вещь могла не только переходить от человека к человеку, преображаясь у каждого нового хозяина, но и постоянно меняться в рамках одного и того же гардероба: «Помню, купила „чортовой кожи“, – такая толстенная х/б ткань для рабочей одежды. Сначала я ее вываривала с отбеливателем – стала мягкая и красиво-серая. Потом сшила штаны, походила – перекрасила в красный. Потом еще походила – перекрасила в черный». Иногда достаточно было совсем поверхностного апсайклинга, чтобы биография вещи могла продолжаться: «Сначала было модно клеши, потом бриджи: все поотрезали свои клеши, конечно; потом стало модно шорты, мы и бриджи обрезали», но очень часто переделки были довольно серьезными – и совершенно не обязательно вещь превращалась в номинально другую – они могли подвергаться ремонту, перелицовке, реставрации: халат оставался халатом, но жил долгую жизнь: «Вообще из советского времени перешивалось все и по нескольку раз, потому что ткани не выцветали и не вытирались, только нитки сыпались. Помню мамин халат из китайского шелка, который перепрошивали раза три за 15 лет, ткань была как новая». В этом свидетельстве представляется важным образовавшийся логический феномен: комплимент делается «вещам из советского времени», но «китайскому шелку» – то есть речь тут не идет о вещи советского производства, а только о том, что биография, начавшаяся в советские годы, имела все шансы длиться едва ли не вечно. Если же у самой вещи и были недостатки, апсайклингу подлежали материалы, из которых она была сделана: «Купила белый пух в Нальчике, сплела его с тонкой ниткой, связала костюм себе, пух предсказуемо вытерся в отдельных местах, распустила, связала комбинированное платье. Потом из платья сделала пушистый свитер себе» (примечательно, что эта практика очень близка по своей сути к практике создания вещей из рипок23 – за тем исключением, что «рипком» оказывается не разъятая ткань, а исходная пряжа, и созданная из нее вещь не особо меняет свое символическое и практическое значение, становясь ковриком или ритуальным объектом: она возвращается в гардероб для дальнейшей носки). Этот прием – распускание старой вещи и вязание из тех же ниток нового предмета гардероба (уже упоминавшийся в данной статье, хотя в предыдущих примерах у вещей были другие хозяйки прежде, чем те попали к респонденткам) – очень часто использовался на советском и постсоветском пространстве, поскольку качественная пряжа сама по себе была дефицитом и, как и ткань, подвергалась апсайклингу (окрашиванию, размягчению, разделению на волокна, пушению или сглаживанию): «Покупала никому не нужную толстенную синюю пряжу, из которой все стояло колом, и разматывала ее на три клубка вдоль, как бабушка учила; получался огромный объем тонких качественных ниток»; «у меня было два самовязанных свитера, которые я периодически распускала, миксовала между собой и перевязывала. А коллеги на работе говорили: „Блин! У нее опять новая кофточка!“»
Именно желание разнообразно одеваться (и производить впечатление разнообразно одевающегося человека) могло привести к процессу, благодаря которому культурную биографию предмета гардероба в целом следует, возможно, измерять не во временных единицах, а в циклах апсайклинга/ресайклинга: вещи видоизменялись не тогда, когда переставали устраивать обладателей по прагматическому (например, «носкость») или символическому (например, «модность») параметру, но когда возникали проблемы с параметром «новизна». Так, респондентка, рассказывавшая о перекрашивании штанов, добавляла: «А работала я тогда по распределению в НИИ, и начальник был такой… с выводами. Все это я проделала за месяц, и на третьей переделке он не выдержал – „Ты, как я посмотрю, зажиточная девушка – штаны как перчатки меняешь!“ Вот времена были, сейчас никто даже не поймет». Еще одна респондентка делится похожей историей: «На моей первой „взрослой“ работе мне сказали: „Кажется, денег-то куры не клюют, наряды у тебя не повторяются, девушка!“ Это было весело :) Потому что „наряды“ не стоили почти ничего, а некоторые выглядели и правда нормально». Третья респондентка свидетельствует о том, как переделанная вещь и поменяла хозяина, и прошла процесс бриколажа на этапе выбора исходного материала, и потом неоднократно переживала апсайклинг ради эффекта новизны: «Мама распустила свое прекрасное голубое платье, постирала пряжу, добавила клубок ангорки и связала мне джемпер. Каждый сентябрь в старших классах, когда форма была уже необязательна, я появлялась в новом свитере, потому что мама за лето распускала и перевязывала старый с добавлением какой-то новой детали или нитки». Возможность одеваться разнообразно путем апсайклинга одних и тех же вещей или одних и тех же материалов ценилась очень высоко: позднесоветское общество с его обсессивным интересом к материальному было, по сути своей, глубоко буржуазным24, а постсоветское, захваченное новым вещным миром, проникающим на бывшее советское пространство, и его соблазнами, – гипербуржуазным (в этом плане) – и – по этому показателю – вновь – «сверхсоветским»; в буржуазном же обществе мало что оказывается таким маркером бедности и неуспешности, как необходимость постоянно носить одни и те же вещи.
Апсайклинг не обязательно должен был быть, по всей видимости, настолько глубоким, как в примере с перевязыванием свитера из прежней пряжи, чтобы производить желаемое впечатление новизны. Иногда очень простые приемы давали желаемый эффект: «Стирала черный шерстяной свитер – он садился и становился плотный в обтяжечку, стирала опять и изо всех сил растягивала булавками на диване – получался оверсайз, и все были уверены, что у меня два свитера». Собственно, в высшей степени интересно, насколько глубина апсайклинга (то есть, во-первых, степень вмешательства в исходную структуру вещи или вещей, легших в основу нового предмета гардероба, а во-вторых, уровень навыков, необходимых для его создания) зачастую недооценивается участниками процесса: очень часто о процессе апсайклинга говорят, используя слова «просто», «всего лишь», «только», когда речь идет об очень значительных переделках: «Пальто было отрезное по линии талии и офигенно сшито. Переделать его было как раз очень просто – я просто очень аккуратно распорола этот шов на талии, и у меня образовался короткий модный жакет и юбка с запахом. Ну понятно, что пришлось немного подправить линию плеча – на более мягкую, чуть заузить рукава, подкладку посадить соответствующим образом»; «Лет в 13 перешила из длинной юбки годе мини, изнанка помню была страшная, а с виду очень даже. Сейчас шью себе одежду и иногда переделываю из пальто другое пальто, воротники меняю, и т. д., – ничего, в общем, примечательного»; «…обычное, типа перелицевать пальто и сшить из него драповую юбку». Существует даже тема переделок, которые словно бы не считаются переделками, – поверхностный апсайклинг (декорирование, раскрашивание, окраска, отрезание частей одежды) как будто едва заслуживает упоминания на фоне того, в каком масштабе (как говорилось выше) и каким глубоким апсайклингом занимались другие, зачастую близкие респонденту люди: «Я только варил джинсы и отпарывал лейблы типа XUINAXUI с вещей, купленных на Черкизоне»; «ничего не делала – разве что красила во все цвета футболки и колготки и спарывала на папиных рубашках воротники». Одной из причин для того, чтобы «не считаться», может служить отсутствие в процессе апсайклинга особого творческого начала: если вещь получалась «обычная», лишенная экстравагантности или нетривиальности, ее обладательница или обладатель могли счесть даже глубокий апсайклинг незаслуживающим внимания: «Сделала на мамином сарафане оборку по подолу, вытачки, врезала карманы и пришила рукава – летучая мышь, вышло платье-макси, но это неважно, а вот мини из расстегнутых перевернутых папиных джинсов – это было круто, хотя там просто подвернуть немножко и втянуть резинку». Глубина апсайклинга в первом случае обесценивается, потому что вещь не дала создательнице ощущения изобретательского триумфа, зато поверхностный апсайклинг второй вещи признан «крутым», судя по всему, ровно из‑за чувства творческого достижения. Таким образом, в понятие глубины апсайклинга, видимо, нужно внести не только масштаб изменения исходных вещей и сложность потребовавшихся навыков, но и субъективное измерение дизайнерской мысли – и тогда платье из сарафана и юбка из папиных джинсов несколько уравняются по «глубине», пусть и с точки зрения разных параметров. Более значимым тогда окажется и неглубокий, но важный процесс апсайклинга, призванного скрыть потертости, дыры, трещины и другие повреждения предметов гардероба: он мог требовать несложного набора навыков и неглубокого вмешательства в структуру вещи, но большой изобретательности: «Были туфли из 50‑х на каблуке-рюмочке с потрескавшейся кожей. Из обрезков платья сделала к ним банты, так и носила»; «Ветровку покрасили в розовый цвет, спереди сделали вышивку и аппликации на пятна»; «Из туфель вырезали мелкий кожаный горох и очень креативно наклеили везде, где были прожоги от сигаретного пепла».
Своего рода нуль-апсайклингом, апсайклингом самого поверхностного уровня и отправной точкой шкалы, можно, наверное, считать умение носить вещи с повреждениями так, чтобы эти повреждения были незаметны. Екатерина Герасимова и Софья Чуйкина отмечали, что в советский период процесс приспособления и взаимного привыкания друг к другу вещей и людей часто был длительным и болезненным, приводя в пример такой способ носить рубашку, чтобы не был виден брак рукава под мышкой25. Здесь вновь проявляется сверхсоветскость вестиментарной ситуации «смещенных девяностых». Eе исключительная некомфортность, постоянная необходимость огромного числа людей носить чужие26, некачественные и, наконец, кустарно переработанные вещи вела к тому, что множество таких вещей требовало именно приспосабливания к себе: «В самом начале 90‑х ходила в огромных дедушкиных рубашках и пиджаках и в кирзовых ботинках для малярш из „строительной одежды“, потом один ботинок скрипеть начал. Входила в аудиторию со словами: „Я – Баба-Яга, костяная нога“, но все равно ходила»; «Мне досталась роскошная шелковая рубашка в огурцах из гуманитарной помощи, но у нее сзади был порван и заштопан белым воротник, и расштопывать было нельзя – поползет, а надо было просто всегда так держать голову, чтобы хвост падал на правильное место и закрывал». Здесь навыками апсайклинга оказываются навыки поддерживать шутливый нарратив или правильно владеть телом – и апсайклинг этот, пусть и формально поверхностный, все-таки оказывается значительным.
В то время как некоторые респонденты создавали новые предметы гардероба, постоянно используя одну и ту же технику («Я вообще очень многое переделывала. В основном соединяла детали крючком»), другие видели в эпохе тотального апсайклинга период, когда можно было пустить в дело все свои рукодельные навыки: например, сшить платье, связать к нему рукава, вышить карманы, добавить сплетенный из макраме пояс, сделать бижутерию из оставшихся кусочков ткани. Как обмен информацией о навыках, так и предоставление самих навыков в помощь другому человеку нередко делали создание гардероба в условиях тотального апсайклинга коллективной практикой. Так, с одной стороны, знания о том, как красить колготки или увеличивать их с детского на взрослый размер («Черных капроновых колготок не было в продаже, кипятили колготки телесного цвета вместе с черным школьным фартуком»; «Колготки: купить детские и распустить петли так, чтобы они вытянулись в длину – научили однокурсницы, но все равно носить это было можно только от безысходности» – техника, о которой респондентки говорят постоянно: тема колготок, естественным образом, вообще обширна), передавались, как видно из примера выше, от подруги к подруге или в женских коллективах, как передавались знания о том, что можно создать «клеша», вставив клинья в обычные штаны, или о том, где купить мужское нижнее белье, которое можно перешить в женские брюки (об исходных материалах для апсайклинга речь подробно пойдет в разделе 8). С другой стороны, респонденты могли приходить друг другу на помощь, обмениваясь навыками: «Я подруге пришила к обрезанным джинсам волан, так, что получилась модная юбка, а она надвязала мне черный свитер до водолазки»; «У нас с сестрой были вещи, которые мы делали вдвоем: что-то умела она, что-то я, вместе справлялись». Здесь отчетливо пролегает тонкая грань между вынужденным апсайклингом и обращением за услугами к портнихе или к шьющей подруге: «Шила бы с нуля себе и другим – но нормальные ткани тоже брать негде было».
«Кажется, в тот момент я на любую вещь смотрела с этой точки зрения: как бы ее перешить», – замечает одна из участниц опроса. «Дефектность вещи – это всего лишь иллюзия, которую беспощадно разоблачают знания и действия умелого хозяина», – писала в статье под названием «Апология странной вещи» исследовательница Галина Орлова, имея в виду способность советского человека «пересоздавать» предметы советского обихода благодаря своим DIY-навыкам и соответствующим знаниям27. Эту же «иллюзию», требующую обязательного разоблачения, видимо, имел в виду коллекционер и специалист по костюму 1990‑х годов Миша Бастер, утверждая, что в эпоху «смещенных девяностых» андерграундные дизайнеры рассматривали любые предметы с точки зрения того, можно ли их вообще как-нибудь надеть на человека28. Создается впечатление, что у вовлеченного апсайклера (как тогдашнего, так и современного) возникает совершенно особая оптика, схожая с пресловутой оптикой скульптора, прозревающего статую в куске мрамора: в самых разных исходных материалах, иногда, на взгляд не-апсайклера или человека, менее вовлеченного в процесс, совершенно не подходящих для создания предметов гардероба, прозревать возможную куртку, платье или хотя бы фенечку. Эта оптика становится едва ли не частью той апсайклинговой компульсии, о которой вскользь говорилось в разделе 4: «Я на все смотрела жадными глазами: во что это переделать и как на себя навесить». Исходный предмет или материал становится здесь «не потому хорош, что может быть использован в ином качестве, а напротив – ему нужно найти новое применение, потому что он хорош»29. В своей важной, на мой взгляд, статье «Making Selves Through Making Things» («Создавая вещи, создавать себя») Алексей Голубев и Ольга Смоляк замечают, что «в позднесоветской культуре любая вещь могла стать чем угодно другим и поэтому априори выполняла роль сырья, даже если была совершенно новой»30. В сверхсоветском вестиментарном пространстве описываемого нами периода этот принцип действовал с впечатляющей силой. Даже когда речь шла об апсайклинге самого базового портновского материала – ткани как таковой, – эта ткань изначально могла быть полностью непригодна для шитья: «Мой случай, наверное, днище. Я купила какую-то наждачку, но на бязевой основе. Выварила ту бязь в отбеливателе и сшила капец какую модную юбку с контрастной отстрочкой. В школе было дело, очень хотелось быть красивой и модной». При всей сложности экономической ситуации и приведенные выше, и следующие ниже свидетельства респондентов дают понять, что наждачная ткань вряд ли все-таки была единственным доступным респондентке материалом, – но оптика тотального апсайклинга, во-первых, позволила этой ткани попасть в ее поле зрения, а во-вторых – сделала ее допустимым материалом для создания одежды (при всей глубине потребовавшейся переделки); другой аналогичный пример: «Мой отец военный приволок рулон „ткани“, которой на полигонах оббивали макеты танков и другой техники, а потом красили. Так вот, этот рулон мы по частям вываривали в баке для белья от клейстера, или крахмала. После вываривания обнаружилась нежнейшая хлопковая ткань». Еще одна респондентка рассказывает: «В клубе, где я недолго работала, меняют шторы – такие черные, плотные, маскирующие свет. Мы снимаем эти шторы, и директор говорит: „Девочки, берите кому сколько надо, я их все равно спишу“. А шторы старые, пропыленные, местами выцветшие. Выбрала две шторы примерно одного цвета, из одной сшила пиджак, из второй – юбку с охренительно крутыми клиньями годе». В этом примере видно, что та же оптика распространялась не только на самих апсайклеров, но и на тех, кто понимал саму возможность такой ситуации (наверняка практики апсайклинга бытовали и среди его близких). «Рубаха из ткани, которую в дружественной библиотеке выдавали полы мыть. В общем, из половой тряпки», – символическое назначение исходного материала не играло особой роли, оптика апсайклинга переназначала и возвышала его до положенной высоты. Отдельной категорией условных тканей – вернее, полотнищ – оказывались флаги, – и воспоминаний о перешивке флагов в предметы гардероба оказывается много; советская символика, присутствующая на флагах, в тот момент была в моде31 и делала получившиеся уникаты еще более привлекательными и семантически нагруженными (отдельно следует заметить, что советские флаги в качестве исходных материалов очень ценились первыми постсоветскими дизайнерами – от Елены Худяковой и Ирины Афониной до Кати Мосиной и Кати Микульской: «Самые занимательные вещи – алая юбка-брюки по бурде из советского шелкового флага. Нежнейший чистый шелк. Серп и молот приходились на одну из половинок попы»; «Моя мать работала в администрации поселка и у них списали огромное количество флагов советских республик из крепдешина и шелка. Маман их забирает и идет к знакомой швее и заказывает себе красных блузок к своим костюмам»; «Около ЦДТ (Москва, Центральный дом туриста) стояли флагштоки, довольно высокие, а на них – яркие голубые, зеленые и еще какие-то полотнища. Почему они там были и что символизировали, не знаю. И она как-то залезла ночью и срезала два, голубой и зеленый. Сшила две длинных юбки». Можно представить себе, что в период тотальной нехватки тканей качественные яркие полотнища вызывали у апсайклеров совершенно блоковскую реакцию: «Сколько бы вышло портянок для ребят!»
Когда новые предметы гардероба создавались из других предметов гардероба, одной из задач апсайклера могло быть сокрытие «культурного прошлого» вещи в стремлении выдать ее за «настоящую». При том что общество в значительной мере принимало апсайклинг (см. раздел 1), для этого могло быть несколько причин, среди которых – стыд за собственную социальную и финансовую неустроенность, вынуждающий тебя носить переделанные вещи; желание насладиться уважением из‑за того, что вещь принимают за «профессиональную» (см. раздел 10), и «постыдная тайна», скрывающая это самое «культурное прошлое» исходного предмета одежды. Последнее опасение распространялось в первую очередь на предметы гардероба, сделанные из нижнего белья. У традиции подобных переделок в СССР долгая история – например, существует богатый пласт анекдотических свидетельств о блузках из трофейных комбинаций (и, конечно, просто о ношении этих комбинаций в качестве платьев32) и переделывании шелковых панталон в женские кофточки в тот же самый период крайней нужды: «Моя тетушка рассказывала, что в 50‑е годы зарплату иногда выдавали разными товарами, и вот на ее предприятии как-то раз выдали дамскими шелковыми панталонами. Я уж даже не знаю, казалось им это смешно или нормально. Потом все сотрудницы понашили себе из них нарядные блузки, розовые. Кружавчиков еще там всяких попришивали… Самое интересное, что все знали, что они из трусов, причем из совершенно одинаковых. И при этом делали вид, что этого не замечают. Или правда они не замечали? Я, честно говоря, уже не понимаю»33 (обратим внимание на специфику сокрытия и раскрытия «культурного прошлого» вещи в последнем примере). Историческая тема с комбинациями продолжала развиваться в «смещенных девяностых» – сочетание женственности и яркости делало этот предмет привлекательным исходным материалом для апсайклеров, а качественная ткань и способность польских, немецких и югославских комбинаций храниться подолгу вели к их накапливанию в семейных гардеробах: «Я перекроила бабушкины комбинации натурального шелка, привезенные из послевоенной Германии, и сделала себе три топа с кружевами – цвета крем-брюле, черный и бледно-розовый»; «Одежды не было, тканей не было, в бельевом отделе ГУМа висели комбинации огромного размера из плотного трикотажа персикового цвета с блеском. Мама сшила из двух таких мне блузку. Как сшила помню, а как я ее носила – совершенно нет. Не любила я эту вещь». Возможно, комбинация наименее требовала «сокрытия прошлого», будучи сама предметом промежуточного характера, – но если речь шла о кальсонах, трусах, мужском (особенно мужском – для женского костюма!) нижнем белье («В московском „Военторге“ покупалось исподнее из хлопка и перешивалось в модные штаны-бананы»; «Из китайских мужских кальсон делается кофта летучая мышь: они переворачиваются, ширинка становится горловиной»), страх раскрытия исходников был очень силен, а секрет превращения не раскрывается даже ради возможности похвастаться достижениями: «В дело пошли привезенные папой несколько пар пунцовых мужских шелковых трусов-семеек. Юбка получилась бомба, но когда я думала, что кто-то углядит в ней мужские трусы, меня потом заливало»; «Случайно где-то в сельпо отхватываю мужское нижнее индийское белье с – о чудо! – отсутствующим гульфиком, из того самого нужного трикотажа! Крашу в розовый цвет красителем для ткани, на грудь приклеиваю термопереводку, она была большая и круглая, что-то написано на ней по кругу было русскими буквами. Разрезала все буквы, выбрала те, которые общие с латиницей, получился псевдоскандинавский язык с повторяющимися „а“ и „о“. Все подружки завидовали, я тайну никому не открыла». Возможно, дело было в желании выдать вещь за «настоящую», а возможно, «тайна» была слишком приземленной, – но, так или иначе, культурную историю такой вещи часто предпочитали держать при себе.
В отличие от современных апсайклеров, обычно видящих в качестве исходников для работы нечто относительно приближенное изначально к желаемому результату, апсайклеры из «смещенных девяностых» в силу окружающих обстоятельств могли работать с крайне неподходящими для конечной задумки материалами даже в тех случаях, когда эти материалы были сами по себе предметами одежды. По сути, эти самые предметы рассматривались как неудобного формата единицы сырья, нечто, приведенное волей случая к неудачной форме, но способное получить обратно свои изначальные свойства: «Мама сшила мне куртку из „ичигов“, – это такие сапоги из черной кожи, на мягкой подошве, часть национального казахского костюма, их часто носят пожилые люди»; «Мама моя сшила мне шубу из меховых кроличьих беретов с леопардовой окраской»; «Одна моя приятельница придумала гениальную вещь: она себе дубленку сшила, – или шубу, не знаю, изделие можно было носить на обе стороны. Купила мужские меховые варежки, – не помню уж, сколько штук, – распорола их, обрезала до ровных прямоугольников и сшила!»; «Я собрала со всех родственников и знакомых старые перчатки, у мамы взяла ситчик в цветочек на подкладку и сшила огромный рюкзачище. Шила я руками, машинки не было. Руки было исколоты в кровь, но я была совершенно счастлива. Я его еще и касторовым маслом смазала, он блестел, и мне казалось, что в этих разных заплатках карта»; «Муж моей тети отлично шил, самоучка. Из рабочих рукавиц сварщика, из грубой замши разных нелепых цветов, сшил куртку. Рукавицы каждый год на заводе выдавали, а пользоваться ими никто и не пробовал, скопилось количество как раз на курточку». Не шляпа из беретов и не полусапожки из сапог – но лишение исходной вещи какого бы то ни было исходного смысла и рассмотрение ее только как сырьевого объекта, полное ее остранение – как результат необходимости решать конкретные практические задачи или как результат той самой оптики, позволяющей вовлеченному апсайклеру «прозревать все во всем».
Эта же оптика давала постсоветскому апсайклеру возможность видеть сырье для работы в вещах, изначально вообще не относящихся к области вестиментарного. Кроме уже упоминавшихся сумок из паспортных обложек и детской куртки, доставленной тканью из зонта, респондентами упоминается «…пальто из кожаных папок канцелярских. Помню красивый вишневый цвет, смотрелось очень хорошо, будто поперечные швы»; другая респондентка рассказывает про «…детский пододеяльник с дыркой ромбиком, я перешила его в платье, ромбик стал горловиной». Стельки для обуви могли стать кожаной курткой: «Однажды в пустующем обувном я увидела ортопедические (это важно!) кожаные стельки дивного жемчужного цвета. И в голове щелкнуло. Спрашиваю продавщиц: „У вас их много?“ – „Да полно!“ Тут же, в магазине, с маленьким сыном села считать, продавщицы увлеченно помогали – таскали сантиметр, выбирали максимальные размеры. Купила штук 50, еще нашли штук 5 обалденного красного цвета. Стоило это счастье 16 копеек за пару, в сумме – 8 рублей. Вовремя сообразила, что рукава из стелек гнуться не будут, нашла в комиссионке юбку один в один красного цвета из толстого трикотажа, – из нее вышли рукава и шикарный воротник-стойка на кулиске, почти капюшон. Красным отделали карманы. Почему важно, что ортопедические: это сверху стелька, из которой вырезала ромбы, а внизу присобачен кусок кожи, в который вставлена поли-чего-то-хрень. То есть пришлось все распарывать и вынимать». В этом случае, как и в случае рюкзака из перчаток и курточки из рабочих рукавиц, стоит оценить глубину апсайклинга: возможность заполучить в гардероб ценную вещь была в этот период настолько значимой, а готовность к тяжелой работе ради такой цели – настолько привычной для многих апсайклеров, что масштаб задачи не пугал тех, кто ввязывался в подобное предприятие (если не оказывался привлекательным сам по себе – в качестве творческого вызова).
С технической точки зрения огромное значение имел бриколаж – создание одной вещи из нескольких исходных предметов (не обязательно, разумеется, вестиментарных). Ольга Герасимова называет бриколаж как метод апсайклинга вещей своего рода признаком «ментальной изворотливости» человека советского34. В позднесоветском апсайклинге практика бриколажа зачастую еще более удаляла уникат от «настоящих» вещей, и хотя уникаты и были относительно общественно приемлемым видом одежды, именно результаты бриколажа могли вызывать смешанные чувства как у пользователей таких уникатов, так и у сторонних наблюдателей, – от безразличия или гордости до стыда и неловкости: «У меня в походе сгорел рукав у штормовки. <…> Новую штормовку находить было трудно или дорого. Я взял потом дома рукав от старой изношенной отцовской гимнастерки (тоже зеленой) и пришил вместо утраченного. Вид был – как будто из-под штормовко-безрукавки торчит рубашка. Но это меня тогда не смущало»; «Из одеяла в клетку и детского пальто мама мне сшила пальто – лиф в клетку, рукава однотонные»; «На подклад пошли мои детские байковые пеленки (большие белые полотна), а утеплитель был из шерсти, вычесанной из нашей собаки и простеганной между марлями»; «Мне из двух колготок сделали одни, но подлиннее. От одних был верх, как шортики до середины бедра, от других – ножки. Разного цвета. Чувства были странные»; «Мне сшили платье из парчовой скатерти и бархатного чехла, в который была завернута дедушкина флейта. От скатерти же была бахрома, и это было совершенно понятно, меня таскали в этом платье на все дни рождения, где я умирала от позора». Бриколаж повышал риск того, что культурная история вещи будет раскрыта, и результатом этого могла стать гордость за свою или чужую «ментальную изворотливость» – или острое переживание своей ущербности из‑за такого явного отсутствия «настоящих» вещей.
Однако время от времени проступание культурного прошлого вещи – особенно если оно было привлекательным и имело романтический привкус – сквозь ткань (пусть будет так) времени воспринималось ее обладателями как вполне желанное свойство униката: «Ветровку покрасили в розовый цвет, спереди сделали вышивку и аппликации на пятна. Носила несколько лет с гордостью, потому что не просто шмотка, а „с историей“»; «Было лет 17–18, перешивали каракулевую шубку троюродной прабабушки – жены профессора и делали подкладку из небесного цвета атласа. Чувствовала себя ужасно модной, – такой винтаж с историей и все мне»; «У бабушки хранился кусок парашютного шелка с войны, у меня появилась прекрасная юбка-плиссе» (здесь стоит вспомнить долгую традицию военного и поствоенного шитья из парашютного шелка35. Наличие у вещи «персональной истории» могло стать причиной не только частного персонального переживания, но и публичного нарратива: «Носила дедушкин роскошный довоенный твидовый костюм в клетку. Дедушка у меня был маленький, но широкий в плечах, и всем приходилось объяснять, что костюм дедушкин и дедушка был щеголь и за весь период ухаживания за бабушкой ни разу не пришел в одной и той же рубашке. По мне так это только прибавляло костюму шика в глазах окружающих».
«Мачеха однажды из своего синего шелкового платья в белый горох, довольно неудачного, в ателье сделала мне изумительное платьице с рукавами фонариком, с воротничком, с поясом – весь класс упал в обморок». Это – возможно, несколько преувеличенное – описание позитивной реакции окружающих на созданный в результате апсайклинга уникат – вполне типичный пример того, как многие респонденты, поучаствовавшие в моих опросах, и другие рассказчики о вестиментарных переделках интересующего нас (да и более раннего) периода запомнили впечатление, производимое на наблюдателей плодами их трудов. «Друг был в невероятном восхищении»; «завидовали все»; «сотрудницы были в отпаде»; «мы с платьем произвели фурор»; «мужчины падали к моим ногам штабелями»; «успех был грандиозным» – интонации некоторого преувеличения и едва ли не экзальтации (даже если допустить в них некоторую долю самоиронии), сопровождающие рассказы о гардеробных (и связанных с ними социальных – «Юбка имела успех. Я тоже имела успех») достижениях апсайклеров довольно часто свойственны воспоминаниям этого рода (крайне интересно и показательно, что о негативных реакциях опрашиваемые упоминают предельно редко – см. раздел 4: это может быть среди прочего связано как с этикетом, не позволявшим окружающим делать замечания, так и с механизмом вытеснения неприятных воспоминаний, и с нежеланием делиться нарративами о неуспехе, – но даже это не объясняет того воодушевления, с которым нарративы о достижениях эмоционально окрашиваются в яркие цвета и излагаются в приподнятом тоне).
Помимо триумфальных описаний реакции окружающих как таковой («Все перешивалось, перекраивалось и носилось. И вызывало восхищение окружающих, кстати»; «Из двух китайских наволочек сшила платье, блистала на первом курсе»), в этих нарративах часто фигурирует тема объективных или субъективных доказательств выдающихся достоинств униката, – и одним из таких бесспорных доказательств могла служить зависть со стороны окружающих: «Еще раньше сшила верх для стеганых сапожек из плащевки и в мастерской этот верх прикрепили на подошву от туфлей. Мне вся группа в техникуме завидовала»; «Как же мне завидовали коллеги! Все ходили в стандартных бесформенных, а тут я, красотка!»; «Из самого экстравагантного – в первой половине 90‑х из двух пар одинаковых черных „бархатных“ леггинсов сшила вечернее платье в пол, а из блестящих эластичных лосин – обалденный „сплошной“ купальник. И то, и другое пользовалось большим успехом, получила много комплиментов и порцию зависти». Если учитывать, что зависть массово интерпретируется как желание иметь то, что есть у другого, можно понять, почему упоминания зависти так распространены: они демонстрируют желанность – и, следовательно, высокую ценность созданного униката, зачастую более высокую, чем у менее впечатляющих «настоящих» вещей: «У меня были и фирменные джинсы, и привезенное папой парижское платье шелковое в стиле Диора, но завидовали открыто только этому связанному из старого свитера вышитому жилету. Но я действительно постаралась». Другими доказательствами успеха могли служить подражание («Я эти джинсы разрезала (сейчас это называлось бы distressed jeans) и пообшивала цветными нитками, патчи самодельные нашила… вдохновила многих последовать моему примеру, так что я уже тогда trendsetter‘ом стала»), прямое (пусть и запоздалое) признание достоинств гардероба («Прошло 30 лет с тех пор, прислали мои бывшие студенты, собравшиеся на 30-летие выпуска, что я была для них „иконой стиля“») или реакция авторитетных лиц, причем как позитивная, так и негативная: «…такие колготки: мне нравилось, казалось стильным, а уж когда в школе пытались запретить (типа слишком нарядно, колготки с рисунком) – мы с подругами вообще возгордились»; «…мимо проходит одна из стильных красавиц курса, оглядывает меня с ног до головы и говорит комплиментарным тоном – боже мой, какой стиль! Помню, была счастлива». Наконец, радикальным доказательством успеха может, кажется, служить кража униката: «…я таки эту куртку сшила. Прямо скажу, с высоты себя нынешней, это, конечно, было несколько панковским прикидом, но я была жутко горда собой и ходила в ней в школу. Где ее (абсолютно неожиданно для меня) украли местные подростки». Не менее приподнятые интонации свойственны описаниям собственных ощущений при ношении созданных уникатов: помимо упоминаний о том, что их хозяйки чувствовали себя «самыми модными», «королевами», «королевишнами», «на миллион долларов», «красавицами», «самыми нарядными в школе» и «очень крутыми», в этих нарративах постоянно присутствует мотив гордости за свои вещи – и этот мотив кажется чрезвычайно важным и показательным: «Такие перерождения всегда приносили радость и чувство гордости – и мы можем красиво и тепло, и мы не лыком шиты!» Этот, представляющийся мне крайне ценным, пример высказывания, полученного от одной из респонденток, показывает значимость сразу нескольких параметров, которые могли служить основанием для «гордости» (в понимании собственной ценности, отражения положительной самооценки): во-первых, апсайклинг позволял сравнивать себя с другими если не со знаком плюс, то хотя бы со знаком равенства, позволял «не отставать от соседей» в момент выстраивания новой вестиментарной культуры и нового вестиментарного языка36; а во-вторых, эстетические и/или прагматические качества униката были «на высоте», не хуже, чем у «настоящей» вещи, и это служило, по-видимому, поднятию творческой и практической самооценки автора (или маленького, обычно семейного, коллектива авторов – здесь стоит заметить, что не так уж редко речь идет о совместной работе матери и дочери, двух подруг или трех поколений женщин в одной семье и что это встраивается в исторический нарратив рукоделия как женской коллективной практики37, еще раз показывая, что речь в интересующий нас период шла скорее об укреплении практик советского прошлого, чем о разрыве с ними): «Я была ужасно горда, что получился такой дизайнерский вариант, а не какая-нибудь юбка в клетку, которые тоже приходилось самой шить»; «Когда эти наряды появлялись на свет, я всегда чувствовала себя членом тайного сообщества кутюрье и изобретателей!»; «Как я себя чувствовала? Да вообще самой крутой на свете! После той юбки я поняла, что могу сделать своими руками вообще все из всего»; «Гордилась тем, что моя мама может такое делать и что я тоже приложила к этому руку». По прошествии плюс-минус тридцати лет у тех, чьи воспоминания связаны с чувством гордости и радости, может появиться более трезвая оценка результатов тогдашних экспериментов («Это было мило, слегка нелепо, но у меня все еще очень теплые воспоминания об этих творческих экспериментах»; «Сейчас вспоминается как нечто забавное и милое»; «Шорты были странные, конечно»), но даже в этих случаях общий тон нарративов не меняется, – вещи оцениваются, насколько я могу судить, как эстетически очень удачные, а сам факт переделки – как значимое свершение. В конце концов, иногда значение униката в жизни его хозяина действительно трудно переоценить – и именно факт вложения в создание вещи собственных усилий, по-видимому, играл здесь ключевую роль, делая вещь настолько близкой обладателю, насколько это вообще возможно: так, один респондент рассказывает, что у него «было туго со своими вещами, и [переделанная из женской курточки-косушки] жилетка была настолько своей, что вселяла уверенность в себе. Первая по-настоящему „своя“ вещь, она некоторым образом подтверждала мое право быть»; как замечает Екатерина Деготь, уникальная, специально для нас сделанная вещь, пусть даже она не очень красива, кажется нам таковой: «развод с нами ей не угрожает»38.
В своей статье «Общество ремонта» Екатерина Герасимова и Ольга Чуйкина говорят о том, что доводить аутентичные самодельные вещи – эрзацы статусных символов – до «фирменного вида» было одним из важных социальных навыков тех, кого мы назвали бы апсайклерами (речь в их статье, разумеется, шла не только об одежде): «Вообще этот процесс воспринимался спокойно, главное во втором рождении вещей – добиться полной непохожести на советский исходник»; «Я в этом костюме чувствовала себя на миллион долларов. Все мне говорили, как он мне идет и где я его купила. Выглядел он как невероятный импорт»39. В этом смысле сверхсоветскость постсоветского вестиментарного опыта снова выходит на первый план, поскольку «настоящие» (то есть несоветские, импортные в первую очередь40, – хотя, как будет показано ниже, из этого правила допускались исключения) вещи в интересующий нас период постепенно переставали быть доступными в основном околопартийной элите и другим представителям высших сфер распадающейся страны: их мог приобрести каждый, у кого были для этого средства, но именно наличие средств и представляло собой проблему для большинства. Однако сама идея наличия импортных вещей в гардеробе каждого уже не казалась удивительной, а соблазн обладания ими был велик («Она говорила: „Моя любимая фирма – Naf-Naf“, и я падала в обморок от зависти»41), – и вместе это создавало ситуацию, когда всякая вещь потенциально могла быть «настоящей»: «По умолчанию мои вещи считались импортными, спрашивать никто не решался». Импортность была не единственным критерием «настоящести», – в силу самой ситуации для апсайклера значительным бывало уже то, что вещь принимали за фабричную или сшитую профессионалом: «Я придумала „нашу портниху Зою“ и рассказывала про то, как она восхищается моими креативными идеями про фасоны и отделку», – здесь, заметим, респондентка получает «двойную награду» – тайную – за качество работы «портнихи Зои» и явную – за собственные дизайнерские достижения. По свидетельству одной из респонденток, роль «портнихи Зои» в одном случае выполнял, по сути, модельер Слава Зайцев: «Мои родители сходили к нему, что-то купили (в том числе мне платье на выпускной), и почему-то он дал сестре моей маленькие бирочки со своим именем, он их нашивал на видные места. И она спросила, можно ли их нашить на пиджаки, которые только что купили во Франции, а он сказал – конечно! Потом она ходила в пиджаках „от Зайцева“. Он тогда был моднее Парижа», – этот пример, как мне кажется, отлично демонстрирует, что при необходимости мы можем говорить о своего рода «шкале настоящести» (или, выбрав другой дискурс, – о «шкале желанности») вещей для апсайклера (и широко распространенная практика создания, нашивания и перешивания фирменных и псевдофирменных бирок как поверхностная форма апсайклинга здесь будет играть важную роль). Например, шкала эта могла бы быть такой: советская фабричная вещь – вещь от портного или портнихи – импортная вещь как таковая («несоветская вещь») – «фирменная вещь» (то есть вещь с узнаваемым именем бренда или дизайнера). Однако далеко не всегда вещь можно было распознать как настоящую по таким внешним признакам, как бирка или ее явная внешняя «необщесть» и «несоветскость»; очень часто апсайклинг подразумевал, что ношение вещи сопровождается нарративами, и эти нарративы были призваны решать одновременно две задачи: скрывать нежелательную культурную биографию вещи (см. раздел 6) и создавать ложную, но желательную биографию, своего рода «легенду» вещи: «Про каждую переделанную шмотку у меня была байка, где и как мы ее купили или достали, в этих байках тоже было наслаждение и целый мир, я себя ни разу не выдала»; «В 80‑х я взял у пацанов во дворе трафарет индейца и „набил“ его на футболку. Почему я сделал это масляной краской, которой красили заборы и скамейки, я уже не помню. Футболка сохла дня три, а потом так нещадно воняла, что заходить в ней в помещение было решительно невозможно. Но я все равно ее носил и даже пытался врать окружающим, что она импортная». Интересно, что одним из самых распространенных нарративных приемов для создания биографической легенды вещи был прием умолчания – апсайклеры упорно отказывались отвечать на вопрос о том, откуда взялся новый предмет гардероба, или уходили от ответа. Не исключено, что в ряде случаев они выдавали этим себя или создавали почву для необоснованных слухов или даже конфликтных социальных ситуаций, – но это, по видимости, было в определенной мере предпочтительнее, чем признаться, что вещь «не настоящая»: «Когда что-то получалось очень удачно, то удовольствие и гордость, потому что концов не найти»; «Все подружки завидовали, я тайну никому не открыла»; «Загадочно отвечала: подарили, обо мне говорили, что у меня богатый любовник – кооператор». Даже когда речь шла о разрыве социальных контактов, тайну вещей могли продолжать хранить: «Моя будущая свекровь как раз много чего перешивала секондового. Они жили в столице, тут бренды водились даже не на секонде, но на них денег не было. По итогу девочка, с которой дружила в детстве племянница, перестала с ней общаться. Мама девочки потом поведала, что „ваша вон как выглядит, а у моей таких вещей нет“. Они не знали, что завидовать, в общем-то, нечему». Дело могло быть вовсе не в тщеславии – от восприятия вещей, в которых ходит ребенок, как «настоящих» могло зависеть общественное мнение о материальном состоянии и социальном статусе семьи в целом. В сущности, именно это всегда было на кону, когда апсайклер надеялся, что в результате его работы у нового, переработанного предмета гардероба «концов будет не найти», – и это резко отличало такую категорию апсайклеров от тех (довольно немногочисленных) участников процесса по переделке одежды, кто открыто гордился результатами своих трудов (см. раздел 4), – но тоже был вынужден прибегать к устным нарративам, чтобы донести до окружающих культурную историю создаваемых ими вещей.
«На фотографиях всех первых свадеб моих тогда юных друзей я – в своих творениях! И знаете, очень ничего! Потом я уехала, так что мой неожиданный всплеск domesticity прекратился навсегда», – свидетельствует одна из участниц опроса. Эта характерная реплика, возможно, дает нам некоторое право судить о том, насколько уникальными в плане массового вестиментарного творчества были «смещенные девяностые» в России. Многие участники и участницы моих опросов и интервью отчетливо выделяют это время как время неповторимого дизайнерского подъема, когда «с вещами можно было делать что угодно» – не в последнюю очередь потому, что «носить можно было что угодно» (см. раздел 1): «Мне бы и сейчас не было стыдно ни за один из моих прошлых самопальных нарядов», – замечает одна из респонденток. – «К сожалению, сейчас мало увидишь на улице настоящей фриковатой молодежи, все как-то очень причесано у них, все вписывается в определенный формат, из которого шаг влево, шаг вправо – расстрел». Эту связь между невозможностью или ненужностью апсайклинга из‑за субъективного ощущения запрета на «фриковатость», понимаемую как трансгрессию в костюме, или из‑за неготовности носить вещи, явно созданные при недостатке профессиональных портновских навыков, отвечающие упоминают не раз и не два: «Сейчас не надену самострок: я не портниха, а тогда такое все носили». Однако случается и так, что культурная биография некоторых вещей, созданных в «смещенных девяностых», не заканчивается и поныне – или продолжалась бы, по мнению респондентов, если бы вещь технически выдержала испытание временем: «Получилась обалденная юбка, темно-серая с оранжевыми кругами. Лет пять еще носила, пока ткань не начала расползаться. Даже сейчас была бы крутая вещь, но марлевка так долго не живет». Причиной долгой жизни таких уникатов может быть в первую очередь оценка их эстетических качеств как достаточно высоких, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня: «До сих пор ношу собственную переделку из 90‑х. Верх от джинсов, низ от юбки, у которой буквально рассыпалась резинка. По подолу пришила строчку кружева. Получился ковбойский стиль»; «Сейчас эту „безрукавку сторожа“ с летучей мышью, пуговицами и тесьмой в розочках носит мой двадцатичетырехлетний старший сын, когда едет в лес на игры или просто потусить. Очень он ее любит. Особенно вышитую петельным швом летучую мышь». Другой причиной может быть сильная эмоциональная привязанность хозяина к вещи: «Перешивала с портнихой мамино выпускное платье себе на выпускной. А потом повесила результат возле своей кровати, чтоб видеть каждый день и чтоб был стимул бегать по утрам держать себя в форме к дню Д. На выпускной в итоге пошла в другом платье, но то переделанное храню бережно». В последнем случае эстетические качества униката могут даже оцениваться как очень низкие, – но сентиментальная привязанность оказывается настолько высока, что берет верх: «Иногда ношу [это пальто]. Оно выглядит шо ад, но я его люблю все равно».
