Города богов
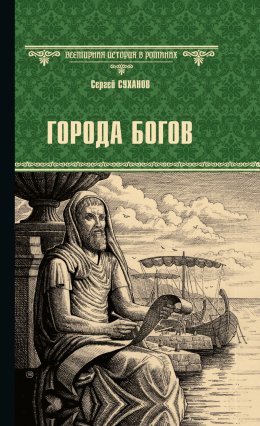
© Суханов С. С., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Об авторе
Сергей Сергеевич Суханов родился в 1958 году в г. Потсдаме, ГДР. Впоследствии семья переехала сначала в Рязань, а затем в Ленинград, где Сергей окончил английскую школу, решив в дальнейшем связать свою жизнь с филологией. Однако с первого раза поступить на филфак Ленгосуниверситета не удалось.
Мечта сбылась после службы в рядах Советской армии и окончания подготовительных курсов при Ленгосуниверситете – Сергей был зачислен на скандинавское отделение.
Впоследствии работал гидом-переводчиком с английского и шведского языков, организовал частное предприятие. Завершил свою трудовую карьеру на посту топ-менеджера крупной шведской фирмы. Без отрыва от работы окончил экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета.
После истечения срока контракта пытался найти себя в разных сферах деятельности, но удовольствие приносила только работа журналистом-фрилансером. Сергей написал около сорока статей для журнала «Тайны двадцатого века» на разнообразные темы, специализируясь на интересных исторических фактах и загадочных научных явлениях. Постепенно пришло понимание, что ему по плечу более серьезное творчество. Оставалось определиться с жанром.
В то время Сергей зачитывался книгами популярных российских писателей: Виктора Пелевина, Бориса Акунина, Владимира Сорокина. Но наиболее сильное впечатление на него произвели романы Алексея Иванова. Безупречная стилистика, удивительные по красоте метафоры, динамичный сюжет – эти несомненные достоинства книг Иванова не оставили Сергея равнодушным и помогли выбрать жанр, в котором лучше работать, – исторические приключения. При выборе темы тоже почти не возникло колебаний, ведь Сергей давно увлекается историей Древнего мира.
Действие опубликованных романов Сергея Суханова «За рекой Гозан» и «Тень Химавата» разворачивается в первом веке новой эры. География произведений обширна – от хребтов Гиндукуша до берегов Индийского океана.
Роман «Сова летит на север» посвящен событиям середины V в. до н. э. на Боспоре (современный Керченский пролив), и это тоже не случайно, ведь Сергей, по его собственному признанию, обожает Крым: «Стрекот кузнечиков в обожженной солнцем траве, напоенный запахом моря воздух, пастелевые закаты, словно сошедшие с картин импрессионистов, – этой благословенной земле, как хорошему актеру, подвластна любая роль: и дикой Таврики Геродота, и чарующей утопической Гринландии Александра Грина, и вожделенного Элизиума советского отпускника». Это восприятие Крыма в полной мере проявилось в книге…
Сергей Суханов – член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он отец двух замечательных дочек.
Избранная библиография:
За рекой Гозан, 2020
Тень Химавата, 2020
Сова летит на север, 2021
Выбор Геродота, 2022
Остракон и папирус, 2023
От автора
Начиная цикл романов о Геродоте, я не был уверен в том, что смогу осилить эту тему. Хотя с жанром определился сразу – исторические приключения.
Но потом закрались сомнения… Слишком велик авторитет Геродота, заслужившего от потомков почетный титул «отца истории», чтобы вот так запросто делать его персонажем художественного вымысла.
И тут я подумал – но ведь и он когда-то был ребенком, взрослел, совершал ошибки, мучился сомнениями, влюблялся… В общем, вел себя так, как ведет себя обычный человек любой эпохи. Как вы или я.
Тогда я решил, что для моих читателей он не должен быть «великим». Пусть он будет простым и понятным, чтобы можно было легко поставить себя на его место. Такому Геродоту читатели смогут сопереживать, соглашаться с ним или спорить, принимать вместе с ним решения. Смогут смотреть на Древний мир его глазами. Удивляться красоте этого мира и одновременно ужасаться царившей в нем чудовищной бесчеловечности.
Мне меньше всего хотелось, чтобы мои романы о Геродоте походили на подробное жизнеописание. Желающие изучить его биографию могут обратиться к прекрасным книгам отечественных историков-антиковедов Сурикова И. Е. и Лурье С. Я.
При этом о его жизни мало что известно. Мы не знаем, где, когда и при каких обстоятельствах умер Геродот и где он похоронен. Не знаем, смог ли он завершить «Историю». Нам не известно, успел ли великий исследователь самостоятельно издать свой труд при жизни или это сделали друзья после его смерти. Личная жизнь Геродота, выражаясь высоким литературным языком, «покрыта мраком неизвестности». О его женах или детях античные биографы не сообщают ничего.
Поэтому я взял на вооружение хронологию основных жизненных вех Геродота, предложенную вышеупомянутыми учеными. Но вот что касается сюжета – здесь у меня была полная свобода.
Я также не стремился дать оценку его мировоззрению, национальным взглядам, религиозному чувству, личностным характеристикам, литературному стилю или политическим амбициям. На эту тему высказывались многие авторы, начиная с Плутарха. Но я ставил перед собой совсем другие задачи.
Конечно, в романе он словами или поступками выражает некие политические взгляды. Однако я постарался такие мизансцены минимизировать, отдавая дань «драйву», а не морализаторству.
Если антиковеды считают, что он сотрудничал с храмом Аполлона в Дельфах и афинским Буле[1] – пусть так оно и будет. Поэтому я и назвал первый роман цикла – «Выбор Геродота», подразумевая его согласие на предложение дельфийских жрецов трактовать описанные в «Истории» события в их интересах.
В авторском вступлении ко второму роману цикла, «Остракон и папирус», я уже признался в том, что мне нравятся древние слова. Тем не менее в процессе работы над трилогией моему литературному редактору удалось убедить меня в том, насколько обилие таких слов утяжеляет текст.
Хотя честно признаюсь: мне очень хотелось называть бороздивших Эгейское море капитанов аутентичным и не менее красивым древнегреческим словом «навклер». Но вот капитанов в то время точно не было, а навклеры были. И морского десанта тоже не было, зато на каждой триере плыл отряд эпибатов. Про анаксариды скифов я уже и не говорю. Современное слово «штаны» относится скорее к дерогативной лексике.
Поэтому мне пришлось подыскать навклеру нейтральную замену – мореход. При этом слово «навклер» я все-таки по понятным причинам оставил в прямой речи. Для анаксарид более или менее подошли шаровары. Но вот эпибатам мне так и не удалось найти равноценную замену. Скрепя сердце я согласился на воинов-эпибатов.
Не все страны ойкумены, которые в своей жизни посетил и описал Геродот, вошли в сюжеты трех моих романов. Мне показалось, что четыре романа – это уже перебор. Даже я начал уставать от своего героя, а что уж говорить про читателей. Хотя пропущенные мной древние страны вызывают у меня неподдельный интерес. Скифия, Македония, Спарта, Эпир…
Утешает то, что, например, полуостров Таврику (современный Крым) я достаточно подробно описал в опубликованном ранее историческом романе «Сова летит на север».
А еще – в неизданном романе в жанре хронофантастики «Под созвездием Лося», где главный персонаж попадает в древнегреческий полис Ольвию, расположенный на берегу современного Днепро-Бугского лимана.
Как бы то ни было, этот роман о знаменитом галикарнасце – заключительный. Надеюсь, что мои читатели так же полюбят изображенного мной Геродота, как полюбил его я.
Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом[2].
Геродот, «История»
Белый потом привязали ремнями плетеными парус;
Ветром наполнившись, он поднялся, и пурпурные волны
Звучно под килем потекшего в них корабля зашумели;
Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу[3].
Гомер, «Одиссея»
Пролог
648-й год до н. э.
Южная Вавилония
Месяц арахсамну[4]
Отряд пехотинцев месил осеннюю грязь. Слюна богини Тиамат грязным плевком растеклась до горизонта. Небесный бык Ан носился по облакам, отряхивая с себя проливные дожди, а разгневанная богиня Инанна то и дело метала в землю молнии и сотрясала ее громом.
Шел третий день пути от арамейского города Умма. Обутые в грубые сапоги из воловьей кожи копейщики, лучники и пращники вразнобой шлепали по раскисшей глине.
Брызги летели в разные стороны, отчего все, что висело на воинах до пояса, покрылось засохшей коркой: полы шерстяных солдатских накидок, фляги из тыквы-горлянки, деревянные ножны мечей, древки закинутых за спину копий. Даже украшенные изображениями крылатых коней и цветочным орнаментом колчаны.
Про ноги и говорить нечего. Почерневшие икры выглядели так, будто отряд, не выбирая дороги, лез через приморские болота. Лишь пластинчатые грудные доспехи, надраенные загодя пастой из смешанных с уксусом опилок, все еще сохраняли под накидкой первозданный бравый вид.
Щитоносцы смотрелись диковато. Одна сторона тела – черная от грязи, другая, защищенная высоким прямоугольным щитом, остается чистой и сухой. Но вот сам щит выглядит снаружи так, будто воин протащил его по луже.
Свисавший по плечам с конического бронзового шлема башлык задубел от пота, поэтому грубая сыромять неприятно царапала воинам шею. Натертые сбившимися портянками ноги ныли, сапоги с налипшей на них грязью казались свинцовыми, укусы вшей чесались.
Ладно бы только вши – солдатский быт без них пресен, как чечевичная похлебка без чеснока. Так еще и всякая зудящая мелочь досаждает. Мошкара хоть и атаковала по-осеннему вяло, будто засыпая на лету, но жалила отчаянно и сердито, как в последний раз. Воины раз за разом хлопали себя по щекам и шее, попутно не забывая помянуть злых демонов, принявших вид этой летающей мерзости.
Первыми шли саперы, чтобы вовремя разбирать завалы или наводить переправы через арыки. За пехотой двигались обозные телеги, запряженные ослами, верблюдами, мулами и низкорослыми эламскими пони.
Следом ехали колесницы. Возницы вели под уздцы крупных кушитских коней, таких же забрызганных грязью, как они сами. Колонну замыкали несколько конных пар, предназначенных для охраны обоза.
Только офицеры отряда были кадровыми военными. Основная часть пехоты состояла из ополченцев-резервистов с болот дельты Евфрата, набранных для исполнения общинной повинности илку.
Набубэлшумате, князь приморской страны Бит-Якин, возглавлял свое скромное по размерам войско на отличном субийском скакуне. Левой рукой он держал поводья, правой придерживал подвешенный к булаве железный офицерский шлем с нащечниками, чтобы тот не шлепал коня по ребрам.
Лицо князя пересекал багровый шрам от удара палицей в бою с ассирийцами, которые теперь вроде как стали хозяевами Вавилонии. Удар прошел вскользь, но с тех пор он плохо видел правым глазом.
Князь направлялся с отрядом в земли северного халдейского племени Бит-Дакури, пожалованные ему ассирийским царем Ашшурбанапалом после того, как он принял его сторону в войне с братом Шамашшумукином за престол Вавилона.
Обозным приходилось не легче. Князь под страхом смерти приказал обслуге идти пешком. Каждый раз, когда колесо подводы застревало в раздолбанной колее, кузнецы, лекари и конюхи упирались руками в борта, пытаясь сдвинуть ее с места. Не трогали только больных, которых трясла лихорадка.
Чтобы поднять боевой дух войска, Набубэлшумате распорядился на одном из привалов казнить старосту деревни, укрывшего от полковых фуражиров воз сена.
Староста спрятал его в камышах, однако деревенский дурачок за медную монету выдал схрон южанам, а потом еще долго пускал слюни и подпрыгивал на одной ноге, вытянув вверх руку с зажатой в кулаке наградой.
Воины раздели старосту догола и привязали за руки к жертвенному столбу деревенского духа плодородия. Для этого им пришлось отшвырнуть ногами принесенные жителями деревни бескровные дары.
Князю было плевать – это не его дух. Затем он назначил палачами двух сотников, которые тут же бухнулись командиру в ноги, выкрикивая ритуальную благодарность за оказанную им честь.
Жена преступника вырывалась из рук односельчан, но те крепко держали ее, уговаривая не шуметь. Дети старосты смотрели на происходящее с застывшим в глазах немым ужасом.
Сотники начали с рук. Под вопли несчастного палачи надрезали ножами кожу от кистей к локтям. Содранные лоскуты шириной в два пальца они бросали себе под ноги.
Обессиленный пыткой староста опустился на колени. Захлебываясь рвотной желчью, он молил духа плодородия лишить его чувств, чтобы не страдать от боли. Но дух, обиженный осквернением ритуального столба, не отвечал.
Затем палачи перешли к груди. Вскоре торс жертвы представлял собой сплошную открытую рану. Оголенные мышцы судорожно сокращались, вены подрагивали.
Когда староста все-таки потерял сознание, князь велел окатить его водой. Несчастный пришел в себя и выл – дико, надрывно, душераздирающе. Словно из сострадания, вдруг тоскливо завыли деревенские собаки.
Наконец, староста умер. Чтобы не чувствовать вони его испражнений, князь закрыл лицо платком. Труп воины сняли со столба и бросили валяться на земле.
Над окровавленным телом и сваленными в кучу кусками кожи уже вились тучи мух. Но семья казненного не решалась подойти к столбу, пока каратели не уйдут.
Под угрюмыми взглядами жителей деревни отряд зашагал к околице. Вскоре войско южан снова извивалось колонной между вспаханными делянками.
Осенняя распутица сделала дорогу почти непроходимой. Вот одна из телег резко накренилась набок. Возница, коренастый гамбулиец с кудлатой нестриженной бородой, начал нахлестывать измученного мула.
Бредущий рядом тщедушный писец-ниппурец с проклятиями навалился костлявой спиной на борт подводы. Не приведи Энлиль, колеса намертво завязнут в грязи, тогда без плетей сотника точно не обойдется.
Ведь под замызганной рогожей в телеге едет настоящее сокровище – полный серебряных сиклей сундук. Плата князю за верность новому царю Вавилона.
– Братцы! – взмолился ниппурец, затравленно озираясь. – Помогите!
К телеге потянулись соседи по обозу. Сообща вытолкали ее на сухое место. Мул тронулся с места, от натуги ныряя головой, будто пеликан в речной заводи.
– Слышь, – обратился писец к вознице после того, как отдышался. Он догнал гамбулийца и снова пошел с ним вровень: – Хочу спросить.
– Ну? – буркнул тот.
– С чего это вдруг мы свернули на восток? Киш совсем в другую сторону.
– А тебе не все равно? – разозлился возница.
Он нервно махнул рукой в сторону князя:
– Вон раб кицри[5] едет… Его и спроси.
– То-то и оно, что раб кицри… – проворчал ниппурец. – А должен был стать раби амурри. Разница командовать войском в тысячу копий или в десять тысяч копий – есть? – И сам себе ответил: – Есть! Он ведь все-таки князь… Мы еще когда из Уммы выходили, я заметил, что у него на лице вообще нет радости. Вроде к новым землям идем, а он набычился и сидит всю дорогу мрачнее тучи… Не задумал бы чего…
– Наше дело маленькое, – безразлично бросил гамбулиец. – Топай, куда скажут. Потом коли, куда покажут. Потом отдыхай, когда разрешат…
Но вдруг встрепенулся:
– Вообще-то сотник говорил, будто на штабном совещании раб кицри им сообщил об изменении маршрута по приказу царя. Так и точно… Гонец же прискакал вчера… А чего он может задумать?
– В Элам[6] сбежать! Мы с тобой не знаем, что в приказе было написано.
– В Элам? А мы-то с какого перепуга туда пойдем?
– Тебе это надо? – в лоб спросил писец.
– Не-а! – Возница даже головой мотнул от возмущения. – Кто кого дожмет в этой долбаной войне, одному Нинурте известно. Я Эламу не присягал… А если Ашшурбанапал возьмет верх… А мы как раз там и окажемся… Ох! Он же, сука, нас на деревьях развесит… Или еще что похуже…
– Ты это… Потише давай, – предостерег товарища писец, пугливо озираясь. – Деревьев и тут хватает.
– Так что делать? – В голосе возницы прозвучало отчаянье.
Ниппурец горячо зашептал ему на ухо:
– Бежать надо – вот что.
– Так мы же под надзором, – засомневался возница. – У нас груз особой важности.
– А мы вот как сделаем… – Писец придвинул губы вплотную к уху гамбулийца.
Тот весь напрягся и покраснел. Но вожжи из рук не выпускал, лишь несколько раз кивнул в подтверждение своего согласия. Голоса двух заговорщиков терялись в скрипе колес, бряцанье оружия, хлюпанье сотен ног и копыт по грязи…
Отряд расположился на ночлег на берегу Тигра. Все, кто мог участвовать в возведении наплавного моста, разобрали инструменты, канатные бухты, мешки с гвоздями.
Работать предстояло всю ночь. В лагере остались только больные, кашевары и конюхи. Да еще подвода с особо ценным грузом, к которой раб кицри приставил часового.
Возница и писец получили указание неотлучно находиться рядом с сундуком. Даже нужду справлять под телегу. А при малейшем намеке на опасность тащить сундук прямиком к палатке командира. Не взирая ни на что… Хоть по воздуху лететь, хоть по кострам бежать.
Спать они не ложились. Тут не до сна – такой шум стоял. Визг пил, треск падающих деревьев, стук топоров, плеск воды, крики пехотинцев, ругань сотников, ржанье мулов, мычанье волов…
Когда луну закрыла плотная полоса облаков, писец тихо сказал:
– Пора.
Оба точно знали, что нужно делать. Ниппурец подсел к греющемуся у костра часовому, вроде как о чем-то хотел с ним поговорить. Но краем глаза наблюдал за возницей. Когда тот подошел к мулу, он приобнял часового.
– Ты чего? – удивленно спросил тот.
Отточенная сталь вошла ему под ребра. Ладонью другой руки писец прикрыл часовому рот, приглушив сдавленный вскрик. Когда часовой обмяк, он подпер его тело поленом, чтобы оно не свалилось вбок.
Затем поднялся и направился к телеге. Набросав в нее оставленные пехотинцами вещмешки, заговорщики накрыли ворох рогожей. Даже вблизи никто не смог бы понять, чем именно нагружена подвода.
Осторожно поглядывая по сторонам, они погнали мула к тополиной роще. Туда, где при свете горящих факелов пехотинцы валили деревья.
Когда часовой на заставе громко спросил куда они едут, писец крикнул:
– Везем воду и провиант для лесорубов!
Но не доезжая до лесоповала, они резко свернули в сторону. В кромешной темноте этот маневр остался никем не замеченным. Теперь заговорщики стали беглецами.
Они заранее договорились, что сразу не поедут в Вавилон, а сначала отправятся на север. Подберутся как можно ближе к Загросским горам и уже оттуда повернут обратно с попутным караваном из Мидии. Как будто они тоже купцы и возвращаются домой.
Через Тигр беглецы переправились вместе с паломниками из Куты, которые направлялись к древнему алтарю богини грозы и дождя Инанны в городе Дер.
Когда показались предгорья Загроса, писец начал внимательнее приглядываться к местности. Наконец, указал гамбулийцу на дыру в земле. Остановив мула, беглецы стащили сундук с телеги…
Часть первая. Гнев Астарты
Глава 1
452-й год до н. э.
Самос, Афины, Пелусий
Геродот хотел навестить могилы жены Поликриты и сына еще днем, однако работа над «Историей» настолько его захватила, что он спохватился только под вечер.
Отодвинув в сторону папирус и палетку, подаренную ему египетским жрецом Мнемхотепом, с которой галикарнасец не расставался после возвращения из Египта, он начал торопливо собираться.
Первым делом переоделся в чистый короткий хитон из льна. Шерсть Геродот перестал носить летом после возвращения из Египта – к хорошему привыкаешь быстро.
Затем опустился на табурет, чтобы зашнуровать сандалии. Талию перетянул кожаным поясом с пустыми ножнами. Оружие метекам на Самосе носить запрещено, однако ножны все-таки делают его мужчиной. Широкополый крестьянский петас сдвинул пока на затылок – еще успеет закрыть лицо от солнца.
Потом огладил ладонью короткую черную бороду, перебирая в уме все то, что утром сложил в заплечную котомку. Ничего не забыл… Вроде ничего. Все-таки решил накинуть гиматий[7], в горах будет свежо.
Наконец, пружинистой походкой уверенного в себе тридцатилетнего мужчины Геродот вышел из мазанки во двор. Жена Херила, занятая чисткой птичника, увидев постояльца, приветливо махнула ему рукой.
Сам хозяин дома вместе со старшим сыном с рассвета пропадали на пашне. Младший остался возле матери. Геродот его просто обожал – забавный такой, веселый. Смышленый… Словно прочитав его мысли, игравший со щенком карапуз вскочил, подбежал к нему и доверчиво обнял за ногу.
Херил, старый друг Геродота и брат Поликриты, женился несколько лет назад, обзавелся детьми. Младшую сестру выдал замуж в этот гамелион[8]. Галикарнасец останавливался у него в доме каждый раз, когда приезжал на Самос. Жизнь у друга наладилась, а вот он…
Когда Геродот добрался до самосского некрополя, солнце жалось к Ампелу, грозя расплавить похожую на виноградную лозу вершину горы остывающим багровым боком. Но гора словно не боялась закатного жара, лишь вызывающе выставила навстречу светилу стремительно темнеющий белый склон.
Некрополь располагался в пойме Имбраса на западной стороне Керкетеусского хребта. Поднявшись по тропе к зарослям дикого фисташника, галикарнасец вышел на горный луг. Подъем дался нелегко – ноги гудели, а шейный платок намок от пота. Да и котомка со скульптурой оттягивала плечо.
Геродот заказал Фидию изображение Поликриты на деньги, полученные от Перикла после возвращения из Египта. Осталось установить ее на могиле жены.
Он скинул с плеча котомку и медленно подошел к могилам. Еле слышно поздоровался с мертвыми, погладив по очереди большое надгробье из куска мрамора и маленькое из известняка. Провел ладонью по зрелым колосьям.
«Эк вымахали, – с нежностью подумал галикарнасец. – Не иначе Херил здесь был до меня, иначе откуда озимые…»
Разнотравье за зиму пощипали козы и овцы, поэтому казалось, будто по лугу прошлась ватага старательных косарей, не оставивших на кладбище ни единого сочного стебля. Однако заколосившиеся островки ритуального ячменя стояли нетронутыми.
Геродот скупо улыбнулся: «Молодец пастух, не спускал глаз со стада».
Кипарис рядом с надгробьем Поликриты за три года вытянулся в рост человека. Чудом переживший нашествие отары куст горного шиповника топорщил из расселины усыпанные розовыми соцветиями ветки.
Геродот очистил ладонью плоские камни от улиток и мха. Стелы отозвались накопленным за день теплом, словно согретые дыханием подземной царицы Персефоны.
До Генесий, осеннего праздника поминовения умерших, было далеко, поэтому галикарнасец еще в Афинах дал себе слово сразу после возвращения на Самос навестить родные могилы, которые он не навещал почти год.
Мореход-навклер Харисий, соотечественник Геродота и соратник по выполнению заданий Совета Пятисот, по дороге в Милет согласился зайти на остров, чтобы высадить друга. Но сам задерживаться не стал, так как в трюме лемба[9] хранились почти тысяча талантов[10] свежих артишоков и капусты.
Зато обещал на обратном пути в Афины забрать его с собой. Геродот сразу сказал, что никаких особых дел у него на Самосе нет: повидается с семьей Херила, сходит на некрополь – и сразу в обратный путь.
Сидя перед надгробиями, он вспоминал знакомство с Поликритой, тайные свидания, свадьбу, первые счастливые годы семейной жизни на острове…
Именно в тот день, когда саммеотка пришла в Герайон, сердце галикарнасца распахнулось навстречу первой любви. Хотя ее рассказы о дионисийских буйствах сперва показались ему непристойными.
Лишь после первой близости она искренне открылась Геродоту о том, что именно привлекает женщин в вакханалиях. Он выслушал, подумал, понял – и принял образ жизни любимой.
Последующие месяцы были наполнены нежностью, трогательной взаимной заботой и упоением любовью. Даже когда она весной снова ушла в горы, это его больше не пугало.
Затем последовала двухгодичная разлука, а когда Геродот вернулся из Фракии, влюбленные поженились. После того как он влился в дружную семью Херила, несколько лет на острове пролетели незаметно.
Поликрита оказалась хорошей и умелой хозяйкой. Однако долго не могла забеременеть. Со временем он стал замечать на лице жены неприсущее ей задумчивое выражение.
Иногда, стоя у очага или сидя на табурете-дифросе с шитьем в руках, она замирала, а когда муж нежно трогал ее за руку, смущенно улыбалась ему и опять принималась за работу.
На Великие Дионисии Поликрита снова отправилась в лагерь вакханок. Прочитав в глазах жены отчаяние, Геродот приготовился ждать долго. Ему оставалось только молиться покровителю домашнего очага Зевсу Ктесию.
Галикарнасец спасался работой. Отдав козу соседям, он принес из сарая мешок вяленой рыбы, набрал полную ольпу ключевой воды, а потом надолго закрылся в доме. Писал днем и ночью, лишь бы не думать о жене.
Но не думать не получалось. Геродот начал понимать: Дионис так просто не отпускает своих преданных адептов. За блаженный восторг от присутствия рядом с собой бога, священное исступление, высвобождение внутреннего пламени вакханка расплачивается душевным равновесием, припадками буйства и страданиями близких людей.
Поликрита вернулась в начале лета, худая, грязная, завшивевшая. Геродот не сказал ни слова упрека. Сначала повел жену к морю. Одежду собрал в кучу и сжег здесь же, на берегу.
Потом обрил ее налысо. Поликрита сидела молча, безучастная к происходящему. Лишь когда муж попросил ее раздвинуть ноги, она взяла у него нож и все сделала сама.
Смешав пихтовую живицу с отваром из корней и соцветий дельфиниума, Геродот густо намазал мазью побритые места на теле жены. Только после этого помог ей надеть чистый хитон.
Несколько дней Поликрита мрачно молчала. А он окружил ее заботой и вниманием. Однажды вечером саммеотка расплакалась. Вслед за слезами рекой полились и слова.
Поликрита сквозь рыдания рассказала мужу, как отдалась вакхическому буйству. Как, пьяная и безутешная, металась по лесу в поисках медведя или льва. Но хищники не посмели тронуть человека, в которого вселился Дионис.
Как кричала от тоски в чаще ельника. Зеленые лапы хлестали ее по лицу, корни цеплялись за ноги, а вакханка в ярости на богов ломала о деревья замшелый хворост и царапала ногтями кору на стволах.
Наконец, когда Дионис тихим белесым облачком растворился в буреломе, она побрела в сторону дома. По дороге ела ягоды и пила воду из торфяных ям.
Геродот обнимал жену за плечи, гладил по руке и тихо повторял: «Ничего, хорошая моя… Ничего… Проживем без детей…» Она скулила от жалости к себе, просила Геродота простить ее… Постепенно затихла и к полуночи заснула…
Поликрита теперь каждое утро ходила на песнопения в Герайон, занималась уборкой в храме под руководством ризничего-неокора, а на Гамелии прислуживала жрицам вместе с гиеродулами – храмовыми рабами.
Из денег, которые Геродот зарабатывал в порту поденной работой, саммеотка покупала дорогую пшеничную муку, чтобы напечь богине медового печенья-пемматы в форме маленьких кукол. Однако Волоокая не спешила подарить ей радость материнства.
Когда супруги уже отчаялись стать родителями, Поликрита наконец понесла. Геродот воспрял духом. Он перестал покидать жену ради долгих поездок по островам Эгеиды и начал больше времени проводить дома.
Теперь вечерами галикарнасец сидел на медвежьей шкуре перед очагом с пачкой папирусных листов возле бедра или уже склеенным папирусным свитком на коленях, записывая по памяти то, что услышал от кикладских и спорадских эллинов о войне с персами. В такие минуты морщинки на его переносице разглаживались.
Поликрита тоже повеселела. Она молилась домашним богам-апотропеям, чаще всего обращаясь к покровительницам материнства: Гере Сотейре, Великой матери Деметре и титаниде Латоне. На алтарь Геры подсыпала свежего зерна, а в лампаду перед образом Деметры подливала масла.
Наконец, пришло время рожать, но Поликрита стала все чаще морщиться, держась за живот. Когда у нее по бедрам потекла кровь, испуганный галикарнасец бросился в часовню Асклепия.
Пока повитуха с помощницей раскладывали на сундуке приспособления для родоразрешения: сосновые палочки конической формы, наполненный жиром бронзовый дилататор, восковые свечи, мешочки с египетскими квасцами и чистую ветошь, он налил из котла горячей воды в медный таз-лутерий.
Увидев, что взволнованный муж топчется у изголовья кровати, повитуха всплеснула руками: «Уходи!.. Чего встал…» Помощница вытолкала его из мазанки.
Галикарнасец нетерпеливо ждал крика ребенка, однако в доме было тихо. Тогда он рывком распахнул дверь. Обе женщины с безнадежным видом застыли перед роженицей. Рядом с кроватью лежал окровавленный сверток. С тюфяка свесилась рука Поликриты – бледная, безжизненная… Геродот все понял…
Солнце скрылось за Ампелом. В затухающем пламени заката вершина горы светилась багрянцем. Ночной бриз печально шевелил ветви пиний. Чайки все реже вскрикивали в небе.
Геродот достал из котомки амфориск и мраморную статуэтку на высоком цоколе из известняка. Сначала вкопал цоколь в землю рядом со стелой. Обложил его камнями для устойчивости.
Долго любовался фигуркой бегущей Хариты. Фидий постарался – богиня женской прелести и светлой радости выглядела как живая. Носком полусогнутой левой ноги она опиралась на цоколь, правую ногу вытянула назад, а правую руку – вперед. В левой руке Харита сжимала сосновый сук.
Обтянутый ритуальной оленьей шкурой торс был наклонен вперед. Казалось, еще мгновение – и она бросится к деревьям, чтобы в чаще леса предаться дионисийскому безумству.
Отбив ударом обуха дно амфориска, галикарнасец пролил над могилами смесь из молока и меда – меликратон. После возлияния повесил на каждое надгробие венок из сельдерея. Бросил в ячменный островок горсть свежих зерен – чего уж, надо посеять, раз принес.
Теперь оставалось сделать умершим подарки. Геродот разрыхлил топором землю перед стелами. В ямку на могиле Поликриты положил бронзовое зеркальце. Сынку досталась глиняная лошадка.
Потом хмуро постоял, переводя взгляд с одного надгробия на другое. Мыслей не было, лишь в душе темным комом перекатывалась тяжелая, тягучая грусть.
«Прощайте… Когда увидимся в следующий раз…»
Галикарнасец со вздохом сунул топор за пояс, котомку закинул на плечо и развернулся в сторону моря. Отяжелевшей вдруг походкой двинулся к тропе.
Ему казалось, что от могил к его спине тянется невидимая жилка, однако стоит ему зайти за скалу, как эта тонкая связь с загробным миром оборвется. Ну, что ж… Значит, ему еще рано к жене и сыну.
В груди росла уверенность: пока «История» не дописана, Мойры не станут обрывать нить его жизни.
Геродот вернулся в Афины в день Артемиды Мунихии[11].
На внешнем рейде Пирея корабль Харисия встретила лодка таможенного мытаря-элимена, который заорал, что все три гавани закрыты из-за праздничной регаты. Потом махнул рукой в сторону Фалерона: туда плывите.
И действительно – из-за мыса Акте к Мунихию рвались триеры с убранным к рею парусом. Даже на расстоянии было видно, как весла взбивают пену вдоль корпуса кораблей. На вантах весело плясали разноцветные вымпелы.
С обеих сторожевых башен срывались клочья седого дыма. Когда ветер задувал в сторону Саронического залива, до Геродота доносились обрывки протяжного воя сигнальных раковин и залихватских трелей авлосов.
Фалерская гавань разбухла от разномастных эгейских парусников. Сотни афинян в волнении наблюдали за морской гонкой со ступеней храмов. Голоса зрителей сливались в гудение потревоженного пчелиного роя.
Лишь поденщики продолжали потеть на причалах под тяжестью тюков и амфор. Праздник годится только для граждан, а остальные пусть делают свою работу, потому что швартовку с последующей разгрузкой или погрузкой никто не отменял.
Финикийским, ионийским и италийским мореходам на праздник было вообще плевать. За каждый день задержки в порту нужно платить звонкой монетой, вот они и дерут глотку, да в сердцах топчут сапогами квадры, подгоняя руганью рабов и вольноотпущенников.
Геродот не стал продираться сквозь толпу перед храмом Зевса Сотера и Афины Сотеры. Обошел его стороной и лишь приложился губами к высокому цоколю.
Зато на священном участке рядом с храмом – теменосе – останавливался у каждого алтаря: Деметры, аттических героев, Неведомых богов, сыновей Тесея и Фалера, сына Миноса, Андрогея… Каждый раз проливая понемногу вина из амфориска на столешницу и вполголоса произнося приветствие.
На рыночной площади галикарнасец замедлил шаг возле вертикально вкопанных досок, к которым за руки и за ноги были привязаны беглые рабы. Поморщился от едкого запаха смерти. Потом тяжело вздохнул, сочувствуя погибшим от жажды бедолагам. Такой жестокости он не видел даже в варварском Египте.
«Эх… Не успели добраться до храма Артемиды Мунихии», – с сожалением подумал Геродот.
По вымостке вдоль Фалерской стены ему навстречу целыми семьями шли афиняне. Этот праздничный день многие горожане хотели провести на взморье, где так хорошо пьется вино под жаренных на вертеле голубей.
Над соленым болотом Алипедон кружились чайки, вылавливая в принесенном Кефисом мусоре дохлых силявок. Древний некрополь в Эхелидах ощетинился высоченными кипарисами. С ипподрома доносилось конское ржание.
За Итонскими воротами галикарнасец остановился, чтобы осмотреться. С этой стороны он заходил в Афины впервые. Помахал Афине Промахос, словно старой знакомой. Уважительно взглянул в сторону Ареопага, на вершине которого вершились судьбы Эллады.
Затем уверенно свернул к кварталу Мелите, где жил Перикл…
Вечером седьмого таргелиона[12], в день рождения Аполлона, Первый страег собрал друзей на симпосий – дружескую попойку. Компания подобралась разношерстная, тем не менее веселая и озорная. Всех присутствующих объединяло одно существенное свойство – среди них не было ни одного дурака.
Некоторых гостей Геродот знал раньше. С другими встретился впервые у Перикла. Фидия, например, он помнил еще по кругу друзей Кимона. С Софоклом дружил давно и поддерживал переписку.
Пожилого Дамона галикарнасец до этого видел несколько раз играющим на кифаре возле алтаря Двенадцати богов, где известный музыкант пытался обучить афинян добродетели с помощью музыки. Хотя сам к нему не подходил, но не потому, что считал себя непогрешимым, просто не хотелось толкаться среди слушателей.
Зато в доме Перикла Дамон старался держать язык за зубами и открывал рот в основном только тогда, когда пел. Особенно хорошо ему удавалось исполнение поэмы «Гибель Илиона». Голос у него был слегка надтреснутый, однако он прекрасно держал мелодию и хорошо брал высокие ноты.
Перикл часто просил Дамона спеть что-нибудь из «Одиссеи». Когда кифаред интонацией иронично подчеркивал двусмысленное положение Ареса в любовной сцене с Афродитой, Первый стратег поощрял исполнителя циничной ухмылкой.
А в сценах из «Илиады», где Гера бьет по щекам Артемиду луком или Зевс отчитывает раненного Диомедом Ареса за преувеличенную воинственность, он заразительно смеялся. Перикл занимал в Афинах высокий пост, поэтому мог позволить себе в присутствии друзей некоторое вольнодумство.
Геродот не одобрял непочтения к олимпийцам, улыбался только из вежливости, а про себя даже ругал святотатцев. Тем не менее он никогда не отказывался от приглашений своего попечителя на дружеский кутеж.
Моложавый напористый абдерит Протагор вместе с пожилым и сдержанным в речах клазоменянином Анаксагором чрезмерно увлекались заумными диспутами на философские темы.
Однако Геродот не стеснялся расспрашивать собеседников, если сомневался, что правильно понял высказанные ими сложные умозаключения. Философы снисходительно объясняли – все-таки галикарнасец был среди друзей Перикла самым молодым. Хотя Протагор был старше Геродота всего на год, ему исполнилось тридцать три.
На общее течение разговора такие паузы никак не влияли, в основном благодаря тому, что гости много пили. Рано или поздно наступал момент, когда нить повествования ускользала от оратора, и тогда научная беседа превращалась в шутливую перебранку. Всякое мнение при этом становилось истинным, а суть предмета растворялась в «кудрявых» рассуждениях, будто кухонный жир в растворе натрона.
Однажды Геродот попытался вызвать Протагора на откровенность, попросив высказаться о том, какую роль боги играют в жизни человека. Философ ответил уклончиво, в том смысле, что вряд ли сможет представить объективное суждение, ибо этот вопрос темен, а жизнь слишком коротка для правильного вывода.
Анаксагор, в свою очередь, удивил галикарнасца идеей всеобщего вращения космических «семян» в момент перехода от первичного хаоса к материи, из которой состоит все сущее.
Геродоту в связи с этим вспомнились рассказы Мнемхотепа о египетской космогонии. Описывая рождение отца богов Атума из первичного океана Нун или спуск богини истины и порядка Маат на землю для сакрального соединения с другими богами, жрец ничего не говорил про вращение.
Поскольку Анаксагор причиной вращательного движения в природе считал некий первозданный ум, то за ним так и закрепилось не то уважительное, не то по-дружески-насмешливое прозвище – «Ум».
Философ при ходьбе держал величавую осанку, шагал спокойно и размеренно, говорил уверенно, на его лице сохранялось серьезное выражение, а одежда отличалась скромностью. От внимательных глаз галикарнасца не укрылось и то, что Перикл старался во всем подражать своему учителю.
С Гипподамом Геродот познакомился у Перикла. Пока большая часть друзей Первого стратега дурачилась коттабом или играла в кости, милетянин принимал участие в философских спорах. Причем часто вставал на сторону Анаксагора, скорее всего, как считал галикарнасец, в силу зрелого возраста клазоменянина и его авторитетного положения среди друзей Первого стратега.
Способный архитектор увлек Геродота описанием принципов градостроительства. Гипподам рассказывал ему о восстановлении Милета после подавленного персами восстания Аристагора. Он со знанием дела указывал на недостатки древней застройки, рисовал углем на стене кварталы придуманного им города будущего. Не обращая внимания на ворчанье ойкета[13] Эвангела, которому после окончания симпосия приходилось стирать со стены чертежи.
Но все-таки галикарнасец предпочитал общество самого Перикла. Первый стратег любил дискуссии, мастерству ведения которых его научил Зенон Элейский, умевший остроумным вопросом поставить оппонента в тупик.
Свое диалектическое искусство философ называл «методом парадоксов». Перикл перенял от учителя эту атакующую манеру, отчего с ним тоже было трудно спорить. Но именно незаурядный, въедливый и саркастический ум хозяина дома как раз и привлекал Геродота.
Доводы Первый стратег излагал спокойно и уверенно, полностью владея собой. Лишь изредка поглаживал короткую ухоженную бороду, если нужно было скрыть волнение.
Хотя бывало, что при особенно удачном замечании собеседника он высоко поднимал брови, при этом складки на лбу тянулись к заостренному лысоватому темени, словно взбегающие по морскому утесу волны.
Коринфский шлем Перикл никогда не носил дома. Друзья не обращали внимания на его физический недостаток, а жена любила мужа таким, какой он есть. Зато противники и авторы комедий насмехались над его внешностью открыто.
Пользуясь свободой слова, злопыхатели язвили вовсю. Называли голову Первого стратега луковицей, утверждали, будто голосом и походкой он вылитый Писистрат, а доспехи воина носит только для того, чтобы показать, какой он выдающийся полководец. Хотя не одержал для Афин ни одной важной победы.
Перикл молчал. Как молчали многие государственные мужи до него. А куда денешься: свобода слова – это фундамент демократии. Не приведи Зевс показать общественности, что ты уязвлен ядовитой шуткой.
Тут же вспугнутой птицей по полису полетит молва: лидер Народной партии – никакой не Олимпиец, но самолюбивый тиран и фанатичный поборник чистоты морали. Демос этого ему не простит, а значит, с политической деятельностью придется расстаться.
Перикл с друзьями только что вернулись из театра Диониса, где состоялись состязания хоров в исполнении гимнов Аполлону Таргелию. Одним из победителей стал хор мальчиков из дема[14] Холарга, родовой вотчины Первого стратега.
Перикл лично вручил хормейстеру лавровый венок и пожертвовал в казну дема тысячу драхм. Потом уже в почетной ложе устроил попойку, так что в особняк компания ввалилась навеселе.
Угощение на этот раз оказалось не то чтобы изысканным, однако вполне праздничным. Домашние рабы, ойкеты, не ударили в грязь лицом. Сначала повар с бритой головой вынес в андрон[15] лутерий, полный свежевыловленной барабульки, чтобы гости могли полюбоваться, как она на глазах меняет свой цвет с серебристого на красно-оранжевый. Обнес каждое ложе-клинэ, не пропустил никого.
Затем два чернокожих ливийца притащили из кухни большой котел с ритуальной кашей таргелос из злаков на козьем молоке. К блюду предлагались ломти свежеиспеченного хлеба из первого помола озимой пшеницы.
Обжаренную в муке барабульку подали с тушеным диким амарантом, жареными дольками баклажанов и ломтями овечьего сыра. Оливковое масло аппетитно растекалось по золотой корочке, а листья тимьяна добавляли к рыбному запаху аромат свежести. Любители подкислить еду подливали на свою тарелку уксуса из стеклянного финикийского арибалла.
Для тех, кто все еще не наелся, повар выставил сковородку жаренных с луком бараньих ребрышек. В андроне сразу повеяло специями – розмарином, кориандром, тмином, зирой, чабрецом…
Наконец, когда гости насытились и вымыли руки, слуги внесли пустой кратер[16], амфору с белым эпирским вином, а также полную колодезной воды ольпу. Сильно смешивать не стали, все равно в театре пили по-скифски, неразбавленное, чего уж теперь-то.
На десерт хозяин предложил фрукты, сдобную выпечку, пирожки с клубничным вареньем, а также горячие баранки, которые можно было обмакивать в сладкий соус из сильфия[17] или жидкий мед.
Расслабленные участники пирушки приготовились встречать чтеца-рапсода, может быть, даже сочинителя-аэда с кифарой, акробатов, а то и флейтисток. Однако, вопреки ожиданиям, Перикл предложил обсудить текущие дела.
Компания переместилась в перистиль – световой двор, где расселась на мраморных скамьях под яблонями. Заботливо окопанные деревья были на высоту локтя обмазаны глиной. Крупные зрелые плоды источали медвяной аромат.
Каждый из гостей захватил свой кубок для вина – канфар, а немой чернокожий раб снова намешал вина в кратере. На этот раз добавив в него кроме воды меда и растертого до кашицы изюма для сладости.
За несколько предыдущих вечеров в доме Первого стратега Геродот успел подробно рассказать о своем путешествии в Египет. Разумеется, умолчав о некоторых событиях личного характера.
Тем не менее все взоры обратились на него. Ничего удивительного – галикарнасец был единственным из друзей Перикла, кто большую часть жизни проводил за пределами Афин. Поэтому и слушали его чаще, чем других.
– Да какие у меня дела… – пожал он плечами. – Пишу…
Потом осторожно заметил:
– Хорошо бы дальше ехать.
Собеседники встретили это заявление одобрительными усмешками и восхищенными замечаниями: «Во дает!.. Одиссей, да и только… Неугомонный…»
Первый стратег сосредоточенно покивал головой:
– И куда теперь?
Геродот шумно вздохнул, вскидывая брови. Словно не знал, что сказать. Так же шумно выдохнул.
Потом внимательно посмотрел на Перикла:
– Финикия[18]… Мечтаю увидеть храм Геракла в Тире[19].
– Ну что ж… – согласился Первый стратег. – Регион интересный.
Он обвел присутствующих беглым взглядом:
– Мне нужно отлучиться… Вина у вас хватает, а я скоро приду.
Потом обратился к Геродоту:
– Пойдем… Эвангел принес с рынка угрей, посмотришь, насколько они хороши. Вы, галикарнасцы, знаете толк в рыбе…
Пока оставленные без внимания хозяина гости глушили вино, Перикл с Геродотом перебирали купленных домоправителем угрей.
– Хочу обсудить твою поездку, – сказал Первый стратег, с удовольствием вдыхая запах посыпанной грубой солью тушки не больше локтя[20] длиной. – До Финикии плыть дней десять. А то и все двадцать. Смотря как повезет… Посмотреть храм, конечно, важно, но… Есть ли смысл проделать такой путь, чтобы потом сразу возвратиться?
– Что ты имеешь в виду? – удивился Геродот.
– Дальше идти… В Сирию… К верховьям Тигра… На Евфрат в Вавилонию… Может быть, в Мидию…
Галикарнасец оторопел.
В его голове мгновенно закружился вихрь мыслей:
– Так ведь Финикия – это уже персидские земли… Ты же не планируешь бросок фаланги на Персеполь… И потом… После поражения в Египте мы в восточную часть Великого моря[21] не суемся. Даже Финикия нам сейчас не по зубам… Если афинский флот появится в Финикийском море, Артаксеркс воспримет это как объявление войны… Ты ведь сам говорил, что сейчас наш главный враг – Спарта.
Первый стратег постарался спокойным голосом охладить пыл собеседника:
– Сегодня мы у берегов Финикии не плаваем, а завтра… Шире надо мыслить.
Геродот почувствовал замешательство. С одной стороны, заходить так глубоко на вражескую территорию казалось ему невероятно опасным делом. С другой стороны, да, посмотреть восточные страны было крайне заманчиво… Когда еще он туда попадет.
В голосе галикарнасца отчетливо прозвучала неуверенность:
– Дважды боги спасали меня от гибели в персидской тюрьме. Третий раз… – Он с сомнением покачал головой. – Не знаю… Вряд ли я смогу пригодиться тебе в качестве катаскопа[22].
– Ты так же перед заданием в Лидии тушевался, – усмехнулся Перикл. – Но выполнил его отлично. А в Египте… Вспомни – разве тебя остановил арест в Дафнах или присутствие персидского гарнизона в Мемфисе и на Элефантине.
Перикл воспользовался нерешительностью гостя, чтобы и дальше гнуть свою линию:
– Опыт у тебя есть. В организации и вооружении армии варваров ты разбираешься не хуже меня, это видно по твоим отчетам. Можешь выпутываться из самых сложных ситуаций. Так что лучшего катаскопа мне не найти… А Буле профинансирует твое путешествие… Ты ведь не чувствуешь себя обиженным после возвращения из Египта?
Первый стратег испытующе посмотрел на своего разведчика.
Геродот с очевидным согласием закивал головой:
– Я очень доволен наградой.
– Мне приятно это слышать, – довольно подытожил Перикл. – Позже я дам тебе подробные указания… Получишь подорожную фортегесия[23] с перечнем интересующих Афины регионов. Как всегда, деньги на дорожные расходы… И вперед! Договорились?
Увидев озабоченное выражение на лице собеседника, он смягчился:
– Ладно… Подумай до завтра. А сейчас надо возвращаться к гостям.
Появления Перикла и Геродота в перистиле никто не заметил, так как участники пирушки были увлечены игрой под названием «Собаки и шакалы», которую галикарнасец привез из Египта.
В небольшом деревянном ящике на изящных ножках лежала пластина из слоновой кости с изображением пальмы, формой напоминающая барбитон.
По игровому полю тянулись пять дорожек из дырочек: две коротких по обеим сторонам ствола, две длинных вдоль боковых краев доски и еще одна по верхнему краю.
Протагор с Софоклом по очереди бросали на землю четыре двухцветные палочки. Сколько из них упало белой стороной вверх, столько очков получал игрок для следующего хода. Очки означали количество дырочек для продвижения по полю.
В качестве фишек использовались лучины, тоже из слоновой кости, которые нужно было воткнуть в соответствующую дырочку. Софоклу досталось пять лучин с головой вислоухой собаки, Протагору столько же с головой шакала.
Зрители сопровождали бросок каждого игрока возгласами радости, если тому выпадало перепрыгнуть сразу через несколько дырочек, или огорчения, если приходилось двигаться назад.
Когда при очередном броске Софокла все палочки легли белой стороной вверх, что означало четыре очка сразу, компания взорвалась одобрительным хохотом. Дамон хлопнул везунчика по плечу, но тот лишь нетерпеливо дернул плечом.
Перикл присоединился к зрителям…
Но вот Софокл после еще одного удачного броска добавил пятую «собаку» к четырем, уже торчавшим на стороне противника под кроной пальмы. Друзья бросились поздравлять победителя и утешать проигравшего.
Протагор отнесся к поражению как настоящий философ: с безмятежной улыбкой. Анаксагор тут же поднес ему канфар с вином, а Фидий протянул блюдо фиников.
– Прошу внимания, – обратился Перикл к друзьям. – Предлагаю сегодня воздержаться от общения с флейтистками.
Раздались недовольные возгласы. Участники кутежа дошли уже до той точки, когда затуманенный вином рассудок слабеет под напором инстинктов. Однако спорить с хозяином дома никто не решался.
Гости потягивались, лениво доедали закуски. Софокл с Протагором потребовали у слуг свежей воды для ополаскивания рук и лица. Анаксагор и Геродот в шутливом отчаянии опрокинулись на подушки. Дамон снова взялся за лиру и с кислой миной начал перебирать струны.
Фидий с Гипподамом делали вид, будто им позарез нужно нарвать свежих весенних яблок.
– Телезиппа Периклу прошлый раз устроила выволочку, – прошептал на ухо другу архитектор. – Поговаривают, что рука у нее тяжелая. Вроде бы Гиппоник из-за этого с ней развелся…
– Да нет, вряд ли, – усомнился Фидий. – Наш оратор никому себя в обиду не даст. От его проникновенных речей в Народном собрании разве что бюсты героев не плачут. Что ему стоит уговорить собственную жену. Чтобы она стала уступчивой, достаточно сделать хороший взнос фиасу Геры.
– Думаешь, у них именно такие отношения? – поинтересовался Гипподам. – Деловые? Все-таки двое детей… Значит, есть и чувства.
– Были! – отрезал скульптор. – Он мне однажды признался, будто от развода его удерживает только то, что она его двоюродная сестра. Родственники не одобрят – кто ее потом такую возьмет… После двух неудачных браков… Так еще Килонова скверна над всем ее родом висит, как меч над сиракузянином Дамоклом. А если учесть слухи о том, что именно Алкмеониды подали сигнал поднятым на корабле щитом флоту Артаферна и Датиса после битвы при Марафоне, чтобы они успели убраться… Перикл – ладно, сам выбрал для себя жизнь политика, а вот ее жалко.
– Точно! – поддакнул Гипподам. – Еще и тягу Алкмеонидов к переворотам припомнят… Вроде того, что замышляли Гармодий с Аристогитоном против тирана Гиппарха.
– Вот именно, – согласился Фидий. – Перикл ведь тоже на три четверти Алкмеонид… А проклятий на Алкмеонидах – как мишуры на сосне Аттиса в праздник Великой матери… Хотя Эсхил и старается его обелить… Так что без поддержки родственников успешный политик из него не получится. Вот и приходится нелюбимую жену терпеть.
Сплетники пригубили вино, закусив по очереди от одного-единственного сорванного ими яблока.
В этот момент Дамон спросил хозяина дома:
– А взамен что?
Ему как самому пожилому из друзей Перикла флейтистки были без особой надобности. Зато музыканта очень интересовало, чем таким особенным хозяин может занять гостей, чтобы они опять не надрались до потери человеческого достоинства.
– Буду рассказывать про Восток, – заявил Первый стратег. – А вы хотите слушайте, хотите – пейте.
Дамон разочарованно хмыкнул: значит, придется напиться.
Гипподам с Фидием отмалчивались. Протагор и Анаксагор согласно закивали. Философы ценили ораторское искусство, а Перикла считали умелым рассказчиком. К тому же он вращался в высших политических кругах, поэтому они надеялись услышать то, чего не знают сами.
На губах Софокла заиграла ироничная улыбка. Геродот был заинтригован, он догадался, что это предложение связано с только что состоявшимся разговором между ним и Периклом.
Первый стратег уселся на перевернутую корзину, в то время как остальные участники кутежа расположились на расстеленных коврах и подушках перед оратором. Это подражание персам легко привилось в ценящих комфорт Афинах после окончания войны. От жадного весеннего солнца компанию защищали ветви шелковой акации.
Перикл заговорил ровно и спокойно, как на заседании:
– Около ста лет тому назад правителем Персиды[24] и Мидии стал Кир, сын персидского шаха Камбиса. Для этого ему пришлось разбить войско мидийского шаха Астиага, своего деда по матери. Астиаг попал в плен, а Мидия превратилась в подчиненную область Персиды, возглавляемую сатрапом. В то время на Востоке кроме Мидии было три великих державы: Египет, Лидия и Вавилония. Вавилонию собирался завоевать еще Астиаг, однако восстание персов под руководством Кира помешало ему выполнить задуманное…
На этом месте задремавший было Дамон всхрапнул. Сидевший рядом с ним Софокл слегка толкнул музыканта плечом. Тот спросонья выпучил красные глаза и, сделав над собой усилие, уставился на оратора. Но Перикл даже бровью не повел.
Просто продолжил рассказ:
– Итак… Кир начал создавать свою великую империю. Сначала покорил близлежащие страны: Элам, Армению, Парфию и Гирканию. Затем двинулся на запад. Я не буду подробно рассказывать о завоевании Киром варварских и эллинских государств Малой Азии. Скажу только, что первым из них под ударами персов пала Лидия… После этого Кир вернулся в Сусы, но за короткой передышкой последовал бросок на восток. В новом походе шахиншах присоединил к Персиде Хорасмию, Маргиану, Бактрию, Гандхару и Саттагидию. Теперь его держава простиралась до северо-западных границ Индии. Пора было приниматься за Вавилонию и Египет…
Вошедшие в перистиль слуги предложили гостям ранние смоквы. Протагор, который первым принял лутерий из рук раба, взял себе горсть фруктов, после чего передал его дальше.
Затем философ откинулся на подушки. Протагор не скрывал, что ему хорошо. От выпитого у него слегка кружилась голова. А к занимательному прослушиванию прибавилось удовольствие от ощущения свежей сладости во рту.
Перикл не стал прерываться:
– Ну, про Египет вам многое рассказал Геродот. Про фараонов Псамметиха, Нехо, Априя, Амасиса… Он говорил о военном походе Камбиса и сражении у Пелусия, в котором персы победили египтян. Об осаде Камбисом Мемфиса. О восстании Инара и Амиртея с последующим сражением при Папремисе… О захвате персами острова Просопитида, где укрывались мятежники. О гибели афинской эскадры в устье Нила… Вам известно, что сейчас Египет – это персидская сатрапия. И хотя Амиртей с остатками египетского войска контролирует Западную Дельту, большая часть Египта находится под властью персидского наместника Аршамы… Геродот поделился своими впечатлениями от египетских храмов… Он описал быт простых египтян… Много говорил о флоре и фауне Египта… Так что повторяться не буду…
После этих слов гости, как один, с уважением посмотрели на Геродота, а Гипподам даже поднял вверх большой палец, выражая свое восхищение эрудицией галикарнасца.
Перикл продолжил:
– Теперь о Вавилонии… В глубокую древность уходить не буду. Скажу лишь, что ее столицу Вавилон дважды захватывали и разрушали ассирийцы… За полвека до того, как Кир стал шахом Персиды, на царский трон Вавилонии в результате дворцового переворота взошел арамей Набонид. За власть в стране в это время боролись разные политические партии. Халдеи боролись с арамеями, жрецы с военачальниками… Первым делом Набонид провел религиозную реформу. В Харране он восстановил храм бога Луны Сина – Эхульхуль. Син стал Верховным богом древних богов Месопотамии: Мардука, Набу, Нергала, Шамаша… Набонид таким образом хотел объединить под своей властью арамейские племена Западной Азии, поклонявшиеся Сину… Однако Сина не приняли ни жречество, ни народ Вавилонии. Каждый город стремился сделать главой вавилонского пантеона именно своего бога… Тогда Набонид решил на время отойти от внутренних дел, чтобы заняться укреплением западных границ державы. Захватив аравийский оазис Тейму[25], он открыл новый караванный путь от Персидского моря[26] в южную Вавилонию… В течение десяти лет, пока царь сражался с арабами в Тейме, Вавилонией управлял его сын Валтасар… Когда Набонид наконец вернулся во дворец, то сразу стал готовиться к войне с Киром. Ситуация осложнялась тем, что у Вавилонии в то время не было союзников… Поэтому Набонид примирился с фараоном Египта, предложив тому военный союз против Персиды. Однако Амасис решил с Киром не ссориться… Это его впоследствии и погубило… Так вот… Обстановка в Вавилонии накалилась. Недовольное возвышением бога Сина жречество роптало за спиной царя. Купцы, потеряв захваченные персами древние торговые пути, затаили на Набонида злобу. Военнопленные из разных стран, которых насильно поселили в Вавилонии, готовились встретить любого освободителя с распростертыми объятиями… Земледельцам и ремесленникам было все равно, кто ими правит… Вскоре Кир выступил в поход на Вавилонию. Когда персидская армия двинулась вниз по реке Гинд[27], к ней присоединились варвары из области Гутиум в Загросских горах… Объединенная армия персов и гутиев разбила войско, возглавляемое Валтасаром, в сражении под Описом[28], а спустя несколько месяцев вступила в Вавилон… Набониду не помогло даже то, что он заранее вывез в столицу идолов – покровителей близлежащих городов. Мощная стена между городами Сиппар[29], Кута, Вавилон и Борсиппа так и не стала препятствием для армии Кира…
Перикл замолчал, окидывая взглядом осоловевшую аудиторию. Дамон все же заснул. Софокл, Фидий и Гипподам терли глаза и украдкой зевали. Лишь Протагор с Анаксагором выглядели довольными. Геродот внимательно слушал. Он почти не пил, поэтому в сон его не клонило.
Вздохнув, Перикл решил заканчивать:
– В общем, население столицы устроило Киру торжественную встречу как освободителю от власти тирана Набонида. Вскоре Вавилония оказалась полностью в руках персов…
Первый стратег хлопнул в ладоши, чтобы взбодрить гостей.
Потом поднял вверх указательный палец, призывая к вниманию:
– Ладно, я вижу, что сегодня Клио пропустила мой дом. Поэтому отпускаю… – Он огорченно махнул рукой. – Идите куда хотите… Допейте только вино, не уносить же в погреб.
Компания переместилась в андрон. Вскоре громкие голоса участников пирушки снова заметались по залу, словно весенние ласточки под сводами древних гробниц.
Когда Геродот был уже в дверях, Перикл остановил его:
– Приходи завтра вечером… Поговорим наедине.
Галикарнасец не стал уточнять причину разговора, просто согласился:
– Хорошо, приду.
Первый стратег подвел Геродота к круглой медной доске, висевшей на оштукатуренной и выкрашенной в ярко-красный цвет стене андрона. Затем вынул из ножен листовидный кинжал фасганон.
Начал показывать:
– Это Европа… Вот Азия… Ливия… Уверен, тебе есть что добавить к этому рисунку Гекатея Милетского… Но более точных карт ойкумены пока не существует, – с кривой ухмылкой бросил он, потирая гарду кинжала большим пальцем.
– Уж никак не круг, – неожиданно зло буркнул Геродот.
Перикл решил пропустить это замечание мимо ушей.
Затем заговорил – уверенно, выразительно, лаконично:
– Я вчера не просто так распинался перед друзьями… Мне хотелось увидеть твои глаза.
– Увидел? – тихо спросил галикарнасец.
– Да… Именно то, что хотел… Страсть, беспокойство, тоску… Так смотрит прелюбодей на чужую жену в театре, когда ее муж отошел за вином. Или смертник, стоя у плахи палача, если ему разрешат обернуться к родным. В общем, любой одержимый человек… Ты – одержим, у меня в этом нет никаких сомнений. Одержим тягой к странствиям, новым впечатлениям и новому опыту. К опасным делам, в конце концов… Поэтому я так резко закончил, просто мне все стало понятно… Так вот, сегодня я буду говорить только для тебя одного.
Геродот благодарно кивнул.
Перикл выразительно посмотрел на собеседника:
– Я дальше Ласточкиных островов[30] не плавал, поэтому не могу назвать себя знатоком восточных стран. Обстановку в Вавилонии, Финикии, Палестине и Сирии изучал по донесениям катаскопов. Так что передам с их слов…
Он повернулся к карте:
– После покорения Киром Вавилонии все страны к западу от нее, вплоть до границ с Египтом, добровольно признали власть персов… Купцы в Вавилоне, Тире, Сардах или Ирушалеме[31] прежде всего думали о процветании торговли. Они прекрасно понимали, что безопасность караванным путям может обеспечить только большое и сильное государство… Четыре года спустя Кир объединил Вавилонию со странами Заречья – Палестиной, Финикией и Сирией – в одну сатрапию, назначив наместником своего военачальника Гобрия…
Первый стратег на мгновение прекратил рассказ ради сноски:
– Сейчас это неважно, но ты должен знать, что Заречье персы называют страной Эбир-Нари… Пригодится в разговоре с тамошним народом.
– Эбир-Нари, – вполголоса проговорил Геродот, чтобы лучше запомнить.
Описывая Азию, Перикл размашисто водил кинжалом по карте:
– Тридцать два года назад в Вавилоне, Борсиппе и Дилбате началось восстание… Некий Бел-шиманни провозгласил себя царем. Причинами восстания, как и в Египте, стали грабительские налоги, угон ремесленников в Персиду на строительство дворцов, а также не по средствам роскошная жизнь персидского наместника и его вельмож… Но Ксеркс легко подавил восстание, даже не разрушив Вавилон… Кстати, персы называют Ксеркса «Ахашверош», но я буду использовать привычное для нас имя… Так вот… Два года спустя Вавилония снова вспыхнула в огне мятежа под руководством царя Шамаш-эрибы. Ксеркс в это время готовился к войне с Элладой, поэтому гарнизоны многих городов восставшей сатрапии были переброшены в Малую Азию… Шахиншах поручил подавление мятежа своему зятю Мегабизу. Длившаяся почти год осада Вавилона завершилась штурмом города. Мегабиз не только срыл городские стены, но и отвел течение Евфрата в новое русло, чтобы изолировать храмы от жилых кварталов… Оставшиеся без поддержки горожан жрецы были казнены. Храм Эсагилу Ксеркс приказал ограбить, после чего отправил драгоценную утварь и золотую статую бога Мардука в свою столицу Персеполь… Он сделал это не просто из презрения к вавилонским святыням, а в большей степени из политических соображений. Без этих реликвий никто не мог принять в Эсагиле законный титул царя, в результате чего Вавилония превратилась из когда-то мощного царства в рядовую сатрапию. Ксеркс присоединил ее к сатрапии Ассирия, а Заречье сделал самостоятельной областью…
Первый стратег прервался, сделав шаг к столику с едой – трапедзе. Отхлебнул из канфара. Геродот вежливо молчал, давая ему возможность передохнуть. Лишь поднял свой кубок, показывая, что поддерживает друга и ценит его внимание.
Закусив смоквой, Перикл вернулся к карте:
– Теперь о Палестине… Ее также называют Сирией Палестинской… Еще до персов царь Вавилонии Навуходоносор жестоко подавил в этой стране несколько восстаний. Чтобы искоренить смуту, он силой переселил многих жителей Ирушалема в Вавилонию. Как до него ассирийские цари угоняли палестинцев за реку Гинд…
Геродот позволил себе прервать друга:
– Даже дальше… За реку Окс[32] в Бактрии… В одном из свитков Лигдамида я прочитал, что палестинцы именно ее считают рекой Гозан. Той самой, которую им приходилось пересекать, когда ассирийские цари переселяли их на новые земли.
– Не слышал про это, – честно признался Перикл. – Но неважно… Кир позволил жителям Палестины вернуться домой. Он не только подарил им деньги для восстановления храма Яхве в Ирушалеме, но и передал похищенные Навуходоносором священные сосуды… Более того, шахиншах обязал правителей Сирии и Финикии оказать им помощь в строительстве храма деньгами и материалами, а также обеспечить нанятых мастеров питанием за государственный счет… Правителем Палестины Кир поставил Шешбацара, главу общины палестинцев в плену. Однако многие из них решили остаться в Вавилоне, не желая бросать свои дома и имущество. Кроме того, жизнь на чужбине устраивала и сторонников многобожия…
Геродот высоко поднял брови. Несмотря на эрудицию, многое из рассказа Перикла он узнал впервые. Все-таки библиотеки Галикарнаса и Дельф не могли охватить все накопленные знания о Востоке.
Первый стратег сделал вид, что не замечает замешательства своего разведчика:
– Это было давно… Восемьдесят с лишним лет тому назад… Сейчас в Палестине снова стало неспокойно, потому что страну раздирают религиозные распри… Бедное население привыкло молиться не только Яхве, но также древним ханаанским богам – Сину, Астарте, Мелькарту… Причем в одном и том же храме Ирушалема. Зато вернувшейся из Вавилона знати выгодно поддерживать культ Яхве, потому что единобожие обеспечивает им высокое положение в общине… Так вот… Шесть лет назад Артаксеркс направил в Ирушалем книжника Эзру с заданием утвердить в качестве основного закона Пятикнижие, иначе называемое «Законом Моисея» или «Торой»… Согласно этим книгам у палестинцев есть только один бог – Яхве… Реформа Эзры встретила ожесточенное сопротивление населения. Особенно жителей Ирушалема возмутили гонения на самаритян, так как они были со многими из них в родстве. Эзра потребовал расторгнуть браки с самаритянами, а также запретил пускать их в храмовую общину… В общем, тебе придется быть начеку. Имей это в виду…
– Спасибо, что предупредил, я не знал, – на этот раз свою неосведомленность честно признал уже Геродот. – Хотя путешественник на чужбине всегда должен быть начеку… Но прошу тебя – продолжай.
– Да я про Палестину закончил, – пожал плечами Перикл. – Осталось только сказать, что этой страной управляет персидский наместник сатрапии Заречье, в то время как общинные дела решают жрецы во главе с первосвященником.
Фасганон Первого стратега уперся почти в центр круга:
– Вот здесь находится побережье Финикии… Тир, Сидон[33] и Библ[34] – это крупные купеческие города. А когда-то они были самостоятельными царствами. Между ними расположено много пиратских деревень, где живут сплошь работорговцы…
– Финикиян впервые упомянул Гомер в «Одиссее», – не удержался от уточнения Геродот. И процитировал по памяти:
- Прибыли хитрые гости морей, финикийские люди,
- Мелочи всякой привезши в своем корабле чернобоком…
Перикл оценил начитанность собеседника вежливой улыбкой, после чего продолжил:
– Финикия и Палестина раньше назывались общим именем «Ханаан». Народы, обитающие в Ханаане, Сирии, а также в Аравии, произошли от общих предков, которые когда-то пришли с верховьев Тигра и Евфрата. Хотя это не мешает им враждовать друг с другом… Дальше… Очень давно с островов Нашего моря в Палестину переселился дикий народ, получивший от ее жителей прозвище «плиштим», что означает «вторгшиеся». Мы их называем филистимлянами… Филистимляне, палестинцы и финикияне со временем смешались через браки, так что теперь по внешности не разобрать, кто из них кто. При этом на эллинов они совсем не похожи. Разговаривают варвары на разных диалектах ханаанского языка…
Перикл положил кинжал на трапедзу.
Затем снова отхлебнул вина, прочистил горло и продолжил:
– Что касается Финикии… Как известно, на севере она граничит с Киликией, на юге с Палестиной. В длину эта береговая страна будет около полутора тысяч стадиев[35], а в ширину и того меньше, потому что одним боком граничит с морем, а другим упирается в Ливанские горы. На юг и на запад от Палестины тянутся земли Египта. К востоку от Финикии, за Антиливанским хребтом, простирается Сирия, еще глубже на восток расположена Аравия… Эллины устраивают фактории[36] в Финикии уже без малого четыреста лет…
Когда Геродот поднял указательный палец, чтобы привлечь внимание рассказчика, Первый стратег прервался:
– Не стесняйся – спрашивай.
– Горы там близко от берега?
– Да.
– Значит, их города хорошо укреплены.
– Верно! – довольно заметил Перикл. – На карте этого нет, но бухты надежно защищены рифами. В море выступают скалистые мысы, на которых удобно защищаться от нападений с суши… Так финикияне всегда и делают: семьи отправляют на кораблях к прибрежным островам, а сами остаются биться с врагом…
Убедившись в том, что ответ устроил собеседника, он продолжил:
– Палестинцы и финикияне старались не ссориться друг с другом. Пятьсот лет тому назад тирский царь Хирам помог царю Соломону построить в Ирушалеме храм Яхве – отправил туда корабли с ценной древесиной. Оба правителя обменивались искусными плотниками и камнетесами… А два века спустя Финикии пришлось объединиться с Палестиной и Египтом для отражения нашествия ассирийцев… Ассирийцы терзали побережье Финикийского моря сто тридцать лет… Сидон был ими полностью разрушен. Тир расположен на двух островах, поэтому ассирийский царь Асархаддон не смог сразу его захватить. Однако Тиру все-таки пришлось сдаться после того, как пал Египет… Через семьдесят пять лет царь Вавилонии Навуходоносор захватил столицу Ассирии, Ниневию. Ассирийская империя перестала существовать… Двадцать пять лет спустя Навуходоносор уже стоял перед воротами Ирушалема. Еще через тринадцать лет Тир, теперь главный город Финикии, снова пал, но теперь под ударами вавилонской армии…
Разговор прервался, когда в андрон тенью скользнул Эвангел. Заменив почти пустую ольпу новой, слуга так же тихо вышел. Перикл разлил вино по канфарам.
Собеседники выпили.
Первый стратег снова заговорил:
– Финикия потеряла независимость, хотя ей удалось сохранить мощный флот. Поэтому персидские правители использовали его в войнах против эллинов. Начиная с Дария… Ну, это тебе известно…
Геродот ворчливо заметил:
– Финикийские навклеры всегда клацали зубами в Эгейском море при виде наших кораблей. Мы им, видите ли, торговать мешаем… А в Саламинском сражении финикийской эскадрой командовали сидонянин Тетрамнест, тириец Маттен и арвадец Мербал.
Подтвердив свое согласие с галикарнасцем выразительной мимикой, Перикл продолжил:
– Главным городом Финикии на сегодняшний момент считается Сидон. Хотя его дважды разрушали захватчики. Но оба раза он был восстановлен уцелевшими после резни жителями… Климат на побережье жаркий, при этом влажный. Зима мягкая, снег выпадает только высоко в горах… Пахотной земли мало, потому что почти вся местность скалистая. Зато хорошо растут оливы и виноград… Хребты Ливан и Антиливан поросли кедром, пихтой, елью… В долине Амка[37], которая расположена между этими хребтами, лето жаркое и сухое, а зима холодная и суровая… Но именно там больше всего кипарисовых лесов. Через эту долину проходит караванный путь из Тадмора[38] в Египет…
Разломив головку сыра, Перикл предложил половину Геродоту.
Свой кусок надкусил и, прожевывая сыр, небрежным тоном заметил:
– Финикийские города разбогатели на торговле древесиной… Хотя сейчас лесорубы везут бревна только в Библ. Сидон перешел на торговлю стеклянными изделиями, а Тир стал главным производителем пурпурной краски из секрета раковин-иглянок. Тирийцы называют их мурексами… В общем, жируют финикияне.
Первый стратег в задумчивости потер переносицу большим и указательным пальцами правой руки.
Заканчивая обзор, добавил:
– Ну, что еще… Да… Мы для них не эллины, а ионийцы, вернее – яваны. Фактории есть в устье Тифона[39]. Вот афинских клерухий[40] и поселений наемников там точно нет. Гостеприимцев из местных жителей тоже не имеется, так что рассчитывать тебе придется только на свои собственные силы… Общины эллинов наверняка должны быть в городах Месопотамии. Но в каких именно – не знаю… Постоялые дворы у финикиян называются по-персидски ханами. Можно останавливаться не в них, а на почтовых станциях, где персидские хангары меняют лошадей. Хотя тебе, наверное, лучше не светиться в таких местах. Вот, возьми…
Перикл протянул Геродоту массивную золотую печатку-сфрагис. На камее из красной яшмы бегущий гемеродром держал перед собой факел. Над головой гонца буквы складывались в выпуклую надпись: «Афины».
Потом назидательным тоном заявил:
– Ты там это… Особенно не усердствуй в факториях. Твоя главная задача – слушать и смотреть. Искать скрытые подходы к крепостям, отмечать на карте военные дороги, изучать снаряжение воинов, знакомиться с тактикой ведения боя. А торговля – это дело второстепенное, лишь для отвода глаз… И помни: жители этих стран у себя дома, а ты – нет, так что лишний раз не нарывайся.
Снова, как и год назад, Геродот спросил:
– Когда плыть?
В ответ услышал именно то, что ожидал:
– Чем раньше, тем лучше.
Взошли Плеяды.
Смоковницы покрылись молодой листвой. Виноделы торопились подрезать вызревающие лозы. Завизжало железо серпов под точилом – по всей Аттике наступила пора жатвы озимых. Те, кто уже успел убрать озимую солому с делянок, сразу приступали к вспашке земли и посеву яровых.
Пока бедняк налегал на рукоятку сохи, жена хворостиной подгоняла вола. Сзади подросший сын мотыгой заваливал семена черноземом. Зажиточный эллин для такой работы заранее покупал рабыню с ребенком. На фоне утренней зари в полях чернели фигуры голых людей, размашисто разбивавших комья вспаханной земли колотушкой.
Ласточки еще в антестерионе[41] обжили старые гнезда под карнизами черепичных крыш. И теперь оттуда доносился требовательный писк птенцов. Над глинистыми обрывами Кефиса метался сокол-чеглок, гоняясь за стрижами.
Рассвет расправлял розовые крылья над закрытыми от штормов рейдами гаваней Пирея: Канфара, Зеи и Мунихии. Чайки срывались со скал, чтобы покачаться на волнах залива, а потом летели кормиться к островку Пситталия, где на прогретом солнцем мелководье всегда зависают стайки бычков.
Трудовой люд Пирея начал вкалывать еще до рассвета. В окутанной дымом кузне дробью колотили молоты. К складам для такелажа тянулись подводы с пенькой и парусиной.
В столярных мастерских на полу уже скопились изрядные кучи стружек. Казначеи возле приемных площадок бренчали серебряными статерами, расплачиваясь с поставщиками.
Из дока Зеи корабельщики спускали по стапельным помостам отремонтированную и заново провощенную триеру. Надраенный до блеска таран вспорол кабаньими клыками мутную воду Саронического залива. Свежий пеньковый такелаж пах горячей смолой и жженой травой.
От храма Артемиды к источнику Зеи потянулась вереница гиеродулов с гидрией[42] на плече. На шее первого раба висел кожаный шнурок с ключом от замка, который запирал тяжелую цепь нимфея от праздного люда.
Из-за Саламина прилетели первые порывы приносящего тепло западного Зефира, который разметал по причалам запах серы, дегтя и битума. Вымпелы на замерших в гаванях кораблях рвались с флагштоков, словно хотели унестись в безгранично пустое небо.
Но нашлись в Пирее и дармоеды. Из пещер Мунихия вылезало заспанное отребье: нищие, дешевые уличные порнаи, беглые рабы, бездомные ветераны, скрывающиеся от кредиторов должники…
Голодранцы расходились по гаваням Пирея в надежде найти хоть какую-то работу, а если повезет, поживиться гнилыми фруктами на Дейгме. Причем все отлично знали, в какой из триттий нищим подают милостыню, а в какой могут и морду набить.
Заслышав сигнал трубы глашатая Совета Пятисот, они бежали прочь, подальше в глухие бухты. Прятались среди развалин старых домов, в заброшенных погребах и сырых гротах, лишь бы не попадаться на глаза стражам порядка, рабам-токсотам, уже растягивающим вокруг места собрания красные канаты.
К лечебной купальне при храме героя Серанга спускались хворые и калеки, чтобы промыть раны или просто прополоскать горло святой водой источника.
Ранние паломники уже возложили к алтарю Аполлона Апотропея дары: вязанки дров, мешочки с благовониями, гирлянды из весенних цветов, лавровые венки, медовые лепешки, домашнее печенье… Невесты посвящали богу локоны своих кудрей перед свадьбой. Новоиспеченные эфебы дарили ему обрезанные при первой стрижке волосы.
Родственники душевнобольных после принесения очистительной жертвы Аполлону опускали в бассейн с чистой морской водой еще горячую алтарную головню. Окропив святой водой своих безумных домочадцев, они тут же окуривали их серой и ладаном. Потом бережно уводили домой.
В Зейской гавани дворники подметали землю вокруг дождевых цистерн перед полуденным судилищем, когда судьи рассядутся на каменных скамьях, чтобы вынести приговор убийце.
Обвиняемый, которому из-за тяжести преступления запрещено ступать на землю Аттики, будет ожидать решения своей судьбы в лодке под охраной вооруженных дубинками скифских рабов.
Лемб Харисия тихо терся об измочаленный кранец[43], как молочный теленок о бок коровы. Всевидящее око на скуле, изрядно изъеденное соленой морской водой за осеннюю навигацию, вперилось в обросшие ракушками квадры, будто видавший виды корабль из зависти не хотел смотреть на спущенных со стапелей свежеструганных собратьев.
Сам мореход допивал красное библинское на причале Афродезиона. Толпа сопровождавших Перикла портовых распорядителей-эпимелетов, таможенных элименов и пританов[44] Совета Пятисот стояла в стороне, не вмешиваясь в разговор Первого стратега с друзьями.
– Ничего не забыл? – спросил Перикл Геродота.
Тот безмятежно махнул рукой:
– Поздно проверять, все пожитки на борту… Самое важное – подорожная – здесь. – Он похлопал рукой по груди, где под хитоном угадывались очертания небольшого сосуда. – Сундук с тремя талантами серебра в трюме.
Первый стратег посмотрел на Харисия:
– Солониной запасся?
Перикл сейчас был похож на заботливого отца, который собирает сыновей в ополчение. Даже если морской купеческий поход сильно отличается от сухопутного военного анабасиса, плаванье по враждебным для Афин водам всегда опасно для жизни.
Однако поставить во главе торговой флотилии триеру с воинами-эпибатами, как он сделал, снаряжая Геродота в Египет, в этот раз Первый стратег не мог. Поэтому тревожился.
– До Родоса точно хватит, – заверил Перикла мореход Харисий. – Свежую воду возьмем на Наксосе… От Родоса пойдем вереницей вдоль берегов Ликии, Памфилии и Киликии. Путь испытанный, намоленный, проверенный… Даже если остальные корабли разбредутся по торговым гаваням, я не пропаду. Знаю, где можно бросить якорь, а куда лучше не соваться. Есть знакомства и в портах, и среди пиратов… Если что, Геродот деньгами поможет, откупимся.
Галикарнасец кивнул.
Харисий закончил краткое описание маршрута:
– В Киликийском проливе торговых кораблей не меньше, чем в Сароническом заливе, потому что все купцы рано или поздно плывут на Кипр за медью. Так что до самого Тарса мы будем на виду и в хорошей компании… Ну а от Тарса до Библа рукой подать, за день проскочим.
После этих слов мореход, которому хмель ударил в голову, положил руку на плечо Первому стратегу. Пританы при этом жесте напряглись, однако Перикл движением бровей приказал им не двигаться с места.
– На Наксос не надо… – заметил Первый стратег. – Ненадежное место, не советую… Ты говорил, что один из купцов плывет с вами за паросским мрамором. Вот на Паросе и наберете воды… Ключей там много.
Харисий прислушался к совету:
– Хорошо… Обсужу это с навклерами на первой же стоянке.
Подумав, добавил:
– Когда соберемся в храме Посейдона на Теносе… Как раз к дню Посейдона хотим туда добраться. На покупку в жертву белого коня мы уже скинулись.
Перикл махнул рукой стоявшим группой мореходам остальных торговых кораблей флотилии. Те тихо переговаривались, ожидая команды к отплытию. Увидев знак, они быстро направились к своим лембам.
Первый стратег широко раскрыл объятия:
– Ну, пора прощаться.
Друзья обнялись.
Перикл слегка, вроде как по-товарищески, двинул Геродота кулаком в грудь:
– Ты давай держись там… В пекло не лезь, без надобности не рискуй. И повнимательней будь, смотри по сторонам, не повторяй лидийскую ошибку. Кому попало не доверяйся, как в Египте… Да ты и сам знаешь… Все, до встречи… Попутных вам Этесий!
Вскоре гавань осталась позади.
Лысая верхушка холма Ликабетт еще долго виднелась на фоне покрытых лесом Пантеликонских гор. Но стоило флотилии обогнуть мыс Зостер, как холм скрылся за Гиметтским хребтом, богатым не только мрамором, но также тимьяном и медоносами.
Геродот знал, что в травостое на северном склоне хребта притаились статуи Зевса Гиметтского и Зевса Омбрия, а неподалеку весна сейчас засыпает липовым цветом статую Аполлона Проопсия. Однако побывать там ему пока что не пришлось.
Завидев среди скал белоснежный портик храма Аполлона Зостера, Харисий пролил за борт немного вина из меха, в то время как матросы произнесли охранную молитву.
Теперь по левому борту простирались земли Эрехтейской филы[45]. Справа остался остров Фабра, а впереди уже виднелся маленький скалистый Ослиный остров.
Геродот уважительно посмотрел на прибрежный город Анафлист, расположенный вблизи мыса Колиада. К этому неприветливому безлесному куску суши почти тридцать лет назад течение прибило обломки триер, потопленных в Саламинской битве. В том числе и афинских. Не имея возможности похоронить тела соотечественников, жители города воздали почести останкам их кораблей.
Когда Харисий совершил возлияние в память о погибших моряках, галикарнасец поклонился морю. Ему вдруг вспомнилось очень давнее пророчество прорицателя Лисистрата, гласившее: «Колиадские жены ячмень будут жарить на веслах». Красиво сказал тогда афинянин, но непонятно. А понятным оно стало лишь после морского сражения при Саламине.
От бывалых моряков Геродот слышал, что гавань Анафлиста всегда полна кораблями. Паломники плывут сюда, чтобы совершить жертвоприношение в храме Афродиты Колиады, а также в святилище богинь Генетиллид и на алтаре Пана.
В обратный путь к Пирею отправляются лембы, нагруженные мешками с отличной гончарной глиной, необработанными смарагдами, да еще знаменитой золотистой краской силь.
За Лаврийскими горами показался мыс Суний. В который уже раз Геродот восхитился прекрасным видом с борта корабля на храм Посейдона в окружении священной сосновой рощи.
При виде утесистого и пустынного острова Елены в памяти галикарнасца всплыли строки из «Илиады», в которых Александр признается Елене в любви:
- …Пламя такое в груди у меня никогда не горело;
- Даже в тот счастливый день, как с тобою из Спарты веселой
- Я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных,
- И на Кранае с тобой сочетался любовью и ложем.
- Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный…[46]
Подгоняемый Этесиями, лемб Харисия плыл на юго-восток, покрывая за день до семисот стадиев. Ночью ветер немного стихал, однако корабль успевал к рассвету пройти еще не меньше шестисот стадиев.
От острова Крит Харисий повернул строго на восток. Ветер теперь бил в левый борт, отчего лембу приходилось рыскать по Критскому морю галсами, существенно сбавив при этом скорость хода.
Геродот ожидал высадки на финикийский берег с щемящим сердце волнением. Он думал о том, что ему предстоит очень опасное и в то же время самое интересное путешествие всей его жизни.
Тир, Ирушалем, Дамаск, Вавилон… Названия древних городов постоянно звучали в разноязыкой толпе на рынках Афин и Пирея. Когда он произносил их сейчас, вглядываясь в перламутровую даль моря, ему вспоминались хитрый с прищуром взгляд финикиян, обманчиво-грустные глаза палестинцев, покрытые синей татуировкой лица арабов, вьющиеся кольцами намасленные бороды арамеев. И вот скоро ему предстоит встретиться с этими людьми на их родной земле…
На восьмой день плаванья, когда корабль находился уже в Карпафийском море[47], погода внезапно испортилась. Прохладные северные Этесии сменились по-настоящему пронизывающим северо-восточным Бореем.
Небо затянуло тучами, волны заходили ходуном. Чайки пропали из виду, укрывшись от бури на безопасных рифах Южных Спорад. Зато белоснежные альбатросы и чернокрылые буревестники вылетели на охоту за кальмарами, медузами и песчаными угрями.
Харисий стоял на полубаке, вцепившись в натянутый, словно струна, мачтовый трос. Мореход хмурился, ему не нравилось, как лемб рыскает между гребнями, вздрагивая от боковых ударов. Создавалось впечатление, будто ветер постоянно меняет направление.
Этот сумасшедший хоровод не сулил флотилии ничего хорошего. Увидев, что на головном корабле убирают парус, Харисий приказал боцману-келейсту Леократу и двум матросам сделать то же самое.
Геродот, который вылез из трюма, где проверял, не побились ли амфоры с гиметтским медом, тоже взялся за фал. Вскоре парус был притянут к верхнему рею и схвачен сезнями[48].
Лемб перестал крениться на подветренную сторону, однако Харисий продолжал ворочать обоими рулевыми веслами, удерживая его носом к волне.
Теперь корабль дрейфовал в непредсказуемом направлении. Леократ плотнее стянул натянутый между бортами кожаный навес, чтобы вода не заливала трюм.
Стало совсем темно. Валы шли один за другим. То расступались, открывая мрачную черную бездну, то сжимались, словно челюсти левиафана. Ветер срывал с гребней белую пену.
Когда он стал стихать, хлынул косой холодный дождь. Геродот, Харисий и Леократ укрылись под крышей носовой рубки. Размокшая сыромять натянулась на жердях, словно барабанная мембрана, однако плохо зашнурованный полог пропускал и ветер, и брызги. Матросы залезли с головой под сложенный на полуюте запасной парус.
Свинцовые облака повисли над самой водой. Казалось, будто Зевс мечет перуны и грохочет громом со всех сторон. Запахнув гиматии, путники со страхом ожидали окончания шторма.
Леократ бормотал молитву, целуя фигурку Ахилла. Келейст происходил из Ольвии Понтийской, неоднократно участвовал в Панэллинских играх на Ахилловом Дроме, поэтому почитал героя как покровителя моряков.
Харисий сидел молча с остановившимся взглядом. Видимо, тоже читал молитву Зевсу или Посейдону, только про себя. Геродот, с бледным лицом, мокрый и продрогший, обращался ко всем двенадцати олимпийцам сразу. Он махнул рукой и на товар, и на казенное серебро, лишь бы остаться в живых.
Эллины просидели в рубке до рассвета. Плотно прижавшись друг к другу, то проваливаясь в дрему, то просыпаясь от тряски и холода. Со страхом ожидая, что вот-вот мачта сломается и рухнет им на голову.
В ночном мраке подсвеченные луной гребни волн сверкали, словно омытые дождем самородки в отвалах Лаврийских копей. Тускло, таинственно, зловеще.
Буря улеглась так же внезапно, как и началась. Снова послышались похожие на пронзительный смех крики чаек. Харисий был доволен собой, потому что корабль выдержал удары стихии только благодаря тому, что доски обшивки были предусмотрительно скреплены металлическими нагелями.
Мачта и парус остались на месте. Однако несколько амфор, несмотря на то, что еще в Пирее Геродот обложил их войлоком, от сильной качки треснули. Когда галикарнасец расшнуровал навес, на него пахнуло густым травяным духом. Мед растекся по днищу, смешавшись с набравшейся за ночь морской водой. Под ногами болталась густая липкая патока.
Но на этом злоключения путешественников не закончились. Харисий, теперь уже в растерянности, стоял рядом с рубкой, вглядываясь в закрытое облаками небо. Он безуспешно пытался сквозь косматую серую пелену различить хотя бы одно утреннее созвездие.
Потом мореход посмотрел по сторонам. Не увидев на горизонте ни единого паруса, он понял, что непогода разметала флотилию по Карпафийскому морю. Теперь корабль плыл по чужим водам в полном одиночестве.
Утром третьего дня после бури на горизонте выросла какая-то гора. Харисий долго и подозрительно вглядывался в нее, а потом недовольно мотнул головой:
– Это точно не Крит, не Кипр и не Финикия.
– А что? – с потерянным выражением на лице спросил Геродот.
– Если нас отнесло на запад, то все, что угодно. Я В Критском море ни одного порта не знаю. Там и суши-то нет, одни безымянные рифы, – удрученно пробормотал мореход. – До самого Мелите[49] голое, пустое море… А если на юг, тогда это Египет… Но вот с какой стороны – непонятно. До Каноба[50] еще далеко, до Карт-Хадашта[51] тем более. Так в этих портах и гор никаких нет…
– Я знаю, – неожиданно заявил Леократ, – это гора Касий! Когда будем ближе, то увидим храм Зевса Касия. Западнее мыса расположен город Пелусий[52]. До него от горы стадий триста будет… Как раз отсюда и начинается Египет. Я здесь бывал раньше… Правда, мы плыли от Кипра на юг вдоль финикийского побережья. Но гора со всех сторон выглядит одинаково.
– Так вот куда нас занесло… – задумчиво пробормотал Харисий. – В Пелусийское море.
Шумно выдохнув, он улыбнулся:
– Пусть так! Зато живы!
И с размаху хлопнул стоявшего рядом Геродота по плечу.
Вскоре среди скал действительно показался белый портик святилища. Со всех сторон к самому восточному египетскому порту приближались большие морские корабли.
Одни под парусом, другие на весельном ходу. Между мысом и молом сновали знакомые галикарнасцу лодки – остроносые барисы, нуггары с косым треугольным парусом, плоты из связок папируса…
Так же, как и год назад в Канобе, люди с кожей цвета оливкового масла надрывали горло, пытаясь продать истощенным за долгий переход морякам свежую питьевую воду и еду.
У Геродота защемило сердце. Ему казалось невероятным, что судьба снова забросила его в страну гигантских пирамид, островерхих обелисков, покрытых иероглифами и барельефами пилонов, таинственных храмов, мрачных погребальных мастаб… Страну испепеляющего летнего зноя.
«Тасуэи… – с тоской подумал он. – Где ты, моя зеленоглазая жрица?»
А потом сам себе ответил: «Неважно… Все равно нам не суждено встретиться».
Глава 2
452-й год до н. э.
Пелусий, Аскалон[53], Ака[54], Тир
Причалив в торговой части порта, Харисий объявил день отдыха.
После измотавшего и корабль, и команду шторма ясное безоблачное небо над головой казалось даром богов, а возможность ходить по устойчивой под ногами земле доставляла телу физическую радость.
Путники сразу направились к портовому рынку. Истосковавшиеся по горячей еде эллины первым делом отыскали съестные ряды. От исходившего из этой части рынка вкусного запаха у Геродота засосало под ложечкой.
Харисий оставил без внимания зелень, фрукты и орехи. Этим добром не насытишься, а овощи так еще и сварить надо. Зато смело направился к мясному ряду, где в тени навесов из листьев пальмы дум с крюков свисали тушки освежёванных зайцев, копченые свиные головы, окорока, бараньи ребра, ощипанная птица…
Стоило матросам увидеть стоявший на огне котел, от которого исходил сильный чесночный дух, как они заявили, что тушенные с бараниной бобы – это предел мечтаний, поэтому дальше можно не искать.
Для себя и двух друзей Геродот потратился на жареного в углях гуся. Продавец вытащил покрытую горячим пеплом, подернутую дымком тушку из кострища палочками, а затем изрубил ее на куски мясницким топором на плахе.
Приняв от египтянина завернутую в пальмовые листья и ароматно пахнущую снедь, галикарнасец пошел на запах горелого зерна. Через несколько шагов он увидел усеченный глиняный конус высотой в пару локтей, из вершины которого, словно из жерла вулкана, вырывались языки пламени. В черном дыму хороводом кружились искры. К закопченным бокам очага белыми и коричневыми наростами прилипли булки.
Пекарь месил тесто в терракотовом чане, в то время как рядом с очагом рабыня растирала зерно. Совсем молодая эфиопка, почти девчонка, в одной набедренной повязке стояла на коленях перед каменной ступой, толкая взад-вперед прямоугольный кусок известняка.
Скрученная в жгут на поясе и между ног ткань полностью открывала упругие ягодицы. Черное тело лоснилось, с шеи между торчащих холмиков грудей стекала струйка пота.
Кожа на гладко обритой голове рабыни бугрилась шрамами, однако ритуальное уродство не показалось галикарнасцу безобразным. Белые зубы закусили фиолетовую губу от напряжения.
Эфиопка двигалась с грацией пантеры. Геродот поймал себя на мысли о том, что ему нравится смотреть на девчонку. Он вдруг представил себя стоящим за ее бедрами на коленях и почувствовал, как тело привычно отозвалось…
Усилием воли прогнав наваждение, галикарнасец повернулся к пекарю, чтобы купить хлеба. Но когда узнал цену, то досадливо скривился, а потом показал рукой на остывшее кострище, зная по опыту, что испеченные в золе лепешки стоят дешевле.
Каждому досталось по одной лепешке. Перед тем как передать хлеб с мясом Харисию и Леократу, Геродот обтер еду пучком травы от золы. Жевали, сидя на корточках. По очереди отхлебывали теплое пиво из кувшина.
На радостях, что удалось выжить в бурю и пристать к суше, путники решили перепробовать все сорта пива. Геродоту понравилось каппадокийское пиво Кеде. Харисий выбрал темное египетское пиво из молотого ячменя, который местные торговцы называли «зернами Верхнего Египта». Леократ нахваливал светлое Пелусийское пиво. Матросы глушили пахнущее, как вино, пиво из палестинского Зифа на основе размоченного в воде и забродившего печеного хлеба.
Некоторое время спустя нетвердо стоявший на ногах Геродот оставил друзей и матросов дремать в тени огромного чана для засолки рыбы, а сам отправился самостоятельно бродить по рынку. Пропотевшая головная повязка неприятно коробилась на лбу, тогда он ее сорвал.
После выпитого ему казалось, что он может свернуть горы.
«Отдых отдыхом, – самонадеянно решил галикарнасец, – но я, вообще-то, на работе. Сейчас я этим торгашам покажу, как посланники народа Афин решают вопросы».
Облегчиться после выпитого не меньше двух хеников[55] пива удалось у страшно вонявшей отхожей ямы. Над клоакой колыхалась завеса из тысяч зеленых мух. Густое назойливое жужжание вызывало у Геродота отвращение.
Он хотел зажать нос, но ему пришлось одной рукой задрать хитон, а другой оттянуть в паху зому[56]. Тугая желтая струя зашлепала по поверхности смрадного болота. Через мгновение невыносимая вонь отступила перед охватившим его наслаждением.
Вскоре галикарнасец вышел к торговым складам – эмпориям. Накатили привычные звуки швартовки, погрузки и разгрузки вперемешку с гомоном поденщиков, ревом ослов, скрипом такелажа…
Наконец, он увидел то, что искал – уставленную конными волокушами площадь, а за ней тянувшиеся вдоль причалов до самого мола штабеля строевого леса.
Когда штабелевщики баграми цепляли отобранное бревно, раздавался предупреждающий крик: «Берегись!» Бревно, кренясь и подпрыгивая, катилось по откосу, а в самом низу с громким глухим стуком ударялось о вбитый в землю базальтовый бык.
Поджидавшие внизу поденщики отскакивали в стороны, но тут же возвращались к штабелю, чтобы ловко оттащить бревно к поджидавшей груз волокуше. Утрамбованная вокруг быков глина была усыпана кусками ободранной коры.
Длиннорогие египетские волы обреченно ждали, когда поденщики уложат бревно на волокушу. Взмах бича – и вот они уже тащат волокушу к речному причалу, где ее поджидает грузовой барис.
«Все правильно, – довольно подумал галикарнасец, – из Библа в Пелусий везут кедр, кипарисы и ель, а обратно папирус. После разгрузки корабль сразу берет на борт новый товар, чтобы не возвращаться порожняком… Значит, папирус должен быть где-то рядом».
Опасливо косясь на штабеля кругляка и пиловочника, Геродот шел дальше, пока не увидел уложенные друг на друга пачки папирусных листов. В отличие от груд бревен, кипы папируса были правильной формы. Каждая кипа отделялась от соседней узким коридором.
Здесь тоже царила рабочая обстановка. По длинным лестницам сновали грузчики, втаскивая наверх товар. У каждого со лба на спину свисали две кожаные петли, охватывая крест-накрест пачку папируса. Принимающий киповщик цеплял пачку крюком из-за спины грузчика, чтобы ловким движением выдернуть ее наверх.
Бригадир ходил по плоскому верху кипы и придирчиво следил за тем, чтобы строгие линии ряда не нарушались. Время от времени от прикладывал к стенке длинную плоскую палку и, если только что уложенная пачка выпирала из кипы, приказывал ее переложить.
Задрав голову, Геродот спросил, где можно найти эпимелета. Египтянин на плохом ионийском койнэ переспросил, кто ему нужен, а когда галикарнасец подробно объяснил, что ищет портового распорядителя, махнул рукой в конец коридора.
За то время, что он искал грузовой причал, пивное похмелье от бьющего в лицо морского ветра стало проходить. Но пьяный кураж все еще давал о себе знать.
Раздвинув парусиновую завесу, Геродот вошел в сколоченную из жердей бытовку. За складным столиком он увидел египтянина в каласирисе с короткими рукавами и парике. И с таким морщинистым лицом, будто бог Хнум еще только учился гончарному ремеслу, когда лепил этого человека.
– Хайре! – бодро сказал галикарнасец.
Портовый распорядитель, привыкший к тому, что мореходы и купцы из Эллады не говорят по-египетски, спокойно ответил таким же приветствием.
Потом без обиняков спросил:
– Что хочешь?
Геродот пока не решил, какую роль будет разыгрывать. Но охвативший его хмельной азарт придавал его действиям беспечную удаль. В Пелусий он попал не по замыслу Перикла, а по необъяснимой затее Мойр. Если брать еще выше, так и по воле всемогущего Рока. А если принять во внимание, что Посейдон сберег корабль во время шторма… Получается, он – любимец богов. Ну, так вперед!
Поэтому его лицо озарилось улыбкой, в которой даже неопытный собеседник заподозрил бы прямой умысел, в то время как искушенный магистрат легко распознает наглую безнаказанность.
Мешочек с афинским серебром в руке галикарнасца призывно позвякивал.
Голос прозвучал требовательно:
– Список купцов, которые поставляют в порт библос[57]. Имена, названия кораблей, где остановились в Пелусии… Все, что знаешь.
Он намеренно назвал папирус принятым среди купцов ойкумены профессиональным названием, чтобы заявить о себе как об оптовом покупателе. Портовый распорядитель должен почувствовать: афинянин пришел с серьезными намерениями и не собирается уходить с пустыми руками.
Однако египтянин оказался тертым калачом и от прямого ответа уклонился:
– Я ничего не знаю… Мое дело – следить за порядком в порту, обеспечить продавца торговым местом, принять плату за хранение товара… По пелусийскому руслу много поставщиков приплывает. Все они первым делом отмечаются у Табнита, у нас так заведено… Мне купец приносит остракон[58] от Табнита, а я в обмен даю ему тессеру с номером места… За именами иди к Табниту.
Он показал рукой на стеллаж из стеблей тростника, где в ячейках лежали стопки керамических черепков, исписанных крючковатыми финикийскими буквами.
– Кто такой Табнит? – не отставал Геродот, потряхивая кошелем из черной юфти.
Египтянин заинтересованно покосился на золотой сфрагис на пальце гостя с изображением бегущего гонца и надписью «Афины». А тот его и не прятал, наоборот, демонстративно выбивал дробь по мошне.
Чтобы отделаться от навязчивого эллина, пришлось сказать правду:
– Глава финикийской общины Пелусия… «Руббайон» на их языке… Короче, «начальник»… Он всех местных поставщиков папируса знает, потому что без его ведома не заключается ни одна сделка в порту с участием финикиян.
– Где его найти? – примирительным тоном спросил Геродот.
Когда египтянин объяснил, гость снова растянул рот в улыбке не то бесстыжего уличного сутенера, не то циничного и прижимистого восточного ростовщика – трапезита.
Перед тем как уйти, галикарнасец ловко выстрелил серебряной монетой, а египтянин так же ловко ее поймал. Того, как он подозрительно сдавил ее гнилыми зубами, Геродот уже не увидел.
Дом Табнита находился рядом с болотом Барафр. Время паводка ахет еще не наступило, поэтому топь сильно воняла подсохшим илом, а белые египетские цапли, не теряя времени даром, долбили в вязкой зеленой слякоти все, что шевелится.
Домашний раб провел Геродота по тенистой садовой аллее из персиковых деревьев к террасе. Между распахнутыми ставнями маленьких окон выстроились цветочные горшки с полураскрытыми желтыми цветками бальзамина.
С плоской крыши свешивались нити вьюнков. Резная дверь пряталась между финиковой пальмой и сикоморой. Галикарнасец разулся в прихожей, после чего прошел в андрон хозяина.
Обложенный подушками финикиянин полусидел на ковре. Возле его ног расположилась девушка, одетая только в разноцветный воротник усех и бронзовые браслеты на запястьях и лодыжках. Из-под блестящих нитей бисера свисали полные груди с большими черными сосками.
Похожий на высокий головной убор парик говорил о ливийском происхождении певицы-бакет. Накрашенные красной охрой ногти и густо подведенные глаза подчеркивали ее роль в доме финикиянина, а именно: развлекать руббайона, если ласки жены ему наскучат, а придирки испортят настроение.
Бакет перебирала струны маленькой треугольной арфы, тихо напевая красивым низким голосом. Увидев вошедшего Геродота, Табнит щелчком пальцев отослал певицу.
Оценив афинский фасганон в кожаных ножнах на поясе незнакомца, солидный золотой перстень на пальце и узор в виде меандра на хитоне, хозяин спросил:
– Ты кто?
– Геродот… Вообще-то я с Самоса, но ты можешь считать меня афинянином… Тебе какая разница… – намеренно развязным тоном сказал галикарнасец.
Ему казалось, что выбранный тон разговора с портовым распорядителем обязательно сработает и здесь. Завладевший им дух Диониса призывал смело идти напролом для достижения своих целей.
Табнит помолчал, озадаченный неблаговидным поведением гостя. Оба разглядывали друг друга, пытаясь прочитать во внешности собеседника признаки, из которых, как ткань из пряжи, складываются образ и характер.
Финикиянин сразу отметил несоответствие умного лица гостя бесцеремонному тону обращения. Хорошая осанка, чистая и гладкая кожа стоявшего перед ним молодого мужчины говорили о хорошем здоровье, а значит, и о достойном положении в обществе. В то время как упрямо сжатые губы предупреждали – этот парень себе на уме.
Вот только движения чересчур размашистые и глаза блестят… Поддатый, что ли… Чтобы потянуть время, Табнит отпил из прозрачного кубка гранатового вина шедех.
«Афинянин этот наглец или кто еще… Неважно, – решил он. – Ну, пусть думает, что посланец Афин может открывать ногой любые двери в Пелусии… Сначала разберусь, что ему надо, а выгнать его из дома, я всегда успею».
Геродот видел перед собой побитого годами и излишествами старика с беспощадным лицом. От его глаз не укрылись красные прожилки на горбатом, как у аравийского бедуина, носу из-за чрезмерного увлечения вином, блестящие от употребления меконина глаза, а также хищный изгиб рта человека, который привык повелевать другими, и ухоженные руки сладострастника.
Еще он обратил внимание на два выпрямленных пальца на правой руке руббайона – указательный и средний.
«Признак скрываемого волнения или недовольства», – решил галикарнасец.
Однако здесь Геродот ошибался. Откуда ему было знать, что в детстве Табниту, когда он чистил рыбу на корме рыбачьей лодки, чайка ударом клюва едва не оторвала кисть.
Раны зажили, хотя плохо сросшиеся сухожилия все время держали два пальца в напряжении. Табниту пришлось смириться с тем, что он никогда не сможет услаждать женский слух игрой на танбуре.
Тем не менее с возмужанием он научился услаждать женщин игрой совсем на других инструментах, мягких, податливых, отзывчивых на прикосновения. И вскоре убедился: негнущиеся пальцы в этом деле скорее достоинство, чем недостаток. Да и кисть сохранила хватку, поэтому ранение не мешало ему крепко сжимать рукоять кормила или эфес меча.
Физический недостаток финикиянин компенсировал толстыми золотыми перстнями. Блеск благородного металла заглушал досаду, которую он испытывал каждый раз, когда пальцы его не слушались. Да и самоцветы – светлый берилл и коричневый опал как нельзя лучше подходили к его гетерохромным глазам – серому и карему.
Табнит был жестоким, своевольным, черствым к чужим страданиям человеком. Он с твердой уверенностью полагал, что совесть – не телесный орган, а значит, болеть не может.
Именно таким Геродот и прочитал собеседника.
– Мне без разницы, – ровным тоном произнес финикиянин. – Но раз пришел, говори первым.
– Кто поставляет в Пелусий библос? – напрямик спросил Геродот.
– Тебе зачем? – вопрос Табнита прозвучал спокойно.
В ответе гостя, наоборот, ключом била показная уверенность:
– Я фортегесий афинского Буле… Мне поручено найти поставщиков библоса в Афины.
Финикиянин продолжал выдерживать тон:
– Тогда тебе надо в Библ.
– Там дороже. – Геродот произнес эти слова тоном учителя, который говорит с глуповатым учеником.
Табнит сохранил хладнокровие и на этот раз:
– Ни один египетский купец не согласится на прямые поставки в Афины.
– Это почему? – с деланным удивлением спросил галикарнасец.
Ему было прекрасно известно, что финикияне подмяли под себя вывоз папируса из Египта. Пройдя через руки посредников, ходовой товар из Пелусия оседает в эмпориях финикийского Библа, а уже оттуда доставляется во все порты ойкумены купеческими кораблями.
Финикияне зубами вцепились в торговлю папирусом. На полученную от его перепродажи прибыль разбогатела не одна купеческая семья как в Пелусии, так и в Библе. Сопоставимую прибыль приносила только торговля строевым лесом, стеклом, да еще окрашенными в пурпур тканями.
Однако в крупных городах Финикии – Библе, Тире и Сидоне – свободных мест в цепочке купеческих связей давно нет. Об этом галикарнасца предостерегал Перикл.
Табнит снова потянулся к кубку из горного хрусталя.
Сделав глоток, демонстративно прополоскал рот вином, потом сдержанно бросил:
– Потому что я за это привяжу его к стулу в эмпории… Сначала вырву ногти. А потом отрежу яйца тупым лезвием и вывешу из окна, чтобы их склевали чайки.
В груди Геродота нарастало глухое раздражение. Высказанное равнодушным тоном зверство в обычной обстановке его бы смутило. Но после такого количества пива…
Одурманенное хмельным напитком сознание отказывалось признавать очевидный факт – слишком большие деньги крутятся в торговле библосом, и слишком ревностно финикияне оберегают источник своего баснословного дохода от чужестранцев.
Ему стало понятно, что разговора не получается. И это его только взбесило. Но нарываться на конфликт ему сейчас нельзя. Если даже у персидских властей Пелусия к нему возникнут вопросы, очень важно сослаться на этот разговор с главой финикийских торговых посредников.
Пора было уходить.
– Жаль, – сказал он со злостью в голосе.
Затем развернулся и покинул андрон.
По дороге к своему причалу Геродот привычно пересчитал пятидесятивесельные пентеконтеры с фаравахаром[59] на вымпелах. Грозные боевые корабли финикийской флотилии под персидским флагом замерли в порту, словно гончие псы возле ног хозяина перед началом охоты. Спокойные, но готовые в любой момент понестись вперед по его приказу.
Заметил он и несколько пришвартованных грузовых гиппосов, которые были нагружены амфорами, мешками с зерном, связками вяленой рыбы, а также перетянутыми бечевой кипами сена. Флотилия явно готовилась к дальнему походу, причем в составе войска точно есть кавалерия.
Лемб Харисия, как отдыхающий в стойле конь, прижался скулой к заросшим зеленью каменным квадрам. Геродот окинул его цепким взглядом. На полубаке царит тишина, сходни не спущены, вымпел не поднят.
Галикарнасец понял, что Харисий с командой еще не вернулись с рынка. Тогда он уселся на швартовочную тумбу и просто наблюдал, как чайки пикируют на неосторожно поднявшуюся к поверхности воды барабульку…
«Яван точно не за библосом приходил, – пришел к выводу Табнит, прокручивая в голове беседу со странным гостем. – И вел себя вызывающе. Будто играл заранее подготовленную роль. Вполне возможно, что пьяным заявился специально… Но что у него на уме, пока непонятно… Нужно выяснить…»
Хлопнув в ладоши, руббайон приказал вошедшему слуге прислать Шамаима. Вскоре перед ним в поклоне склонился сикофант – доносчик и порученец для самых грязных дел, к которым глава финикийской диаспоры его привлекал, чтобы не пачкать собственные руки чужой кровью.
Жилистый, юркий финикиянин был одет в длинный желтый хитон из льна. Кривой шрам над верхней губой, крупный мясистый нос, оттопыренные уши – внешность громилы делала его лицо неприятным. При этом колючие бегающие глаза говорили о хватке и сообразительности.
Выслушав хозяина, Шамаим метнулся к выходу из дома и вскоре уже крался за галикарнасцем в сторону порта.
Вечером он пришел с докладом.
Руббайон уставился на него мутными разноцветными глазами.
Потом скупым, но выверенным жестом приказал: «Говори».
– Лемб афинский, господин… – зашипел Шамаим. – Я у эпимелета узнал… Навклер рассказал ему, что их в Пелусий занесло бурей…
– Плыли куда? – нетерпеливо прервал своего порученца Табнит.
– В Губл[60].
– Зачем?
– Говорит, за товаром…
– Сами что везли?
– Мед.
– Сколько их?
– Пятеро… Четыре моряка и этот горлопан… Навклер родом из Галикарнаса. По разговору вроде бы они с афинянином друзья… Я слышал, как навклер называл его Геродотом… Лемб утром уходит в Губл. Стоянка оплачена до рассвета.
– Вели себя как?
– Главный у них – Геродот, навклер работает с ним по уговору… Афинянин и там крик устроил. Орал, что плата за швартовку очень высокая, а Буле спросит с него за каждый обол.
Табнит повернул голову набок и теперь смотрел на своего порученца немигающим карим глазом, словно ястреб на жертву. Выслушав его, он прикрыл веки, как делал всегда, когда принимал важное решение. Шамаим почтительно и терпеливо ждал, когда хозяин заговорит.
«Значит, в Губл… – размышлял финикиянин. – Фортегесий Буле, который выдает себя за настоящего афинянина… На Самосе он родился или еще где, к делу не относится. Важно то, зачем он плывет в Финикию… Мутный тип… Сначала пальцы гнул, а когда я ему отказал, так просто взял и ушел… Похоже, не за этим явился… А вдруг он джасус Перикла? Нужно предупредить Совет старейшин Губла… Если наместнику земель Эбир-Нари доложат о джасусе, которого мы проморгали в Пелусии, а тем более в Губле, жди беды…»
– Вот что… – Табнит огладил короткую седую бороду. – Сядешь на нашу кумбу[61]… Скажешь Абаду, что плывете в Губл. Глаз не спускайте с афинского лемба… В Губле пусть Абад или кто другой из команды следит за Геродотом, а ты найдешь Сакарбаала и передашь ему на словах…
Руббайон еще некоторое время давал указания своему порученцу, потом сунул ему в руку кошель с монетами и махнул кистью:
– Иди.
Поклонившись, Шамаим пропал за вышитой грифонами завесой…
Стоило солнечному скарабею Хепри окрасить далекие хребты Синайских гор в розовый рассветный цвет, а облакам над Египетским морем встряхнуть желтой бахромой, как Пелусийская гавань ожила.
Рыбаки правили лодки к причалу Рыбного рынка. Торговцы фруктами и пресной водой, словно водяные клопы, замельтешили по акватории внешнего рейда, встречая торговые флотилии. Крупные морские корабли торопились на веслах обогнуть мол, чтобы выйти из гавани в открытое море.
В этой суете неприметная финикийская кумба пристроилась в кильватер вереницы купеческих маломеров, вместе с которыми плыл афинский лемб. Флотилию возглавлял сторожевой египетский барис с приподнятым носом и раскрашенной фигурой бога войны Монту на скуле.
Абад распустил простеганный пурпурный парус, а Шамаим с одним из матросов налегали на рулевые весла, обходя черные подводные рифы. Сине-белый парус афинского лемба виднелся вдали на фоне бурой громады Касия. Временами его заслоняли такие же разноцветные полосатые паруса идущих сзади и впереди него кораблей.
За гнилостными пелусийскими болотами последовала не менее гиблая Сербонская топь. А потом берег превратился в бесконечную желтую полосу. Зелень хоры уступила место песчаным гребням дюн, которые убегали вдаль по обширной, но безжизненной Красной земле[62], называемой синайскими бедуинами Пустыней порока, а сирийцами пустыней Шур.
Дюны лизали песчаными языками соленую морскую воду, словно утоляя жажду после ударов безжалостных пустынных ветров-хамсинов. Поросшие полынью, тамариском и солянками барханы тянулись до самого Кадитиса[63].
А далеко на востоке высились размытые дневной дымкой безжизненные хребы Синайских гор. Цвет горных склонов по мере освещения их солнцем становился то красным, то бирюзовым.
На вершинах песчаных холмов изредка появлялись газели. Когда к морю выходила стая гиен или шакалов, с прибрежных кустов срывались воробьиные стайки. Беркуты парили высоко над пересохшими руслами ручьев – вади, выслеживая змей и серых варанов.
Флотилия без остановки миновала палестинские города Риноколуру, Рафию[64] и Кадитис.
Геродот был наслышан о безносых жителях Риноколуры, поэтому днем с интересом разглядывал рыбаков, когда корабль проплывал мимо их лодок. Тем не менее никакого уродства в лицах не заметил.
«Вот на тебе, – думал он. – Когда-то в древности эфиопский царь захватил Египет и изувечил пленникам лица, после чего переселил их на берег моря за болотами. Сколько времени с тех пор утекло, а город до сих пор носит название города „Отрезанных носов“».
Кадитис даже на расстоянии со стороны моря показался Геродоту городом, по размеру сопоставимым с Сардами[65]. Он долго провожал взглядом усыпанные постройками холмы, над которыми в сумерках висело малиновое зарево от уличных факелов.
На рассвете следующего дня показался древний палестинский порт Аскалон, расположенный полукругом на песчаных дюнах под охраной крепостной стены.
Здесь купцы и пришвартовались после проведенной в море ночи, так как только в этом приморском городе имелась пригодная для захода торговых кораблей естественная коралловая гавань.
Геродот знал, что к северу от Аскалона до самых гор Иехуды[66] протянулась плодородная Аскалонская долина, знаменитая своими виноградниками, тутовыми, фиговыми и гранатовыми садами, а также сладчайшим медом и посевами лука.
От Аскалона, считавшегося сердцем края, который египтяне называли землями Захи, начинались два хорошо известных палестинским эллинам караванных тракта.
Дорога благовоний вела в Южную Аравию, к далеким жарким странам: Сабе, Хадрамауту, Катабане и Маину, где добывались касия, ладан, мирра, кинамон, стирак.
Дорога специй уходила к Аравийскому заливу[67], куда прибывали корабли с пряностями из загадочной страны каллатиев и падеев, именуемой этими самыми эллинами Индией.
Высадив в гавани Аскалона нескольких пассажиров с грузом, мореходы позволили командам отдохнуть в городе. Разгоряченные отменным вином и не менее приятными ласками портовых шлюх моряки вернулись к своим кораблям на закате.
Стоило Харисию подняться на палубу, как солнце свалилось за морской горизонт почти мгновенно. Остаток ночи над причалами раздавался отрывистый свист часовых.
Геродот в Аскалоне времени зря не терял. Почти весь день он провел в портовых кабаках, где ему удалось разговорить нескольких местных купцов, торговавших на городском рынке фруктами.
Вечером, несмотря на легкий шум в голове от выпитого вина, галикарнасец привычно разложил на полубаке письменные принадлежности, после чего записал на папирусе все, что узнал днем: «…Затем скифы пошли на Египет. На пути туда в Сирии Палестинской скифов встретил Псамметих, египетский царь, с дарами и просьбами склонил завоевателей не идти дальше. Возвращаясь назад, скифы прибыли в сирийский город Аскалон. Большая часть скифского войска прошла мимо, не причинив городу вреда, и только несколько отсталых воинов разграбили святилище Афродиты Урании. Как я узнал из расспросов, это святилище – самое древнее из всех храмов этой богини. Ведь святилище на Кипре основано выходцами оттуда, как утверждают сами киприоты, а храм в Кифере воздвигли финикияне, жители Сирии Палестинской. Грабителей святилища в Аскалоне и всех их потомков богиня наказала, поразив их навеки „женским“ недугом. И не только сами скифы утверждают такое происхождение их болезни, но и все посещающие Скифию могут видеть страдания так называемых энареев…»
Геродоту стало также известно, что городок Риноколура и есть то самое место на берегу Финикийского моря, где пророк палестинцев Моше вместе со своим многострадальным народом построил пальмовые хижины после бегства из Египта восемьсот лет тому назад. Пересыхающий летом ручей Риноколуру они до сих пор называют Египетской рекой и считают южной границей своего государства.
Однако он решил эти сведения не записывать, так как история о разверзшемся от удара посоха Моше Аравийском заливе показалась ему уж слишком неправдоподобной. Тем более что у рассказчиков не было единого мнения о том, какой именно фараон преследовал палестинцев – Сети, его сын Рамсес или внук Мернептах.
Да и кто такие эти палестинцы, Геродот представлял себе слабо. Он считал, что вся Палестина заселена финикиянами и сирийцами. А какие среди этих народов есть племена, какие между ними существуют различия, каким богам они поклоняются и какие обряды исправляют – так Зевс его знает. У него не было ни времени, ни возможности об этом разузнать.
Шамаим тенью ходил по кабакам за Геродотом. Выпивая по кружке пива в каждом из них, финикиянин к вечеру так набрался, что заснул прямо на лавке в окружении таких же, как он беспечных пропойц. Утром сикофант притащился на пристань, чтобы увидеть, как паруса пелусийской флотилии растворяются в зыбкой пелене над морем.
Абад не скупился на грязные ругательства. Хмурый Шамаим огрызался, что ничего страшного не случилось. Оба знают: афинянин точно плывет в Губл. А там его и искать не надо, он сам выйдет на торговцев папирусом.
От Иопы[68] береговая линия заметно повернула к северу. Геродот с интересом вглядывался в берег в надежде увидеть скалу, к которой, как уверял его Ферекид на одном из симпосиев Кимона, в древности царь Эфиопии Кефей приковал свою дочь Андромеду, чтобы спастись от морского чудовища.
Хотя выказанная мифографом уверенность теперь представлялась ему странной. Проплыв год назад по Египту от Каноба до Сиены, галикарнасец твердо знал: Эфиопия находится к югу от Египта.
Тут нужно применить здравый смысл… Несмотря на значительный подъем прибрежной местности по сравнению с предыдущей песчаной равниной, все же – где Иопа и где Эфиопия.
Неоднократно плававший в этих водах Харисий описал Геродоту озерную область Гадариду, которая простирается от Азота до Иопы. Со слов морехода, в некоторых из этих озер вода по естественным причинам отравлена настолько, что в них не водится ничего живого.
Скот, выпив такой воды, теряет шерсть, а рога и копыта отваливаются сами собой. В других озерах, наоборот, водится рыба, прекрасно подходящая для засолки.
В Гадариде встречаются также дымящиеся вонючие солончаки, из которых египтяне издревле добывали жидкий асфальт для бальзамирования своих покойников.
Еще он рассказал, что в глубине Гадариды зарождается горный хребет Иехуды, который по мере протяжения к северу становится все выше и выше. В подтверждение своих слов мореход указал на одинокую гору в восточном направлении от Иопы.
Берег неожиданно сделался лесистым. В сторону Пелусия потянулись груженные бревнами широкобортные баржи под широким прямоугольным парусом.
Египтяне называли такие вместительные корабли библскими тяжеловозами, эллины гаулами, а финикийские мореходы, давно освоившие морской путь до богатого металлами и самоцветами Таршиша, что возле Геракловых столбов, тартесскими стругами.
Кумбы, тащившие за собой на тросах длинные вереницы плотов, такие легкие и быстрые в одиночном плавании, в качестве буксира казались неповоротливыми и тихоходными. Харисий объяснил слабую тягу кумб тем, что на пути в Египет им приходится бороться с сильным встречным течением.
Над лесом плясали черные нити дыма из куполов для отжига древесного угля. Стоило ветру изменить направление, как кристально чистое небо замутилось, а в нос ударил отчетливый запах гари.
Следующую остановку пелусийская флотилия сделала в Аке. Над Хайфским заливом окаменевшим левиафаном возвышалась гора Кармел. Геродот вспомнил, что в одном из папирусов дельфийской библиотеки эта скала называлась Мысом Зевса. Берег к северу от города снова забугрился желтыми дюнами.
В Аке от флотилии отделились барисы, прибывшие за стекольным песком. Они сразу поплыли к грузовому причалу, в то время как остальные корабли направились в торговую часть гавани. Чтобы пришвартоваться, им пришлось с трудом протискиваться между стоявшими на внешнем рейде финикийскими боевыми пентеконтерами.
Посоветовавшись с Харисием, Геродот решил повнимательнее присмотреться к персидскому флоту. По заверениям морехода задержку в порту всегда можно объяснить внезапно открывшейся течью в обшивке.
Вскоре Харисий вернулся от эпимелета с известием, что Ака считается портом, где собираются купеческие корабли из Египта и Карт-Хадашта для совместного плаванья вдоль Палестины.
Поэтому из Аки почти каждый день выходят флотилии в северный финикийский город Арвад с остановками во всех крупных портах на побережье. А значит, в одиночку плыть до Библа по кишащему пиратами Финикийскому морю им не придется.
Тогда Геродот просто спустился по сходням и уселся на швартовочную тумбу. Грыз фисташки, сплевывая под ноги шелуху. Время от времени равнодушным взглядом поглядывал по сторонам.
Но про себя повторял, чтобы лучше запомнить: «Тридцать мулов, двадцать быков, сотня овец, три сотни паломников…»
Геродот когда-то условился с гиппархом Лигдамида Меноном именовать состав вражеских армии и флота в своих донесениях подставными словами из крестьянского быта.
После неудачного покушения на тирана Галикарнаса фарсалец неожиданно оказался не его верным псом, а связником Кимона. И к тому же опытным разведчиком. Так с тех пор и повелось: конь – это овца, пеший копейщик – это паломник, триаконтера – мул, пентеконтера – бык, сатабам[69] – сотня паломников.
Не остались незамеченными три нагруженных сеном, зерном и вяленой рыбой гиппоса. Пересчитал Геродот и запряженные быками телеги, которые подвезли к причалам бухты корабельных канатов из прочного библоса, рулоны парусины, еловые доски обшивки, связки прочного букового крепежа – шипов, нагелей, втулок, а также штабеля свежеструганных ремонтных наборов из ясеневой древесины, мешки с медными гвоздями, запасные весла из соснового дерева, пихтовые хлысты для реев, якорные камни с торчащими из них дубовыми рогами…
Галикарнасец просидел на пристани до заката. Со стороны он походил не то на скучающего в поисках случайного заработка поденщика, не то на одинокого скитальца, который лениво выбирает в гавани попутный корабль.
Едва солнце закатилось за вершину горы Хар Мерон, как Геродот поднялся по сходням на борт своего лемба. Забравшись в носовую рубку, он плотно задернул занавес, после чего при скудном свете масляной лампы по памяти нацарапал на нескольких глиняных черепках секретные сведения. А когда закончил, туго завязал мешок и поставил поближе к выходу из рубки, чтобы в случае тревоги можно было легко выкинуть его за борт.
Харисию галикарнасец поставил новую задачу:
– Идем в Тир.
– Зачем?
– Возницы на двух подводах оказались эллинами с Кипра. Я по говору понял… Болтуны не учли, что среди портовых зевак тоже могут оказаться эллины, поэтому открыто трепались о чем ни попадя. Так вот… Акская флотилия идет на соединение с тирским военным флотом. Оттуда финикийская армада отправится патрулировать Египетское море. Я этих сволочей всех пересчитаю в Тире… Потом пойдем в Библ. Но из Библа на восток уже без тебя двинусь, так что твоя задача – передать Периклу мое донесение. Я в Библе перепишу все на папирус… Не подкачаешь?
– Сделаем! – уверенно ответил мореход…
Стоя на палубе проплывающей мимо Аки кумбы, Шамаим внимательно вглядывался в акваторию гавани. Казалось, даже раскрашенный карлик-патек на форштевне ищет деревянными глазами афинский лемб. Однако хорошему обзору мешали выстроившиеся в ряд финикийские боевые корабли.
Он ведь хотел пристать для проверки причалов, но Абад в обычной для себя ворчливой манере заявил, что в порт не сунется. Вон у прохода между пентеконтерами жмутся купцы, пытаясь проскочить к пристани. Ты ведь сказал – в Губл, значит, в Губл! Не хватало еще в этой толкотне поломать чужое весло, хлопот потом не оберешься…
Шамаим нехотя согласился. Ему оставалось только проводить удалявшийся берег напряженным взглядом.
«Все в порядке, – успокаивал он себя. – С чего бы это афинянину менять порт назначения… Фортегесий что ищет? Папирус. А значит, здесь ему делать нечего… Зато прямая дорога в Губл»…
От Аки побережье считалось уже финикийским. Геродот знал, что эту многострадальную землю египтяне более тысячи лет назад сначала обложили данью, а потом и подчинили своей власти.
Триста лет спустя по южным областям Финикии прокатилась волна филистимлян, в то время как с севера наседали хетты и амореи. Затем приморскую страну топтали сапоги ассирийцев, вавилонян и, наконец, в нее вторглись персы.
Пелусийская флотилия неторопливо пробиралась вдоль берега.
Когда корабль Харисия поравнялся с городом Экдиппа, галикарнасец наконец увидел знаменитые финикийские кипарисовые рощи. Огромные деревья тянулись вверх не меньше, чем на пятьдесят, а то и на все шестьдесят локтей.
С песчаных сопок приветливо махали разлапистыми ветвями пинии, дубы мощными корнями удерживали ненадежные кромки обрывов от обвала. По светлым скалам двурогого Белого мыса карабкались заросли можжевельника.
А вот кедров и пихт Геродот пока не заметил. Да и откуда этим горным деревьям взяться на пологом берегу Тирской равнины? Их царство находится дальше к северу и выше – на склонах Ливанского и Антиливанского хребтов.
К концу третьего дня плаванья показался Тир. Город рыбаков, моряков и купцов, словно шапка из опят на пне, накрыл два небольших каменистых острова, отделенных от берега проливом шириной около пяти стадиев.
На острове Геракла теснились верфи, сухие доки, башни для засолки рыбы, красильни, а вдоль берега протянулась рыбацкая деревня. Труженики моря: рыбаки, ныряльщики за морскими огурцами, сборщики мурексов, вязальщики сетей, а также корабелы, якорщики и плотники всех мастей ютились в лачугах, кое-как слепленных из кусков белых кораллов, крупных раковин и скальных обломков.
Над пригородными трущобами стелился чад от уличных очагов, стекловаренных печей, смолокурен и коптилен. Протоптанные дорожки сбегали сквозь кусты жимолости к самодельным причалам, завесам из сохнувших на распорках неводов, вонючим кучам распотрошенных мурексов и рыбьей требухи, вытащенным на камни плоскодонкам.
На острове Астарты высился окруженный мощными стенами акрополь Тира. По склонам холма под прикрытием стеновых башен взбирались изящные колоннады святилищ, стройные портики поместий, круглые в основании толосы и строгие пропилеи общественных зданий.
Храм Мелькарта Тирийского приковывал взгляд своей величавой строгостью. Святилища Баала Фасийского и Эшмуна Тирийского казались меньше размером, но при этом выделялись на фоне сложенных из серого доломита построек городского Тира почти снежной белизной.
А вот небольшие часовни братьев Кабиров, бога смерти Решефа, бога мирового порядка и охранителя царских законов Мисора, а также семерых дочерей Эла и Астарты совсем терялись среди высоких многоэтажек с плоскими крышами.
По берегу в тридцати стадиях от пролива, словно зубы дракона, торчали изгаженные бесчисленными поколениями чаек черные обсидиановые скалы, на фоне которых стелы и склепы некрополя, выточенные из податливого для резца ракушечника, казались белыми заплатами.
Гужевая дорога вела в обход печального города мертвых к купеческим складам, выгульным дворам для скота, а также ремесленным мастерским – эргастериям.
От старых домов материкового города Палетира, возведенных несколько тысячелетий назад, остались лишь заброшенные фундаменты, за которые цеплялись кусты скальной розы.
Толстая бронзовая цепь со звеньями шириной в локоть безвольно обвисла на столбах мола, позволяя торговым кораблям с зерном или ремесленным сырьем беспрепятственно заходить в южную Египетскую гавань.
Спустя несколько дней они уходили из Тира, нагруженные драгоценной древесиной, дорогущими пурпурными тканями, стеклянной посудой, а то и кипами библоса. Геродот на глаз измерил длину мола – получалось не меньше четырех стадиев.
Корабль Харисия долго петлял по внешнему рейду, стараясь избежать столкновения с такими же нетерпеливыми морскими скитальцами, как он сам. Кроме того, опасность для него представляли огромные каменные блоки волнореза, о которые с громким плеском билось море.
Броски лемба по гавани прекратились только после того, как Харисий принял на борт элимена портовой таможни, вручившего мореходу тессеру с номером очереди к причалу в обмен на афинское серебро.
Тем не менее борьба за право войти в тирскую гавань на этом не закончилась. Потрепанные штормами, с облезлой краской на скулах и выгоревшим на солнце парусом разномастные торговые корабли старались без очереди протиснуться в проход между боевыми пентеконтерами под персидским флагом.
Мореходы проплывающих борт о борт финикийских кумб, кипрских и афинских лембов, кикладских керкуров, родосских келетов, самосских саменов, палестинских оний, а также египетских барисов орали друг на друга, не стесняясь в выражениях.
Причем понимали друг друга прекрасно, несмотря на то что каждый из них клял соперника на своем родном языке. Келейсты так же неистово бранили гребцов. А прикованные к банкам рабы устало и беззлобно огрызались.
Портовые поденщики быстро разгрузили корабль Харисия. Из ста амфор с медом разбитыми оказались девять. Покупатель нашелся быстро, даже не пришлось искать на рынке.
Разгуливавший по причалу кипрский яван сам спросил, что привезли афиняне. Сунув в пробник палец, он облизал его, сделав вид, будто это не сладчайший мед, а соленый рыбный соус, после чего озвучил свою цену.
Поднаторевший в торговых делах Геродот не соглашался, сердито описывая достоинства товара. Купец досадливо сплевывал и не менее упорно возражал. А когда, наконец спорщики ударили по рукам, от их напускной запальчивости не осталось и следа.
Оставив команду приводить лемб в порядок после долгого плаванья, Геродот отправился бродить по оптовому рынку. Пришлось пообещать Харисию, что он вернется к кораблю еще до заката.
Мореход чувствовал себя в ответе за друга перед Периклом, поэтому настоял на том, чтобы план действий в приморских городах обсуждался совместно.
Геродот соглашался, однако ему не терпелось показать себя в деле. Ведь ему придется действовать самостоятельно во время длительного похода на восток, когда Харисия рядом не будет.
Как и в любом другом порту на перекрестке морских путей, Тир говорил, спорил, кричал, умолял и угрожал на смеси языков со всей ойкумены. Над портовым рынком стоял гул голосов, а в нос неприятно била вонь красилен со стороны острова Геракла.
Тем не менее горожан Тира запах гниющих раковин не смущал. Слишком высокой была плата в богатых полисах Эллады, Египта, Ионии и Карт-Хадашта за вожделенную пурпурную краску, которая кормила едва ли не каждого второго тирийца.
Расхаживая между навесами рыночных рядов, Геродот убедился в том, что Перикл был прав, когда говорил, будто финикияне внешне не похожи на эллинов. Продавцы оказались, как на подбор, высокими, носатыми, с вытянутыми лицами. Волосы у многих курчавились.
«Да и борода здесь, похоже, не в почете, – иронично подумал галикарнасец. – Почти все с бритыми лицами. Под египтян, что ли, косят…»
В толпе о происхождении иноземцев в первую очередь говорили головные уборы: широкополые петасы беотийцев, цветастые повязки-тении милетян, белые головные куфии аравийских бедуинов и сирийцев, льняные платки-клафты или кожаные шапочки египтян, лисьи малахаи невесть как оказавшихся здесь хорасмиев, войлочные кулахи степняков из далекой Скифии…
С женщинами проще, тут не ошибешься. Тир – это портовый город, поэтому девять из десяти женщин точно местные. Финикиянки щеголяли в плиссированных или вышитых цветочными узорами хитонах до колен.
Оголенные запястья и лодыжки синели татуировкой. Почти все тирийки ходили по улице простоволосыми или в платке, завязанном узлом на затылке. Поэтому серьги в ушах были на виду. Так многие еще и ноздрю кокетливо прокололи серебряным кольцом.
Хитон мужчин, наоборот, спадал до самых пят. На голову они нахлобучивали войлочный колпак или морскую шапочку из кожи. Это если волосы короткие, а если длинные – повязывали тению[70].
Чем тириец казался старше, тем больше колец у него было на пальцах, то есть по числу военных походов. Каждый мужчина, независимо от возраста, опирался на посох.
Геродот быстро убедился в том, что одежда в Финикии таких же цветов, как и в Элладе, а именно – разных. Пурпура немного, видно, цены и здесь кусаются. Если кто в пурпуре, так весь к тому же обвешан золотыми украшениями, значит, богатей, денег не считает.
Потом он усмехнулся: «Да что одежда… Главное – нос!»
Галикарнасец подивился дорогой цене за кружку ключевой воды у уличного разносчика, однако вскоре узнал, что питьевая вода в Тире привозная, так как своих колодцев здесь нет.
«Ладно… – практично размышлял Геродот. – Подсчетами займусь, когда посторонних глаз станет поменьше. Сколько в этой толпе персидских доносчиков, одному Аполлону известно… Сначала нужно, чтобы меня запомнили как фортегесия… Сработало в Пелусии, сработает и здесь…»
В грузовой части порта он отыскал штабеля строевого леса. Осмотрев бревна, уверенной походкой зашел в обтянутую парусиной жердяную клеть. Представился портовому распорядителю с лысой, как страусиное яйцо, головой.
Потом деловито поинтересовался:
– Сосновый хлыст откуда?
– Ливанский… Солнечная сторона…
Геродот со знанием дела зацокал языком:
– Такой нам и нужен… Мы раньше брали в Македонии, но Ксеркс сильно проредил тамошние леса, так что теперь надо ждать, пока чапыжник вымахает, а это дело небыстрое… На Понте тоже хороший лес растет… Сосна, ель… Правда, везти далековато, через два моря. К тому же купцы Таврики предпочитают торговать зерном, на круг за такой же вес доход больше получается… С реки Риндак в Вифинии раньше неплохой лес везли, но теперь там Артаксеркс хозяйничает… Ближе всего к Афинам парнасские и эвбейские вырубки, только лес там не ахти какой… Суковатый и занозистый, к тому же влаги сильно боится. Периклу такой не подходит, он за флот радеет… Дуб для наборов возим с Родоса или с Сицилии. В Герейских горах он особенно крепок… Почем товар?
Впечатленный неожиданно профессиональным обзором лесорубного промысла, портовый распорядитель без колебаний выдал афинянину имена нескольких торговцев лесом.
Пообещав непременно с ними связаться, тот поблагодарил тирийца, а затем такой же развязно-уверенной походкой знающего себе цену магистрата покинул клеть.
Стоило ему задернуть за собой завесу в дверном проеме, как он облегченно выдохнул. Пустить пыль в глаза портовому распорядителю у него сейчас получилось.
Но вот если бы тириец вдруг завел разговор о таких тонкостях лесного дела, как твердость древесины, ее сопротивляемость сырости, гниению и червоточине… Или того хуже – начал бы обсуждать коробление различных пород, прямослойность волокон, а то и красоту текстуры… Вот тут бы он и поплыл…
Отметившись в торговых кругах, Геродот решил повторить прием, примененный в Аке – уселся на каменную тумбу и принялся считать боевые корабли в гавани, рассматривать подходившие для разгрузки телеги, прислушиваться к разговорам возниц. Вместо фисташек проголодавшийся разведчик грыз вяленую тиляпию с озера Ям-Киннерет в Палестине.
На закате галикарнасец, как и обещал, вернулся на лемб. Рассказал Харисию о том, что видел и слышал в порту, после чего принялся записывать сведения для Совета Пятисот. Можно было бы утром плыть дальше, однако у него в Тире имелось еще одно дело.
Геродот окинул взглядом величественный Храм Мелькарта, «Царя города», как финикияне уважительно называли бога бури, молнии, дождя, а также покровителя мореходов Баала Шамима.
Он стоял перед священным участком храма, который был огорожен забором из каменных столбов и бронзовых прутьев. Галикарнасец колебался, стоит ли входить под арку портика, потому что не знал – вдруг за ним находится не доступный всем верующим теменос, а закрытая для непосвященных мирян абата.
Однако в арке что-то не видно изображений демонов, которые пугали бы неосторожного чужестранца или предостерегали слишком набожного адепта из местных: сделаешь еще шаг – и мы выпьем твою кровь, порвем твое мясо, перемелем зубами кости…
«Значит, можно пройти», – уверенно решил он.
Посередине священного участка в окружении олив высился алтарь Мелькарта. Покровитель Тира делал шаг вперед, замахиваясь на невидимого противника палицей. Улыбающиеся терракотовые маски постамента безмолвно, но красноречиво призывали адептов не скупиться на подношения.
С выложенного цветной галькой дна небольшого бассейна перед алтарем на галикарнасца сурово смотрело лицо божества с коровьими ушами и рогами на голове.
«И это Мелькарт… Гидротерион для возлияния вином, молоком с медом или водой», – со знанием дела заключил он.
Приблизившись к алтарю, Геродот разглядел в нише высокий конический камень-бетэль, заменяющий статуэтку божества. Такие черные небесные камни ему приходилось видеть и раньше.
Во время своих путешествий он убедился в том, что разные народы с одинаковым почтение относятся к падающим с неба аэролитам, считая их даром богов.
Святилище окружали вкопанные в землю стелы. На одних были вырезаны надписи или цветочный орнамент, на других красовались священные символы: топор, анх, лотос… Геродот удивленно уставился на стелу с изображением атрибута власти фараонов – урея.
Поскольку ямы-ботроса для захоронения вышедшей из употребления утвари и пепла от сожженных подношений он на священном участке не обнаружил, то решил, что эти стелы жрецы как раз возвели, чтобы отметить священные схроны.
Чуть в стороне от алтаря располагался жертвенный стол в окружении невысоких обелисков, каменных домиков, надгробий в виде маленьких тронов, а также сложенных из булыжников пирамидок. Что они обозначают, галикарнасец так и не понял.
После поездки в Египет он терялся в догадках, почему эллины из Навкратиса[71] дали египетским памятникам такие странные названия. Ну, ладно, «обелиск», он хоть действительно похож на вертел – длинный и заостренный. А вот как огромный трехгранный конус стал пирамидой, то есть поминальным пирогом… Пирог тоже пекут горкой, но все-таки… Эх, спросить надо было!
Внимание галикарнасца привлекла каменная часовня над жертвенником – наиск. Конек двускатной крыши был украшен плоским кругом, над которым рогами вверх торчал полумесяц.
Черная от копоти ниша казалась мрачной и таинственной. Среди углей белели остатки костей. Копаться в них он не стал. Оставалось только догадываться, какие именно дары в ней сжигались.
Осмотрев священный участок, Геродот остановился возле пятиступенчатой храмовой лестницы. Сначала пробежался взглядом по фасаду до самого фронтона. Заметил, что по бокам высокого центрального нефа располагались приделы пониже.
Потом начал с интересом разглядывать детали.
Резьба по кедровой облицовке стен изображала сюжеты из жизни бога, а также керубов – крылатых львов с головой человека, голубей, звезды и лунные диски.
Над украшенной зубцами крышей парил такой же, как на часовне, круг с полумесяцем. Только на этот раз священный атрибут отливал матовым желтым цветом. По фризу бежал узор из розеток, а на карнизе сидели голуби, тоже желтые.
Пара толстых колонн на мощных базальтовых цоколях обрамляла узкий портик входа. Геродот подивился их странному цвету. Одна отсвечивала такой же матовой желтизной, другая искрилась в лучах восходящего солнца глубоким зеленым блеском. Ему даже показалось, что обе колонны сделаны не из камня.
Галикарнасец в изумлении открыл рот.
«Неужели золото и смарагды?!» – ошарашенно подумал он.
Потом задрал голову: «Ух ты!.. Божественные символы на крыше тоже из чистого золота! И узор, и птицы… Так вот ты какой, храм Геракла…»
Рассудок галикарнасца отказывался верить в существование подобной невероятной роскоши.
– Эй! – Внезапно раздавшийся окрик на койнэ застал его врасплох. – Ты что хотел?
На верхней ступени лестницы остановился худой бритоголовый человек средних лет в украшеном блестками хитоне и с миртовым венком на голове. Длинные руки финикиянина плетями висели вдоль бедер. Белая ткань хитона складками спускалась с угловатых плеч.
«Жрец», – уверенно решил Геродот.
Гиеродул не осмелился бы так запросто обратиться к посетителю на священном участке. Кроме того, на незнакомце была ритуальная жреческая одежда, а не рабочая набедренная повязка невольника.
Галикарнасец дружелюбно помахал ему рукой. Потом подошел ближе.
– Инкубацию проводите? – спросил он, глядя вверх из-под ладони, чтобы защитить глаза от палящего солнца.
– Поднимайся, – односложно ответил жрец.
Геродот поставил правую ногу на первую ступень с тем, чтобы последний шаг на пятую ступень пришелся на эту же ногу. В Элладе такая уловка считалась хорошим знаком.
В пронаосе галикарнасец остановился.
Он вдруг подумал: «А вдруг сюда не всех пускают… Как, например, в Эрехтейон на Акрополе не пускают дорийцев… Или как дорийцы Пятиградия в Малой Азии не пускают в храм Аполлона Триопийского всех остальных дорийцев… Не вышло бы чего».
Но ту же переборол свою робость: если это так, то жрец должен был предупредить.
Перед входом в храм Геродот разулся. Чуть задержался, рассматривая сюжеты резных дверей из кедровой древесины. Такие же изображения он когда-то в юности видел на свитке в библиотеке Лигдамида, поэтому знал, что они означают рождение Геракла-Мелькарта и последующее основание им Тира.
На одной створке была изображена освободившаяся от бремени Астарта, возле ног которой лань выкармливала младенца Мелькарта. Сбоку к новорожденному богу подползала змея.
На другой створке еще одна змея кольцами обвила пылающий в языках пламени ствол оливы. Сидящий на верхушке священного дерева орел не спускал глаз с блуждающих Амбросийских скал – будущей опоры Тира.
Вслед за финикиянином Геродот перешагнул высокий порог, отделявший повседневний мир от мира божественного. При этом не удержался от того, чтобы потрогать нагретую солнцем поверхность изумрудной колонны.
Сразу же бросил быстрый взгляд на жреца – не заметил ли. А вдруг это святотатство? Потом пришла успокаивающая мысль: «Раз не огорожены, значит, можно… Скорее всего, простые адепты здесь вообще не ходят, а для жертвоприношений есть теменос…»
В пронаосе царил беспорядок. Геродот предположил, что гиеродулы отнесли сюда для временного хранения дары, собранные на священном участке после какого-то праздника.
А когда заметил среди даров глиняные фигурки обнимающихся мужчины и женщины, то обоснованно решил, что прошедший праздник посвящался свадьбе родителей Мелькарта – Демарусу и Астарте.
Чего здесь только не было: мягкие кошмы из пурпурной шерсти и тростниковые прикроватные циновки, вырезанные из слоновой кости фигурки… Корзины с овощами, фруктами, зерном… Завернутые в ветошь пироги… Домашнее печенье…
«Ясное дело, – рассуждал Геродот. – То, что портится на жаре, жрецы съедят за пару дней, а мясо, птицу и свежую рыбу гиеродулы уложили в мегаре под храмом на кусках льда… Так жрецы и в Дельфах поступают, потому что там Парнас рядом… А здесь Ливан».
Финикиянин остановился.
Повернувшись лицом к гостю, бросил:
– Дальше не пойдем… В наосе тебе не место.
Геродот протестующе выставил ладони:
– И не надо… Я все понимаю…
– Ты спрашивал про инкубацию, – ровным тоном сказал жрец.
Галикарнасец кивнул.
– Десять монет серебром, – коротко бросил финикиянин.
– Драхмы устроят?
– Да, – теперь кивнул жрец. – Приходи после захода солнца… Позвонишь в кандию…
Он показал на бронзовую чашу, из которой торчала ручка пестика.
– Меня зовут Хаммон. А тебя?
Геродот назвался…
К вечеру бриз внезапно стих. Когда закат измазал густыми багровыми мазками постройки Тира, а звуки гавани в наступившем безветрии стали звонче и отчетливей, Геродот снова поднялся по засыпанной крупным гравием вымостке к портику священного участка.
Остановившись в пронаосе храма, галикарнасец постучал пестиком по чаше. Раздался бархатистый вибрирующий звон. Где-то в глубине наоса слабо мерцало пламя неугасимого очага. Вскоре из полумрака показалась знакомая долговязая фигура жреца.
– Деньги принес? – вместо приветствия спросил Хаммон.
Геродот молча вынул драхмы.
Пересчитав плату, жрец исчез в храме, а когда вернулся, то в руках держал холщовый мешочек и кружку-хою с горячей водой. Галикарнасец настороженно смотрел, как финикиянин вытряс из мешочка на ладонь несколько бурых шариков, бросил их в кружку, после чего размешал пальцем.
– Хашеша, – спокойно сказал Хаммон, заметив вопросительное выражение на лице гостя. – Смолка горной конопли… Я ее лично собирал в новолуние… Ну и всякие безвредные добавки для аромата.
Геродот сделал несколько глотков из хои. Напиток оказался терпким, кисловатым на вкус и слегка вяжущим рот, словно это был отвар из сосновой хвои и кожуры цитрона, называемого палестинцами этрогом.
– Спать где? – спросил он, осматриваясь.
– Да вот прямо здесь. – Жрец вытащил из груды тростниковых циновок несколько штук наугад, встряхнул их, после чего бросил на каменный пол пронаоса друг на друга. Еще одну подстилку сложил несколько раз, соорудив подобие подушки.
– Ладно, сойдет и так… – лениво сказал Геродот, уже ощущая действие снадобья.
По опыту инкубации в саисском храме Нейт он знал: как ты устроишься спать, по большому счету значения не имеет. Тогда у него под головой вообще была жесткая деревянная подставка, при этом спал он на соломенном тюфяке, едва ли более мягком, чем эти циновки.
На него вдруг накатили слабость и безразличие к происходящему. Хотелось просто лечь, вытянуть ноги, а затем расслабиться в ожидании тьмы, которая почти сразу тебя накроет.
После Саиса Геродот пристрастился к меконину. Благо найти сгущенный сок недозрелых маковых коробочек в любом порту ойкумены труда не составляло.
А брикеты прессованной хашеши продавцы ката и листьев конопли в Канобе или Пелусии, как, впрочем, и на любом из островов Египетского моря, выкладывали на самое видное место.
В конце концов, у каждого мужчины имеются свои слабости, один пьет вино без меры, другой волочится за каждой парой стройных женских ног, а третий жует, пьет или нюхает все, что одурманивает сознание. Есть и такие, кто успевает все сразу.
Любой из этих недостатков, как ни крути, лучше кровожадности охранника, который забивает насмерть раба в эргастерии, или фалангиста, срезающего кожу с еще живого военнопленного под развешанным на дереве победы оружием во славу своего бога, такого же живодера, как и его адепт.
Геродот быстро погрузился в беспамятство. Однако на этот раз сны были отрывочными и бессвязными. Сначала он увидел ущелье, по дну которого бежал горный ручей с крутыми перекатами и неожиданно тихими омутами.
Картины сменялись резко, беспорядочно, накладывались друг на друга. Вот он лежит на берегу ручья. Но ему хочется встать. Геродот приподнялся на локтях, смотрит вперед.
Что это? Перед ним красивый женский силуэт. Незнакомка сидит на поджатых ногах спиной к нему. Тяжелый пук черных волос свисает до лопаток. Пятки соблазнительницы упираются в округлости ягодиц. Позвоночник плавной дугой поднимается к шее, а по обеим сторонам от него над бедрами обозначились две ложбинки.
Геродот залюбовался прекрасным видом. Ему до сладкой дрожи захотелось, чтобы красавица повернулась к нему лицом. Конечно, карасавица, а как иначе? Хозяйка такого великолепного тела не может быть дурнушкой.
Внезапно под лопатками незнакомки начали вырастать горбы. Они становились больше, шире, уродливее… Лезли наружу, словно набухавшие болотным газом пузыри. Кожа натянулась, под ней что-то шевелится. И вдруг горбы лопнули, а из красной мешанины мышц и костей полезли мокрые перья.
Незнакомка теперь внушала галикарнасцу страх и отвращение. Она сначала расправила огромные крылья. Затем взмахнула ими, стряхивая кровь и слизь, да с такой силой, что брызги полетели во все стороны.
И вот она поворачивается. Сначала медленно, потом резко. Хохот бьет по ушам. Вспышка! У Геродота все поплыло перед глазами. Он снова погрузился во мрак, так и не успев разглядеть лица чудовища.
Вот опять свет, будто перед взором раздвигают занавес на окошке. Мелькнуло женское лицо… Взмах тонких запястий… Тяжелая грудь с каплями воды на крупных торчащих сосках… Плавный изгиб бедра… Усыпанные песком лодыжки и ступни… Гладкое восковое лоно под животом…
Он вдруг ощутил тягучую сочность воздуха, увидел склонившиеся над ручьем ветки олеандра с большими розовыми цветами. Услышал жужжание пчел, заметил трепетный полет стрекозы… Ему стало хорошо и спокойно.
Затем галикарнасец пронесся над водопадом. Водяная взвесь приятно холодила лицо. Вот он нырнул вниз, потом птицей взмыл вверх, глядя на ущелье с высоты. Внезапно вокруг загрохотало, будто началась гроза. Однако небо все еще было лазоревым и прозрачным… Откуда в такой безоблачной чистоте взяться буре?
Снова мельнуло женское лицо, но теперь в профиль. Нечетко, картинка дрожит, образ дан будто намеком… Он лишь успел заметить бурые разводы орнамента на безволосом темени.
Приятный голос проговорил:
– Приходи завтра на праздник победы Мелькарта над царем Ливии Антеем…
Геродот проснулся усталым и разбитым.
– Завтра в храме торжество? – спросил он жреца, который протянул ему канфар с вином.
Хаммон кивнул.
– Чужестранцам можно на нем присутствовать?
Жрец состроил кислую гримасу.
Потом выпалил:
– Тридцать монет!
– Хорошо, – легко согласился Геродот.
– Только держись ко мне поближе и ни с кем не разговаривай, – посоветовал ему жрец.
Галикарнасец обрадовался тому, что серебро Перикла тратить пока не придется. Получив в награду от Совета Пятисот за отлично выполненное в Египте задание четыре таланта, он мог считать себя обеспеченным человеком.
Однако почти все личные деньги Геродот оставил на Самосе, вручив их Херилу на хранение с разрешением брать на нужды хозяйства столько, сколько потребуется.
С собой он взял не больше пяти мин серебра, которые легко уместились в заплечной котомке. Из расчета, что текущие расходы будут покрываться деньгами Буле.
Скользнув по лицу Хаммона быстрым взглядом, галикарнасец презрительно подумал: «Набожностью этот жрец явно не отличается. К богу относится, как к пахану разбойничьей ватаги, которого следует бояться и уважать… А если того нет рядом, так и взятки гладки… При этом создается такое впечатление, что он родную маму готов продать».
На следующий день Тир преобразился.
Торжество охватило всех жителей города, как коренных, так и пришлых. Финикияне праздновали победу Мелькарта над великаном Антеем, сыном Посейдона и Геи.
Ассирийцы с вавилонянами отмечали гибель гиганта Хумбабы от рук героев Гильгамеша и Энкиду, а палестинцы прославляли юного пастуха Давида, победившего в неравном бою могучего филистимлянина Голиафа.
Согласно финикийской легенде Мелькарт родился от бога Демаруса и богини Астарты, однако ему приписывались подвиги, совершенные эллинским героем Гераклом.
Еще до рассвета мужчины отнесли к алтарю Мелькарта дары. Женщины тем временем готовили праздничное угощение и украшали свои жилища. Из маленьких окон многоэтажек свешивались пурпурные полотенца, означавшие, что в семью вместе с праздником пришла радость.
На стенах, дверях и воротах домов красовались венки из колючих сорняков – расторопши, бодяка и синеголовника, в изобилии произраставших на склонах Геликонского хребта в Беотии, на родине Геракла. Собранные на косогорах Ливана, они ничем не отличались от беотийских.
Дети бегали по улицам, размахивая засушенными свиными хвостами, которые символизировали пятую жертву Мелькарта – Эриманфского вепря. Особенно отчаянные привязывали к голове свиные уши, обидно хрюкали, толкались, а потом стремглав удирали от сверстников.
Замужние матроны обмахивались веерами из перьев чаек, делая вид, будто это перья медноклювых Стимфалийских птиц. Девушки угощали всех желающих яблоками из корзин, со смехом уверяя, что это те самые – из сада Геспера, правителя Гесперитиды. Никто им, конечно, не верил, однако яблоки тирийцы разбирали охотно.
Атлетичного вида мужчина в львиной шкуре и с суковатой дубиной в руке провел по улицам города белого критского быка, на спине которого сидела прекрасная обнаженная тирийка, символизируя украденную Зевсом финикийскую принцессу Европу.
Бык сопел, упрямо упирался в вымостку могучими ногами, но покорно следовал за бутафорским Гераклом, когда тот дергал привязанную к кольцу в носу животного веревку.
Горожане пронесли по Священной дороге соломенные чучела великанов – рогатых, с торчащим детородным органом, увешанных трупиками крыс и мышей, чтобы поджечь их на пристани, а потом сбросить в море под крики, улюлюканье и свист толпы. Это действие означало смерть Антея.
Затем праздничное шествие-помпэ двинулось к храму Мелькарта, где тирийцам предстояло насладиться традиционным жертвоприношением в честь основателя города.
Галикарнасец, бородатый, загорелый, с ежиком жестких волос на голове и в хитоне из знаменитой пурпурной сидонской шерсти мало чем отличался от горожан.
Чтобы еще больше походить на тирийца, он повязал голову белой тенией с надписью «Алкид», что означало фиванское имя Геракла, данное ему при рождении матерью Алкменой. С шеи Геродота на грудь свисала гирлянда из головок бодяка с фиолетовыми цветками.
Вместе с толпой галикарнасец прошел сквозь знакомый портик на священный участок, откуда поток адептов понес его в сторону алтаря. Увитый плющем и оливковыми ветвями домик-наиск светился изнутри зажженными вокруг бетэля свечами. Розовый постамент едва виднелся из-под груды букетов и подношений.
Коллегия из пяти жрецов ожидала адептов возле жертвенного стола, стоя лицом к востоку. Они выглядели так же, как и Хаммон: длинный белый хитон с блестками, безволосая голова, миртовый венок, в руках оливковая ветвь. Лишь один из них держал жезл – золотой стержень с сидящим на навершии орлом.
«Вот этот с жезлом и есть глава фиаса Мелькарта… – догадался Геродот. – Что-то вроде нашего архиерея. Остальные – иерофанты рангом пониже… А голову бреют по той же причине, что и египеские жрецы. Чтобы вши не кусали во время службы. Чесаться в такой ответственный момент некрасиво».
Он вдруг с изумлением увидел, как гиеродулы привели детей – двух мальчиков и девочку. Девочке и одному из мальчиков на вид можно было дать не больше десяти лет, другой мальчик казался чуть старше.
Галикарнасец заподозрил недоброе.
Подобравшись поближе к Хаммону, он шепотом спросил:
– Дети зачем?
Жрец повернулся к нему вполоборота и недовольным голосом бросил:
– Жертвоприношение.
Геродот задохнулся от возмущения. Такой дикой жестокости он не встречал даже в варварских странах Малой Азии. Финикияне производили на него впечатление людей, воспринявших не только религию эллинов, но и многие из эллинских обычаев. Гостеприимство, свадебные и похоронные обряды, воспитание юношей в гимнасиях…
Но ритуальная казнь человека! Ребенка! Значит, это не просто жертвенник, а тофет – место, где сжигались убитые во славу бога люди, о котором он был наслышан.
Галикарнасец не мог этого принять. На такое чудовищное преступление были способны только персы. Еще внук сатрапа Фригии Артабаза рассказывал ему о том, как на переправе через реку Стримон[72] в Эдонийской области Фракии Ксеркс совершил человеческое жертвоприношение.
Узнав, что город, рядом с которым находился мост, называется Эннеагодой, то есть «Девять путей», он приказал живьем закопать девять мальчиков и девочек из числа горожан.
А чего стоит история с лидийцем Пифием, когда Ксеркс велел разрубить пополам его сына на глазах у отца. Просто за то, что Пифий попросил шахиншаха не забирать сына на войну в обмен на огромный выкуп. Половинки тела убитого палачи разложили по обеим сторонам дороги, по которой прошли колонны копейщиков.
Не случайно эллины всегда считали персов народом, далеким от понимания ценности человеческой жизни и уважения к личности. Ведь в Элладе даже раб имел свои права. Пусть даже эти права можно было пересчитать по пальцам, однако за их нарушение виновного ждала кара афинского суда присяжных.
Но финикияне… Правда, финикийская культура не смогла воспитать таких выдающихся лирических поэтов, как Солон, Анакреонт и Сапфо, видевших в человеке совершенное создание природы.
Или талантливых скульпторов Фидия, Мирона, Поликлета, которые в своем творчестве воспевали гармонию человеческого тела, равного по совершенству телам богов.
Не появилось в финикийской литературе и замечательных драматургов, таких как Эсхил, Софокл и Эврипид, раскрывающих духовный мир персонажей своих трагедий через противостояние добра и зла.
При этом Геродот был глубоко убежден в том, что убивать на потеху публике детей – это мерзость, дикость, непростительная жестокость. Если он допустит такое чудовищное преступление, то станет его соучастником. И никогда не сможет себя простить.
Что делать? Для принятия решения оставались считанные мгновения.
Геродот решительно шагнул вперед.
– Ты можешь его отменить?
Хаммон снова обернулся. В этот раз он посмотрел на галикарнасца, как на умалишенного. Даже не знал, что сказать. Геродот все понял по выражению его лица, поэтому не стал дожидаться ответа.
Его голос прозвучал твердо:
– Три таланта афинским серебром!
Возмущение на лице Хаммона сменилось удивлением, потом интересом. Он наклонился к уху стоявшего рядом Мелькарта, Верховного жреца в фиасе. Оба быстро переговорили на ханаанском языке. После этого предложение гостя обсудили все члены коллегии.
Прежде чем кивком головы подтвердить свое согласие, Верховный жрец бросил на галикарнасца беглый оценивающий взгляд.
– Когда будут деньги? – с требовательной интонацией спросил Хаммон.
– Я не обману! – горячо зашептал Геродот. – Ты мог убедиться в том, что я держу слово… Серебро хранится на корабле… Мне просто надо за ним сходить… Вернусь до окончания церемонии.
– Хорошо, – помедлив, согласился финикиянин.
И потребовал:
– Давай быстрей.
Галикарнасец торопливо отступил назад, выбрался из толпы, а затем бросился вниз по улице в сторону порта. Он не видел, как за его спиной Верховный жрец выступил вперед, чтобы объявить о замене человеческого жертвоприношения криоболием[73].
Свое решение глава фиаса объяснил собравшемуся народу тем, что Тиру не грозит вражеская осада или эпидемия Черной смерти, а значит, нет необходимости задабривать Мелькарта детской кровью. Вскоре гиеродулы привели из храмового загона трех жертвенных баранов.
Харисий не стал отговаривать друга, просто сказал:
– Мой совет тебе не нужен… Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хотя цену ты предложил заоблачную.
Геродот благодарно обнял морехода.
Когда галикарнасец вернулся к храму, священный участок все еще был заполнен тирийцами. Гиеродул помог Геродоту и двум матросам, толкавшим тачку с сундуком, пробраться сквозь толпу к жертвеннику.
Геродоту сразу бросилась в глаза залитая кровью мраморная столешница. К тошнотворному запаху сырой плоти примешивался исходящий от курильниц сладковатый аромат благовоний и сильный рыбный дух из корзин с засоленными дарами моря.
Взглянув на наиск, он увидел в нише кучу потрохов под пропитанной оливковым маслом ветошью. Тогда галикарнасец быстро перевел взгляд на то место, где раньше стояли дети… Их нет! Теперь там толпились адепты.
Сердце Геродота рухнуло. Он побледнел, ярко представив себе, как над телом распластанного на столешнице ребенка поднимается топор, чтобы перерубить его тонкую шею, а затем лезвие ритуального ножа вспарывает ему живот, откуда вываливаются внутренности.
И тут он заметил, что почти у каждого в руках был окровавленный сверток. У него волосы зашевелились на голове: «Так они еще и людоеды! Нет, такого просто не может быть…»
Однако, присмотревшись к кровавому месиву в нише наиска, Геродот разглядел рога, хвосты, покрытые шерстью ноги с копытами, а также три мохнатые головы с открытым ртом и вывалившимся наружу языком.
Он с облегчением выдохнул: «Бараны!»
От храма донеслись радостные возгласы. Народ приветствовал жрецов, которые вернулись из святая святых, где они приготовили для Мелькарта пиршественный стол для праздничной трапезы – теоксении. Верховный жрец держал в вытянутой руке факел, зажженный от священного огня.
Но где же дети? Когда тирийцы расступились, чтобы пропустить жрецов, Геродот наконец увидел их. Испуганные мальчики и девочка с заплаканным лицом стояли в глубине толпы под охраной гиеродулов.
После того как верховный жрец поджег священную ветошь, нутряной жир с треском закоптил. Из наиска повалил густой черный дым. Жрецы затянули гимн Мелькарту, а разом рухнувшие на колени адепты начали благоговейно подпевать.
Геродоту и матросам пришлось тоже опуститься на землю.
– Терпите! – успел шепнуть им галикарнасец. – Мелькарт – это все равно что наш Геракл. Молиться вместе со всеми мы не обязаны, но выделяться из толпы нам нельзя.
Эллины молча кивнули.
Когда песнопения закончились, все снова встали. На этом торжественная церемония закончилась. Адепты потянулись к выходу со священного участка.
Хаммон сделал знак Геродоту, чтобы тот подкатил тачку к храму. Откинув крышку, он развязал тесемки на трех мешках. Укусил одну из монет. Потом на глаз определил вес мешков. Наконец, удовлетворенно хмыкнул и приказал гиеродулам поднять сундук.
Двое ухватились за ручки сундука, после чего двинулись вверх по лестнице. Еще двое подтолкнули к Геродоту маленьких рабов.
– Твои! – Лицо жреца расплылось в улыбке.
Геродот растерянно смотрел на подарок. Что он будет с ними делать? Но разве это важно, главное – они живы.
Он повернулся к Хаммону:
– Как на ханаанском языке будет слово «господин»?
Жрец скривил губы:
– В Финикии много диалектов… В Тире говорят на библском. Вообще-то по-нашему это «баал», но ты для них скорее «адон».
Глядя на детей, галикарнасец ткнул себя пальцем в грудь и повторил:
– Адон.
Старший мальчик кивнул. Младшие дети лишь молча смотрели на Геродота.
Вскоре компания из троих взрослых чужестранцев и троих малолетних рабов направилась в порт.
Глава 3
452-й год до н. э.
Тир, Сидон
Корабли тирской купеческой флотилии резали носом морскую воду. Парус на лембе Харисия отчаянно хлопал. Леократ яростно ворочал обоими рулевыми веслами, выбирая правильный галс.
Мореход всматривался в прозрачное мелководье с полубака, выискивая глазами подводные камни. При этом он внимательно следил, чтобы лемб шел строго в кильватере плывущей перед ним финикийской кумбы. Матросы готовились привязать шкоты, как только парус поймает переменчивый ветер.
Геродот и дети сидели на полуюте корабля возле большой амфоры с пресной водой, которая ремнями была прикручена к ахтерштевню. Рабы смирились с тем, что у них теперь новый хозяин, и, не таясь, любопытно разглядывали галикарнасца.
Развязав узелок, Геродот выложил перед собой кусок вяленой ослятины, ломоть ячменного хлеба и кусок козьего сыра. Достал нож, воткнул его острием в палубу. Потом откупорил тыкву-горлянку с разбавленным вином. Протянул ее старшему мальчику.
Тот сделал из нее глоток и скривился.
– Вайн, – сказал он, сплевывая на доски.
Неуверенно взглянув на галикарнасца, продолжил:
– Хелеб… Мем…
Геродот только хлопал глазами. Первый разговор с рабами проходил трудно. Тогда мальчик приставил к голове кисти с торчащим указательным пальцем и промычал:
– Мууу… Хелеб.
Геродот рассмеялся открыто и заразительно. Младшие дети нерешительно улыбнулись.
«Молока просит, – понял галикарнасец. – Странно, что не воду… Наверное, для них молоко – это лакомство. Хотят проверить меня… Но не плыть же за молоком к берегу. Харисий ни за что не согласится выйти из походного строя флотилии из-за прихоти какого-то раба».
Он огорченно развел руками.
Мальчик помедлил несколько мгновений, затем указал на амфору, сделав вид, что зачерпывает горстью воду:
– Мем.
«Вода, – догадался Геродот. – Ну, этого добра у нас, слава Аполлону, хватает».
Он отвязал от амфоры деревянный киаф на длинной ручке, набрал в него воды и протянул рабу. Тот сразу передал его девочке, которая начала жадно пить. Потом киаф получил младший мальчик. Старший напился последним.
«Ладно, – довольно подумал Геродот, – дело пошло».
Он нарезал мясо, сыр и хлеб. Глядя, как дети жадно набросились на еду, галикарнасец тяжело вздыхал.
«Худющие – кожа да кости… В чем только душа держится, а вот на тебе, не хлеба, а молока просят. Но еды мало, надо теперь до Сидона протянуть. Там наедимся. Тем более, что плыть недалеко – всего двести стадиев».
Прожевывая кусок мяса, он пальцем ткнул себя в грудь:
– Геродот.
Потом показал на старшего мальчика и вопросительно поднял брови.
Тот сразу ответил:
– Ярих.
Младшего звали Ашцавом, девочку Сисой. Дальше разговор пошел легче. Геродот на пальцах показал свой возраст. Ярих ответил за всех: ему двенадцать, Ашцаву – восемь, Сисе девять.
Галикарнасец назвал по именам всех членов команды, а дети повторяли за ним. Вскоре они уже знали слова «корабль», «хитон» и «море». Геродот в свою очередь узнал, что хитон по-финикийски называется «кетонет», солнце – «шемеш», фрукт – «пер», а серебро – «кесеп».
Только сейчас он обратил внимание на удивительное внешнее сходство младших детей между собой. Его догадка подтвердилась, когда Ашцав обнял Сису и сказал: «Эхет». Галикарнасец повидал уже достаточно разных народов, чтобы знать: слово «сестра» на ханаанских языках звучит одинаково.
Наевшись, дети улеглись спать, а Геродот заботливо накрыл их овечьей шкурой. Пока корабль боролся с волнами, он сидел возле амфоры, раздумывая о взаимопроникновении культур разных народов.
Вот надо же, не зря говорят: нет худа без добра. Египетские жрецы изобрели геометрию благодаря тому, что разливы Нилы разрушают границы между делянками и каждый раз после окончания паводка приходится размечать их заново.
А финикийские мореплаватели придумали астрономию, чтобы можно было прокладывать путь в море по звездам. Арифметика – тоже их рук дело, расчеты расстояния ведь как-то надо производить.
Со временем точные науки благополучно укоренились в Элладе. Про вклад эллинов в культуру других народов и говорить нечего – искусство зодчества, памятники литературы, философия, медицина, даже религия, стали достоянием всего Востока. Гласные буквы в финикийском алфавите – это тоже дар эллинов ойкумене.
Предаваясь размышлениям, галикарнасец не забывал любоваться морским пейзажем. Изрезанный бухтами берег справа по ходу корабля постепенно перешел в равнину, засаженную фруктовыми деревьями – персиками, абрикосами, грушами, фисташками…
В маленьких гаванях под нависшими скалами теснились хижины рыбаков. Поросшие лесом Ливанские горы казались такими близкими… Навскидку до них было не больше пятнадцати стадиев.
Под Сарептой флотилии пришлось огибать мыс, который каменным кинжалом вспарывал море. На черном острие базальтового лезвия часовни Баала и Астарты казались белыми чайками.
Даже с корабля было заметно, как сопки поднимаются пологими ступенчатыми террасами к хребту. Геродот знал, что обращенная к морю западная сторона горного массива носит название «Дальнего взморья».
Вскоре показался маяк Сидона.
Город занимал узкую приморскую долину, а также северную часть скалистого мыса. Встретивший флагман в море эпимелет сообщил: «Северная Беритская гавань занята пентеконтерами… Хотя стоянку можно попытаться найти в южной Тирской гавани… Она, конечно, не такая удобная, но от больших волн защитит. Тамошний эпимелет вас встретит».
Потом развел руками: «Может, там есть места у причалов, а может, и нет… А что вы хотели… Сидон уже почти сто лет столица персидской сатрапии. Посольства всех округов от Посидея в Киликии до Пелусия в Египте плывут прямо сюда».
Финикиянин как в воду глядел: к причалам нечего было и соваться. За места на внутреннем рейде пришлось заплатить эпимелету серебром. Сидонский паромщик за несколько оболов согласился перевезти всех желающих с кораблей на берег. Но ему придется совершить несколько ходок.
Когда подошла очередь афинского лемба, Геродот, Харисий и Леократ спрыгнули в лодку. Оба матроса на этот раз остались на борту. Дети проводили хозяина обеспокоенным взглядом, однако он успокоил их жестом: «Все хорошо…»
На пристани пути троицы разошлись. Харисий с Леократом отправились в храм Астарты, финикийской богини любви и плодородия, где за небольшую плату жрицы-харимту продавали свою любовь изголодавшимся по женской ласке морякам.
Геродот двинулся к Беритской гавани. Перед этим он оптом приобрел у лоточника десяток терракотовых амулетов, изображавших покровителя Сидона – бога растительности и врачевания Эшмуна, да столько же кулонов с рогатой головой морского божества Баал-Малаки.
Усевшись, по своему обыкновению, на швартовочную тумбу, галикарнасец сделал вид, будто продает обереги. На задаваемые покупателями вопросы он невнятно мычал, изображая немого. Цену показывал пальцами.
Когда рядом никого не было, Геродот внимательным взглядом окидывал причалы, над которыми поднимался частокол из мачт с полоскавшимися на ветру вымпелами империи Ахеменидов – львиной головой, Ахурамаздой в фаравахаре, соколом с расправленными крыльями, солнечными лучами бога Митры… Он уже знал, что персы называют свои вымпелы «дерафш».
Афинский катаскоп подсчитывал запряженные ослами и быками подводы с амуницией, фуражом, провиантом… Как заклинанье, повторял про себя цифры и секретные слова: «Паломники… Овцы… Мулы… Быки…»
Вслушиваясь в звон кольчуг и оружия, шарканье сапог по квадрам, гомон стоявших в строю копейщиков, громкие окрики мореходов, команды офицеров, рев тяглового и вьючного скота, он представлял себе, как навстречу персидской армаде по безмятежному лазоревому морю яростно несется флот Перикла.
Как тараны афинских триер грозно вспарывают волны, нацелясь на борта вражеских пентеконтер. Как эпибаты выставляют перед собой копья, пращники вкладывают в кожаную петлю свинцовый снаряд, а гребцы с распухшими от напряжения венами на руках пригибаются за щитами, чтобы уберечься от стрел противника. И тревога в его душе уступала место гордости за Элладу, уверенности в победе над варварами, надежде на скорый мир в ойкумене.
Геродот мстительно сплюнул на камень под ногами, не сводя глаз с врага. Внезапно кто-то толкнул его в плечо. Обернувшись, он увидел двоих лоточников, которые смотрели на него со злобным выражением на лице.
Один что-то угрожающе сказал по-финикийски. Другой просто вырвал у галикарнасца амулеты и зашвырнул их далеко их в море. Геродот понял, что этот причал – чужая территория, а он отбирает хлеб у местных уличных торгашей.
Однако ссориться с ними на глазах у персов – дело опасное. Не ровен час, всех троих заберет патруль. Доказывай потом офицеру, что ты просто продавец амулетов из яванского квартала Сидона.
По опыту арестов в Сардах и Пелусии Геродот знал: оправдываться бесполезно. Любой эллин для персов в районе сосредоточения войск – вражеский лазутчик. Тем более, если он прибыл из Афин.
Тогда галикарнасец успокаивающе поднял раскрытые ладони – все, все, ухожу… Теперь действительно можно было возвращаться на свой корабль. Дело сделано, осталось записать все то, что он увидел и запомнил, на глиняных черепках.
Все-таки Геродот не удержался – купил у дряхлой финикиянки в черном вдовьем платке горшок козьего молока. Пусть и не коровье, но ребятишкам подойдет. Еще за одну медную монету старуха отдала ему связку маковых баранок.
Потом он спустился к берегу, чтобы подозвать сидевшего в кедровой долбленке паромщика. Вскоре галикарнасец перелез из лодки на свисавшую с борта лемба веревочную лестницу, свободной рукой прижимая к груди горшок с молоком. Нитка баранок, словно бусы, повисла на шее.
Перегнувшись через планширь, Ярих подхватил гостинцы, давая возможность хозяину подтянуться на обеих руках. С довольным выражением на лице Ашцав провел указательным пальцем по масляному ободку на внутренней стенке горшка, после чего дал облизать палец сестре.
По очереди откусывая от одной и той же баранки и прикладываясь к горшку, ребятишки быстро выпили молоко. Геродот сидел рядом, с улыбкой глядя на них, как вдруг Сиса подскочила к нему, схватила за кисть и стала покрывать ее поцелуями.
Галикарнасец отдернул руку, а она что-то быстро залепетала на ханаанском языке. Геродот различил только одно слово – «адон».
«Рабом я уже был, – с иронией подумал он. – А теперь вот стал рабовладельцем… Поистине Мойры скрутили из кудели времени причудливо вьющуюся нить… Куда еще приведут меня ее витки?»
Харисий с Леократом вернулись поздно ночью. Дремавший на полубаке Геродот сперва услышал плеск весел, потом правый борт осветился огнем факела.
Поднявшись на борт после келейста, мореход бросил факел в море – открытый огонь на корабле ни к чему. Хватит света от сторожевого масляного фонаря на форштевне.
Да и луна этой ночью особенно яркая. Вон она, почти круглая, бугристая, такая близкая, отливает матовым блеском, словно прожаренный блин на сковородке.
– Ну как? – поинтересовался Геродот.
Вместо ответа Харисий звонко поцеловал собранные в щепоть пальцы.
Потом взволнованно рассказал:
– Девочки – что надо… Молодые да опытные… На теле ни одного волоска, пахнут благовониями… Всего тебя вылижут… А как выгибаются – будто танцуют под тобой… И вроде не притворяются, сжимают тебя там, натурально так кричат… Взяли с каждого по целой драхме… Так оно того стоит… Как сам?
– Все в порядке. – Галикарнасец кивнул на лежавший возле рубки мешок с глиняными черепками.
– Да… – вспомнил вдруг мореход. – Там одна такая цыпочка была… Вроде как старшая у них. Они ее пундекитой называли… Уж не знаю, имя это или должность… Но хороша… Грудь – во!.. Бедра широкие, при этом ноги длинные и стройные, лодыжки и запястья тонкие… Породистая… Я ее хотел оприходовать. Выпятил перед ней своего набухшего Геракла… А она смеется, отнекивается, показывает на других… Так вот… Пундекита эта неплохо говорит на койнэ… Рассказала, что завтра у них праздник любви, потому что полнолуние… Приглашала нас… Но мы точно не пойдем, не эфебы уже… На пару заходов в сырой грот хватило – и ладно… Иди ты!
Геродот понимающе улыбнулся. После Египта он пристрастился к посещениям афинских домов терпимости – диктерионов. В притворно страстных объятиях диктериад нетрезвый историк забывал про тупую боль в сердце, которая накатывала на него каждый раз, когда он думал о Тасуэи.
Сходить к харимту? Да запросто. В конце концов, он мужчина, самец, изголодавшийся за время плавания по самке, животное с налетом хорошего воспитания и способностями к литературному творчеству. Тем более, что задание Перикла в Финикии можно считать выполненным.
«Решено, завтра иду в храм Астарты, – подумал Геродот. – А в Библ поплывем через день на рассвете».
Геродот отложил палетку Мнемхотепа только поздним вечером.
Свернутое в трубочку донесение он всунул в футляр из твердого самшитового дерева. Потянулся, расправил плечи, допил воду из фляги. Все, что галикарнасец узнал в Пелусии, Тире, Аке и Сидоне о персидских флоте и войсках, было переписано на папирус твердым, аккуратным почерком, чтобы Перикл не ломал голову над донесением своего разведчика.
Теперь можно подумать о заслуженном отдыхе. Представив себе, какие удовольствия ждут его в храмовом диктерионе, Геродот улыбнулся. Детям он ничего на словах объяснять не будет, достаточно махнуть рукой в сторону берега, после чего соединить два указательных пальца и изобразить губами поцелуй.
К священному участку перед храмом Астарты галикарнасец добрался только после заката. Астартеон оказался уменьшенной копией святилища Мелькарта в Тире. Такой же величественный, покрытый резными кедровыми панелями, окруженный ореолом факельного сияния. Только колонны по обеим сторонам двери на этот раз были из черного камня.
Фриз из розеток, похожих на цветы астры или маргаритки, карниз с выкружкой, капители колонн в виде бутонов лотоса – архитектурные детали храма говорили о том, что в его возведении участвовали египетские мастера. На коричневых стенах желтели круги света от смоляных факелов.
Из-за каменной стены священного участка в сумерках темнели острые верхушки погребальных стел. С диких финиковых пальм грустно свисали пепельные бороды засохших листьев, словно деревья скорбели по закопанным под стелами жертвам.
Весь храм светился. Над кедровыми дверями тоже горели факелы. На галикарнасца строго смотрели две сидящие слева от входа статуи. В одной из них он узнал верховного бога финикийского пантеона – четырехглазого и четырехкрылого Эла, которого эллины считают своим Кроносом. Другим, судя по поверженному у его ног семиголовому змею, был его сын Баал-Хаммон.
Голову Баал-Хаммона украшал солнечный круг с крыльями, похожий одновременно на персидский фаравахар и на символ египетского бога Хора. В руке бог финикийских лесов сжимал заостренный наподобие копья ствол кедра, будто это было не дерево, а оружие.
Справа от входа поднималась в полный рост полностью обнаженная богиня любви и плодородия Астарта, стискивающая руками груди. Из ее головы росли не то рога, не то острые края лунного серпа. Сидящий возле ног Астарты лев скалил пасть, а над фигурой богини парил голубь, как символ соединения мира живых с миром мертвых.
Привратник провел гостя в примыкавший к священному участку Астартеона флигель. Оштукатуренные стены здания были покрыты фресками, изображавшими сцены любви.
Среди переплетенных фигур Геродот с удивлением увидел козла и жеребца. Галикарнасец усмехнулся – после Мендеса его уже ничто не могло удивить. Оставалось надеяться, что во флигеле ему не предложат для нежных услад свинью, козу или овцу.
Получив положенную плату, гиеродул оставил гостя одного.
В прихожей флигеля царил полумрак. С длинных бычьих рогов на стене свисала одежда, в основном разных оттенков праздничного фиолетового цвета. Женские кетонеты отличались вышивкой или плиссировкой. Из широкого горла двуручного стамноса торчали посохи с бронзовым, костяным, а то и серебряным набалдашником.
Мужчины оставили в прихожей кроме кетонетов еще и пояса с ножами в кожаных ножнах, конические и цилиндрические войлочные шапки, даже сумки с инструментами.
Женские пояса можно было отличить по узорам из цветного бисера, а тении по рисункам пальметт, розеток или символизирующих деторождение ромбов.
Под вешалкой в беспорядке валялись сандалии, дорожные котомки, шейные платки, набедренные повязки… Было заметно, что гости раздевались второпях. Скидывая обувь и одежду, они, по всей вероятности, думали уже совсем о другом.
Сквозь колонны виднелся обширный зал, к которому от прихожей флигеля спускались две широкие каменные ступеньки. Тимиатерионы чадили сладким янтарным дымом аравийского ладана. От трехногих светильников исходил мерцающий свет.
На стенах шевелились темные фигуры, которые сливались, разъединялись, снова льнули друг к другу. Будто оргиастам было мало чувственных наслаждений в этом мире, и они одновременно с земными усладами предавались похоти в мире теней.
Галикарнасец не торопясь скинул хитон и набедренную зому. Он уже вышел из того возраста, когда соитие кажется лакомством слаще меда, а едва посмотрев на незнакомую девушку, ты мгновенно раздеваешь ее жадным взглядом.
Прислонившись к колонне, он с показным равнодушием осмотрел покрытый коврами цокольный пол зала, где разворачивалось сражение в честь Афродиты. Или Астарты – Ашторет, как называли ее сидоняне. Кто ж теперь разберет…
Два факела освещали скульптуру священной голубки на высоком пьедестале. Устроившись под символом Астарты, голенькая девочка с завитыми в косички волосами перебирала струны арфы-самбики. Похожий на юного бога Эрота кудрявый мальчик, скрестив ноги, подыгрывал ей на флейте.
Стоны блаженства, вскрики сладкой боли, хриплый шепот, блестящие от пота тела… Мужчина с женщиной, девушка с девушкой, юноша с юношей… Вдвоем, втроем, группами…
Многие харимту были в отвращающих зло масках патеков или коронах из перьев в честь солнечного бога Баал-Хаммона. На шее у некоторых висели амулеты в виде колчана со стрелами и луком – символа Анат, дочери Астарты от Эла.
Вот оргиаст спрятал голову между ног черной, как сама ночь, эфиопки. Она закрыла глаза, изредка охает, затем глубоко и часто вздыхает. Он время от времени прерывается, чтобы поднять измазанное соком любви лицо и посмотреть ей в глаза.
Там два парня ласкают друг друга. Один из них явно гиеродул – ритуальная татуировка на лбу изображает полумесяц рогами вверх. Эраст жадно целует возлюбленного-эромена в шею, а тот истомленно откинул голову. При этом его рука в паху любовника движется вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз…
Рядом голова харимту ритмично поднимается и опускается над чреслами гостя. Оргиаст уже не может сдержаться, помогает ей движением бедер. Она содрогается от рвотных приступов, тем не менее продолжает свой сладко-мучительный труд.
Слившаяся в поцелуе пара сидит, плотно прижавшись друг к другу. Ноги женщины обхватили спину мужчины, его пальцы впились в ее ягодицы. Оба, забыв обо всем, стараются достичь пика наслаждения.
Юноша с гирляндой из белых, красных и желтых маков на груди берет харимту сзади, рычит раненым зверем, жестко мнет ее грудь одной рукой. Другой рукой натягивает привязанную к ошейнику цепь. Она закусила губу от удовольствия подчинением, позволяет ему делать все, что он захочет.
От спаривающейся с борзым псом диктериады Геродот отвернулся, не его тема. Зато сидевший рядом с ней гость, пожилой и грузный, как боров, довольно шарил по ее груди рукой, в то время как скулящий от вожделения пес продолжал содрогаться за спиной извращенки. С губ толстяка свисает тонкая нить слюны. Мерзость, что тут скажешь…
Внимание галикарнасца привлекла группа из нескольких мужчин, которые стояли на коленях вокруг лежавшей на спине с широко раскинутыми руками женщины.
Грудь диктериады колышется от толчков. На шее матово блестит золотая пектораль. Гладко выбритый череп над высоким лбом искусно раскрашен хной.
Один из оргиастов забросил себе на бедра ее ноги и яростно вбивает свою плоть в ее податливое лоно. Другой сел ей на лицо, а она откинула голову назад, чтобы удержать во рту торчащее, как форштевень кумбы, орудие любви. Пальцами финикиянка успевала ласкать партнеров слева и справа.
Геродот иронично скривил губы. Да уж, апофеоз распутного сладострастия, ничего не скажешь. Однако участвовать в такой запредельно непотребной оргии[74] ему не хотелось.
Сорвав с рога в прихожей свой хитон, галикарнасец разложил его на верхней ступеньке, после чего уселся и стал наблюдать за происходящим. В глубине зала он заметил детей, разносивших среди копошащихся на полу тел какой-то напиток.
Двое мальчиков без одежды, которые тащили винную ойнохою, часто останавливались среди шевелящихся тел. Полностью обнаженная девочка подставляла под сосуд канфар, а затем предлагала напиток оргиастам. Выпив его, те возвращались к совокуплению с возросшей пылкостью.
«Афродизиак, – решил галикарнасец. – Скорее всего, на основе меконина или хашеши с добавками вроде тертой китовой амбры, размолотого латука и мякоти артишоков… А может, просто неразбавленное вино… У многих тут пьяные лица…»
Он вспомнил, как на афинской агоре мошенники надрывают горло, расхваливая возбуждающие снадобья из крови летучей мыши, гусиных языков, желтков яиц голубки и один только Зевс знает, чего еще… А в качестве убойного по действию средства без зазрения совести предлагают якобы соскобленную с тела известного олимпионика грязь.
Тем временем жрица с пекторалью освободилась от хорового соития. Мужчины откинулись на ковер, чтобы отдохнуть после истечения семени. Она же, все еще энергичная и возбужденная, отправилась гулять по залу.
Жрица то и дело присоединялась к занятым блудом оргиастам, чтобы поцеловать в губы одного, нежно погладить другого или, царапая кончиками ногтей кожу на спине или животе харимту, добавить остроты к ее ощущениям.
Поравнявшись с Геродотом, она остановилась. Теперь на ее голове была ритуальная тиара, увенчанная соколиным чучелом. Их глаза встретились. Спокойный, насмешливый взгляд галикарнасца и одурманенный зельем, отрешенный взгляд финикиянки, словно она все еще смотрела на охваченные похотью чресла гостей.
Геродот оценил кричащую красоту жрицы. Не развратно-невинную прелесть юных харимту Астарты, а великолепие зрелой женщины, которая знает себе цену и умеет превращать мужчин в потерявших самообладание от страсти хищников.
Намасленная кожа отливает бронзой. Не знавшие молока груди налиты сочной крепостью. Припухшие от жестоких поцелуев губы просят еще больше насилия.
К вискам убегают брови, изогнутые, как птичьи крылья в полете. Глаза со зрачками цвета коричневой яшмы подведены сурьмой. Веки затемнены пастой из зеленого малахита.
Судя по яркой обольстительной внешности и тиаре на голове, именно эта царственная шлюха и была той самой пундекитой, которую описывал Харисий. Геродот подумал, что надо отдать ей должное – такому мастерству соития может позавидовать любая из ее подопечных.
– Спускайся, – позвала жрица.
Он усмехнулся:
– Пока не готов.
По ее лицу пробежала легкая улыбка:
– Подготовить тебя?
– Иди сюда, обсудим… – уклончиво ответил галикарнасец.
Она медленно поднялась по ступеням. Грациозно села рядом с ним на расстеленный хитон. Повернувшись к гостю лицом, посмотрела на него долгим оценивающим взглядом. Полным бесстыдства и откровенного предложения.
Геродот опустил голову, он все еще не мог по-настоящему проникнуться атмосферой всеобщего эротического безумия. Может, ему просто надо выпить, тогда в его душе тоже заиграет мелодия неукротимого, как зимние шторма, порока…
– Что за праздник? – спросил галикарнасец, чтобы прервать затянувшееся молчание.
– Бракосочетание Эла с Астартой.
– Поэтому у вас сегодня оргия?
– Да.
– Как тебя зовут?
– Изавель.
Геродот кивнул:
– Значит, это ты пундекита храма Астарты.
– Для харимту – да. Для тебя – нет… Для тебя я самка, горячая, мокрая между ног и покорная.
– Я тебя видел раньше, – вдруг выпалил он.
Прозвучал короткий ироничный смешок:
– Да ну…
– Во сне… В храме Мелькарта.
Теперь Изавель улыбнулась – тепло, приятно, разоружающе. После чего положила руку ему на бедро. Геродот почувствовал, как от внезапно накатившего на него возбуждения по коже прошла приятная дрожь, а в паху ожила податливая на ласку плоть.
Ощутив ладонью силу этой плоти, жрица поднялась, затем потянула галикарнасца к себе. Оба сошли по ступеням в зал, чтобы тут же опуститься на ковер. Геродот посмотрел в распахнутые от ожидания глаза финикиянки и забыл обо всем.
Не обнаружив в гавани Губла афинский корабль, Шамаим понял, что Геродота здесь нет.
Но где теперь может быть фортегесий? Да где угодно! В Тире, Сидоне, Берите… Надо было все же пристать в Аке, вот только Абад, этот вонючий помет шакала, разорался, что нечего туда соваться. Шамаим в тот раз пошел у него на поводу. А зря…
Тогда он отправился в храм Баалат-Гебал, одной из супруг бога Эла, которую финикияне считали египетской богиней любви Хатхор и которой эллины поклонялись как матери Афродиты – Дионе.
Священные сикоморы покачивали ветвями на ветру. Деревья шумели листвой, словно нашептывая молитву. Чайки с криком летали над алтарями, отпугивая ворон от остатков жертвенной еды. С фриза храма на финикиянина смотрели вырубленные в ряд лица богини с розетками на парике и повернутыми вперед коровьими ушами.
Привратнику Шамаим объяснил, что его прислал Табнит, затем разулся и прошел за рабом в пронаос. Когда из глубины храма показалась фигура Верховного жреца фиаса Баалат – Гебал в широком белом кетонете, порученец Табнита бухнулся на колени.
Подобострастно проговорил приветствие:
– Да пребудет с тобой милость Божественной царицы!
Ответ Сакарбаала был короче и менее уважительным:
– Мир тебе.
Шамаим передал жрецу просьбу Табнита.
Выслушав его, Сакарбаал задумался: «Геродот… Фортегесий Буле… Убить… А стоит ли… Даже если яван действительно хочет влезть в торговлю библосом, чтобы разрушить давно наработанные связи и помешать договоренностям, купцы Губла не подпустят чужеземца к кормушке… Так что проливать его кровь необязательно… Однако оставить без внимания просьбу такого влиятельного среди финикиян человека, как Табнит, нельзя… Тем более если его догадка подтвердится… Сделать это надо так, чтобы не испортить отношения с Афинами… Война войной, а торговлю библосом никто не отменял…»
Потом процедил:
– Можно и убить… На мою помощь ты рассчитывать можешь… Но с одним условием: смерть фортегесия должна выглядеть как несчастный случай.
– А если он не появится в Губле, господин? – вкрадчиво спросил Шамаим.
– Никуда твой Геродот не денется… – отрезал верховный жрец. – Джасус этот яван или нет, в любом случае он приплывет сюда на переговоры с продавцами библоса… Я об этом сразу узнаю.
Сакарбаал осенил порученца Табнита небрежным благословением, после чего приказал:
– Теперь уходи.
Поцеловав Верховному жрецу тыльную сторону кисти, Шамаим униженно попятился, а затем направился к выходу…
Лемб Харисия рвал волны острым носом в составе торговой флотилии из Сидона. То ныряя в водяную яму, то задирая форштевень на гребне. Божественный глаз Аполлона на скуле корабля, как всегда, пристально вглядывался в бездонную зеленовато-голубую глубь.
Пиратские лодки качались на безопасном расстоянии от караванного пути, словно стая шакалов, стерегущих в засаде одинокого путника или отбившуюся от стада косулю.
По неписаному закону побережья из лука торговые корабли с лодок не обстреливают. Зато севший на риф купец становится добычей пиратов. Флотилия не будет ждать, пока матросы заделают пробоину, а тем более не будет спасать тонущих. Вышел из строя – разбирайся сам.
Галикарнасец расположился на полубаке с палеткой, миской воды и свитком папируса. Дети сидели на корме, что-то обсуждая и изредка поглядывая на хозяина.
Качка не мешала галикарнасцу обдумывать свои впечатления от посещения Сидона. Все-таки он решил не вдаваться в подробности разнузданной оргии Астарты. А еще лучше вообще о ней не упоминать. То, что происходило в прошлую ночь между ним и Изавель во флигеле, не должно предаваться огласке.
Стыдиться тут нечего. Мужчина он вдовый, не обременен обетом безбрачия, не страдает от бессилия или срамной болезни. Когда он сплетался в любовной агонии с пундекитой на ковре храма, остальным оргиастам было все равно, чужестранец их сосед или тириец. Заплатил – значит, ему здесь самое место.
Но есть еще публичные чтения. Зачем давать повод афинским аристократам – эвпатридам для презрительных ухмылок или досужих пересудов? Пусть в «Истории» будет про другое.
А кроме той ночи, ему в Сидоне и описать нечего. Город как город: гавань, агора, храмы, священные участки, некрополь за крепостной стеной, кварталы богачей, трущобы бедноты, вонь красилен… Получается, что Сидон придется пропустить.
Да и как следует рассмотреть остальные города Финикии у него тоже не получилось. Не для этого он сюда приплыл. Однако написать про Тир хоть что-нибудь надо, все-таки это бывшая столица прибрежной страны.
Выдумывать Геродоту не хотелось, поэтому строчки, которые ложились на папирус, получились скупыми: «…Но Геракл – древний египетский бог, и, как они сами утверждают, до царствования Амасиса протекло одна тысяча семьсот лет с того времени, как от сонма восьми богов [первого поколения] возникло двенадцать богов, одним из которых они считают Геракла. Так вот, желая внести в этот вопрос сколь возможно больше ясности, я отплыл в Тир Финикийский, узнав, что там есть святилище Геракла. И я видел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. Среди прочих посвятительных приношений в нем было два столпа, один из чистого золота, а другой из смарагда, ярко сиявшего ночью. Мне пришлось также беседовать с жрецами бога, и я спросил их, давно ли воздвигнуто это святилище. И оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнения эллинов. Так, по их словам, святилище бога было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор как они живут в Тире, прошло две тысячи триста лет. Видел я в Тире и другой храм Геракла, которого называют Гераклом Фасийским…»
Проплыв около двухсот стадиев, сидонская купеческая флотилия приблизилась к устью Тамира[75]. Холмы оборвались узкой долиной. Внезапно над морем разнесся протяжный вой раковины. Флагман флотилии резко повернул в открытое море. Остальные корабли потянулись за ним.
Харисий сразу догадался об опасности, а когда увидел запруженный бревнами эстуарий реки, не стесняясь в выражениях, заорал на кормчего, чтобы тот правил за идущей впереди кумбой.
Потом все бросились к правому борту. Держась за планширь, команда и пассажиры напряженно наблюдали, как на расстоянии всего одной оргии от корабля, с громким стуком толкаясь на волнах, то погружаясь в воду, то снова выныривая, к северу дрейфуют связки кипарисовых и пихтовых стволов.
На этот раз Аполлон проявил свою милость. Геродот выдохнул с облегчением, однако решил не записывать досадное происшествие в путевой дневник, чтобы не выставлять Харисия в неприглядном свете. Действительно, опытный мореход, к тому же плававший в этих водах раньше, мог поднять тревогу заранее.
За Тамиром местность снова вспучилась скалами. Возросшая глубина моря позволила флотилии приблизиться к берегу. Увидев на утесе увешанные цветными тряпицами пинии, Геродот поинтересовался у Харисия, что означают эти знаки.
– Роща Асклепия, – ответил мореход. – Больные оставляют на ветках сосен лоскуты своих кетонетов, чтобы бог обратил на просителя внимание и излечил его от недуга.
– Почему именно здесь?
– Змей много… Финикияне их не трогают, считают, что змеи – земное воплощение Асклепия.
Геродот не удивился такой популярности в Финикии эллинского бога врачевания. Ведь люди часто терпят от небожителей наказание в виде телесных и душевных хворей. Однако даже Асклепий не в силах побороть бога смерти Танатоса, который своим разящим мечом собирает богатую жатву для Гадеса.
Родившегося в пламени погребального костра Асклепия, сына олимпийца Аполлона и земной женщины Корониды, почитали не только в Элладе, но и в других странах. Египтянам он был известен под именем Имхотепа, фракийцы называли его Дерзеласом, а финикийцы Эшмуном или Цидом.
От устья Тамира начиналась Беритская область. Спускавшиеся с хребта Аман[76] отроги припадали острыми скалистыми мысами к морю, словно их мучила жажда.
