Homo Bonus. Обнадеживающая история человечества
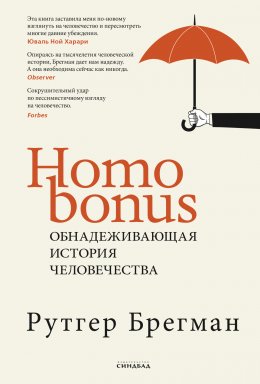
Rutger Bregman
Humankind
Copyright © 2019 by Rutger Bregman
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2024
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2024
Моим родителям
Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть.
А. П. Чехов (1860–1904)
Пролог
Накануне Второй мировой войны генералы британской армии ощущали надвигающуюся угрозу. Лондон был в опасности – по словам Уинстона Черчилля, город представлял собой «самый лакомый в мире кусочек, словно породистую жирную корову привязали в лесу, как приманку для хищников»[1].
В роли хищников выступали Адольф Гитлер и его военная машина. Если бы ужас перед бомбежками сломил дух британцев, это означало бы гибель нации. Один британский генерал пророчил: «Транспорт остановится, бездомные будут молить о помощи, город погрузится в хаос»[2]. Считалось, что погибнут миллионы лондонцев, а армия не сможет дать отпор врагу, так как будет занята усмирением обезумевших толп. Черчилль полагал, что Лондон покинут как минимум три-четыре миллиона жителей.
Чтобы получить представление о кошмаре, который должен был обрушиться на Лондон, достаточно было прочитать «Психологию масс» француза Гюстава Лебона – одного из выдающихся умов своего времени. Гитлер изучил эту книгу от корки до корки. Как и Муссолини, и Сталин, и Черчилль, и Рузвельт.
В своей работе Лебон подробно исследует реакцию людей на кризис. В подобной ситуации, по его словам, «человек практически мгновенно скатывается по лестнице цивилизации на несколько ступеней»[3]. Начинаются паника и всплеск насилия, проявляется истинная натура человека.
19 октября 1939 года Гитлер изложил своим генералам план наступления. «В нужный момент мы сможем продемонстрировать британцам беспощадную мощь наших военно-воздушных сил и сломим их сопротивление»[4].
В Великобритании понимали, что время поджимает. Поразмыслив, власти отвергли план срочно оборудовать сеть подземных убежищ – исключительно из тех соображений, что парализованные страхом лондонцы откажутся выходить на поверхность. На окраинах Лондона спешно развернули несколько полевых психиатрических больниц, готовых принять первых жертв войны.
И вот началось.
7 сентября 1940 года 348 немецких бомбардировщиков пересекли Ла-Манш. Стояла хорошая погода, на улицах было полно народу. В 16:43 завыли первые сирены, и люди дружно подняли глаза к небу.
Этот сентябрьский день войдет в историю как Черная суббота, а последовавшие затем события станут известны как «Блиц». За девять месяцев на один только Лондон немцы сбросят больше 80 тысяч бомб, которые сотрут с лица земли целые кварталы. Порядка миллиона зданий в британской столице будут повреждены или полностью разрушены. Погибнет больше 40 тысяч человек.
Как же на все это реагировали британцы? Что происходило в стране, которую бомбили на протяжении долгих месяцев? Люди впали в истерику? Стали вести себя как варвары?
Давайте начнем с показаний свидетеля – психиатра из Канады.
В октябре 1940 года доктор Джон Маккерди ехал через юго-восточную часть Лондона в один из бедных кварталов, особенно сильно пострадавших от бомбежек. Все, что осталось от района, – воронки да полуобвалившиеся стены. Именно так могло выглядеть средоточие ада в отдельно взятом городе.
Так что же увидел доктор Маккерди спустя минуту после воздушной тревоги? «По тротуарам все так же носились дети, покупатели торговались с продавцами, полицейский лениво регулировал поток машин, катили велосипедисты, бросая вызов смерти и правилам дорожного движения. Насколько я заметил, на небо никто даже не взглянул»[5].
Если и есть что-то общее во всех рассказах о «Блице», так это описание странной безмятежности, царившей в эти месяцы в Лондоне. Американского журналиста удивила английская супружеская пара, которая, не обращая внимания на дребезжащие окна, спокойно пила чай.
– Разве вы не боитесь? – спросил он.
– О нет. Какой в этом толк?[6] – услышал он в ответ.
Гитлер явно забыл принять в расчет своеобразный характер британцев. Стойкость. Специфический юмор. Взять хотя бы вывески магазинов: «МЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫ, ЧЕМ ОБЫЧНО», или рекламу паба: «ОКНА У НАС ВЫБИТЫ, НО ДУХ НАШ КРЕПОК. КАК И ВЫПИВКА. ЗАХОДИТЕ И ПРОБУЙТЕ»[7].
В целом британцы относились к налетам как к опозданию поезда – раздражает, конечно, но в принципе терпимо. К слову, железные дороги во время «Блица» не прекращали работу, а внутренняя экономика практически не пострадала. Куда более ощутимый удар британской военной машине нанес в апреле 1941 года нерабочий понедельник Светлой седмицы[8].
Спустя всего несколько недель после начала бомбежек сообщения о них воспринимались примерно как прогноз погоды: «К вечеру возможны воздушные налеты»[9]. Очевидец из Америки отмечал, что «англичанам все это так быстро наскучило, что теперь при звуках тревоги никто особенно и не прячется»[10].
Ну а как же моральный урон? Как насчет миллионов несчастных с тяжелыми психологическими травмами, о появлении которых предупреждали эксперты? Как ни странно, их тоже не наблюдалось. Разумеется, люди горевали, и злились, и оплакивали близких, отнятых войной. Но психиатрические лечебницы пустовали. Более того, душевное здоровье населения в целом было лучше, чем до войны. Алкоголизм пошел на убыль, стало меньше случаев суицида. После войны многие англичане с ностальгией вспоминали дни «Блица», когда все помогали друг другу и никого не волновало, за какую партию ты голосуешь и сколько у тебя денег[11].
«“Блиц” во многом лишь укрепил дух британцев, – писал позднее историк. – Гитлеру пришлось лишиться иллюзий»[12].
Теории прославленного психолога Гюстава Лебона не только не выдержали проверки реальностью, но и оказались максимально от нее далеки. Кризис обнажил в людях не худшие, а лучшие черты. Если уж на то пошло, англичане поднялись по «лестнице цивилизации» на несколько ступенек. «Не устаю поражаться отваге, доброте и чувству юмора простых людей в условиях, напоминающих ночной кошмар», – записала в своем дневнике американская журналистка[13].
Столь неожиданная реакция общества вызвала дискуссию о выборе стратегии Британии в ответ на авианалеты. Королевские ВВС готовились подвергнуть территорию противника ответным бомбардировкам – вопрос заключался лишь в том, как добиться их наибольшей эффективности.
Поразительно, но, несмотря на наглядные доказательства обратного, военные по-прежнему были уверены, что моральный дух вражеской нации можно подорвать с помощью бомб. Да, на англичанах это не сработало, но ведь они же особенные. Никакой другой народ не сравнится с ними в хладнокровии и стойкости, и уж точно не немцы: им определенно не хватит «силы духа, чтобы перенести хотя бы четверть испытаний, выпавших на долю англичан»[14].
Этой точки зрения придерживался и близкий друг Черчилля Фредерик Линдеманн, он же лорд Червелл. Судя по одной из сохранившихся фотографий, Линдеманн был высоким мужчиной, который ходил с тростью, носил шляпу-котелок и отличался невозмутимостью[15]. Во время ожесточенного спора вокруг стратегии воздушной войны Линдеманн твердо стоял на своем: бомбардировки работают. Как и Гюстав Лебон, он придерживался невысокого мнения об обычных людях, считая их трусливыми и легко поддающимися панике.
Для подтверждения своей идеи Линдеманн направил бригаду психиатров в Бирмингем и Халл – два города, наиболее пострадавшие от немецких авианалетов. Медики опросили сотни мужчин, женщин и детей, лишившихся в результате «Блица» домов. Они собирали самую разную информацию, вплоть до выяснения «количества выпитых пинт и купленных таблеток аспирина»[16].
Спустя несколько месяцев психиатры отчитались перед Линдеманном. Вывод из своего исследования они поместили на титульную страницу, напечатав его крупным шрифтом:
НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ СНИЖЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ДУХА[17].
Как же на это однозначное заключение отреагировал Фредерик Линдеманн? Он его проигнорировал. К тому моменту он уже решил, что бомбежки – выигрышная стратегия, и никакие факты не заставили бы его изменить свое мнение.
Поэтому в записке, которую он направил Черчиллю, говорилось следующее:
Исследование показало, что разрушение жилища крайне опасно для морального духа индивида. Люди переживают это сильнее, чем потерю друзей и даже родственников. В Халле, где разрушена всего одна десятая часть домов, царит напряженная атмосфера. Исходя из вышеизложенного, мы можем нанести массированный удар по 58 ключевым немецким городам, что, без сомнения, сломит дух немецкого народа[18].
Это положило конец дискуссии об эффективности бомбежек. Как позже заметил один историк, от всей этой истории «ощутимо пахло охотой на ведьм»[19]. Порядочных ученых, выступавших против атак на гражданское население Германии, называли трусами и даже предателями.
Сторонники бомбардировок считали, что мало атаковать врага – его надо раздавить. По приказу Черчилля в небе над Германией разверзся настоящий ад. К окончанию авианалетов число погибших в десять раз превышало число жертв «Блица». Только за одну ночь в Дрездене погибло больше мужчин, женщин и детей, чем в Лондоне за всю войну. Больше половины немецких городов и деревень были разрушены. Страна превратилась в тлеющие руины.
При этом лишь малая часть ударов приходилась на стратегические объекты вроде заводов или мостов. Но Черчилль практически до последних месяцев был уверен, что самый верный способ выиграть войну – это сбрасывать бомбы на мирное население, чтобы подорвать моральный дух нации. В январе 1944 года того же мнения придерживалось руководство Королевских ВВС, направившее Черчиллю служебную записку следующего содержания: «Чем больше мы бомбим, тем сильнее эффект».
Премьер-министр подчеркнул эти слова своей знаменитой красной ручкой[20].
Так произвели ли бомбардировки желаемый эффект?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вновь обратимся к свидетельствам очевидца – на этот раз известного немецкого психиатра, доктора Фридриха Панзе. В период с мая по июль 1945 года он опросил почти сотню немцев, лишившихся из-за авианалетов крыши над головой. «После бомбардировки я почувствовал прилив энергии и закурил сигару», – ответил один из респондентов. Другой сказал, что общее настроение после бомбардировки напоминало «эйфорию, словно мы уже выиграли войну»[21].
Никакой массовой истерии после налетов не наблюдалось. Напротив, люди даже испытали облегчение. «Соседи помогали друг другу, – писал Панзе. – Учитывая, каким тяжелым и длительным испытаниям подверглись эти люди, они оставались на удивление спокойными и благоразумными»[22]. Доклады внимательно следившей за немецким народом Службы безопасности рейхсфюрера СС (СД) свидетельствуют о том же. После бомбежек люди не бросали друг друга в беде – они вытаскивали пострадавших из завалов, тушили пожары. Члены гитлерюгенда ухаживали за ранеными и поддерживали бездомных. Один торговец повесил перед магазином шутливую вывеску: «ЗДЕСЬ ПРОДАЕТСЯ МАСЛО БОЙНИ!»[23]
(Согласен, у британцев с чувством юмора дело обстояло получше.)
В мае 1945 года, вскоре после капитуляции немцев, в Германию приехала группа экономистов из стран антигитлеровской коалиции. По заданию Министерства обороны США они должны были изучить эффект, который произвели на немцев бомбежки. В сущности, американцы хотели знать, сулит ли эта тактика победу в войне.
Эксперты пришли к однозначному выводу: бомбежки мирного населения обернулись полным фиаско. Хуже того, они лишь укрепили экономику Германии и тем самым продлили войну. За период с 1940 по 1944 год производство немецких танков выросло в девять раз, а истребителей – в четырнадцать.
К такому же заключению пришла и группа британских экономистов[24]. Они исследовали 21 разрушенный город – в них производство росло быстрее, чем в контрольной группе из 14 городов, не подвергавшихся бомбардировкам. «Вскоре мы начали понимать, – писал один из американских экономистов, – что выявили едва ли не самый серьезный военный просчет»[25].
Меня во всей этой истории больше всего поражает то, как много политиков попалось в одну и ту же ловушку.
Гитлер, Черчилль, Рузвельт, Линдеманн – все они приняли на веру утверждение Лебона о том, что налет цивилизованности слетит с человечества при малейшем нажиме, особенно если задействовать воздушные рейды. Но чем больше было бомбежек, тем толще становился «слой цивилизованности». Похоже, он представлял собой не тонкую кожицу, а плотную мозоль.
Военным, к сожалению, это понимание давалось с трудом. Двадцать пять лет спустя американцы обрушили на Вьетнам в три раза больше бомб, чем они сбросили за всю Вторую мировую войну[26]. Бомбежки не сработали и на этот раз. Мы как-то умудряемся отрицать очевидное, даже имея перед глазами все возможные доказательства. И сегодня многие убеждены, что стойкость, которую проявили британцы во время «Блица», – это исключительное свойство британского характера.
Но это не так. Подобная стойкость – общечеловеческое качество.
Глава 1. Новый реализм
Это книга о радикальной идее.
Эта идея на протяжении веков заставляла нервничать правителей. Она была отвергнута религиями и идеологиями, игнорирована средствами массовой информации, вычеркнута из анналов мировой истории.
В то же время эта идея находит поддержку практически во всех отраслях науки, подтверждена эволюцией и повседневной жизнью. Она столь близка человеческой природе, что ее просто не замечают.
Если бы только нам хватило смелости отнестись к этой идее более серьезно, она произвела бы настоящую революцию, перевернула бы общество с ног на голову. Ведь как только вы осозна́ете суть этой идеи, то уже никогда не сможете смотреть на мир прежним взглядом.
В чем же заключается эта радикальная идея?
В том, что большинство представителей рода человеческого в глубине души хорошие, порядочные люди.
Лучше всех об этом может рассказать Том Постмес, профессор социальной психологии Гронингенского университета в Нидерландах. На протяжении многих лет он предлагал своим студентам поразмыслить над такой задачкой.
Представьте себе самолет, который совершает аварийную посадку и разваливается на три части. Весь салон в дыму, и пассажиры понимают, что им надо срочно выбираться наружу. Что происходит дальше?
• На планете А пассажиры спрашивают у своих соседей, все ли с ними в порядке. Тем, кто нуждается в помощи, помогают выбраться из самолета в первую очередь. Люди готовы жертвовать собой ради незнакомцев.
• На планете Б каждый спасает себя сам. Начинается паника. Все толкаются, кто-то падает. Дети, старики и малоподвижные люди рискуют погибнуть в давке.
Вопрос: на какой из этих двух планет живем мы?
«По моим оценкам, примерно 97 % людей считают, что мы с планеты Б, – отмечает профессор Постмес. – На самом деле практика обычно показывает, что наша планета – планета А»[27].
Не имеет значения, кого мы опрашиваем – консерваторов или либералов, бедняков или богачей, образованных или неграмотных, – все совершают одну и ту же ошибку. «Они не знают. Ни первокурсники, ни магистры, ни квалифицированные специалисты, ни даже сотрудники служб спасения, – продолжает Постмес. – И вовсе не из-за нехватки данных: ведь исследования по этой теме ведутся со времен Второй мировой, и их результаты общедоступны».
Даже в самые страшные моменты своей истории человечество вело себя подобно жителям планеты А. Вспомним хотя бы катастрофу «Титаника». В известном фильме все пассажиры охвачены паникой (кроме, пожалуй, струнного квартета). Однако в реальности эвакуация проходила относительно спокойно. Один из очевидцев отмечал, что «никаких признаков паники или истерии не было, никто не рыдал в ужасе и не носился туда-сюда»[28].
Или вспомним теракты 11 сентября 2001 года. В башнях-близнецах начался пожар, но тысячи людей спокойно спускались по лестницам, хотя и понимали, что их жизнь в опасности. Они расступались перед пожарными и спасателями, выносившими раненых. «Кто-то даже говорил: “Нет-нет, только после вас”, – рассказывал позднее один из выживших. – Никогда бы не поверил, что в подобной ситуации люди станут уступать друг другу дорогу. Просто невероятно»[29].
Существует устойчивый миф о том, что люди по своей природе эгоистичны, агрессивны и легко поддаются панике. Нидерландский биолог Франс де Вааль называет его теорией лакировки, в основе которой лежит представление о том, что цивилизованность – это всего лишь тонкий налет, слетающий при малейшем нажиме[30]. В действительности это совсем не так. Именно в кризисные моменты – во время бомбардировок или наводнений – люди проявляют себя с наилучшей стороны.
29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушился ураган «Катрина». Дамбы и защитные сооружения не справились с потоками воды. Было затоплено 80 % домов, погибли как минимум 1836 человек. Ураган стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в американской истории.
Всю неделю газеты страны писали о волне преступлений – изнасилований и перестрелок, – прокатившейся по Новому Орлеану. Банды гангстеров громили магазины, а кое-кто даже стрелял по вертолетам спасателей. Стадион «Супердоум» стал убежищем для 25 тысяч человек, вынужденных пережидать ураган без электричества и питьевой воды. По сведениям журналистов, в те дни двум младенцам перерезали горло, а одну семилетнюю девочку изнасиловали и убили[31].
Начальник полиции докладывал, что город скатывается в полный хаос. Его панические оценки поддержала губернатор Луизианы. «Больше всего злит, – говорила она, – что такие бедствия пробуждают в людях самое дурное»[32].
Ее слова подхватили СМИ. В британской газете Guardian известный историк Тимоти Гартон-Эш сформулировал то, о чем думали тогда многие: «Уберите базовые компоненты организованной цивилизованной жизни – еду, кров, питьевую воду, минимальную личную безопасность, – и мы за несколько часов вернемся к природному существованию по Гоббсу, к войне всех против всех. […] Меньшинство временно станет ангелами, большинство превратится в обезьян».
Это была все та же теория лакировки во всей своей красе. По мнению Гартон-Эша, события в Новом Орлеане пробили брешь в «тонкой корочке, сдерживающей бурлящую магму человеческой натуры»[33].
Правду о том, что происходило в Новом Орлеане, исследователи выяснили лишь месяцы спустя – когда журналисты разъехались, потоки воды схлынули, а колумнисты переключились на более свежие сюжеты.
Как оказалось, за выстрелы люди принимали звуки взрывающихся газовых баллонов. Во всем «Супердоуме» погибли всего шесть человек: четверо по естественным причинам, один – из-за передозировки наркотиков, еще один покончил с собой. Начальник полиции был вынужден признать, что за время урагана не было заведено ни одного уголовного дела об изнасиловании или убийстве. Мародерством люди занимались в основном с целью выжить; как правило, они объединялись в группы, и в некоторых случаях к ним присоединялись даже полицейские[34].
Эксперты Исследовательского центра катастроф Делавэрского университета пришли к выводу, что «в большинстве случаев действия людей совершались в интересах общества»[35]. Из Техаса прибыла целая армада лодок для спасения людей из зоны затопления. Сотни граждан объединялись в спасательные отряды. Одним из таких отрядов стали «Мародеры Робин Гуда» – команда из одиннадцати друзей, которые собирали по всей округе еду, одежду и лекарства, чтобы передать нуждающимся[36].
Короче говоря, «Катрине» не удалось ввергнуть Новый Орлеан в хаос. Напротив, город и горожане повели себя храбро и благородно.
Ураган позволил ученым в очередной раз увидеть, как люди реагируют на катастрофы. Проанализировав результаты 700 научных исследований, которые велись с 1963 года, эксперты Делавэрского университета пришли к выводу: в отличие от кинофильмов, в реальных кризисных ситуациях люди никогда не скатываются в бездну полного хаоса. Они не бьются каждый сам за себя. Уровень преступности – убийств, грабежей, изнасилований – обычно падает. Люди не впадают в ступор, они сохраняют спокойствие и быстро принимаются за дело. «Какими бы ни были масштабы мародерства, они меркнут на фоне всеобщего альтруизма, когда люди безвозмездно делятся вещами и помогают друг другу», – отмечают ученые[37].
Катастрофы пробуждают в людях самое лучшее. И я не знаю другой социологической теории, которая подкреплялась бы таким огромным числом доказательств и при этом так легкомысленно игнорировалась. Картина, которую преподносят нам СМИ, неизменно противоположна тому, что происходит во время катастроф на самом деле.
Тем временем Новому Орлеану распространившиеся слухи стоили человеческих жизней.
Спасатели боялись выезжать в город без дополнительной защиты, и пришлось привлечь национальную гвардию численностью до 72 тысяч человек. «Эти люди умеют стрелять на поражение, – говорила губернатор, – и я думаю, они это покажут»[38].
Так и вышло. На востоке города, на мосту Данцигер, полиция открыла огонь по шестерым безоружным, ничем не провинившимся чернокожим гражданам. Погибли семнадцатилетний подросток и душевнобольной сорокалетний мужчина. (Пятеро полицейских позднее получили длительные тюремные сроки[39].)
Конечно, стихийное бедствие в Новом Орлеане – случай исключительный. Но вне зависимости от масштабов происшествий сценарий событий остается неизменным: когда случается беда, люди спонтанно начинают объединяться, в то время как власти паникуют, тем самым провоцируя новую беду.
По мнению Ребекки Солнит, автора книги «Рай, созданный в аду» (A Paradise Built in Hell, 2009), описавшей последствия урагана в Новом Орлеане, «паника элит – следствие склонности людей, наделенных властью, обо всех судить по себе»[40]. Диктаторы и тираны, губернаторы и генералы зачастую спешат применить грубую силу, опасаясь сценариев, существующих только в их голове. А все потому, что они убеждены: их соотечественники руководствуются исключительно эгоизмом. Как они сами.
Летом 1999 года в школе бельгийского городка Борнем девять детей слегли с неизвестной болезнью. Совершенно здоровые утром, после обеда они почувствовали себя плохо. Головная боль, рвота, учащенное сердцебиение. Учителя предположили, что дело в кока-коле, которую все девять школьников пили на перемене.
Вскоре об этой истории прознали журналисты, и в штаб-квартире компании Coca-Cola стали разрываться телефоны. Тем же вечером вышел пресс-релиз, в котором сообщалось об отзыве из бельгийских магазинов миллионов бутылок газировки. «Мы отчаянно ищем ответ на вопрос, что произошло, и надеемся найти его в ближайшие дни», – заявила представительница компании[41].
Но было поздно. Похожие симптомы обнаружились и в других городах Бельгии, и даже во Франции. Скорые забирали из школ бледных, ослабленных детей. Через несколько дней под подозрение попали все продукты компании: Fanta, Sprite, Nestea, Aquarius… Похоже, все они представляли опасность для детей. Этот инцидент стал одним из самых серьезных финансовых ударов для компании за все 107 лет ее существования – тогда пришлось отозвать из бельгийских магазинов 17 миллионов упаковок безалкогольных напитков и уничтожить все складские запасы[42]. В итоге Coca-Cola потеряла больше 200 миллионов долларов[43].
А затем произошло нечто странное. Спустя пару недель после происшествия токсикологи огласили результаты лабораторных исследований. И что же они нашли в бутылках? Ничего. Ни пестицидов, ни патогенных микроорганизмов, ни токсичных металлов. Ни-че-го. А что показали результаты анализов крови и мочи сотен пациентов? То же самое. Ученым не удалось обнаружить ни единого химического вещества, воздействием которого можно было бы объяснить симптомы, к тому моменту возникшие у тысячи с лишним детей.
«Не сомневаюсь, что дети действительно заболели, – говорил один из исследователей. – Но кока-кола тут ни при чем»[44].
История с кока-колой возвращает нас к извечному философскому вопросу.
Что есть истина?
Некоторые вещи истинны вне зависимости от того, верите вы в них или нет. Вода закипает при ста градусах Цельсия. Курение убивает. Президента Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года.
Что-то может стать правдой, если мы в это поверим, – социологи называют это самосбывающимся пророчеством: если сообщить, что банк вот-вот обанкротится, то вкладчики побегут забирать из него свои деньги, и тогда банк действительно обанкротится.
Или взять эффект плацебо. Когда врач выписывает вам лекарство-пустышку и уверенным тоном говорит, что оно поможет, вы, скорее всего, и впрямь почувствуете себя лучше. Чем эффектнее выглядит плацебо, тем лучше оно работает. Например, уколы плацебо оказываются эффективнее, чем таблетки, а в старые добрые времена срабатывало и кровопускание – люди верили, что столь рискованная процедура просто не может не принести пользы.
А какой самый действенный вариант плацебо? Конечно же, операция! Наденьте белый халат, введите пациента в наркоз, а потом налейте себе чашечку кофе и поудобнее устройтесь в кресле. Когда пациент очнется, обрадуйте его, что операция прошла успешно. В обширном исследовании, проведенном British Medical Journal, сравнивались результаты реальных и фиктивных операций, которым подвергались пациенты с жалобами на боли в спине или изжогу. Анализ показал, что плацебо помогло пациентам в 75 % случаев, а в 50 % случаев было так же эффективно, как реальные операции[45].
Но плацебо работает и в обратную сторону.
Если вы примете таблетку-пустышку, думая, что она вредна для здоровья, то вы, скорее всего, почувствуете недомогание. Озвучьте пациенту список серьезных побочных эффектов, и они наверняка проявятся. Эффект ноцебо, как его называют, по понятным причинам особо не исследовали – не очень-то этично убеждать здоровых людей в том, что они больны. Тем не менее все говорит о том, что ноцебо может давать очень серьезный эффект.
К такому же выводу летом 1999 года пришли бельгийские медицинские чиновники. Как знать – возможно, с парой бутылок кока-колы в Борнеме и впрямь было что-то не так. Но в остальном ученые непреклонны: сотни других детей по всей стране стали жертвами «массового психогенного заболевания». Иными словами, отравление им причудилось.
И это не значит, что дети притворялись. Тысячу бельгийских школьников действительно рвало и трясло от лихорадки. Ведь если достаточно сильно во что-то поверить, это может стать реальностью. Эффект ноцебо показывает, что идеи никогда не бывают всего лишь идеями. Мы – это то, во что мы верим. Мы находим то, что мы ищем. И мы делаем прогнозы, которые сбываются.
Наверное, вы уже поняли, к чему я клоню: наш пессимистичный взгляд на человечество – это тоже ноцебо.
Если мы верим, что большинству людей нельзя доверять, то относимся друг к другу соответствующим образом, в ущерб нам всем. Мало какие идеи так же сильно влияют на окружающий мир, как наше восприятие других людей. Потому что в конечном счете мы получаем ровно то, чего ожидаем. И если мы хотим справиться с серьезнейшими проблемами нашего времени – от глобального потепления до растущего недоверия друг к другу, – начинать надо с нашего взгляда на человеческую природу.
Небольшое пояснение: эта книга – вовсе не гимн человеческим добродетелям. Разумеется, мы далеко не ангелы. Мы сложные создания, со своими хорошими и не очень хорошими качествами. Вопрос лишь в том, какие из них мы будем проявлять.
Мой тезис прост: по своей природе люди – и в детском возрасте, и оказавшись на необитаемом острове, и в разгар войны, и во время кризиса – в большей степени склонны проявлять свои лучшие качества. Я подкреплю это утверждение научными доказательствами, чтобы продемонстрировать реалистичность позитивного взгляда на человеческую натуру. И я убежден, что он станет еще более реалистичным, если в этот тезис поверим мы все.
По интернету давно гуляет притча неизвестного автора. В ней содержится простая, но очень глубокая, на мой взгляд, истина.
Как-то один старик сказал своему внуку:
– Внутри меня идет борьба. Ужасная битва двух волков. Один – злой, жадный, завистливый, самовлюбленный и трусливый. Второй – добродушный, заботливый, скромный, щедрый, честный и надежный. Такие волки бьются и внутри каждого человека. И внутри тебя.
– И какой волк победит? – спросил мальчик.
– Тот, которого ты будешь кормить, – улыбнувшись ответил старик.
Когда я говорил людям, про что пишу эту книгу, на меня смотрели как на сумасшедшего. Мне не верили. Немецкая издательница сразу отказалась от предложения о публикации – по ее словам, немцы не верят в «человека доброго». Один парижский интеллигент заверил меня, что французам просто необходима «твердая рука» правительства. А во время турне по США, куда я отправился после президентских выборов 2016 года, меня прямо спрашивали, все ли у меня в порядке с головой.
Большинство людей – хорошие? Что-что? Я вообще телевизор хоть иногда включаю?
Не так давно двое психологов из США провели исследование, показавшее, насколько люди свыклись с мыслью о своей эгоистической натуре. Ученые попросили испытуемых оценить несколько гипотетических ситуаций, в каждой из которых другие люди совершали хорошие поступки. К какому выводу пришли ученые? Оказывается, мы приучены видеть в окружающих эгоистов.
Кто-то перевел пожилую женщину через дорогу?
Вот ведь показушник.
Кто-то дал денег бездомному?
Явно тешит свое самолюбие, хочет почувствовать себя хорошим.
Респонденты не отказались от скептического взгляда на человечество даже после того, как ученые предъявили им конкретные доказательства: привели статистику случаев, когда люди возвращали незнакомцам потерянный бумажник с деньгами, или данные о том, что большинство из нас все-таки не воруют и не обманывают других. «Они оставались в убеждении, – отмечают психологи, – что люди, совершающие внешне благородные поступки, обязательно преследуют какие-то корыстные цели»[46].
Цинизмом легко объяснить все что угодно, и циник по умолчанию всегда прав.
Вы, наверное, думаете: «Постойте, меня совсем по-другому воспитывали. В моем окружении все доверяют и помогают друг другу, даже двери не всегда запирают». Вы правы – пока мы не выходим из ближнего круга, люди кажутся нам добрыми и порядочными. Это наши близкие, друзья, соседи и коллеги.
Но стоит только перевести взгляд на остальное человечество, как нас быстро охватывают сомнения. Возьмем хотя бы Всемирный обзор ценностей (World Values Survey) – глобальный исследовательский проект, в рамках которого начиная с 1980-х годов социологи опрашивают людей почти в сотне стран об их ценностях. Они задают респондентам в том числе и такой вопрос: «Как вы считаете, большинству людей можно доверять или при общении с ними нужно быть очень осторожным?»
Результаты опросов обескураживают. Оказывается, почти повсеместно люди боятся доверять друг другу. Даже в странах с устоявшимися демократическими традициями – Франции, Германии, Великобритании, США – бо́льшая часть населения плохо думает об окружающих[47].
Лично меня уже давно интересовало, почему так происходит. Если мы интуитивно склонны доверять ближнему кругу, почему человечество в целом мы оцениваем негативно? Почему законодатели, государственные институты и коммерческие организации исходят из предположения, что доверять людям нельзя? Почему мы продолжаем верить, что живем на планете Б, когда научные данные вновь и вновь подтверждают, что наш дом – планета А?
Может быть, дело в недостатке образования? Вряд ли. В этой книге я назову десятки интеллектуалов, которые твердо верят в безнравственность человека. Или все зависит от политических взглядов? Тоже нет. Многие религии постулируют, что люди с рождения грешны. Многие приверженцы капитализма верят, что человек по природе эгоистичен. Многие защитники окружающей среды считают человечество губительной чумой, уничтожающей планету. Тысячи разных мнений – и единый взгляд на человеческую природу.
Все это заставляет задуматься. Почему мы считаем друг друга плохими? С чего мы вообще начали верить, что человек по своей сути порочен?
Представьте на минуту, что в продаже появляется новый препарат. Он вызывает мгновенное привыкание, и вскоре на него подсаживаются абсолютно все. Исследовав действующее вещество, ученые приходят к выводу, что оно вызывает «ошибочное восприятие риска, повышенную тревожность, снижение настроения» и приводит к «выученной беспомощности, агрессии, недоверию к окружающим и снижению чувствительности»[48].
Стали бы мы использовать такой препарат? Сделали бы его доступным для детей? Получил бы он официальную регистрацию? На все эти вопросы ответ один: да. То, о чем я говорю, уже можно отнести к самым сильнодействующим наркотикам в истории. Мы прибегаем к нему ежедневно, на него выделяются огромные средства и его активно распространяют среди наших детей.
Этот наркотик – новости.
Когда я рос, считалось, что новости полезны для общего развития. Любой неравнодушный гражданин обязан читать газеты и смотреть по телевизору вечерние выпуски новостей. Чем пристальнее мы следим за новостями, тем больше мы знаем о происходящем вокруг и тем здоровее наша демократия. Так до сих пор думают многие родители, которые и детей воспитывают соответственно. А вот ученые приходят совсем к другим выводам. Десятки исследований указывают на то, что новости представляют угрозу для психического здоровья[49].
Первым этой темой еще в 1990-е годы заинтересовался Джордж Гербнер (1919–2005). Ему же принадлежит термин, которым называют этот феномен: синдром злого мира. Его клинические проявления – цинизм, мизантропия и пессимизм. Те, кто пристально следит за новостями, более склонны соглашаться с утверждениями вроде «большинство людей заботятся только о себе». Они чаще верят, что мы, обычные люди, не способны изменить мир к лучшему. И они куда больше подвержены стрессу и депрессии.
Несколько лет назад жителям тридцати стран был задан простой вопрос: «Как вы считаете, мир в целом становится лучше, остается прежним или становится хуже?» В каждой стране – от России до Канады и от Мексики до Венгрии – подавляющее большинство опрошенных ответили, что мир вокруг становится только хуже[50]. На самом деле это не так. За последние несколько десятилетий резко уменьшилось число людей, живущих в условиях крайней нищеты, и жертв военных конфликтов, сократилась детская смертность, упал уровень преступности, стало меньше случаев эксплуатации детского труда, смертей от стихийных бедствий и авиакатастроф. Мы живем в самое богатое, безопасное и благополучное время в истории человечества.
Почему мы об этом не знаем? Потому что в новостях нам рассказывают о редких событиях: чем исключительнее происшествие – атака террористов, вооруженное восстание, стихийное бедствие, – тем выше его новостная ценность. В медиа не бывает заголовков вроде «Число людей, живущих за гранью нищеты, за день сократилось на 137 тысяч», хотя об этом можно было бы сообщать каждый день на протяжении последних двадцати пяти лет[51]. По телевизору вам не покажут журналиста, который начнет репортаж словами: «Я нахожусь в абсолютной глуши, где до сих пор нет никаких признаков войны».
Пару лет назад группа нидерландских социологов проанализировала то, как СМИ освещают авиакатастрофы. В период с 1991 по 2005 год количество авиапроисшествий неуклонно снижалось, а интерес журналистов к этой теме с той же интенсивностью возрастал. Неудивительно, что теми же темпами увеличивалось и число людей, которые боялись летать на все более надежных самолетах[52].
В другом исследовании ученые собрали и проанализировали базу данных из четырех миллионов новостных статей и заметок на тему иммиграции, преступности и терроризма, чтобы установить наличие или отсутствие взаимосвязи между происходящими событиями и частотой упоминания о них в СМИ. Они выяснили, что в периоды снижения притока иммигрантов и уровня преступности СМИ уделяют этим темам больше внимания. «Таким образом, – заключили ученые, – если и существует зависимость между реальными фактами и новостными сюжетами, то разве что обратная»[53].
Разумеется, под новостями я не подразумеваю журналистику как таковую. Многие жанры журналистики помогают нам лучше понять окружающий мир. Другое дело – новости, в которых нам рассказывают о недавних сенсационных событиях. Это самый популярный жанр. Восемь из десяти совершеннолетних жителей западных стран смотрят, слушают или читают новости каждый день. В среднем мы тратим на это по часу в день. За всю жизнь на потребление новостей уходит в сумме около трех лет[54].
Почему нас, людей, так тянет к мрачным и «чернушным» новостям? На то есть две причины. Первая – это то, что психологи называют склонностью к негативу: мы склонны уделять больше внимания плохому, чем хорошему. В те времена, когда мы жили охотой и собирательством, страх перед пауком или змеей был нам жизненно необходим. Уж лучше испугаться сто лишних раз, чем не испугаться один раз, когда это нужно для спасения жизни. Осторожные выживали, беспечные храбрецы – нет.
Вторая причина – эвристика доступности: склонность считать более вероятным и распространенным то, что нам проще вспомнить. Наше представление о мире полностью искажено тем фактом, что нас ежедневно засыпают жуткими историями об авиакатастрофах, похищениях детей и зверствах террористов. Как сухо заметил Нассим Талеб, «мы недостаточно рациональны, чтобы иметь дело с прессой»[55].
В цифровой век новости, которыми кормят нас СМИ, становятся все жестче и все сильнее будоражат наше воображение. В прежние времена журналисты мало что знали о своей аудитории и писали для широких масс. А сегодня Facebook, Twitter и Google знают о вас очень многое. Они знают, что вас интересует, что шокирует и пугает, что заставляет переходить по ссылкам. Они умеют привлекать ваше внимание и удерживать его, чтобы затем выдать вам максимально выгодную для них персонализированную рекламу.
Все это безумие – не что иное, как атака на рутину и обыденность. Будем честны: жизнь большинства из нас довольно предсказуема. Это неплохо, но скучновато. Мы предпочитаем иметь в соседях милых заурядных людей, живущих скучной жизнью (и большинство соседей действительно отвечают этому требованию), но скука – это не то, что привлекает внимание. Скука не продает рекламу. Поэтому Кремниевая долина продолжает придумывать для нас все более сенсационные заголовки, прекрасно понимая, что, как сказал один хороший швейцарский автор, «новости для ума – как сахар для тела»[56].
Несколько лет назад я принял решение: больше никаких новостей за завтраком. Утром куда полезнее читать книги – по истории, психологии, философии.
Но вскоре я кое-что обнаружил. Большинство книг тоже посвящены выходящему за рамки обыденного. Лучшие исторические бестселлеры рассказывают о катастрофах и бедствиях, тиранах и угнетенных. А также о войне, войне и – для разнообразия – еще немного о войне. А если вдруг в книге нет войны, значит, ее действие разворачивается, как выражаются историки, в интербеллум, то есть межвоенный период.
Идеи о порочности человечества на протяжении десятилетий придерживались и ученые. Только взгляните на названия книг по антропологии: «Демонические самцы», «Эгоистичный ген», «Каждый способен на убийство»… Биологи, рассуждая о теории эволюции, долгое время исходили из того, что живые существа не могут делать что-то хорошее не из эгоистических соображений. Привязанность к сородичам? Непотизм! Обезьяна поделилась бананом? Наивное животное стало жертвой бессовестного нахлебника![57] Как ехидно писал один американский биолог, «при ближайшем рассмотрении сотрудничество оказывается смесью эксплуатации и оппортунизма. […] Стоит поскрести альтруиста, и из-под него быстро покажется лицемер»[58].
А что в экономике? По большей части то же самое. Экономисты называли наш вид Homo economicus, человек экономический, подразумевая, что он всегда преследует личную выгоду, подобно расчетливому эгоистичному роботу. Опираясь на это представление о человеческой природе, экономисты создали целый свод теорий и моделей, которые легли в основу законодательств.
Однако долгое время никто не пытался выяснить, существует ли человек экономический на самом деле. Первое исследование на эту тему провела в 2000 году группа экономистов под руководством Джозефа Хенрика. Ученые посетили пятнадцать общин в двенадцати странах на пяти континентах и опросили фермеров, кочевников, охотников и собирателей – все ради того, чтобы найти того гоминида, который вдохновлял экономическую науку на протяжении десятилетий. Но у них ничего не вышло. Раз за разом они убеждались – люди просто слишком порядочные. Слишком добрые[59].
Опубликовав это важное открытие, Хенрик продолжил поиски мифического существа, вокруг которого строили свои теории многие экономисты. И наконец нашел его – Homo economicus во плоти. Вот только Homo тут не самое подходящее слово. Homo economicus оказался не человеком, а шимпанзе. «Каноническая модель Homo economicus удивительно точно предсказывала поведение шимпанзе в простых экспериментах, – сухо резюмировал Хенрик. – Стало быть, вся теоретическая работа не была напрасной – просто мы применяли теорию не к тому виду»[60].
Куда менее забавно то, что пессимистичный взгляд на человечество на протяжении десятилетий работает как ноцебо. В 1990-е годы профессор экономики Роберт Фрэнк решил проверить, как эта точка зрения влияет на его студентов. Для этого он предложил им серию заданий для оценки уровня их щедрости. К какому же выводу он пришел? Чем дольше человек изучал экономику, тем большим эгоистом он был. «Мы становимся тем, чему нас учат», – заключил Фрэнк[61].
Учение о том, что люди от природы эгоистичны, для западной науки священно. У каждого из великих мыслителей, таких как Фукидид, Блаженный Августин, Макиавелли, Гоббс, Лютер, Кальвин, Бёрк, Бентам, Ницше, Фрейд и отцы-основатели США, была собственная версия теории лакировки. Все они считали, что мы живем на планете Б.
Этот циничный взгляд был популярен еще среди древних греков. Его высказывает один из первых историков Фукидид, описывая гражданскую войну, вспыхнувшую на греческом острове Керкира (Корфу) в 427 году до н. э. «Когда обычные условности цивилизованной жизни были отброшены, – читаем у него, – люди, по своей природе всегда готовые оскорбить ближнего даже там, где существуют законы, показали свое истинное лицо»[62]. Иными словами, люди вели себя как звери.
Негативным мировоззрением было пронизано и христианство с первых лет своего существования. Отец церкви Августин (354–430) популяризировал понятие первородного греха. «Никто ведь не чист от греха, – писал он, – даже младенец, жизни которого на земле один день»[63].
Концепция первородного греха оставалась популярной во время Реформации, когда протестанты порвали с Римско-католической церковью. По словам богослова и реформатора Жана Кальвина, «наша природа не только лишена добра, но и настолько плодородна и плодотворна для всякого зла, что не может бездействовать». Этот тезис пронизывает ключевые протестантские тексты, такие как «Гейдельбергский катехизис» (1563), который сообщает нам, что люди «совершенно неспособны творить добро и склонны ко всякому злу».
Как ни странно, даже представители Просвещения, ставившие разум выше веры, твердо верили в порочность человека. Ортодоксальные верующие были убеждены, что люди по своей сути развращены и лучшее, что можно с этим сделать, – попытаться прикрыть «срам» тонким налетом благочестия. Мыслители Просвещения не спорили с тезисом о гнилой сущности человека, но призывали скрывать ее под покровом разума.
Когда дело касается представлений о человеческой природе, поражает преемственность всей западной мысли. «Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману», – резюмирует отец политической науки Никколо Макиавелли. «Все люди были бы тиранами, если бы могли», – соглашается с ним Джон Адамс, отец американской демократии. «Мы происходим от бесконечного ряда поколений убийц», – ставит человечеству диагноз Зигмунд Фрейд, родоначальник современной психологии.
В XIX веке на сцену истории ворвался Чарльз Дарвин со своей теорией эволюции, и ее тоже быстро подогнали под теорию лакировки. Известный ученый Томас Генри Гексли (которого называли «бульдогом Дарвина») проповедовал, что жизнь – это одна великая битва «человека против человека и нации против нации»[64]. Философ Герберт Спенсер утверждал, что мы должны раздувать пламя этой битвы, поскольку «все усилия Природы направлены на то, чтобы избавиться от [бедных], очистить от них мир, освободить место для лучших»[65]. Его книги расходились огромными тиражами.
Самое странное здесь то, что этих мыслителей почти единодушно провозглашали «реалистами», а тех, кто верил в человеческую порядочность, высмеивали[66]. Эмма Гольдман, феминистка, чья борьба за свободу и равенство навлекла на нее потоки клеветы и оскорблений, однажды написала: «Бедная человеческая природа, какие ужасные преступления были совершены во имя твое! […] Чем могущественнее интеллектуальный шарлатан, тем решительнее он настаивает на порочности и слабости человеческой натуры»[67].
Лишь недавно исследователи из самых разных областей науки стали приходить к выводу, что мрачный взгляд на человечество пора пересмотреть. Пока это понимание только зарождается, и многие ученые даже не подозревают, что они не одиноки в своих догадках. Когда я рассказал одной своей знакомой – выдающемуся психологу – о новых течениях в биологии, она воскликнула: «О, значит, и там тоже поняли?»[68]
Прежде чем перейти к рассказу о поисках нового взгляда на человечество, я хочу кое о чем предупредить.
Во-первых, защищать человеческую порядочность – все равно что сражаться с лернейской гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы отрастают две новые. Цинизм – та же гидра. На один опровергнутый мизантропический аргумент приходится два новых. Теория лакировки – это зомби, который постоянно возвращается.
Во-вторых, защищать человеческую порядочность – значит противостоять власть имущим. Для них оптимистичный взгляд на мир – угроза, мятеж и провокация. Ведь это значит, что люди – вовсе не эгоистичные твари, которых нужно контролировать и держать в ежовых рукавицах. Это значит, что нам нужен совершенно другой стиль лидерства. Компания с высокомотивированными сотрудниками не нуждается в менеджерах. Демократия с заинтересованными гражданами не нуждается в профессиональных политиках.
В-третьих, защищать человеческую порядочность – значит оказаться под шквалом насмешек. Вас будут обвинять в наивности. В глупости. Мелкие погрешности вашей аргументации будут раздувать до невероятных масштабов. Короче говоря, циником быть куда проще. Профессор-пессимист, проповедующий доктрину человеческой порочности, может предсказать все, что пожелает. Даже если его пророчества не сбудутся прямо сейчас, нужно просто подождать – беда ведь всегда не за горами. Ну или это просто сам профессор своим голосом разума предотвратил худший сценарий. Те, кто проповедует погибель, всегда звучат крайне глубокомысленно.
Основания для надежды, напротив, всегда зыбки. Ничего плохого не случилось – ну, это пока. Вас не обманули – это пока. Идеалист может всю жизнь быть прав и при этом считаться наивным. Моя книга призвана изменить существующий взгляд. Ведь то, что сегодня кажется неразумным, нереалистичным и невозможным, завтра может стать неизбежным.
Пришло время нового реализма. Пришло время по-новому взглянуть на человечество.
Глава 2. Реальная история «Повелителя мух»
Еще только приступая к работе над этой книгой, я точно знал, к какой истории мне придется обратиться.
Она произошла на необитаемом острове в Тихом океане. Самолет потерпел крушение, и в живых остались только несколько школьников из Великобритании. Ребята не могли поверить своей удаче – они как будто оказались на страницах своих любимых приключенческих романов. Вокруг лишь песок, ракушки и вода. И, что еще лучше, – никаких взрослых.
В первый же день мальчики установили на острове нечто вроде демократии. Лидером провозгласили харизматичного спортивного парня по имени Ральф. Он предложил простой план действий: 1) веселиться; 2) выживать; 3) подавать дымовые сигналы проходящим кораблям.
Первый пункт проблем не вызвал, а вот с остальными было сложнее. Большинству было интереснее бездельничать и веселиться, чем поддерживать огонь. Рыжий Джек увлекся охотой на свиней и вскоре забыл обо всем, как и его друзья. Когда на горизонте наконец показался корабль, никого из них не оказалось у костра.
– Ты нарушаешь правила! – рассердился Ральф.
– И что? – пожал плечами Джек.
– Правила – это единственное, что у нас есть!
По ночам мальчики тряслись от ужаса – они верили, что на острове живет чудовище. Но на самом деле чудовище жило внутри каждого из них. Спустя некоторое время они раскрасили себе лица и отказались от одежды. В них проснулось непреодолимое желание щипать, пинать и кусать друг друга.
Хладнокровие сохранял только один мальчик – пухлый Хрюша, который страдал от астмы, носил очки и не умел плавать. Хрюша олицетворял собой голос разума, к которому никто не прислушивается. «Мы кто? Люди или звери? Дикари?» – горько рассуждал он.
Шли недели. Наконец на остров, превратившийся в выжженную пустошь, высадился британский офицер. К тому моменту три мальчика, в том числе Хрюша, уже погибли. «Я думал, – упрекнул детей офицер, – что британские школьники способны завести порядки получше».
Ральф «рыдал, думая об утраченной невинности, о том, как темно сердце человеческое…»
Ничего этого на самом деле не было. Всю эту историю выдумал в 1951 году английский школьный учитель. «Не правда ли, – спросил как-то Уильям Голдинг жену, – было бы неплохо описать, как на самом деле поведут себя школьники, оказавшись на необитаемом острове?»[69]
Роман «Повелитель мух» разошелся многомиллионными тиражами, был переведен более чем на три десятка языков и признан классикой XX века.
Успех книги вовсе не удивителен. Голдинг умел мастерски показывать самые темные уголки человеческой души. «Даже когда мы начинаем с чистого листа, – рассуждает он в первом письме издателю, – наша природа вынуждает нас делать гадости»[70]. Или, как говорил Голдинг позднее, «человек творит зло, как пчела делает мед»[71].
Конечно, Голдингу сыграли на руку настроения, витавшие в обществе в 1960-е годы. Новое поколение не могло не задавать своим родителям вопросы о зверствах Второй мировой – был ли Аушвиц аномалией или в каждом из нас скрывается нацист?
«Повелитель мух» намекал на последнее – и нашел мгновенный отклик у читателей. Знаменитый критик Лайонел Триллинг заявил, что книга «ознаменовала собой переворот в культуре»[72]. В конце концов Голдинг даже получил Нобелевскую премию по литературе за свои романы, которые «с ясностью реалистического повествовательного искусства в сочетании с многообразием и универсальностью мифа помогают постигнуть условия существования человека в современном мире».
Сегодня «Повелитель мух» читается уже не просто как роман. Конечно, это художественный вымысел, но взгляд Голдинга на человеческую природу делает «Повелителя мух» каноническим текстом теории лакировки. До Голдинга никто и не думал прибегать к столь грубому реализму в книге о детях. Вместо сентиментальных сказочек про домики в прериях и одиноких принцев – суровый рассказ о том, каковы дети (якобы) на самом деле.
Впервые я прочел «Повелителя мух» еще подростком. Я помню, как испытывал разочарование в людях, вновь и вновь прокручивая книгу в голове. Но я ни на секунду не усомнился в верности взгляда Голдинга на человеческую природу.
Первые сомнения у меня появились много лет спустя, когда я решил перечитать роман и больше узнать о его авторе. Голдинг был глубоко несчастным человеком – склонным к депрессии алкоголиком, который бил родных детей. «Я всегда понимал нацистов, – признавался он, – потому что и сам примерно такой по природе». И «отчасти из-за осознания этого грустного факта» он и написал «Повелителя мух»[73].
Окружающие мало интересовали Голдинга – его биограф отмечает, что тот не затруднял себя даже правильным написанием имен родственников. «Куда важнее общения с людьми для меня природа Человека с большой буквы Ч», – заявлял Голдинг[74].
Я задумался: а пытался ли кто-нибудь выяснить, как в реальности повели бы себя дети, оказавшись одни на необитаемом острове? Я написал на эту тему статью, где сопоставил «Повелителя мух» с современными исследованиями и пришел к выводу, что, вероятнее всего, дети вели бы себя совсем по-другому[75]. В частности, я процитировал биолога Франса де Вааля, который пишет, что «нет ни малейших доказательств того, что дети, будучи предоставленными самим себе, станут поступать именно так»[76].
Читатели восприняли статью скептически. Все мои примеры касались детей, находившихся в привычных условиях – дома, в школе, в летнем лагере. Они не давали ответа на главный вопрос: что произойдет, если оставить детей на необитаемом острове совершенно одних?
Так начался мой квест по поиску реального аналога «Повелителя мух».
Разумеется, ни в одном университете мира ученым не позволили бы оставить несовершеннолетних подопытных без присмотра на несколько месяцев в дикой природе – даже в 1950-е годы. Но что, если нечто подобное уже происходило случайно – например, после кораблекрушения?
Я начал с простых поисковых запросов: «дети кораблекрушение», «повелитель мух реальная история», «дети на необитаемом острове». Первые страницы выдачи пестрили ссылками на чудовищное британское реалити-шоу 2008 года, где участников стравливали друг с другом. Однако, немного покопавшись в интернете, я наткнулся на малоизвестный блог, в котором рассказывалась захватывающая история. «В 1977 году шесть мальчиков из Тонга отправились порыбачить. […] Начался сильный шторм, и мальчиков выбросило на необитаемый остров. Что они сделали первым делом? Договорились никогда не ссориться»[77].
В статье не было никаких ссылок на источники. После пары часов поисков я выяснил, что эта история взята из книги известного анархиста Колина Уорда под названием «Ребенок в деревне» (The Child in The Country, 1988). Уорд, в свою очередь, ссылался на доклад итальянского политика Сюзанны Аньелли, подготовленный для какого-то международного комитета.
Я с воодушевлением принялся искать текст доклада. Мне повезло – один экземпляр нашелся в букинистическом магазине в Великобритании. Спустя две недели мне его доставили, и на 94-й странице я нашел то, что хотел.
Шестеро подростков оказались одни на острове. Та же история, те же детали, те же слова – и снова ни одного источника[78].
Ладно, подумал я, – а что, если найти Сюзанну Аньелли и разузнать у нее, откуда она взяла эту историю? Но, увы, она скончалась в 2009 году. Однако если история, произошедшая в 1977 году, не выдумка, то о ней наверняка писали газеты. И что еще важнее, кто-то из тех шестерых детей может быть до сих пор жив. Но сколько бы я ни рылся в архивах, ничего не мог найти.
Иногда все, что нужно, – это немножко удачи. Изучая очередной газетный архив, я допустил опечатку в записи года, и моим глазам предстали статьи 1960-х годов. Стало ясно, что в доклад Аньелли тоже вкралась опечатка.
В австралийской газете The Age от 6 октября 1966 года мне бросился в глаза заголовок: «Воскресный прием для тонганских мальчиков, потерпевших кораблекрушение». В заметке говорилось о шестерых ребятах, которых тремя неделями ранее нашли на скалистом острове Ата к югу от Тонга – государства в Тихом океане, до 1970 года находившегося под протекторатом Великобритании. Спустя чуть больше года дикарской жизни мальчиков спас австралийский моряк. Он даже договорился с одним телеканалом о съемках фильма по мотивам случившегося.
«Эту историю выживания уже сейчас можно назвать одной из самых удивительных», – писали в австралийской газете.
Сколько же у меня появилось вопросов! Живы ли еще те мальчики? Может, мне удастся найти тот самый фильм? Но что самое главное, у меня появилась зацепка: того капитана звали Питер Уорнер. Возможно, он еще жив! Но как отыскать пожилого человека на другом конце планеты?
Я погуглил, и мне снова повезло. В одном из недавних номеров Daily Mercury – местной газеты городка Маккай в Австралии – я наткнулся на заголовок: «Пятидесятилетние узы дружбы». Рядом была фотография двух улыбающихся мужчин; один из них обнимал другого за плечи. Статья начиналась так: «В далекой глубинке, среди банановых плантаций неподалеку от Туллеры, что близ Лисмора, живут двое друзей. […] Они весело смотрят на мир и, несмотря на возраст, полны сил. Одному из них восемьдесят три года, и он сын промышленного магната. Второму шестьдесят семь, и он в буквальном смысле дитя природы»[79].
Как их зовут? Питер Уорнер и Мано Тотау. Где они познакомились? На необитаемом острове.
И вот одним сентябрьским утром мы с моей женой Мартье отправились в путь. Мы арендовали машину в Брисбене, на восточном побережье Австралии. Садясь за руль, я изрядно нервничал. С одной стороны, это объяснялось тем, что на права я сдал с шестой попытки, а в Австралии непривычное для меня левостороннее движение. С другой – мне предстояло встретиться с главным героем «одной из самых удивительных историй выживания на море».
Примерно через три часа мы прибыли в пункт назначения – глухое захолустье, которое поставило в тупик даже Google Maps. Когда мы все же добрались до места, то перед приземистым домом у грунтовой дороги увидели того, кто пятьдесят лет назад спас шестерых пропавших мальчиков. Капитана Питера Уорнера.
Прежде чем перейти к истории про остров, позвольте рассказать о Питере. Вся его жизнь достойна отдельного фильма. Он – младший сын Артура Уорнера, некогда одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов Австралии. Еще в 1930-х Артур Уорнер владел огромной корпорацией Electronic Industries, которая в то время доминировала на радиорынке страны.
Питера готовили к тому, чтобы он пошел по стопам отца. Вместо этого в семнадцать лет он сбежал в море в поисках приключений. «Я предпочел сражаться с природой, а не с людьми», – объяснял он позднее[80].
Следующие годы Питер провел в море. Он обошел полмира, от Гонконга до Стокгольма, от Шанхая до Ленинграда. Когда пять лет спустя блудный сын наконец вернулся домой и с гордостью показал отцу выданный в Швеции сертификат капитана, Уорнер-старший не особенно обрадовался. Он потребовал от сына освоить полезную профессию.
– А что проще всего? – спросил Питер.
– Бухгалтерия, – солгал Артур[81].
Питеру потребовалось еще пять лет вечерней школы, чтобы получить диплом. Он пошел работать в компанию отца, но его по-прежнему манило море. При всяком удобном случае Питер уезжал на Тасманию, где у него была своя рыболовецкая флотилия. Именно страсть к рыбной ловле зимой 1966 года привела его в Тонга. Питер добился аудиенции у короля в надежде, что тот выдаст ему разрешение на ловлю омаров в тонганских водах. К сожалению, его величество Тауфа’ахау Тупоу IV ему отказал.
Расстроенный Питер решил вернуться на Тасманию, а по пути сделать небольшой крюк и забросить сети за пределами королевских вод. Тогда-то он и увидел его – крохотный островок посреди лазурных вод.
Остров Ата.
Питер знал, что корабли здесь не останавливаются. Когда-то на острове жили люди – пока однажды в 1863 году к его берегу не пристали работорговцы и не вывезли аборигенов. С тех пор остров пустовал – проклятый и забытый всеми.
Однако Питер заметил нечто странное. В бинокль он увидел на зеленых холмах участки выжженной земли. «В тропиках пожары редко случаются сами собой, – вспоминал он пятьдесят лет спустя. – Я решил подплыть поближе». Когда его судно подошло к западной оконечности острова, матрос с мачты воскликнул:
– Там кто-то кричит!
– Чепуха! Это просто чайки, – отозвался Питер.
Но затем он увидел в бинокль мальчика – голого, с волосами до плеч. Мальчик бросился с утеса в воду – а за ним еще несколько ребят. Крича что было сил, они поплыли к кораблю.
Питер приказал команде зарядить ружья – он помнил про полинезийский обычай вывозить опасных преступников на отдаленные острова. Вскоре первый из мальчиков доплыл до корабля. «Меня зовут Стивен, – сказал он на прекрасном английском. – Нас шестеро, и, кажется, мы тут уже пятнадцать месяцев».
Питер отнесся к их истории скептически. По словам мальчиков, они были учениками школы-интерната в Нукуалофе, столице Королевства Тонга. Им надоела еда из столовой, и они решили порыбачить – тогда-то и попали в шторм.
«Звучит складно», – подумал про себя Питер и связался по рации с Нукуалофой.
– У меня тут шестеро парней. Я вам продиктую их имена, а вы выясните в школе, числятся у них такие ученики или нет.
– Оставайтесь на связи, – послышалось в ответ.
Прошло двадцать минут. (На этом месте у Питера на глаза наворачиваются слезы.)
Наконец в рации зазвучал счастливый голос:
– Вы их нашли! Этих мальчиков считали мертвыми! Даже похороны уже прошли! Если это действительно они – это настоящее чудо!
И вот полвека спустя я спросил у Питера, слышал ли он о книге «Повелитель мух».
– Я читал ее, – усмехнулся Питер. – Только это же совершенно другая история!
В следующие несколько месяцев я предельно тщательно реконструировал события, произошедшие на крошечном острове Ата. К счастью, Питер даже в девяносто лет сохранил феноменальную память – все, о чем он рассказывал, полностью подтверждалось другими источниками[82].
Мой второй источник жил в паре часов езды от дома Питера. Мано Тотау было пятнадцать, когда он попал на Ату. Сегодня ему под семьдесят, и они с капитаном – близкие друзья. Спустя пару дней после визита к Питеру мы с женой отправились к Мано в Десепшен-Бэй, городок к северу от Брисбена.
Реальная история «Повелителя мух», по словам Мано, началась в июне 1965 года.
Главные герои – шесть учеников католической школы-интерната Святого Андрея в Нукуалофе. Старшему было шестнадцать, младшему – тринадцать. Всех объединяло одно – им было безумно скучно. Ребятам надоели бесконечные уроки и домашние задания, их тянуло к приключениям и морю.
Они разработали план: сбежать на Фиджи, что в восьмистах километрах от Тонга, или даже в Новую Зеландию. «В школе многие были в курсе, – вспоминал Мано, – но никто не думал, что мы и правда на это решимся».
Была только одна проблема: отсутствие лодки. В итоге ребята «позаимствовали» ее у местного рыбака Таниэлы Ухилы, которого они все недолюбливали.
Подготовка к побегу не заняла много времени – два мешка бананов, несколько кокосов да маленькая газовая горелка. Никому и в голову не пришло взять с собой карту или хотя бы компас. Никто из них не был опытным моряком – только младший, Дэвид, умел управлять лодкой (по его словам, только из-за этого его и позвали)[83].
Восемь дней в Тихом океане. Путь от Нукуалофы до острова Ата
Поначалу все шло хорошо – никто не обратил внимания на небольшую лодку, вечером вышедшую в море. Небо было ясным, над спокойным морем дул легкий ветерок.
Однако ночью ребята совершили серьезную ошибку – заснули. Очнулись они пару часов спустя, когда на лодку уже обрушивались потоки воды. В темноте они видели лишь огромные волны, набегавшие со всех сторон. Мальчики подняли парус, но ветер мгновенно разорвал его в клочья. Затем сломалось рулевое весло. «Когда вернемся домой, – пошутил Сионе, старший из них, – скажем Таниэле, что лодка у него такая же, как он сам, – дряхлая развалюха»[84].
Шли дни, и поводов для шуток становилось все меньше. «Мы дрейфовали восемь дней, – вспоминал Мано. – Ни еды, ни воды». Ребята пытались ловить рыбу. В пустые кокосовые скорлупки собирали дождевую воду – ее делили поровну, каждый делал по глотку утром и вечером. В один из дней Сионе попытался вскипятить морскую воду на газовой горелке, но она опрокинулась, оставив на ноге мальчика большой ожог.
На восьмой день произошло чудо – на горизонте появилась земля. Вернее, островок – и не тропический райский уголок с пальмами и бесконечными пляжами, а выступающая над водой на триста метров огромная скала.
Сегодня Ата считается непригодным для жизни островом – несколько лет назад это подтвердил бывалый испанский путешественник. Сначала он решил, что Ата – отличное место, чтобы возить туда богатых туристов, которые любят нырять в поисках затонувших кораблей. Но сам он смог продержаться на острове всего девять дней. Когда его спросили, будет ли его компания осваивать Ату, он был категоричен: «Никогда. Этот остров чересчур суров»[85].
Впрочем, у ребят сложилось другое мнение. «Когда мы высадились, – пишет в своих мемуарах капитан Уорнер, – то обнаружили небольшую коммуну, которую обустроили мальчики. Они разбили огород, выдолбили в бревнах углубления для сбора дождевой воды, оборудовали спортзал с импровизированными гирями, бадминтонную площадку, загон для кур и очаг, в котором всегда горел огонь, – и все это при помощи старого ножа, неимоверного труда и невероятного упорства»[86].
Стивен, который впоследствии стал инженером, умудрился (после сотен попыток) добыть искру трением двух палочек. В вымышленном «Повелителе мух» подростки ссорились из-за огня, в реальности – больше года не давали ему погаснуть ни на секунду.
Мальчики разделились на группы по двое и разработали строгий график дежурства в саду, на кухне и в карауле. Порой они все же ссорились – но все размолвки решали обязательным тайм-аутом. Спорщики расходились по разным концам острова остудить пыл. «Спустя часа четыре, – вспоминал Мано, – мы приводили их обратно и просили извиниться друг перед другом. Так нам удалось остаться друзьями»[87].
Каждый день начинался и заканчивался песнями и молитвами. Из деревяшки, половинки кокоса и шести кусков стальной проволоки, спасенных с потерпевшей крушение лодки, Коло смастерил гитару, игрой на которой развлекал друзей. Этот инструмент Питер взял себе на память и хранил все эти годы.
Музыка помогала им не унывать – а поводов для грусти было достаточно. Лето выдалось засушливым, и ребята изнывали от жажды. Они построили плот, но он развалился под первой же волной[88]. Потом на остров обрушился шторм, и на их хижину упало дерево.
А в один ужасный день Стивен поскользнулся, упал со скалы и сломал ногу. Мальчики спустились за ним и, подняв его наверх, зафиксировали ногу палками и листьями. «Не волнуйся, – шутил тогда Сионе, – мы будем за тебя работать, а ты – валяться и отдыхать, как будто ты король Тауфа’ахау Тупоу!»[89]
Мальчиков спасли в воскресенье 11 сентября 1966 года.
С точки зрения физического здоровья они были в прекрасной форме. Местный врач, доктор Посеси Фонуа, был крайне удивлен, обнаружив, как хорошо сросся перелом у Стивена и какую мускулатуру нарастили ребята за год.
Но на этом приключения друзей не кончились – когда они вернулись в Нукуалофу, там их поджидала полиция. Наверное, чтобы поприветствовать вернувшихся из небытия подростков, предположите вы. Но нет. Полицейские поднялись на судно Питера, арестовали мальчиков и отправили их в тюрьму – а все из-за мистера Таниэлы Ухилы, у которого они пятнадцать месяцев назад «позаимствовали» лодку. Рыбак все еще пребывал в ярости и выдвинул против них обвинение в краже.
К счастью, у Питера созрел план. Он рассудил, что эта история – идеальный сюжет для Голливуда. Шестеро детей на необитаемом острове – да люди годами будут об этом говорить! Будучи бухгалтером, Питер имел дело с оформлением авторских прав в компании своего отца и знал нужных людей из мира телевидения[90].
Капитан принялся за дело. Сначала он позвонил одному из руководителей сиднейского телеканала Channel 7: «Вам будут принадлежать права на фильм в Австралии, а мне – во всем остальном мире. Нам нужно лишь вытащить детей из тюрьмы и отвезти обратно на остров для съемок». Затем Питер посетил мистера Ухилу, выплатил ему сто пятьдесят фунтов за старую лодку и добился освобождения ребят на условии, что они будут участвовать в съемках фильма.
Через несколько дней на стареньком DC-3, прилетавшем на Тонга раз в неделю, прибыла съемочная группа телеканала. «Вышли из самолета, – вспоминал, ухмыляясь, Питер, – три таких щеголя, в костюмчиках и остроносых ботинках…»
Когда они добрались до Аты, лица телевизионщиков были зеленого цвета. Мало того, они еще и плавать не умели. «Не переживайте, – успокаивал их Питер, – если что, ребята о вас позаботятся».
Капитан высадил журналистов прямо в воду. «Ну, милости прошу на остров».
Даже пятьдесят лет спустя это воспоминание вызывает у Питера слезы – на этот раз от смеха. «Значит, высадил я их за борт, и они тут же начали барахтаться в прибое, тонуть. Мальчишки за ними ныряли и вытаскивали их на берег, прямо на острые скалы».
Затем группе предстояло взобраться на вершину острова, что заняло весь остаток дня. В конце концов телевизионщики рухнули без сил. Неудивительно, что документальный фильм про Ату так никогда и не увидел свет – мало того, что операторская работа оставляла желать лучшего, так еще и бо́льшая часть 16-миллиметровой пленки попросту потерялась. От всего фильма остался лишь получасовой фрагмент. «Да и то десять минут там – сплошная реклама», – вздохнул Питер.
Разумеется, узнав о существовании фильма, я тут же захотел его увидеть. Но у Питера его не было, поэтому, вернувшись в Нидерланды, я обратился в агентство, специализирующееся на поиске и восстановлении старых видеозаписей. Но даже специалистам не удалось отыскать следов фильма.
Затем Питер снова связался со мной и передал контакты независимого режиссера Стива Боумена, который в 2006 году встречался с героями островной эпопеи. Стив горевал, что эта история так и не получила должного внимания. Его собственный документальный фильм в итоге не вышел на экраны из-за банкротства кинопрокатчика, но у него сохранились исходные видеоматериалы. Он любезно поделился ими со мной, а также познакомил меня с Сионе, самым старшим из тонганских робинзонов. Кроме того, Стив сообщил, что у него есть единственная оставшаяся копия оригинального 16-миллиметрового документального фильма.
– Можно мне его увидеть? – спросил я.
– Конечно! – ответил Стив.
Вот так я, спустя многие месяцы после того, как наткнулся в никому не известном блоге на рассказ о шестерых подростках на острове, оказался перед экраном ноутбука с записью фильма 1966 года. «Меня зовут Сионе Фатауа, – так начинается фильм. – В июне 1965 года я оказался на необитаемом острове с пятью своими одноклассниками».
Когда мальчики вернулись на Тонга, ликовал весь их родной остров Хаафева с населением в девятьсот человек. «Как только заканчивалась одна вечеринка в честь их возвращения, начинались приготовления к другой», – сообщал закадровый голос в фильме.
Питера провозгласили национальным героем. Вскоре его пригласил на аудиенцию сам король Тауфа’ахау Тупоу IV.
– Благодарю за спасение шестерых моих подданных, – молвил его величество. – Могу ли я что-нибудь для вас сделать?
Капитану не пришлось долго думать.
– Я хотел бы получить разрешение на ловлю омаров в ваших водах и открыть здесь бизнес, – быстро ответил он.
На этот раз король согласился. Питер вернулся в Сидней, уволился из отцовской компании и подготовил к плаванию новый корабль. А потом собрал шестерых ребят и подарил им то, о чем они мечтали с самого начала: возможность повидать мир. Он нанял Сионе, Стивена, Коло, Дэвида, Люка и Мано на свое судно, которому они по общему согласию дали имя «Ата».
Такова реальная история «Повелителя мух».
Это добрая, жизнеутверждающая история – совсем как в популярных фильмах, романах и бродвейских мюзиклах.
А еще это история, о которой никто не знает. Мало кто слышал про мальчиков с Аты, а книгу Уильяма Голдинга продолжают покупать и читать. Историки СМИ даже называют его невольным создателем одного из самых популярных развлекательных жанров на современном телевидении – реалити-шоу.
Основной посыл подобных передач, от «Большого брата» до «Острова искушений», заключается в том, что люди, предоставленные самим себе, ведут себя как звери. «Я перечитывал “Повелителя мух” множество раз, – делился воспоминаниями создатель реалити-шоу “Выживший”. – Первый раз – в двенадцать лет, второй – в двадцать, третий – в тридцать, и еще несколько раз с тех пор, как мы начали снимать шоу»[91].
История жанра начинается с «Реального мира» – шоу, впервые вышедшего в эфир в 1992 году на канале MTV. Каждый эпизод предваряет одна и та же фраза: «Это правдивая история семи незнакомцев. […] Узнайте, что происходит, когда люди перестают быть вежливыми и проявляют свою истинную натуру».
Питер Уорнер, сентябрь 2017 года
Мано Тотау, сентябрь 2017 года
Ложь, мошенничество, провокации, вражда – именно это подразумевается в реалити-шоу под «истинной натурой». Но стоит потратить немного времени и заглянуть в закулисье таких передач, и вы увидите, что участников постоянно обманывают, спаивают, настраивают друг против друга самыми чудовищными способами. Чтобы люди продемонстрировали свои худшие стороны, ими приходится постоянно и целенаправленно манипулировать.
В другом реалити-шоу – «Страна детей» – сорок ребят отправили в заброшенный город в штате Нью-Мексико в надежде, что там они перегрызут друг другу глотки. Но ничего подобного не произошло. «Периодически продюсеры, увидев, как хорошо мы ладим между собой, вбрасывали совершенно надуманные поводы, чтобы нам было из-за чего ссориться», – вспоминал позднее один из участников реалити-шоу[92].
Вы можете сказать: ну и что? Мы все знаем, что это не по-настоящему, что это просто развлечение.
Но истории редко бывают просто историями. Зато они могут быть действенными ноцебо. Недавно психолог Брайан Гибсон провел исследование и выяснил, что просмотр реалити-шоу в духе «Повелителя мух» делает людей более агрессивными[93]. Корреляция между просмотром жестокого видеоконтента в детстве и агрессией во взрослом возрасте выражена заметнее, чем корреляция между вдыханием частиц асбеста и раком легких или наличием кальция в пище и состоянием костей[94].
Еще сильнее влияют на наше восприятие мира циничные истории. Британские исследователи доказали, что девочки, которые часто смотрят реалити-шоу, склонны считать, что без лжи, изворотливости и наглости невозможно добиться успеха в жизни[95]. «Тот, кто рассказывает нам о культурных особенностях человека, диктует наше поведение», – подметил исследователь медиа Джордж Гербнер[96].
Но пришло время новых историй.
Реальная история «Повелителя мух» – это история о дружбе и верности. Это история о том, что мы становимся сильнее, когда можем положиться друг на друга. Конечно, это всего лишь одна история. Но если уж мы включаем в школьную программу «Повелителя мух» и заставляем миллионы подростков читать эту книгу, то давайте рассказывать им и о том, как все было, когда на необитаемом острове оказались реальные дети. «На уроках обществознания я рассказывал ученикам историю выживания ребят на Ате, – спустя годы вспоминает один из учителей школы Святого Андрея. – Они всегда были готовы об этом слушать»[97]
