Нравственные письма к Луцилию
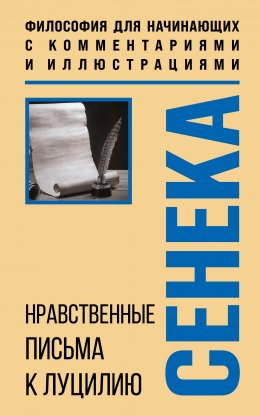
© ИП Москаленко Н.В. Текст и оформление, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Введение
Сенека: «Власть над собой – высшая власть»
Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) – один из самых известных представителей философии стоицизма, рожденной в Греции и унаследованной Римом, заимствовавшим очень многое из греческой культуры. Судьба Сенеки показательна и, увы, вполне характерна для той эпохи: философ успел побывать и на высших государственных постах, и в ссылке; он был воспитателем Нерона – одного из самых жестоких и непредсказуемых римских императоров – и получил большую известность как оратор и адвокат. В годы юности Нерона Сенека, как писали о нем, был фактическим правителем Рима. Но близость к кругам власть имущих не спасла философа – обвиненный в участии в заговоре, он был приговорен к смерти.
Что представляла собой философия стоицизма, которой Сенека остался верен до конца и в соответствии с которой старался жить и умереть?
Название этого философского течения возникло благодаря известному в древних Афинах зданию – Стоа Пойкиле, или Расписной стое. В отечественных переводах встречается также вариант – Расписной портик. Свое название она получила благодаря росписям на стенах, над которыми работали лучшие афинские живописцы.
В античной архитектуре стоей было принято называть галерею с колоннадой, поддерживающей крышу; в большинстве случаев такие стои окружали какое-либо общественное здание. Афинская Стоа Пойкиле располагалась в непосредственной близости от площади-агоры, которая была центром политической, торговой, общественной жизни города.
Долгое время в Расписной стое собирались поэты и прочие творческие личности, для того чтобы представить на суд коллег и общественности свои творения. Но позднее стою облюбовали философы; первым представителем стоицизма принято считать Зенона Китийского, который встречался там со своими учениками. Зенон и его последователи разработали философскую систему, основой которой стала идея стойкости перед лицом неприятностей, самоконтроля и принятия неизбежного. Считается, что «стоическая» философия возникла около 308 года до н. э. или чуть позднее; в ее развитии принято выделять несколько этапов:
• Ранний период, или «Древняя Стоя»: представители этого периода – Зенон Китийский, Хрисипп, Клеанф (Клеант), Диоген Вавилонский, Антипатр. Период завершается во II в. до н. э.
• «Средняя Стоя»: II–I вв. до н. э. К этому периоду относятся Панетий Родосский, Архидем из Тарса, Посидоний.
• Поздний период, или «Поздняя Стоя»: первые века н. э. В это время стоическая философия распространяется на территории Римской империи; именно римские философы-стоики – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий – стали наиболее известны, и именно их труды дошли до нас в наиболее полном виде.
Стоики многое унаследовали от философов более раннего времени: от киников – более чем ровное отношение к материальным благам, от Сократа – идею о самосовершенствовании, отказе от ложных идеалов и необходимости стремиться к истине. Более того, идея судьбы как могучей силы, которой невозможно противиться, у греков имела место еще в древнейшие времена, в «дофилософском» периоде.
В древнегреческой мифологии судьбу олицетворяли три богини-мойры (у римлян они именовались парками). По мнению ученых, их образы относятся к числу древнейших в греческих мифах; часто их считали дочерями богини ночи. Возможно, в более ранних мифах каждому человеку соответствовала своя собственная судьба-мойра; но в позднейших пересказах их всего три: Клото, богиня-пряха, изготавливающая «нить жизни» человека; Лахесис, определяющая судьбу (по преданию, она наугад вытаскивала шар, на котором была начертана судьба того или иного человека); Атропос, которая в определенный момент перерезала нить жизни. Многие мифы рисуют мойр настолько могущественными, что их воле не мог перечить даже сам Зевс. Впрочем, иногда эти богини выступают как орудия в руках верховных олимпийских божеств, но такие истории встречаются в греческой мифологии нечасто.
Парки. Гравюра XVI в.
Если представить основные идеи стоиков без привязки к определенному мыслителю, можно выделить следующие характерные черты этой философской системы:
• Миром управляет некая мощная незримая сила (позднее ее назовут фатумом, роком или судьбой). Исходя из этого, стоики делали вывод: мы не можем влиять на события, определяемые волей судьбы, но можем изменить свое отношение к неизбежному. Мир – это своего рода гигантский живой организм, существующий по законам, установленным Логосом – божественной силой. Человек – лишь часть этого организма, поэтому подчиняется его законам и существует в мире подобно соринке, переносимой мощным порывом ветра.
• Душа человека нуждается в воспитании, чтобы этот самый человек не стал падким на роскошь и не оказался во власти ложных представлений. Все материальное и «телесное» – деньги, слава, поклонение, удовольствия – мешает человеку самосовершенствоваться.
• Жить нужно в соответствии с природой и обязательно отводить время для общения с мудрыми людьми, для самообразования; только так можно воспитать самого себя и стать гармоничной личностью. Высшая цель человека – стремление к нравственной красоте. Призывая жить в согласии с природой, стоики прежде всего имели в виду необходимость понимать свое место в мире, адекватно оценивать свои возможности и желания. Природа в данном случае выступает практически как синоним судьбы.
• Стоики особо ценили разум – то, что, по их мнению, отличает человека от животного. При этом они считали, что разум – это лишь нечто вроде «базовой настройки», данной человеку от рождения. Ее можно использовать, а можно забыть о ней, руководствуясь инстинктами, – но ни к чему хорошему такой вариант не приведет. Особо важен разум в общественной жизни; ведь, поступая как неразумное животное, мы тем самым нарушаем законы мирного человеческого общежития.
Стоиков можно безоговорочно отнести к фаталистам – то есть они считали, что бороться с судьбой бесполезно. К числу известнейших цитат стоицизма можно отнести высказывание греческого стоика Клеанфа: «Желающего судьба ведет, нежелающего – тащит». Это высказывание стало известно благодаря Сенеке, который перевел его на латынь.
• Мы не можем воздействовать на многие внешние вещи. Например, на ураганы, аварии (конечно, если последние не были вызваны нашим собственным разгильдяйством – в этом случае лучше бы было их вообще не допускать). А раз мы не можем повлиять на внешние «раздражители» – значит, не нужно и расстраиваться по этому поводу. Нужно мудро и с достоинством принимать то, что мы не можем изменить! – вот еще одно главнейшее правило стоицизма. Как только мы осознаем, что значительная часть происходящего с нами обусловлена не зависящими от нас причинами – жить станет гораздо легче. Таким образом, одна из главных задач философа-стоика – понимать, что ему подвластно, а что – нет.
• Означают ли предыдущие правила, что стоик может позволить себе плохие поступки, утверждая, что делает их «по велению судьбы»? Нет. Ведь для философа важен еще и правильный нравственный выбор. Здравомыслящий человек должен стараться приложить усилия, чтобы в сфере, которая ему все же подвластна, все было хорошо. Так, например, глава семьи не может просто отказаться кормить своих детей, объясняя это тем, что «судьба помешала ему заработать деньги». В данном случае речь уже не о стоической философии, а о лени и глупости.
• Отношение стоиков к смерти было довольно своеобразным. По их мнению, смерть – самый наглядный образец неотвратимости рока, своего рода символ судьбы. Поэтому – раз уж мы не можем ничего в этом плане изменить – необходимо смириться с тем, что конец у всего и всех будет один. Более того, к смерти нужно относиться уважительно – ведь именно она придает нашей жизни смысл и вкус. Смириться с неизбежным – таков удел философа-стоика.
• Не стоит зацикливаться на неудачах – считали стоики, – важно понять: объясняется ли эта неудача тем, что мы плохо подготовились к возможным испытаниям, или она вызвана какими-то высшими силами? Если верен второй вариант – можно переключиться на что-то другое.
• Не предавайтесь отчаянию, если судьба преподносит вам жестокие уроки. Используйте их как «тренировку» душевной стойкости, учитесь различать главное и второстепенное. Не тратьте силы на слезы и жалобы, если есть возможность что-то изменить, действуйте.
• Большое значение стоики придавали общественной жизни и считали, что работа ради благополучия других людей и общественные обязанности есть благо.
Вот такая довольно суровая на первый взгляд философия. Стоицизм иногда называли «философией трудных времен» и проводили параллели с христианством. Несмотря на то, что в Риме практически одновременно развивались идеи «Поздней Стои» и раннее христианство, ставить между ними знак равенства не стоит. Хотя бы потому, что стоики оправдывали добровольный уход из жизни в том случае, если дальнейшее существование становится невозможным или невыносимым; христиане же, как известно, выступали категорически против подобных мероприятий.
Предполагаемый скульптурный портрет Зенона Китийского, основателя стоицизма. Ок. III в. до н. э.
Многие стоики – в частности, римский император Марк Аврелий – защищали следующий тезис: плохим или хорошим человеком нас делают не судьба и не окружающая действительность, выбор делаем исключительно мы сами.
«Надо подставлять себя под удары судьбы, чтобы, сражаясь с нами, она делала нас более стойкими», – писал Луций Анней Сенека. Он учил своих последователей – в том числе и юного Нерона – жить в согласии с природой, быть невозмутимыми перед лицом неизбежного, совершенствоваться с помощью знания.
Сенека происходил из зажиточной римской семьи; его отец был всадником. Некогда это сословие представляло собой просто воинов-кавалеристов, но во II в. до н. э. всадники (их еще называли эквитами) превратились в финансовую аристократию, владевшую большими земельными наделами, финансами и разнообразным имуществом. Уже в ранней юности Сенека увлекся философией стоиков и позднее применял ее постулаты в своей жизни; его выступления как адвоката и сенатора пользовались огромным успехом. Этого успеха не мог простить ему император Калигула, отличавшийся неуравновешенностью и подозрительностью (Сенеке вообще не очень везло на императоров), который собирался физически уничтожить философа. Калигулу отговорили это делать – мол, популярный в народе сенатор слаб здоровьем и сам скоро умрет. Судьба, столь превозносимая стоиками, распорядилась иначе – через несколько лет Калигула сам пал жертвой заговора, а Сенеку с подачи жены нового императора Клавдия обвинили в прелюбодеянии с племянницей правителя и отправили в ссылку на остров Корсика. Там он провел почти восемь лет, после чего в 48 году очередная жена Клавдия – Агриппина – велела ему вернуться ко двору для того, чтобы стать воспитателем юного Нерона.
Когда в 54 году шестнадцатилетний Нерон пришел к власти, Сенека был назначен его главным советником и стал практически первым лицом в Риме. Примерно в это время философ пишет трактат «О милосердии» – есть версия, что многие его труды были составлены в качестве своеобразных учебных пособий для воспитанника. Несмотря на искреннее уважение, которое Нерон в детстве и юности питал к своему наставнику, Сенеке не удалось победить его дурные наклонности – впрочем, многие считают, что характер Нерона определялся не столько недостатками воспитания, сколько душевным расстройством.
Темным пятном в биографии Сенеки стало его участие в заговоре против матери Нерона; Агриппина, дама жестокая и властная, желала играть в Риме главную роль – и в итоге император решил устранить ее. Считается, что именно Сенека составил для Нерона текст выступления в Сенате, во время которого император приводил различные объяснения и оправдания гибели Агриппины.
Отношения Сенеки с Нероном, который со временем становился все более непредсказуемым, постепенно портились. В 62 году философ ушел в отставку, передав все свое накопленное за годы службы состояние Нерону. Живя в уединении, он написал несколько работ – «Изыскания о природе», «О благодеяниях», «Письма к Луцилию». Впрочем, окончить жизнь в качестве мирного обывателя не получилось: Нерон, избавлявшийся от всех, кто мог обладать хоть каким-то влиянием при дворе (пусть и по старой памяти), в 65 году обвинил Сенеку в участии в неудачном «заговоре Пизона».
«Заговор Пизона» – предпринятая римскими военачальниками и аристократами в 65 году попытка устранения Нерона. Власть планировалось передать Гаю Кальпурнию Пизону; но заговор провалился, участники его погибли либо были казнены позднее.
Проявив своего рода «жестокое милосердие», Нерон не стал казнить философа, но приказал Сенеке покончить с собой и предоставил ему право выбора – каким именно способом это сделать. Философ вскрыл себе вены; согласно легенде, из-за старости и слабого здоровья Сенеки кровотечение было очень слабым, и чтобы ускорить процесс, он сел в ванну с горячей водой. Смирение и достоинство, с которыми мыслитель принял смерть, были признаны «истинно стоическими». А имя Сенеки навсегда осталось связано с учением стоицизма; в переносном смысле название этой философской системы используют для обозначения особого мужества и твердости перед лицом испытаний.
Гравюра, выполненная по мотивам произведения П.П. Рубенса «Смерть Сенеки». XVII в.
Философия в письмах
До наших дней дошло довольно большое количество трудов Сенеки: это философские диалоги, такие как «О гневе» или «О стойкости мудреца»; драматургические произведения – «Троянки», «Федра», «Геркулес на Эте» (впрочем, авторство Сенеки в отношении некоторых из них оспаривается исследователями), а также разнообразные трактаты: «О милосердии», «Исследования о природе», «Нравственные письма к Луцилию». Последний издавался также как «Письма к Луцилию» или «Письма о жизни и смерти». Под названием «Избранные письма к Луцилию» трактат был впервые издан в России в 1893 году в переводе П.Н. Краснова. Именно с этим вариантом, представляющим собой наиболее интересные выдержки из произведения Сенеки, мы предлагаем вам познакомиться.
«Письма…» представляют собой изложение основных идей философии стоицизма и Сенеки в частности, построенное в виде писем к близкому другу.
Кем был этот друг? Практически никакой информации о Луцилии у нас нет. Высказываются предположения, что это некий представитель римской знати, который, вероятно, некоторое время был учеником философа. Возможно также, что никакого Луцилия никогда не существовало в природе: жанр «писем к воображаемому другу» был популярен во все времена и использовался для большей убедительности и оживления повествования.
В «Письмах к Луцилию» Сенека не только подробно раскрывает основы стоической философии; он рассуждает о природе человека, о моральных основаниях его поступков, о закономерностях, существующих в мире. К числу наиболее привлекательных черт философии стоицизма можно отнести убежденность в том, что по своей природе все люди равны – ведь судьбе, которая определяет все и вся, совершенно безразлично, кто подчиняется ей: богатый аристократ или нищий бродяга. Но как сочетать идею предопределенности с необходимостью нравственного воспитания собственной души? В «Письмах к Луцилию» философ убедительно обосновывает идею о том, что стремление к добродетели и красоте вовсе не противоречит идее судьбы – более того, человеку нравственному значительно проще противостоять жизненным невзгодам, которые возникают на нашем пути.
Сенеку иногда считали «тайным христианином»; позднее ему даже приписывали эпистолярную связь с апостолом Павлом, но все же считать этого философа приверженцем христианской религии вряд ли стоит (о причинах говорилось выше).
В издании, которое мы предлагаем вашему вниманию, подобраны самые показательные выдержки из «Нравственных писем к Луцилию», которые наиболее ярко выражают идеи философа относительно жизни и смерти, хорошего и дурного, нравственного и безнравственного. Произведения Сенеки – настоящий кладезь афоризмов и цитат, которыми руководствовались стоики античного мира и которые не утратили своей популярности и по сей день, например: «Есть только один путь к спокойной жизни – презирать все внешние блага и довольствоваться только тем, что праведно».
Избранные письма к Луцилию
Письмо I. Об употреблении времени
Во всем отдавай себе отчет, о Луцилий, и старательно сберегай время, которое до сих пор или само ускользало от тебя, или отнималось другими, или, наконец, тобою самим тратилось попусту. Поверь мне: часть времени у нас отнимают другие, часть его тратится даром, часть уходит незаметно для нас самих. И самая постыдная потеря времени та, которая происходит от нашей собственной небрежности. Вникая в дело, ты легко заметишь, что большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. А между тем много ли людей придают времени какую-либо цену, уважают и ценят свои дни, понимают, что с каждым днем они умирают. Ведь в том-то и есть наша ошибка, что мы смотрим на смерть только как на будущее событие. Большая часть смерти уже наступила: то время, что за нами, – в ее владении. Итак, о мой Луцилий, продолжай, как ты пишешь, употреблять с пользою каждый час. Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
По мнению Сенеки, нравственное воспитание необходимо, так как человек безнравственный является рабом у самого себя; а этот вид рабства – самый тяжелый и позорный из всех.
Все, о Луцилий, не наше, а чужое; только время – наша собственность. Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто только этого захочет. Люди настолько глупы, что считают себя в долгу, если получат какой-либо подарок, как бы мал и ничтожен он ни был, хотя притом они всегда имеют еще возможность отдарить за него, и решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которой нельзя возвратить обратно при всем на то желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя на этот счет? Сознаюсь откровенно: я поступаю как люди расточительные, но аккуратные: веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, каким образом и почему. Я могу объяснить причины моей бедности. И ко мне относятся как к людям, впавшим в нищету не по своей вине: все жалеют, но никто не помогает. Впрочем, я не могу еще считать нищим человека, которому хватает того, что у него осталось. Поэтому береги то, что у тебя есть, и примись за это заблаговременно. Недаром говорили наши предки: поздно беречь вино, когда уже видно дно. Ведь на дне его остается не только мало, но и самый остаток – плохого качества.
В отличие от киников, которые проповедовали полный отказ от жизненных благ и подчас вели бродяжнический образ жизни, стоики – и Сенека в том числе – не видели в целом ничего плохого в достатке и удовольствиях, но призывали к тому, чтобы человек все же умел обходиться без них: ибо тот, кто не испытывал вообще никаких трудностей, беспомощен перед лицом невзгод. А чрезмерные наслаждения мешают нравственному росту!
Письмо II. О чтении книг
На основании того, что ты мне пишешь, и того, что я о тебе слышу, я возлагаю на тебя большие надежды. Ты не разбрасываешься и не мечешься, не находя себе места. Такое разбрасывание – признак больного духа. Лучшим признаком уравновешенного ума я считаю умение сосредоточиваться и терпеливо ожидать.
Смотри, однако, как бы чтение многих авторов и книг всякого рода не сделало тебя слишком поверхностным и неустойчивым. Если ты хочешь извлечь из чтения какую-либо прочную пользу, то останавливайся подолгу только на несомненных авторитетах и «питайся» исключительно ими. Тот, кто всюду, тот нигде. У людей много странствующих бывает обыкновенно много знакомых, но совсем нет друзей. То же непременно случается и с тем, кто не изучает внимательно никакого одного писателя, но прочитывает всех мельком и спеша. Нет пользы от пищи, которую желудок, едва восприняв, извергает; ничто не вредит так выздоровлению, как частая перемена лекарств; никогда не затянется рана, если на ней пробовать разные средства; не поправляется растение, если его часто пересаживают; ничто вообще не приносит пользы, если влияет мимоходом, налету, – такие книги в большом количестве только обременительны, раз ты не можешь прочесть столько книг, сколько их есть у тебя, то довольствуйся столькими, сколько ты можешь прочесть. «Но, – возразишь ты, – если я хочу читать то одну книгу, то другую». Признак расстроенного желудка – пробовать много кушаний, которые, несмотря на свое обилие и разнообразие, не питают его, а засоряют. Итак, читай всегда лучшие, признанные сочинения, а если и случится когда-нибудь просматривать другие, то все-таки вернись потом к первым. Старайся приобретать ежедневно хоть что-нибудь, чтобы обеспечить себя ввиду бедности, смерти и других бедствий. И если прочтешь что-либо, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так поступаю и я: из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу. Сегодня, например, я вычитал у Эпикура – так как я не гнушаюсь заходить иногда и во вражеский лагерь, не в качестве перебежчика, но в роли лазутчика, – что «почтенна веселая бедность». Впрочем, можно ли назвать бедностью такую бедность, которая весела? Кто хорошо уживается с бедностью, тот, в сущности, богат. Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет большего. Что пользы ему, что у него в сундуках много денег, в житницах много пшеницы, на лугах много скота, много денег отдано в рост, если он жаждет чужого имущества и считает не то, что уже приобрел, а то, что ему еще надо приобрести? Условий богатства, по-моему, два: во-первых, иметь необходимое и, во-вторых, довольствоваться им.
Эпикур (ок. 342 г. до н. э. – 271 г. до н. э.), которого Сенека – впрочем, не без иронии – называет представителем «вражеского лагеря», был основателем философии эпикуреизма. У нас часто ошибочно принимают эпикурейцев за людей, стремившихся исключительно к безделью и удовольствиям; на самом деле эта философская система значительно глубже. Сторонники Эпикура действительно призывали наслаждаться жизнью, но в их системе присутствовали также идеи об избавлении от страха смерти и об отсутствии трепета перед богами.
Гравюра с изображением античного бюста Эпикура. XIX в.
Письмо III. О выборе друзей
Ты посылаешь мне свое письмо, как ты пишешь, со своим другом. А затем прибавляешь, чтобы я не сообщал ему всего касающегося тебя, потому что ты сам не делаешь этого. Таким образом, в одном и том же письме ты и назвал его другом, и отрекся от него. Если ты назвал его другом, потому что это первое слово, какое попалось тебе на язык, употребил его в том ходячем смысле, в каком мы называем господином всякого встречного, если не знаем его имени, – тогда пусть так. Но если ты считаешь за друга кого-нибудь, кому веришь меньше, чем самому себе, то ты жестоко заблуждаешься и не понимаешь сущности искренней дружбы. С другом обсуждай все, но прежде чем дружиться, узнай его самого. По заключении дружбы надо верить; рассуждать же надо раньше. Весьма беспорядочно поступают те, кто, вопреки наставлениям Теофраста, рассуждают, уже полюбив, а рассудив, перестают любить. Долго обдумывай, можешь ли ты считать кого-нибудь другом. Но раз ты найдешь, что он достоин дружбы, отдайся ему всем сердцем, и тогда говори уже с ним так же свободно, как с самим собою. Жить следует, собственно говоря, так, чтобы и можно было злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе. Но в жизни бывают разные обстоятельства, из которых принято делать тайны. Так вот другу-то и можно доверить все заботы, все помыслы. Если ты считаешь его преданным, то и обращайся с ним как с таковым. Кто боится обмана, тот учит ему, и самим подозрением дает право на любое коварство. Перед другом не следует утаивать ни единой мысли; надо в его присутствии считать себя в обществе самого себя.
Стоики в целом считали, что один человек мало что может сделать для исправления несовершенства общественного строя. А вот заниматься самосовершенствованием гораздо полезнее: ведь чем больше в мире нравственных людей, тем совершеннее государство в целом! Тем не менее стоики не уклонялись от участия в политической жизни, если судьба сталкивала их с этой сферой деятельности. Служение обществу вполне вписывалось в их концепцию.
Есть такие люди, что рассказывают первому встречному то, что можно доверять одним друзьям, и выгружают тайный груз души своей в любые уши. Другие, напротив, страшатся довериться даже самым близким, и если бы могли, то, не доверяя самим себе, спрятали бы всякий секрет как можно глубже. Не следует делать ни того, ни другого. Обе эти крайности – и доверять всем, и не верить никому – одинаково дурны: только одна благороднее, другая безопаснее. Точно так же есть люди вечно беспокойные, и, напротив, есть люди ко всему равнодушные. Но наслаждение тревогами жизни не есть деятельность: это только трепет взволнованной души. С другой стороны, состояние, при котором всякое движение в тягость, не есть покой, а только расслабленность и усталость. Раздумывая об этом, полезно иметь в виду стих Помпония:
- Они запрятались в такую нору,
- Что, где светло, – им чудится тревога.
Отдых и работа должны сопутствовать друг другу: тот, кто отдохнул, должен работать, а тот, кто трудился, может отдыхать. Этому учит нас и природа, сотворившая и день и ночь.
Письмо IV. О страхе смерти
Продолжай, как начал, и торопись: чем скорее усовершенствуешь и разовьешь свою душу, тем дольше будешь наслаждаться. Правда, есть наслаждение и в самом процессе совершенствования и развития. Но гораздо высшее наслаждение заключается в самосознании ума, свободного от всяких слабостей и блещущего чистотою. Ты помнишь, какую радость ты ощутил, когда, сняв детское платье, надел тогу мужчины и в ней явился на форум. Еще большая радость ожидает тебя, когда ты отбросишь свой детский ум и философия впишет тебя в число мужей. До тех же пор твоя мысль находится в детском, и даже еще хуже, в ребяческом возрасте. Нет ничего хуже, как, будучи внушительным старцем, сохранять несовершенства детей, и притом маленьких детей. Старики боятся легкомысленного; дети боятся пустяков, а такие люди – и того и другого. Заметь себе, всего менее следует бояться того, что обыкновенно внушает наибольший страх (то есть смерти). Под конец не бывает ничего значительного. Приходит смерть: ее можно было бы бояться, если бы она осталась с тобою. Но неизбежно она или не наступит, или свершится. «Трудно, – возразишь ты, – довести ум до презрения жизни». Неужели ты не замечал, как часто это презрение порождается ничтожнейшими причинами? Один повесился у дверей своей милой; другой бросился с крыши, чтобы не слушать более брани своего господина; третий распорол себе живот, чтобы его не вернули из бегов. Так неужели же доблесть не сделает для человека того, что так легко делает чрезмерный страх?
Призывая бороться со страхом смерти, стоики часто сравнивали человека с другими явлениями природы и обращали внимание на его «жизненную программу»: например, если пшеничный колос не выполнит свое предназначение, не созреет, не даст семена – его существование будет бессмысленным. При этом он все равно сгниет… Точно так же и человек: обретя бессмертие, он не получит никаких особых преференций, но утратит вкус к жизни, которая перестанет быть ценной. Поэтому присутствие смерти в мире вполне оправданно и логично.
Безмятежная жизнь не выпадает на долю никому из тех, кто слишком заботится о ее продлении, кто между прочими благами жизни считает за благо долголетие. Чтобы равнодушнее смотреть на жизнь и смерть, думай каждый день о том, сколь многие цепляются за жизнь совершенно так, как цепляются за колючие терния утопающие в быстром течении реки. Сколь многие колеблются между страхом смерти и мучением жизни: и жить не хотят, и умереть не умеют. Чтобы жизнь была приятна, надо отложить все попечения о ней. Разве может радовать человека обладание вещью, утратив которую он будет безутешен? Напротив, совсем не тяжело потерять такую вещь, по утрате которой вторично ее не пожелаешь. Потому приготовься к превратностям судьбы и смотри хладнокровно на них: они случаются даже с самыми сильными. Приговор Помпею произнесли сирота и евнух; Крассу – жестокий и несносный парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду отрубить голову трибуну Декстру, а сам пал от руки Херея.
Гней Помпей Великий (106 г. до н. э. – 48 г. до н. э.) – государственный деятель и полководец, член так называемого первого триумвирата совместно с Гаем Юлием Цезарем и Марком Лицинием Крассом. Это объединение трех ведущих политиков долгое время оказывало решающее влияние на политику Рима. Впоследствии Помпей выступил против Цезаря, что вызвало очередную гражданскую войну и привело к смерти самого Помпея. Красс (115(?) г. до н. э. – 53 г. до н. э.) – также военный и политический деятель; погиб во время войны с Парфянским царством, располагавшимся на территории современных Ирака, Ирана, Афганистана. Парфяне относились к ираноязычным народам, некоторые исследователи считают их потомками кочевников-скифов. Что же касается «павшего от руки Херея Гая Цезаря», Сенека имеет в виду императора Калигулу, полное имя которого – Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула – прозвище). Калигула погиб в ходе заговора, одним из вдохновителей которого был трибун Кассий Херея.
Никого еще судьба не возносила так высоко, чтобы ему не угрожало то, что он сам себе позволял относительно других. Не доверяй затишью: в одно мгновение море может взволноваться. Корабли тонут иногда в тот самый день, в который они красовались на глади вод. Вспомни, что и разбойник, и враг всегда могут занести над тобой меч. Не надо даже никаких особых обстоятельств; твоя жизнь и смерть находятся в зависимости от прихоти любого раба. Ведай, кто презирает свою жизнь, владеет твоею. Припомни, сколько людей погибли от руки своих слуг, сраженные открытым насилием или тайною хитростью. Право, не меньше людей погибло от рук своих рабов, чем по прихоти царей. Что же думать о том, как силен тот, кого ты боишься, если то, за что ты боишься, во власти всякого? Положим даже, что ты попадешь в руки своего врага, и он в качестве победителя приговорит тебя к смерти. И что же? Ты придешь именно к тому концу, к которому шел всю жизнь. Зачем обманывать себя и только теперь замечать факт, с которым давно уже следовало примириться? Верь мне – ты неизбежно умрешь уже в силу того, что ты родился. В этом роде должны мы рассуждать, если хотим спокойно и твердо встретить последний час, страх перед которым делает мучительными остальные часы нашей жизни.
Чтобы кончить письмо, сообщу тебе изречение, встреченное мною во вражеских вертоградах и понравившееся мне: «Бедность, согласующаяся с законами природы, в сущности, большое богатство». Природа, как известно, установила для нас следующие потребности: не голодать, не чувствовать жажды и не зябнуть. А для того чтобы утолять голод и жажду, нет необходимости сидеть в приемных разных гордецов и выносить их тяжелую заносчивость или презрительную снисходительность; нет необходимости плавать по морям или нести тяготы военной службы. Необходимое всегда легко приобрести. И только для избытков приходится трудиться в поте лица. Из-за них-то изнашивается парадное платье, из-за них наступает преждевременная старость в военных походах, из-за них стремятся в чужие страны. А между тем под рукою у нас есть все, что нужно.
Особое внимание стоики – и Сенека в том числе – уделяли тому, как следует встретить смерть. Плакать, горевать или как-то еще выказывать страх, по их мнению, было недостойно. Причем родственники умирающего в идеале должны были вести себя точно так же – стойко и сдержанно.
Письмо V. О философском образе жизни
Хвалю тебя и радуюсь, что ты, оставив все прочее, предался делу самосовершенствования. Я не только советую, но даже прошу: не оставляй этого дела. Но предостерегаю тебя: не поступай подобно тем, кто хочет не столько быть чем-либо, сколько казаться; не делай ничего такого, что заставило бы говорить о твоей внешности и твоем образе жизни. Не ходи с неумытым лицом, непричесанными волосами и небритой бородой; не подчеркивай презрения к деньгам; не хвались постелью, устроенною на голой земле, и вообще ничем таким, за чем гонится извращенное честолюбие. Само имя философии, хотя бы она даже и скромно пропагандировалась, достаточно ненавистно.
В совете Сенеки «не ходить с неумытым лицом, непричесанными волосами» и так далее отразился нюанс, отличавший стоиков от киников (несмотря на то, что в этих направлениях философии было много сходных моментов). Считается, что основатель стоицизма Зенон Китийский начинал свою «философскую карьеру» со знакомства с киниками, отрицавшими не только жизненные удобства и блага, но и подчас общественную мораль. Это показалось Зенону чрезмерным, и он создал собственную философскую систему, основанную на стойкости перед лицом неудач и нравственном самосовершенствовании. Почему Сенека говорит о том, что «само имя философии достаточно ненавистно»? Скорее всего, дело в том, что положение философа в Древнем Риме было несколько иным, нежели на родине философии – в Греции. В Риме времен Калигулы и Нерона философы (особенно занимавшие какие-либо общественные или государственные должности) воспринимались скорее как конкуренты правителей.
Что же будет, если мы еще станем выделяться среди других людей странными привычками? Пусть в душе мы будем вполне несходны с толпой, но по наружности ничем не надо от нее отличаться. Не надо блистать своим платьем, но зачем носить его грязным? Не будем приобретать серебряной утвари, щедро украшенной золотыми узорами, но не будем считать за непременное условие умеренности лишение золота и серебра. Будем заботиться о том, чтобы вести лучшую жизнь, чем толпа, но не противоположную ей. Иначе мы оттолкнем и отвратим от себя тех, кого хотим исправить, и добьемся того, что нам не захотят подражать ни в чем из боязни, что придется подражать во всем. Философия прежде всего проповедует здравый смысл, общительность и человечность. Резкое отличие от толпы противоречит этим целям. Надо заботиться поэтому, чтобы не казалось смешным и противным то, посредством чего мы хотим добиться восхищения. Ведь наша цель – жить сообразно с природой. Уродовать же тело, ненавидеть самую необходимую опрятность, жить в грязи и есть не питательную и вкусную пищу, а противную и тошнотворную – значит поступать против природы. Насколько можно считать роскошью стремление к изысканным вещам, настолько глупо избегать обычных и общепринятых удобств. Философия проповедует: умеренность, но не самоистязание; умеренность же вполне совместима с опрятностью. Тут надо знать меру.
А вот и еще одна причина, по которой Сенека призывает своего виртуального собеседника не впадать в крайности и не уподобляться «философам-радикалам», которые иногда подражали животным в буквальном смысле, живя в грязи и отрицая любые общепринятые правила, – достаточно вспомнить Диогена, домом которому служила то ли бочка, то ли огромный сосуд для вина. По мнению Сенеки, намеренное уродование своего тела, ненависть к порядку и чистоте, показное равнодушие к красоте – это отрицание самой природы, мешающее развитию нравственности. Ведь нравственное воспитание немыслимо без понимания того, что мы живем в мире людей, с чувствами и устремлениями которых необходимо считаться. Кроме того, стоики часто утверждали, что в поведении киников много демонстративного: так, согласно легенде, Диоген просил милостыню у статуй, чтобы приучить себя к отказам и лишениям, чем немало веселил современников.
Диоген просит милостыню у скульптуры. Гравюра конца XIX в.
Наша жизнь должна сообразоваться как с требованиями нравственности, так и с требованиями общественности. Пусть удивляются нашему образу жизни, но пусть признают его правильным. «Итак, что же, мы должны жить как все? И не должно быть никакой разницы между нами и толпою?» Непременно. Тот, кто узнает нас ближе, увидит, что мы не похожи на толпу. Но, войдя в наш дом, пусть дивятся не обстановке, а нам самим. Если есть величие в том, чтобы из глиняной посуды есть с таким достоинством, как и из серебряной, то не меньше его и в том, чтобы смотреть на серебро так же равнодушно, как на глину. Только узкий ум не может примириться с богатством.
По заведенному обыкновению, сообщаю попавшийся мне сегодня у Гекатона афоризм на тему, что ничего не желать – верное средство против страха. «Перестанешь бояться, – говорит он, – если перестанешь надеяться». Но, возразишь ты, что же общего между такими разнородными вещами? Да, мой Луцилий, как ни различны они на первый взгляд, они тесно связаны. Между этими, по-видимому, столь несходными чувствами существует связь, подобная той, которая связывает часового с остальными солдатами. Страх стережет надежду. И в этом нет ничего странного. Оба чувства – результат напряжения нервов, оба вызываются ожиданием будущего. Основная причина обоих чувств в том, что мы не довольствуемся настоящим, но направляем наши помыслы на будущее. Таким-то образом предусмотрительность, в которой наилучший залог человеческого благополучия, способна обращаться во зло. Животные бегут от опасности, но только избегнут ее, успокаиваются; мы же, люди, мучимся и настоящими, и прошедшими. Так, многие блага, дарованные нам природой, обращаются нам во вред. Память возобновляет мучения страха; предусмотрительность заставляет предвкушать их. Нет такого человека, который страдал бы только через настоящее.
