Выученный оптимизм: Как изменить свой образ мыслей при помощи позитивной психологии
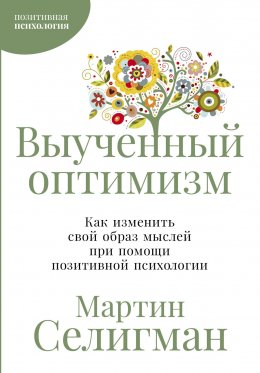
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Вячеслав Ионов
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Анна Деркач
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Корректоры: Мария Смирнова, Елена Биткова
Компьютерная верстка: Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© 2002 Martin E. P. Seligman Ph.D.
This edition published by arrangement with Arthur Pine Associates and Synopsis Literary Agency
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
Эту книгу я посвящаю своей супруге, Мэнди Маккарти Селигман. Ее любовь наполнила мою жизнь счастьем, о котором я даже и не мечтал
Предисловие
На протяжении последнего полувека психологов практически полностью занимала одна тема – психические расстройства, и они добились в этой сфере значительных успехов. Специалисты довольно хорошо изучили такие состояния, как депрессия, шизофрения, алкоголизм. Мы теперь знаем, как они развиваются у человека и какие у них предпосылки, а самое замечательное – научились со многими справляться. По моим подсчетам, 14 расстройств удается купировать медикаментозно и с помощью психотерапии, а два из них даже полностью излечивать[1].
Однако этот прогресс дался нам недешево. Борьба с тем, что делает жизнь невыносимой, отодвинула на второй план помощь нуждающимся просто в психологической поддержке. А ведь многие не могут не только справиться со своими недостатками, но и найти смысл жизни. Они хотят получать удовлетворение от своего существования, а не бесцельно маяться до конца дней. Если вы, как и я, размышляете, когда не спится, о том, как поднять самооценку с плюс двух до плюс семи, а не с минус пяти до минус трех, то существующая психология, пожалуй, вас разочарует. Для этого нужна новая наука, нацеленная на помощь в поиске источников положительных эмоций, культивирование сильных и позитивных сторон характера, а также на определение путей достижения того, что Аристотель называл «полной жизнью».
На полках книжных магазинов масса книг о самосовершенствовании, однако исследования заставляют усомниться в том, что человек может устойчиво повысить свой уровень удовлетворенности жизнью, или счастья. Похоже, у каждого из нас есть свой диапазон удовлетворенности, подобно диапазону нормального веса. Точно так же, как похудевшие потом набирают вес, недовольные собой люди лишь ненадолго могут повысить самооценку, а удовлетворенные жизнью недолго остаются несчастными.
Впрочем, последние данные свидетельствуют, что продолжительность периодов удовлетворения жизнью все же можно увеличить. И новое направление в науке – позитивная психология – показывает, как приблизиться к верхней границе своего диапазона удовлетворенности. В части I этой книги речь пойдет о том, что такое положительные эмоции и как их усилить.
Представление о мимолетности счастья – первое препятствие на пути научных исследований в этой области. Еще более серьезное препятствие – убежденность в том, что счастье, а в более широком смысле любые позитивные состояния на самом деле эфемерны. Такая точка зрения – полностью гнилая догма, и моя книга убедительно доказывает это.
Доктрина о первородном грехе является самым древним примером гнилой догмы, однако она до сих пор живет даже в нашем демократическом, светском государстве. Фрейд ввел эту доктрину в психологию XX в., представив все аспекты цивилизации, включая мораль, науку, религию и технический прогресс, как способ защиты от конфликтов, обусловленных инфантильной сексуальностью и агрессией. Мы держим эти конфликты в узде из-за той тревоги, которую они вызывают, и таким образом трансформируем их в энергию, движущую цивилизацию. Если верить Фрейду, то я сижу за компьютером и пишу это предисловие исключительно для того, чтобы не допустить выхода наружу стремления насиловать и убивать, а также сдержать другие первобытные побуждения. Так или иначе, философия Фрейда, какой бы странной она ни казалась в таком утрированном представлении, в ходу у нынешних психологов и психиатров, которые заставляют пациентов копаться в своем прошлом в поисках негативных событий, определивших их характер. С подобной позиции успехи Билла Гейтса объясняются стремлением превзойти отца, а благотворительность принцессы Дианы – сублимацией неприязни к принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи[2].
Гнилая догма довлеет в представлении человеческой натуры в искусстве и общественных науках. Один из тысячи примеров – книга «Необыкновенное время», история Бенджамина Франклина и Элеоноры Рузвельт, написанная известным политологом Дорис Кернс Гудвин[3]. По мнению автора, жена Рузвельта помогала чернокожим, бедным и инвалидам из стремления «компенсировать нарциссизм матери и алкоголизм отца». Гудвин даже не допускает мысли, что Элеонора Рузвельт могла руководствоваться добрыми намерениями. Такие мотивы, как доброта или чувство долга, просто отбрасываются, а подоплека неизменно выискивается в чем-то негативном.
Твердо заявляю, что, несмотря на популярность этой догмы, ни в религиозном, ни в светском мире нет убедительных доказательств того, что истоки всего хорошего обязательно кроются в негативном. Я считаю, что в результате эволюции формируются как хорошие, так и плохие черты характера, поэтому высоконравственных людей, наделенных добротой и бескорыстием, должно быть столько же, сколько и тех, кто способен убивать, красть и заботиться только о себе. Этой двойственности человеческой натуры посвящена часть II книги. Подлинное счастье приходит, когда мы открываем в себе положительные стороны, культивируем их и проявляем в своей работе, любви и повседневной жизни.
Позитивная психология опирается на три столпа: первый – изучение положительных эмоций, второй – оценка положительных черт характера и таких качеств личности, как интеллект и физическая форма, а третий – исследование таких позитивных институтов в обществе, как демократия, семья и свобода мысли, которые способствуют развитию лучших сторон человека. Положительные эмоции особенно необходимы в тяжелые времена, а поддержка демократических институтов, семьи и свободной прессы просто неоценима.
События 11 сентября 2001 г. заставили меня серьезно задуматься о значении позитивной психологии. Действительно ли в трудные времена облегчать страдания важнее, чем делать людей счастливее? На мой взгляд, нет. Даже находясь в бедственном положении, в депрессии или на грани самоубийства, человек хочет не только избавиться от страданий. Его заботят также добродетель, достоинство и смысл жизни. Позитивные переживания лучше чего-либо другого прогоняют негативные эмоции[4]. Как мы увидим, они играют роль своеобразного буфера и придают нам стойкость. Не случайно хорошие психотерапевты не просто лечат, а помогают людям выявлять и развивать свои достоинства.
Позитивная психология считает, что из любой ситуации есть выход, даже когда жизнь кажется беспросветной. Этот выход далеко не всегда очевиден. О том, как найти его, мы и будем говорить дальше.
ЧАСТЬ I
Положительные эмоции
1
Позитивный настрой и позитивный характер
В 1932 г. Сесилия О'Пейн приняла монашество в Милуоки и стала послушницей ордена Римско-католической церкви, занимавшегося образованием детей. Когда перед пострижением ее попросили написать краткую автобиографию, из-под пера Сесилии вышли следующие строки:
Судьба была благосклонной ко мне с самого начала, одарив бесценным даром… Минувший год, в течение которого я готовилась к пострижению, принес мне много радости. Теперь я с нетерпением и воодушевлением ожидаю вступления в ряды ордена и хочу посвятить себя служению высшим идеалам.
В том же году, в том же городе другая женщина, Маргарита Доннелли, написала перед пострижением о себе так:
Я родилась 26 сентября 1909 г. и была старшей из семи детей, пяти девочек и двух мальчиков… На протяжении своего кандидатского года я преподавала химию и латынь ученикам ордена. С Божьей помощью намереваюсь и дальше делать все для блага ордена, для распространения веры и собственного духовного совершенствования.
Эти две монахини, а также 178 их сестер стали участницами самого удивительного исследования удовлетворенности жизнью и долголетия, которое когда-либо проводилось[5].
Выяснение факторов, которые укорачивают и удлиняют жизнь, – чрезвычайно важная, но очень сложная научная проблема. Например, хорошо известно, что продолжительность жизни в штате Юта больше, чем в соседней Неваде. Однако причины этого остаются загадкой. Возможно, секрет кроется в чистом горном воздухе Юты, с которым выхлопные газы Лас-Вегаса не идут ни в какое сравнение? А может, дело в размеренном мормонском образе жизни, так непохожем на суету, характерную для среднестатистического жителя Невады? Или во всем виновата типичная диета невадца – фастфуд, поздние застолья, алкоголь, кофе и табак – в противовес свежим фермерским продуктам и редкому употреблению спиртного, кофе и табака в Юте? Слишком много скрытых (как вредных, так и полезных для здоровья) факторов переплетаются друг с другом, затрудняя определение истинных причин.
В отличие от жителей Невады или даже Юты монахини ведут размеренную и уединенную жизнь. Их рацион практически одинаков и довольно прост. Они не курят и не употребляют алкоголь, принадлежат к одной социоэкономической группе и имеют одинаковый доступ к медицинскому обслуживанию. Иначе говоря, условия их жизни почти ничем не различаются, однако ее продолжительность все равно сильно варьируется. Сесилия, например, в свои 98 лет полна сил и никогда не болела. В отличие от нее Маргарита перенесла инсульт в 59 и вскоре скончалась. Можно с уверенностью утверждать, что образ жизни, диета и медицинское обслуживание не были причиной столь разных судеб. Однако если внимательно прочитать автобиографии всех 180 монахинь, написанные перед пострижением, то разница становится очевидной. Взгляните на слова, написанные Сесилией и Маргаритой, и попробуйте заметить ее.
Если у сестры Сесилии мы видим слова «много радости» и «с воодушевлением ожидаю», передающие хорошее настроение и душевный подъем, то у сестры Маргариты нет даже намека на положительные эмоции. Когда эксперты оценили настрой монахинь по их автобиографиям, выяснилось, что 90 % из тех, кто отличался наиболее жизнерадостным характером, дожили до 85 лет, тогда как среди пессимисток таких было всего 34 %. Похожая картина наблюдалась и среди доживших до 94 лет: 54 против 11 %.
Можно ли считать, что именно жизнерадостность сыграла здесь решающую роль? Может, все дело в степени неудовлетворенности жизнью, уровне оптимизма в отношении будущего, набожности или в литературных способностях написавших автобиографии? Однако исследования показали, что ни один из этих факторов не имел значения. Существенным оказалось только количество положительных эмоций, зафиксированных на бумаге. Так что, похоже, долгожительницы – это счастливые монахини.
Фотоальбомы выпускников колледжа – золотая жила для исследователей позитивной психологии. «Смотрите в объектив и улыбайтесь», – говорит фотограф, и все послушно стараются изобразить свою лучшую улыбку. Однако улыбаться по требованию не так-то просто. Одни расплываются в искренней лучезарной улыбке, другие просто позируют.
Различают два типа улыбок. Одна из них, известная как улыбка Дюшена (по имени невропатолога, который описал ее), – искренняя. Для нее характерны приподнятые уголки рта и «гусиные лапки» вокруг глаз. Мышцами, которые отвечают за такое выражение лица, – круговой глазной и большой скуловой – очень трудно сознательно управлять. Вторая улыбка, называемая «панамериканской» (с намеком на улыбки стюардесс в телевизионной рекламе ныне не существующей авиакомпании Pan American), является искусственной и лишена признаков улыбки Дюшена. По сути, она больше смахивает на гримасу, которую демонстрируют низшие приматы при испуге, а не на выражение лица счастливого человека.
Опытные психологи, просматривая фотографии, могут с первого взгляда отличить улыбку Дюшена от всех прочих. Дачер Келтнер и Лиэнн Харкер из Калифорнийского университета в Беркли изучили 141 фотографию выпускниц колледжа Миллсов 1960 г.[6] На всех снимках, кроме трех, девушки улыбались, причем у половины из них была улыбка Дюшена. Со всеми выпускницами связывались, когда им исполнилось 27, 43 и 52 года, и расспрашивали об удовлетворенности браком и жизнью в целом. Когда в 1990-е гг. Харкер и Келтнер приняли эстафету в этом исследовании, они решили выяснить, возможно ли по одной только улыбке выпускниц на фото предсказать, как сложится их семейная жизнь. Удивительно, но обладательницы улыбки Дюшена в среднем чаще выходили замуж, сохраняли семейные узы и чувствовали себя более благополучными в течение следующих 30 лет. И все это можно было предсказать лишь по едва заметным морщинкам вокруг глаз.
Не поверив полученным результатам, Харкер и Келтнер задумались: может, женщины с улыбкой Дюшена были просто более привлекательными и все дело в их внешности, а не в искренности улыбки? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи вернулись к фотографиям и оценили привлекательность выпускниц. Результаты показали, что внешность не имела никакого отношения к удачности брака и удовлетворенности жизнью. Оказалось, что именно искренне улыбающиеся девушки с большей вероятностью обретали счастье в браке и жизни.
Эти два исследования удивительны своим общим выводом: даже одна запечатленная положительная эмоция служит хорошим предиктором долголетия и удовлетворенности жизнью. Часть I этой книги посвящена положительным эмоциям: радости, восторгу, удовольствию, удовлетворенности, безмятежности, надежде и экстазу. Я сосредоточусь на трех вопросах:
● Почему эволюция наградила нас способностью испытывать положительные чувства? Каковы функции и последствия этих эмоций, помимо того, что они доставляют нам удовольствие?
● У кого положительных эмоций много, а у кого их недостает? Что способствует возникновению этих эмоций, а что мешает?
● Как привнести в свою жизнь больше положительных эмоций и сделать их устойчивыми?
Каждый стремится найти ответы на эти вопросы и, понятное дело, обращается к психологии. Однако, как ни странно, эта наука долгое время почти не уделяла внимания позитивной стороне бытия. На сотню научных статей о печали приходится всего одна о счастье. Одна из моих целей – дать обоснованные и подкрепленные исследованиями ответы на эти три вопроса. К сожалению, в отличие от лечения депрессии (где существуют подробные и хорошо зарекомендовавшие себя руководства) знания о построении счастья очень скудны. По кое-каким аспектам есть убедительные факты, но в остальном я могу лишь, опираясь на последние исследования, предположить, как тот или иной подход помогает в жизни. По этой причине я буду четко обозначать, что именно подтверждено, а что является моим предположением. Как вы поймете из следующих трех глав, моя глобальная цель – устранить существующий дисбаланс, нацелив психологию на дополнение накопленных знаний о страданиях и психических заболеваниях знаниями о положительных эмоциях, а также о сильных сторонах и достоинствах личности.
Но почему вдруг речь зашла о сильных сторонах и достоинствах? Почему книга о позитивной психологии замахивается на нечто большее, чем гедоника – наука о том, как мы чувствуем себя? Гедонист хочет, чтобы в его жизни было как можно больше хороших и как можно меньше плохих моментов, ведь, в соответствии с гедонистической теорией, качество жизни определяется разницей между количеством хорошего и плохого. Это не просто абстрактная концепция – многие действительно строят свою жизнь, руководствуясь такой целью. Однако, по моему убеждению, подобный подход ошибочен. Сумма наших мимолетных ощущений – весьма неточное мерило того, насколько хорошим или плохим мы считаем тот или иной эпизод, будь то фильм, отпуск, брак или целая жизнь.
Дэниел Канеман, профессор психологии Принстонского университета и ведущий мировой авторитет в области гедоники, посвятил свою карьеру демонстрации многочисленных нарушений простой гедонистической теории. Один из примеров, которые он приводит, – это реакция пациентов на колоноскопию, малоприятную процедуру, при которой в прямую кишку вводят эндоскоп. Хотя процедура длится всего несколько минут, пациентам она кажется вечностью. В одном из экспериментов Канемана 682 пациента разделили случайным образом на две группы. Одна группа проходила обычную колоноскопию, а во второй процедуру удлиняли на минуту, в течение которой эндоскоп не двигался. Неподвижный эндоскоп доставляет меньше дискомфорта, но заставляет терпеть неудобство лишнюю минуту. Естественно, дополнительная минута означает, что вторая группа страдает больше, чем при стандартной процедуре. Однако, поскольку у попавших в нее страдания в конце были заметно мягче, у них оставались более спокойные воспоминания о перенесенном. Как результат, пациенты из этой группы проявляли большую готовность повторить процедуру в будущем по сравнению с теми, кто прошел обычную колоноскопию[7].
Приведенный пример наглядно показывает, как важен этап завершения чего-либо, поскольку он окрашивает воспоминания определенным образом и характеризует готовность повторить пережитое. В этой книге я постараюсь объяснить, почему гедонизм ошибочен и что из этого следует. Итак, позитивная психология изучает счастливые и несчастливые моменты жизни, ту ткань, в которую они сплетаются, а также достоинства, которые рождаются под их влиянием и определяют качество жизни человека. Людвиг Витгенштейн, великий австрийский философ, по общему мнению, был несчастным человеком. Я коллекционирую его портреты, но никогда не видел, чтобы он улыбался на них (искренне или хотя бы притворно). Витгенштейн был меланхоличным, раздражительным, язвительным в отношении окружающих и безжалостным к себе. На семинарах, проходивших в его холодной и скудно обставленной кембриджской квартире, он, бывало, расхаживал и бормотал: «Витгенштейн, Витгенштейн, какой же ты ужасный преподаватель». Так или иначе, его последние слова опровергают теорию гедонизма. Умирая в одиночестве, он сказал своей хозяйке: «Передайте всем, что моя жизнь была прекрасной!»
Представьте, что у вас появилась возможность подключиться к гипотетической «машине переживаний», которая до конца жизни будет дарить вам положительные эмоции, какие вы только пожелаете[8]. Большинство из тех, кому я предлагаю такую воображаемую возможность, отказываются от нее. Нам нужны не просто положительные чувства, мы хотим получать их заслуженно. Тем не менее человечество изобрело множество легких способов получения удовольствия. Вот лишь некоторые примеры: наркотики, шоколад, секс без любви, шопинг, мастурбация и телевидение. (Я, однако, не предлагаю вам полностью отказываться от них.)
Вера в то, что можно полагаться на легкие способы обретения счастья, получения радости, достижения восторга и экстаза, вместо того чтобы добиваться этого путем раскрытия своих лучших качеств и достоинств, приводит к появлению людей, которые при наличии огромного богатства духовно голодают. Положительные эмоции, полученные без усилий, порождают пустоту, бездуховность, депрессию, а с возрастом – мучительное осознание того, что жизнь свелась к бессмысленной суете.
Положительные чувства, которые возникают, когда мы проявляем себя с хорошей стороны, являются подлинными. Понять это мне помог курс позитивной психологии, который я читаю последние три года в Пенсильванском университете. (Он оказался гораздо интереснее, чем мой курс аномальной психологии, которому я отдал 20 предшествующих лет.) Я рассказываю студентам о Джоне Хайдте, талантливом молодом профессоре Вирджинского университета[9]. Начав карьеру с изучения физического отвращения, возникавшего при предложении отведать жареных кузнечиков, этот ученый переключился на моральное отвращение. Он наблюдал за реакцией испытуемых на просьбу примерить футболку, якобы некогда принадлежавшую Адольфу Гитлеру. Когда исследование негативных впечатлений его утомило, Хайдт взялся за поиск эмоции, противоположной моральному отвращению, которую он назвал возвышением. Профессор собирает истории об эмоциональной реакции на благородный и бескорыстный поступок. Вот какой пример возвышения приводит 18-летний первокурсник Вирджинского университета:
Возвращаясь зимним вечером домой после работы в приюте Армии спасения, мы заметили пожилую женщину, которая расчищала дорогу от снега. Один из парней попросил водителя остановиться. Я подумал, что он просто решил срезать путь до дома. Но, увидев, как юноша взялся за лопату и стал помогать, я не удержался и расчувствовался. Мне захотелось рассказать об этом всем.
На одном из моих занятий студенты задались вопросом, может ли проявление доброты приносить больше счастья, чем простое развлечение. После бурного обсуждения они получили задание сделать к следующему занятию две вещи – что-нибудь приятное для себя и какой-нибудь благородный жест, а потом описать впечатления.
Результаты оказались поистине жизнеутверждающими. Послевкусие от «приятного» занятия (посиделок с друзьями, просмотра фильма или поедания шоколадного десерта) меркло по сравнению с эффектом доброго дела. Когда добрые поступки совершались бескорыстно и помогали проявить себя с хорошей стороны, весь день проходил лучше. Одна из студенток поделилась историей о том, как ее племянник, учившийся в третьем классе, попросил помочь ему с арифметикой. После часа занятий она с удивлением обнаружила, что «в течение остатка дня внимательнее прислушивалась к другим, чувствовала себя умиротворенной и вызывала больше симпатии у окружающих». Проявление доброты приносит не просто удовольствие, а настоящее удовлетворение, для получения которого нужны мобилизация внутренних сил и преодоление вызова. Доброта не вызывает потока положительных эмоций, подобных радости, скорее она связана с полной вовлеченностью и самоотречением. Время словно останавливается. Один из студентов признался, что поступил в школу бизнеса Пенсильванского университета в расчете научиться зарабатывать много денег на счастливую жизнь, но неожиданно обнаружил, что помогать другим ему нравится гораздо больше, чем тратить деньги на покупки.
Чтобы понять, что именно приносит нам благополучие, помимо прочего необходимо знать свои сильные стороны и достоинства – этому вопросу посвящена часть II книги. Когда источником благополучия становится проявление лучших качеств личности, жизнь наполняется смыслом. Чувства – это явления мимолетные, в отличие от черт характера, которые стабильно проявляются в разных ситуациях. Сильные стороны и достоинства и есть те самые положительные черты, что приносят хорошее самочувствие и удовлетворение. Иными словами, черты характера являются устойчивыми наклонностями, проявление которых приводит к возникновению мимолетных чувств. Отрицательная параноидальная наклонность повышает вероятность появления ревности, а положительное чувство юмора помогает посмеяться над собой.
Признаки оптимизма в автобиографиях монахинь позволяют предсказать, сколько они проживут. Оптимисты склонны воспринимать проблемы как преходящие, контролируемые и специфичные для конкретной ситуации. Пессимисты, напротив, полагают, что неприятности вечны, подрывают все их начинания и не поддаются контролю. Чтобы выяснить, служит ли оптимизм признаком долголетия, ученые из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, взяли для примера 839 пациентов, обращавшихся за медицинской помощью 40 лет назад. (При поступлении в клинику пациенты проходят ряд психологических тестов, в том числе и определение уровня оптимизма.) Так вот, продолжительность жизни оптимистов из их числа была на 19 % больше, чем у пессимистов[10]. Это вполне сопоставимо с той картиной, что наблюдалась среди монахинь.
Оптимизм – лишь одна из двух десятков сильных сторон, которые способствуют благополучию. Джордж Вайллант, профессор Гарварда, ведет два масштабных психологических исследования мужчин на протяжении всей их жизни. Особое внимание он уделяет сильным сторонам, которые называет «зрелыми защитными механизмами». К ним относятся альтруизм, способность откладывать удовольствие, нацеленность на будущее и чувство юмора. Одни мужчины никогда не взрослеют и не могут похвастаться этими чертами, в то время как другие обретают их с возрастом. Вайллант наблюдает за двумя группами участников. Первая – это выпускники Гарварда 1939–1943 гг., а вторая – 456 их современников из бостонских кварталов[11]. Оба исследования начались в конце 1930-х гг., когда участникам было около 20 лет, и продолжаются по сей день, когда им уже за 80. Вайллант выявил лучшие предикторы счастливой старости, среди которых доход, физическое здоровье и радость жизни. Зрелые защитные механизмы являются надежными предвестниками жизнерадостности, высокого дохода и активной старости как в группе преимущественно белых протестантов Гарварда, так и в гораздо более разнородной группе горожан. Из 76 бостонцев, демонстрировавших зрелые защитные механизмы еще в молодые годы, 95 % в старости все еще могли передвигать тяжелую мебель, рубить дрова, проходить две мили и подниматься на два лестничных пролета без остановки. Из 68 горожан, не имевших таких психологических качеств, только 53 % могли выполнять те же задачи. У гарвардских мужчин в 75-летнем возрасте лучшим индикатором радости жизни, удовлетворенности браком и субъективного ощущения физического здоровья было проявление зрелых защитных механизмов в среднем возрасте.
Почему позитивная психология сконцентрировала внимание всего на двух десятках сильных сторон человека? В 1936 г. кто-то подсчитал, что в английском языке для обозначения черт характера используется 18 000 слов. Выбор предмета для исследования в такой ситуации стал серьезной задачей для группы психологов и психиатров, замахнувшихся на создание системы, которая должна стать противоположностью Руководства по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации, эдакой библии психиатрии. Доблесть, доброта и изобретательность однозначно попадают в список сильных сторон характера. А что можно сказать насчет интеллекта, врожденного таланта или пунктуальности? Сильная сторона характеризуется тремя критериями:
● ее ценят практически во всех культурах;
● она ценна сама по себе, а не только как средство достижения каких-то целей;
● ее можно приобрести и развить.
Так что интеллект и тонкий слух исключаются, поскольку это не те качества, которые можно приобрести. Пунктуальность, хотя и поддается развитию, как и врожденный талант, обычно служит лишь средством для достижения какой-либо цели (например, эффективности), к тому же нельзя сказать, что она ценится почти во всех культурах.
Если психология и не занималась изучением добродетелей, то религия и философия определенно уделяли им пристальное внимание. В разных культурах наблюдается удивительное сходство взглядов на добродетель и сильные стороны характера. Трактаты Конфуция, Аристотеля и Фомы Аквинского, кодекс самураев бусидо, Бхагават-гита расходятся в деталях, но все без исключения перечисляют шесть ключевых добродетелей:
● мудрость и знание;
● отвага;
● любовь и человечность;
● справедливость;
● умеренность;
● духовность и трансцендентность.
Каждую из этих добродетелей можно разделить на составляющие для облегчения классификации и оценки. Например, мудрость складывается из таких качеств, как любознательность, тяга к знаниям, рассудительность, изобретательность, социальный интеллект и объективность представлений. Любовь включает в себя доброту, щедрость, заботу о других и способность не только любить, но и принимать любовь. Эти представления сохраняют удивительное сходство на протяжении тысячелетий в различных, не связанных между собой философских учениях. Позитивная психология берет за основу именно это межкультурное единство взглядов.
Эти качества и достоинства служат нам опорой как в тяжелые времена, так и в лучшие моменты. Более того, именно в сложных ситуациях многие из них проявляются наиболее ярко. До недавнего времени я считал, что позитивная психология – дитя благополучных времен. Мне казалось, когда страны воюют, страдают от бедности и социальных потрясений, их естественной заботой становятся защита и восстановление, а наиболее востребованной оказывается наука о врачевании ран. А вот в мирное время, при экономическом достатке и социальной стабильности общества обращаются к созиданию лучшего в жизни. Не случайно Флоренция при Лоренцо Медичи решила направить избыток ресурсов не на создание самой грозной военной силы в Европе, а на сотворение красоты.
В физиологии различают тоническую активность (базовый уровень электрической активности в состоянии покоя) и фазическую активность (всплеск электрической активности при напряжении и сокращении мышц). Психология по большей части занимается изучением тонической активности. Например, интроверсию, высокий IQ, депрессию и гнев оценивают в отрыве от реальных проблем, и специалист надеется определить, какой будет у человека фазическая реакция. Насколько точны такие тонические оценки? Действительно ли высокий IQ предопределяет мудрый ответ на отказ клиента? Насколько хорошо тоническая депрессия предсказывает крах человека при увольнении? «Умеренно хорошо, но далеко от идеала» – вот лучший обобщенный ответ. Традиционная психология дает верные предсказания во многих случаях, однако существует огромное число людей с высоким IQ, которые терпят неудачи, и не меньшее количество людей с низким IQ, которые добиваются успеха, когда жизнь требует от них сообразительности. Причина подобных ошибок в том, что тонические оценки не слишком хорошо предсказывают фазическую реакцию. Я называю это несовершенство эффектом Гарри Трумэна. Трумэн в своей жизни ничем особым не выделялся, однако, к всеобщему удивлению, он добился высокого положения после смерти Франклина Рузвельта и в итоге стал одним из великих президентов.
Нам нужна психология, помогающая справляться с проблемами, ибо именно этот элемент отсутствует в мозаике предсказания поведения человека. В эволюционной борьбе за привлечение партнера или за выживание при нападении хищника те из наших предков, кто сумел проявить себя с лучшей стороны, передали свои гены, а остальные канули в Лету. Их тонические показатели – уровень депрессии, режим сна, объем талии, – надо полагать, не имели большого значения, разве что в той мере, в какой они подпитывали эффект Гарри Трумэна. Это означает, что в каждом из нас таятся древние силы, о существовании которых мы можем даже не подозревать, пока не столкнемся с настоящим испытанием. Почему взрослых, прошедших через Вторую мировую войну, называют «величайшим поколением»? Не потому, что они были сделаны из другого теста, а потому, что пережили трудные времена, пробудившие в них дремлющие силы.
Когда вы ознакомитесь с описанием этих сильных сторон в главах 8 и 9 и ответите на приведенные вопросы, то обнаружите, что одни из ваших достоинств имеют тонический характер, а другие – фазический. Например, доброта, любознательность и духовность обычно относятся к первой категории – их можно демонстрировать десятки раз в день. Упорство, рассудительность, справедливость и отвага, напротив, принадлежат ко второй категории и чаще проявляются ситуативно. Невозможно проявлять отвагу, стоя в очереди в кассу или сидя в самолете (если только его не захватят террористы). Порой достаточно одного героического поступка в жизни, чтобы доказать свою отвагу.
Кроме того, вы увидите, что какие-то из них характерны для вас, а другие – нет. Первые я называю главными достоинствами, и одна из моих целей – отличить их от качеств, которые менее присущи вашей натуре. Я считаю, что нет смысла тратить слишком много сил на совершенствование того, что не ваше. По моему глубокому убеждению, наивысший успех в жизни и глубочайшее эмоциональное удовлетворение достигаются в результате развития и проявления именно главных достоинств. По этой причине часть II этой книги посвящена тому, как выявлять эти сильные стороны.
В части III книги рассматривается не менее важный вопрос: «Что такое хорошая жизнь?» На мой взгляд, ее можно найти, следуя удивительно простому правилу. Для «приятного существования» достаточно потягивать шампанское и разъезжать на Porsche, но это не то же самое, что хорошая жизнь. Хорошая жизнь подразумевает ежедневное проявление главных достоинств для достижения подлинного счастья и глубокого удовлетворения[12]. Этот навык можно выработать и применять его во всех сферах жизни: в работе, любви и воспитании детей.
Одно из моих главных достоинств – любовь к знаниям, и преподавательская деятельность позволила мне органично вплести ее в ткань жизни. Я стараюсь проявлять ее каждый день. Возможность просто изложить студентам сложную концепцию или объяснить восьмилетнему ребенку правила торговли в бридже зажигает во мне огонь. Более того, успешная преподавательская деятельность вдохновляет меня, а возникающее при этом чувство благополучия подлинно, поскольку его источником является то, что я умею делать лучше всего. А вот организаторская деятельность не входит в число моих главных достоинств. Блестящие наставники помогли мне достичь в этом деле определенных успехов, поэтому, если нужно, я могу провести заседание комитета. Но когда оно заканчивается, я чувствую опустошенность, а не прилив сил. Удовлетворение, которое я получаю от этого, кажется менее подлинным, чем то, что мне приносит преподавание. А успешное составление отчета о работе комитета не улучшает мою самооценку.
Чувство благополучия, обретаемое при проявлении главных достоинств, отличается подлинностью. Однако эти качества, в свою очередь, нуждаются в более глубокой основе. Точно так же, как хорошая жизнь – это нечто большее, чем просто приятное существование, жизнь, наполненная смыслом, – более широкое понятие, чем хорошая жизнь.
Что говорит позитивная психология о том, как найти цель в жизни и как вести жизнь, наполненную смыслом? Я не претендую на создание полноценной теории смысла, но могу с уверенностью утверждать, что для этого нужно ориентироваться на что-то большее, чем мы сами. И чем масштабнее сущность, с которой человек соотносит себя, тем больше его жизнь наполняется смыслом. Многие из жаждущих обрести цель и смысл жизни обращаются к оккультизму или традиционным религиям. Они ждут чудес и божественного вмешательства. В результате замыкания современной психологии на патологиях эти страждущие оказались брошенными на произвол судьбы.
Как и многие другие потерянные души, я тоже хотел бы найти в жизни смысл, который стоит выше выбранных мной целей. Однако, как и многие люди с научным складом ума, я всегда считал несостоятельной идею высшего предназначения (и тем более Бога как его основы). Позитивная психология указывает путь к светскому подходу в поиске благородной цели и высшего смысла – и, что еще более удивительно, к концепции Бога, который не является сверхъестественным. Об этом речь идет в заключительной главе.
Прежде чем отправиться в путешествие по страницам этой книги, я предлагаю вам пройти краткий опрос на тему счастья. Анкета для опроса была разработана Майклом Фордайсом[13], и в нем уже приняли участие десятки тысяч людей. Вопросы можно найти на следующей странице или на сайте www.authentichappiness.org. Веб-ресурс позволяет следить за изменением вашего результата по мере прочтения этой книги, а также сравнить его с результатами других людей в разбивке по возрасту, полу и образованию. Однако, сравнивая себя с другими, помните, что счастье – это не соревнование. Подлинное удовлетворение приносит повышение планки для себя, а не сравнение с окружающими.
Анкета Фордайса для оценки эмоционального состояния
Насколько счастливым или несчастным вы обычно себя чувствуете? Отметьте одно из приведенных ниже утверждений, которое лучше всего описывает ваш средний уровень счастья.
Попробуйте глубже проанализировать свои эмоции. Прикиньте, какую долю времени в среднем вы чувствуете себя счастливым? А сколько времени приходится на грусть и уныние? И наконец, часто ли ваше настроение можно охарактеризовать как нейтральное (ни радостное, ни печальное)? Постарайтесь как можно точнее определить эти пропорции и запишите свои оценки ниже. Убедитесь, что сумма всех трех величин составляет ровно 100 %.
Итак, в среднем я чувствую себя:
счастливым % времени _____;
несчастным % времени _____;
нейтрально % времени _____.
По результатам опроса 3050 взрослых американцев, средняя оценка удовлетворенности жизнью составляет 6,92 балла (из 10). Анализ эмоционального состояния респондентов показал, что большую часть времени – 54,13 % – они чувствуют себя счастливыми, на долю грусти и уныния приходится 20,44 % времени, а на нейтральное состояние – 25,43 %.
Возможно, при чтении этой главы у вас возникнет вопрос: «А что такое счастье на самом деле?» Пожалуй, ни одна другая философская проблема не породила больше мнений и попыток дать определение. Оставшуюся часть книги вполне можно было бы заполнить рассуждениями на эту тему. Однако я не собираюсь заниматься пополнением и без того обширного списка определений. Термины, которые относятся к делу, приведены в приложении. Моя задача – выявить и оценить составляющие счастья, положительные эмоции и сильные стороны личности, а затем рассказать о научных открытиях, помогающих их развивать.
2
Как психология сбилась с пути, а я нашел свой
«Алло, Марти! Знаю, что ты сидишь как на иголках и ждешь звонка. Вот результаты…» Треск. Жужжание. Опять треск. Затем тишина.
Я узнал голос Дороти Кантор, президента Американской психологической ассоциации, насчитывающей 160 000 членов. И она была права, когда говорила, что я сижу как на иголках. Только что завершилось голосование по ее переизбранию, и я был одним из кандидатов. Но пробовали ли вы когда-нибудь пользоваться автомобильным радиотелефоном в районе хребта Титон?
«Это про результаты выборов?» – громко спрашивает мой тесть Деннис своим характерным британским баритоном. С заднего сиденья набитого до отказа Chevrolet Suburban его едва слышно на фоне звонких голосов трех детей, распевающих песню «Еще один день» из мюзикла «Отверженные». Я закусываю губу от досады. Кто вообще втянул меня в эту политическую круговерть? Я был далеким от житейской суеты профессором с прекрасно работающей лабораторией, множеством грантов, преданными студентами, бестселлером в активе и хоть и утомительными, но терпимыми заседаниями факультета. К тому же я играл центральную роль в двух научных областях: выученной беспомощности и выученного оптимизма. Ради чего я ввязался в эту авантюру?
Мне это нужно. В ожидании, когда телефон оживет, я мысленно возвращаюсь на 40 лет назад к истокам своего пути в психологии. Внезапно всплывают образы Джинни Олбрайт, Барбары Уиллис и Салли Экерт – недосягаемых объектов романтического интереса пухленького 13-летнего еврейского мальчишки из среднего класса, оказавшегося в школе, где учатся отпрыски протестантов, чьи семьи живут в Олбани уже 300 лет, дети очень богатых евреев и католики-спортсмены. Я успешно сдал вступительные экзамены в Академию для мальчиков в Олбани в те сонные дни эпохи Эйзенхауэра, когда еще не было предварительных тестов. Поскольку из государственной школы Олбани поступить в хороший колледж было невозможно, мои родители, оба госслужащие, выгребли свои сбережения, чтобы наскрести $600 на обучение. Они были совершенно правы насчет возможностей поступить в хороший колледж, но и представить не могли, какие муки придется вытерпеть ребенку из низов, на которого будут вечно смотреть свысока ученицы Академии для девочек в Олбани и, что еще хуже, их матери.
Чем мог я заинтересовать Джинни с ее кудрявыми локонами и точеным носиком, пышногрудую Барбару или совсем уж недоступную, вечно загорелую Салли? Может, поговорить с ними об их проблемах? А что, блестящая идея! Держу пари, никто из парней не удосуживался выслушать их рассуждения о неуверенности в себе, о кошмарах и мрачных фантазиях в моменты уныния. Примерив на себя такую роль, я обосновался в обретенной нише.
«Да, Дороти. Пожалуйста, кого выбрали?»
«Голосование не…» Треск. Тишина. Это «не» было дурным предзнаменованием.
Снова погружаюсь в раздумья, на этот раз мрачные. Представляю, какой была обстановка в Вашингтоне в 1946 г. Солдаты вернулись домой из Европы и Тихоокеанского региона, некоторые с ранениями, многие с психологическими травмами. Кто займется исцелением американских ветеранов, пожертвовавших многим ради нашей свободы? Психиатры, разумеется, призвание которых – врачевание душ. Со времен Крепелина, Жане, Блейлера и Фрейда они накопили большой, хотя и не всеми одобряемый опыт лечения израненных душ. Но их катастрофически не хватает: обучение длительное (более восьми лет после получения степени бакалавра), дорогостоящее, а результат – штучный. Мало того, их услуги стоят целое состояние. Да и пять дней в неделю на кушетке – разве это действительно работает? Нельзя ли подготовить более многочисленную, менее элитарную группу профессионалов и возложить на нее заботу о лечении душевных ран ветеранов? И тогда конгресс задается вопросом: «Ведь есть же еще "психологи", может, они помогут?»
Кто же такие психологи? Чем они зарабатывают на жизнь в 1946 г.? Сразу после Второй мировой войны психология была очень узкой профессией. Большинство психологов были учеными, исследующими базовые процессы обучения и мотивации (обычно на белых крысах), а также восприятия (обычно на белых второкурсниках). Они занимаются «чистой» наукой, мало заботясь о том, применимы ли открытые ими законы к чему-либо вообще. Те же психологи, которые ведут «прикладную» работу в академической среде или в реальном мире, преследуют три цели. Первая – лечение психических заболеваний. В основном они занимаются малопривлекательной задачей тестирования, а не терапии, которая остается прерогативой психиатров. Вторая цель, к которой стремятся психологи, работающие в промышленности, армии и школах, – сделать жизнь обычных людей более счастливой, продуктивной и насыщенной. Третья цель – выявление и развитие юных талантов, детей с чрезвычайно высоким IQ.
Закон о ветеранах 1946 г. помимо прочего привел к созданию корпуса психологов. Были выделены средства на последипломное обучение целой армии специалистов, которые вместе с психиатрами стали заниматься лечебной практикой. Многие из них помимо обслуживания ветеранов открыли частную практику и начали получать от страховых компаний плату за свои услуги. За 25 лет эти «клинические» психологи (или психотерапевты, как их стали называть) превзошли по численности всех остальных представителей профессии, вместе взятых. Во многих штатах были приняты законы, лишающие права называться «психологом» всех, кроме специалистов клинического профиля. Пост президента Американской психологической ассоциации, некогда считавшийся высшей научной честью, теперь в основном занимают психотерапевты, чьи имена академическим психологам практически неизвестны. Психология стала почти синонимом лечения психических расстройств. Ее историческая миссия – делать жизнь здоровых людей более продуктивной и полноценной – отошла на второй план, уступив место исцелению недугов, а попытки выявлять и выращивать гениев были практически заброшены.
Академические психологи с их крысами и второкурсниками поначалу не поддавались соблазнам, связанным с изучением людей с психическими проблемами. Но в 1947 г. конгресс учреждает Национальный институт психического здоровья, и начинается выделение грантов в ранее невиданных объемах. Какое-то время институт благосклонно относился к фундаментальным исследованиям психологических процессов, как нормальных, так и патологических. Но его возглавляли психиатры, и, несмотря на название и миссию, определенную конгрессом, он постепенно стал похожим на Национальный институт психических расстройств – великолепное исследовательское учреждение, но занимающееся исключительно болезнями, а не здоровьем. К 1972 г. успешные заявки на гранты должны были демонстрировать свою «значимость», то есть отношение к выявлению причин и лечению психических расстройств. Академические психологи начали направлять свои исследования в русло изучения психических недугов. Я ощутил это неумолимое давление уже при подаче своей первой заявки на грант в 1968 г. Впрочем, для меня это не было бременем, поскольку моя цель заключалась в облегчении страданий.
«Почему бы нам не отправиться в сторону Йеллоустоуна? Там наверняка есть телефоны-автоматы», – кричит моя жена Мэнди, перекрывая шум. Дети оглушительно распевают песню «Слышишь, как звучит песня разгневанного народа». Я делаю разворот и снова погружаюсь в раздумья.
Я в Итаке, штат Нью-Йорк, и на дворе 1968 г. Я второй год работаю ассистентом профессора психологии в Корнелле и всего на пару лет старше своих студентов. В аспирантуре Пенсильванского университета я вместе со Стивом Майером и Брюсом Овермиером исследовал феномен выученной беспомощности. Мы обнаружили, что собаки, подвергаемые болезненным ударам тока, которых они не могли избежать, переставали даже пытаться изменить ситуацию. Тихонько поскуливая, они покорно принимали разряды, даже когда была возможность уклониться от них. Это открытие привлекло внимание исследователей теории обучения, поскольку животных считали неспособными понять, что их действия не влияют на ситуацию, что существует случайная связь между их поведением и происходящими событиями. Основная предпосылка в этой области заключалась в том, что обучение происходит только тогда, когда действие (например, нажатие на рычаг) приводит к результату (например, к получению пищи) или когда нажатие на рычаг перестает приносить еду. В соответствии с тогдашними представлениями, животные (да и люди тоже) не могли понять, что еда появляется случайным образом независимо от нажатия на рычаг. Осознание случайности (того, что ничего не зависит от ваших действий) считалось когнитивным процессом, а теория обучения придерживалась механистического взгляда «стимул–реакция–подкрепление», исключающего мышление, убеждения и ожидания. Животные и люди, утверждала она, не способны оценивать сложные взаимосвязи, формировать ожидания относительно будущего и уж точно не могут научиться беспомощности. Таким образом, феномен выученной беспомощности бросал вызов центральным аксиомам этой области психологии.
По этой причине моих коллег интересовал не драматизм явления или его ярко выраженный патологический аспект (животные выглядели откровенно подавленными), а последствия для теории. Я же был поглощен последствиями для понимания человеческих страданий. Начиная с моей социальной роли «терапевта» для Джинни, Барбары и Салли, изучение проблем стало моим призванием. Тонкости теории обучения были для меня всего лишь промежуточными этапами на пути к научному пониманию причин и методов излечения душевных мук.
Сейчас, когда я сижу за серым стальным столом в недрах своей лаборатории, расположенной на месте перестроенной фермы в сельской местности на севере штата Нью-Йорк, у меня даже не возникает вопрос, стоит ли обсуждать значение феномена выученной беспомощности для понимания природы психических заболеваний. Моя первая заявка на грант и все последующие на протяжении 30 лет однозначно направляют мои исследования в русло поиска причин и методов лечения болезней. Через несколько лет стало недостаточно исследовать впадающих в депрессию крыс и собак, настало время изучения депрессии у людей. А еще через десятилетие перестало хватать и исследования депрессии у второкурсников. Третье издание Руководства по диагностике и статистике Американской психиатрической ассоциации (DSM–III) четко определяет, что считать настоящей депрессией, и если у пациента нет по крайней мере пяти из девяти явных симптомов, то его не считают больным. Второкурсники, если они продолжают учиться, работоспособны. У них не может быть настоящего, тяжелого заболевания – депрессивного расстройства, и поэтому они не подходят для финансируемых исследований. Поскольку большинство психологов-исследователей мирятся с требованием работать только с официально признанными пациентами, академическая психология по большей части сдается и становится прислужницей психиатрической индустрии. Психиатр Томас Сас, острослов, скептик и критик, говорит: «Психология – это обман, имитирующий другой обман под названием психиатрия».
В отличие от многих моих коллег я охотно следую этим веяниям. Меня вполне устраивает смещение акцента в науке с фундаментальных аспектов на прикладные, связанные с изучением человеческих страданий. Если мне и приходится подстраиваться к психиатрической моде, говорить на лексиконе DSM–III и навешивать на участников исследований официальные диагнозы, то это просто неудобства, а не лицемерие.
Подход Национального института психического здоровья дал превосходные результаты. В 1945 г. ни одно психическое заболевание не поддавалось лечению. Все, что применяли, было не лучше отсутствия всякой терапии. Это было чистое надувательство: проработка детских травм не помогала при шизофрении (вопреки фильму «Дэвид и Лиза»), а удаление частей лобных долей не облегчало психотическую депрессию (несмотря на присвоение Нобелевской премии 1949 г. португальскому психиатру Антониу Монишу). Теперь, спустя 50 лет, лекарства и специфические формы психотерапии заметно облегчают по крайней мере 14 психических заболеваний. Два из них, на мой взгляд, поддаются полному излечению: паническое расстройство и фобия крови и травм. (В 1994 г. я написал книгу «Что можно изменить и что нельзя», в которой подробно обрисовал этот прогресс.)
Более того, появилась наука о психических заболеваниях. Мы можем точно диагностировать и оценивать такие размытые состояния, как шизофрения, депрессия и алкоголизм, отслеживать их развитие на протяжении всей жизни, выявлять причины с помощью экспериментов и, что самое главное, наблюдать благотворное влияние лекарств и терапии. Этот прогресс почти полностью связан с исследовательскими программами, на которые Национальный институт психического здоровья выделил суммарно порядка $10 млрд.
Я тоже выиграл от этого. Приняв модель, ориентированную на лечение заболеваний, я более 30 лет подряд получал гранты на изучение беспомощности у животных, а затем и у людей. Мы предположили, что выученная беспомощность может быть разновидностью униполярной депрессии, то есть депрессии без маниакальных состояний, и попытались провести параллели между симптомами, причиной и лечением. Как оказалось, и страдающие депрессией пациенты нашей клиники, и люди, ставшие беспомощными из-за неразрешимых проблем, в равной мере проявляют пассивность, медленнее учатся и более тревожны по сравнению с нормальными людьми. Выученная беспомощность и депрессия приводят к сходным нарушениям химии мозга, а лекарства, облегчающие депрессивное состояние людей, снимают беспомощность у животных.
Однако в глубине души меня все же беспокоил исключительный акцент на выявлении патологий и устранении их последствий. Как терапевт, я встречаю не только пациентов, для которых модель «болезнь–лечение» работает, но и тех, кому становится заметно легче в обстоятельствах, плохо вписывающихся в эту модель. Я вижу, как растут и меняются эти люди, когда осознают, насколько они сильны. Когда жертва изнасилования понимает, что, хотя прошлого не изменить, будущее находится в ее руках. Когда пациент понимает, что, пусть он и не блестящий бухгалтер, клиенты ценят его за внимательность и доброжелательность. Когда пациентка приводит мысли в порядок, просто выстраивая связную картину жизни из кажущегося хаоса реакций на череду проблем. Я вижу сильные стороны человека, которые выплывают наружу и развиваются в результате терапии, а потом становятся защитой от различных расстройств, названия которых я добросовестно заношу в формы, отправляемые в страховые компании. Идея использования сильных сторон как защиты в качестве лечебного приема просто не вписывается в концепцию, согласно которой пациент должен иметь определенное расстройство с присущими ему патологическими проявлениями, которые ослабляются с помощью конкретной методики лечения.
Через 10 лет после начала исследований выученной беспомощности я переосмыслил свое понимание результатов наших экспериментов. К этому меня подтолкнули некоторые неудобные выводы. Не все крысы и собаки становились беспомощными после неизбежного шока, как и не все люди после столкновения с неразрешимыми проблемами. Треть испытуемых никогда не сдавалась, что бы мы ни делали. Более того, один из восьми беспомощен изначально – ему не требуется потеря контроля, чтобы опустить руки. Поначалу я пытался отмахнуться от этого, но, когда такие факты упорно повторяются на протяжении десятилетия, приходится задуматься о них всерьез. Что придает некоторым защитную силу и делает их неуязвимыми для беспомощности? Чего не хватает другим, заставляя их падать духом при первом же намеке на неприятности?
Я паркую забрызганный грязью автомобиль и спешу в здание. Здесь есть телефоны-автоматы, но линия Дороти занята. «Наверное, она разговаривает с победителем, – мелькает мысль. – Интересно, кто же вышел вперед, Дик или Пэт?» В этой гонке мне противостоят два опытных политика: Дик Суинн, бывший мэр Форт-Коллинса, психолог олимпийской команды и заведующий кафедрой психологии Университета штата Колорадо, и Пэт Бриклин, кандидат от блока терапевтов, составляющего большинство в Американской психологической ассоциации, выдающийся психотерапевт и радиоведущая. В последние 20 лет они были завсегдатаями на заседаниях ассоциации в Вашингтоне и других городах. Я не входил в число тех, кого приглашают на эти мероприятия. Впрочем, даже если бы меня приглашали, я вряд ли стал бы посещать их из-за неспособности выдерживать долгие заседания. И Пэт, и Дик побывали почти на всех ключевых должностях в ассоциации, но до кресла президента пока не добрались. У меня же нет подобного опыта. Каждый из них возглавлял с десяток различных групп. В который раз набирая номер, я пытаюсь вспомнить, когда последний раз был лидером, – кажется, в девятом классе.
Линия Дороти по-прежнему занята. Разочарованный и беспомощный, я тупо смотрю на телефон, затем делаю глубокий вдох и оцениваю свое состояние. Я подсознательно предполагаю, что новости плохие. Я совершенно забыл, что на самом деле когда-то занимал пост президента отделения клинической психологии Американской психологической ассоциации с 6000 членов и справился с этой ролью очень достойно. Из головы вылетело, что я вовсе не чужак в ассоциации, а всего лишь новичок. Я сам лишил себя надежды, впал в панику и стал наглядным подтверждением собственной теории.
