Загадки смерти и воскресения Иисусуса Христа. Рождение новой веры. Книга вторая
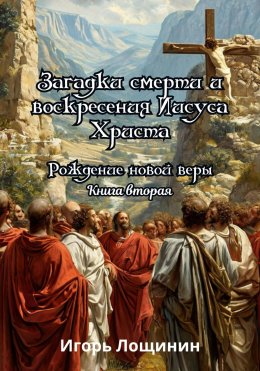
Предисловие
В первой книге «Путь на Голгофу. Поиск исторического Иисуса» рассматриваются вопросы, связанные с учением Иисуса Христа и событиями последних лет его жизни. Почему большинство современников не приняли Христа как Мессию? Что действительно могло стать причиной его казни? Приводятся реконструированные портреты «исторического Иисуса» – прототипа Иисуса евангелий.
На Голгофе закончилась жизнь Иисуса из Назарета и началась история Богочеловека, основателя христианства-крупнейшей мировой религии. Изначально проповедь Христа и апостолов велась в Иудее и соседних областях и была адресована иудеям, но впоследствии обратилась ко всем народам. После смерти и Воскресения Иисуса Христа возникла единая община верующих – церковь.
До разрушения Иерусалима в 70 г. христианство являлось всего лишь одним из течений иудаизма и отличалось от других направлений только тем, что рассматривало Иисуса в качестве Мессии, посланца Господа и Спасителя еврейского народа. В то время христианские общины как Иудеи, так и греко-римского мира состояли исключительно из евреев и тех бывших язычников, которые фактически приняли иудаизм. Другие религиозные течения (фарисеи, саддукеи, ессеи) смотрели на христианство, как на еще одну вполне легитимную ветвь иудаизма; языческий греко-римский мир также воспринимал христианство всего лишь как на одну из иудейских сект.
Разрушение Иерусалима и Храма в 70 г. римлянами привело к тому, что первенство перешло к влиятельной Римской общине. Второе по значению место занимали тогда христианские общины континентальной и малоазийской Греции. Именно римская и греческая церкви в конечном счете решали, кто из ранних христиан занимал «истинные», а кто «еретические» позиции. Победа той или иной точки зрения в раннем христианстве определялась не столько богословскими спорами и дискуссиями, сколько численностью, а также политическими и экономическими возможностями каждой общины.
Уже к середине I века в отношении к Христу в иудейском обществе произошел раскол. Большинство народа осталось на прежней, ветхозаветной точке зрения, согласно которой Иисус не мог быть Мессией (Христом), так как не осуществил того, что ожидали от «Сына Человеческого». В то же время меньшинство приняло новозаветный взгляд на Иисуса и стало энергично проповедовать его повсюду, где жили евреи. Как свидетельствует книга "Деяния апостолов",таких евреев-христиан были тысячи, причем, как в самой Иудее, так и в эллинистических странах; именно они распространили новое учение по всему Древнему миру и стали основателями первых христианских церквей.
Социолог и специалист по современным религиозным движениям Родни Старк сделал первую серьезную попытку оценить рост христианского движения в первые столетия новой эры в цифрах.
Из статистических вычислений Старка с поправкой Эрмана следует, что в течение большинства этих лет число христиан росло с приблизительной скоростью около 30 % на каждые десять лет. Ниже приводится результаты этих вычислений-приблизительная оценка числа христиан в ключевые для движения моменты, начиная с самого начала – с периода сразу после смерти Иисуса:
30 г. – 20 христиан
60 г. – 1000–1500
100 г. – 7–10 тыс.
150 г. – 30–40 тыс.
200 г. – 140–170 тыс.
250 г. – 600–700 тыс.
300 г. – 2,5–3,5 млн
312 г. – 3,5–4 млн
400 г. – 25–35 млн
К 200-му году христиане составляли 160 тысяч человек, или чуть больше четверти процента от общего числа населения Римской империи. Церковь стремительно росла, однако, для большинства римлян оставалась совершенно неизвестной величиной. Лишь в III веке число христиан значительно выросло, а в IV – этот рост стал лавинообразным. Обращение императора Константина было одним из поворотных пунктов истории христианства: христиане превратились из преследуемого меньшинства в господствующую религию. Теперь и высшие классы римской администрации, образованная, культурная и богатая элита увидели для себя путь к принятию христианской веры. Христианство начало расти стремительно: от двух с половиной или трех миллионов в начале IV века до тридцати миллионов в конце.
Через восемьдесят лет после обращения Константина Рим сделался христианским государством.
В книге описаны вопросы, связанные с Воскресением Иисуса после казни, возникновением христианства и превращением на протяжении трех столетий из религии гонимой в религию господствующую на всей территории Римской империи.
Часть первая. Загадки смерти и Воскресения Иисуса Христа
После смерти Иисуса его ученикам предстояло тяжелое испытание веры. Распятие положило конец их мечте об изменении существующего порядка, о возрождении двенадцати колен Израиля и управлении ими от имени Бога. Царство Божие не будет установлено на земле, как обещал им Иисус. Слабые и бедные не поменяются местами с богатыми и власть имущими. Римское иго не будет сброшено. Как уже бывало с последователями всех прочих мессий, казненных империей, ученикам Иисуса оставалось только отказаться от своих целей, прекратить мятежные выступления и вернуться в свои селения. Но затем случилось нечто выдающееся. Растерянные, отчаявшиеся ученики-апостолы, разбежавшиеся после ареста Учителя, забывшие (или так и не понявшие) его предсказания о своей смерти и последующем Воскресении, вдруг из трусов превращаются в героев веры: они начинают бессташно проповедовать о том, что их распятый Учитель-Иисус Христос умер, но Бог воскресил его «на третий день».
Апостолов периодически арестовывали и третировали за проповеди; они не один раз представали перед синедрионом, чтобы ответить на обвинение в богохульстве, их секли плетьми, но они продолжали говорить о том, что Иисус воскрес.
Для историков воскресение Иисуса представляет собой чрезвычайно трудную проблему для обсуждения потому, что оно выпадает за все рамки исторического исследования в принципе. Очевидно, что возвращение к жизни человека, три дня назад умершего ужасной смертью, противоречит любой логике, разуму и здравому смыслу. Казалось бы, можно объявить Воскресение вымыслом, а веру в воскресшего Иисуса – продуктом ума, впавшего в заблуждение. Однако нельзя игнорировать исторический факт: среди прочих неудавшихся мессий, приходивших до и после Христа, только Он продолжает считаться Мессией. Именно рвение, с которым последователи Иисуса отстаивали веру в его Воскресение, превратило крошечную иудейскую секту в крупнейшую мировую религию.
Но может ли историк исследовать вопрос о достоверности евангельских рассказов? Не правомернее ли считать, что всё, что было после распятия, – это уже история христианства, история церкви, но не история самого Иисуса?
Секулярные и некоторые либеральные христианские авторы считают, что, поскольку «чудес не бывает», сама постановка вопроса о возможном Воскресении представляет собой неоправданную уступку исторической науки религиозным догмам. С другой стороны, даже многие более традиционные христианские авторы и часть историков полагают, что разговор о Воскресении возможен, но лишь в плоскости теологии: историю же он никак не захватывает.
Вопрос о Воскресении Иисуса после его смерти в результате прямого вмешательства в земную историю Бога, действительно, относится не к сфере истории, а к сфере теологии. Однако христианские апологеты на основании раннехристианских свидетельств объявляют Воскресение историческим событием, реально имевшим место в определенном времени и пространстве, поэтому это событие должно рассматриваться также с позиции историка. К сфере компетенции историка относятся как минимум следующие вопросы:
Что произошло с телом Иисуса после казни? Была ли его гробница найдена пустой, и если да, то почему? Какие исторические события породили христианскую веру в Воскресение Иисуса? Поиску ответов на эти и другие вопросы на основании анализа описанных в евангелиях событий, связанных с Воскресением, посвящена первая часть книги.
Глава 1. Распятие и погребение Иисуса Христа
Распятие представляло собой самый унизительный и жестокий, мучительный и долгий путь к смерти. Иногда распятые страдальцы продолжали жить несколько дней; по выражению очевидцев, приговоренные к подобной смерти теряли жизнь капля за каплей. В конце концов, целью было не только казнить конкретного преступника, но и устрашить всех других непокорных и подстрекателей.
Граждан Рима никогда не приговаривали к этой форме наказания, однако в странах, оккупированных римлянами, распятие представляло собой весьма распространенное средство поддержания покорности и спокойствия среди возмущенных иностранным порабощением народов. Иудеи не были знакомы с распятием; законными видами казни они признавали избиение камнями, сожжение, обезглавливание и удушенье.
Смерть Христа наступила спустя всего около трех часов после пригвождения к кресту, о чем достаточно четко написано в Евангелиях: «Был час третий, и распяли Его» (Мк 15 25). «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух». (Лк 23 44–46).
Присутствовавшие при казни представители синедриона, опасались, что Ветхозаветная Пасха, которая должна была начаться в субботу, будет омрачена казнью, что было бы серьезным нарушением иудейского закона, поэтому они были вынуждены просить Пилата разрешить акт «милосердия» к распинаемым – перебить им голени, что ускорило бы их смерть и позволило снять тела казненных с крестов до начала праздника, на что Пилат дал согласие. Казнь Иисуса происходила второпях: необходимо было закончить все дела до захода солнца. После того, как солдаты перебили голени разбойникам и подошли к Христу, они увидели, что Он уже умер и поэтому процедуру по отношению к Нему не применили, так как она стала не нужна. На эти обстоятельства в евангельском тексте обращается особое внимание:
«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней. Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». (Ин. 19:31–35)
Истечение крови и воды из раны Христа вполне убедило как римских солдат, так и евреев в наступлении физической смерти Христа. Столь быстрая его смерть удивила не только присутствующих, но и Пилата, поэтому когда «Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета…осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова, Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу» (Мк 15. 43–45).
Согласно всем преданиям, у Иисуса не было семьи в Иерусалиме, и следовательно, не было ни фамильной гробницы, куда его могли бы положить, ни родственников, которые могли бы совершить погребальный обряд. Более того, евангельские рассказы не раз сообщают, что все последователи Иисуса после его ареста скрылись, так что они тоже не могли взять на себя эту задачу.
Римляне не собирались этим заниматься…
Некоторые христианские авторы утверждают, что Иисуса должны были снять с креста до захода солнца в пятницу, поскольку следующий день был субботой, а оставлять на кресте казненного в день субботний противоречило еврейским законам или, по крайней мере, еврейским религиозным чувствам. Однако, исторические свидетельства говорят как раз об обратном. Когда еврейских преступников казнили не евреи, последние не могли решать, когда снять их с креста. Более того, римляне не подчинялись еврейским законам и нисколько не заботились о еврейских религиозных чувствах. Наоборот, когда речь шла о распятых преступниках, осужденных за преступления против государства, обычно не было места для милосердия и потому наказание не кончалось со смертью осужденного. Частью публичного унижения и надругательства было оставить тело казненного после смерти на кресте, чтобы оно разлагалось и уничтожалось хищниками. Это обстоятельство дало основание некоторым учёным считать, что евангелисты ошибаются и Иисус вообще не был похоронен, что было обычной участью распятых. Однако, скептикам пока что не удалось опровергнуть аргументы сторонников обычной теории: тело Иисуса было положено в гробницу. О факте погребения Христа сообщает ап. Павел (1 Кор 15:4). Само послание 1 Кор написано около 53 года, но Павел относит предание о погребении к числу той информации, которую он получил при обращении в христианство. Обращение Павла относится приблизительно к 32–33 годам, то есть самым первым годам существования Иерусалимской церкви, что означает, что перед нами очень раннее предание, причём кто бы Павлу ни излагал его в 33 году, он мог проверить его тремя годами позже, когда видел Петра и Иакова (Гал 1:18–19). У креста присутствовали женщины (Мк 15:47), и они должны были видеть, что стало с телом.
У Иисуса не могло не быть сторонников или сочувствующих в верхах иудейского общества. Его смерть могла стать для них ударом и разочарованием, и было бы странно, если бы никто из них не попытался получить или выкупить тело Иисуса. Как сообщает Иосиф Флавий, тела казнённых римляне практически всегда выдавали в ответ на просьбы тех, кто намерен был осуществить их погребение. Все исторические свидетельства убеждают, что вероятее всего, Иисус был действительно погребён, т. к. это требовала необходимость соблюдения ритуальной чистоты земли и священного города. Было принято, что тело распятого должно быть похоронено в специальном месте и находиться там (примерно год), пока плоть не разложится.
Поскольку Иисуса передал в руки римских властей иудейский совет (синедрион), именно он нёс ответственность за надлежащее погребение. Правящие священники не только не возражали против погребения казнённых, они могли взять на себя организацию похорон, чтобы до заката поместить тело в могилу на территории, отведённой для казнённых преступников. Эту задачу выполнил член совета – Иосиф из Аримафеи. Поэтому рассказ о вмешательстве Иосифа Аримафейского очень правдоподобен.
Иосиф Аримафейский и Никодим
Демонтаж креста и снятие с креста тела происходили под руководством уважаемого, процветающего и влиятельного члена синедриона, Иосифа из Аримафеи. Ему не удалось предотвратить несчастье, но впоследствии он все-таки сумел достаточно эффективно использовать и богатство, и влияние. Именно ему удалось вызволить у Пилата тело Иисуса, и скорее всего, для этого понадобились какие-то весьма убедительные доводы. Именно Иосиф купил плащаницу, несомненно, отдав за нее немалые деньги. Он же собрал людей, которые перенесли тело Иисуса в новую каменную гробницу возле Голгофы.
Матфей и Лука отмечают, что Иосиф Аримафейский был богат; Матфей и Иоанн сообщают, что человек этот был учеником Иисуса;Лука говорит, что Иосиф ожидал наступления Царства Божия, а Иоанн добавляет, что ученичество Иосифа оставалось для окружающих тайной. Лука замечает, что Иосиф не согласился с другими членами синедриона и с действиями иудеев. Иоанн и Матфей сообщают о получении тела Христа. Матфей и Лука говорят о льняной плащанице, в которую завернули его тело. От Матфея мы узнаем о том, что плащаница была чистой, а от Иоанна – о том, что существовали еще и другие полотняные покровы. И Лука, и Иоанн указывают на тот факт, что гробница была новой и пустовала. Матфей же добавляет, что склеп принадлежал Иосифу. Лука сообщает, что гробница была высечена в скале, а Матфей рассказывает, как Иосиф привалил ко входу большой камень.
Другой тайный друг Иисуса, Никодим (Ин 19:39), также явился в этот момент. Никодим был дружен с Иосифом и помогал в снятии с креста, он же раздобыл 100 литров миро и алоэ. Никодим, которого упоминает только Евангелие от Иоанна, был иудейским советником и фарисейским книжником (Ин. 3:1–10). Однажды ночью с ним беседовал Иисус (Ин. 3:2–12). Этот же Никодим защищал Иисуса перед Высшим советом (Ин. 7:50).
Эти два советника взяли на себя все хлопоты и трудности снятия тела Иисуса с креста.
Приготовление умершего к погребению предполагало, что его тело омывали и умащали благовониями, а затем оборачивали в специальные погребальные пелены. Никаких деревянных гробов не было. Завернутое в пелены тело относили в высеченную в скале пещеру. Такие пещеры-кладбища располагались, как правило, вблизи городов.
Иосиф и Никодим приготовили тело Иисуса к погребению по еврейскому обычаю, т. е. завернули его в саван с миррой и алоэ. Тут же присутствовали плачущие галилейские женщины (Мф 27:61; Лк 23:55). Было уже поздно, и все происходило в большой спешке. Тело было решено похоронить в гробнице, в находящейся поблизости в саду, в недавно высеченной в скале пещере, которая еще не была в употреблении (Ин 19:41–42). По преданию (Мф 27:60), собственником пещеры был сам Иосиф Аримафейский. Ко входу в пещеру прикатили камень и условились вернуться для более полного погребения. "День тот был пятница и наступала суббота". В городе замерла всякая деятельность, и потому погребение было отложено на послезавтра, т. е. на воскресение. Женщины удалились, заметив, как тело было положено.
О погребении Иисуса повествуют все четыре евангелиста.
Версии Матфея и Марка достаточно близки:
"…Иосиф обвил тело чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба (Мф.27:57–61;Мк.15:42–47).
Лука отмечает, что тело Иисуса положили в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Как и Марк, он напоминает, что день тот был пятница, и наступала суббота. Лука – единственный, кто говорит о том, что женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, после того, как посмотрели, как полагалось во гроб тело Иисуса, возвратившись, приготовили благовония и масти; в субботу все "остались в покое по заповеди" (Лк.23:50–56).
Ни в одном из четырех Евангелий не упоминается о том, что тело Иисуса было омыто перед погребением. По-видимому, это умолчание не случайно, и омовения не было.
Об участии в погребении Никодима сообщает только Иоанн (Ин.19:38–42). Только Иоанн упоминает об ароматических веществах, употребленных Иосифом и Никодимом при погребении Иисуса. При этом он указывает на необычно большой объем состава из смирны и алоэ, принесенный Никодимом: "около ста литр", т. е. не менее тридцати современных литров драгоценного ароматического состава. Хотя Иисус был осужден как преступник, при погребении ему были оказаны царские почести, и Иоанн, говоря о щедром даре Никодима, считает нужным это подчеркнуть. В повествованиях двух синоптиков приготовление ароматов связывается с женщинами и происходит уже после погребения Иисуса: у Луки женщины приготовили благовония и масти, но в субботу остались в покое, имея в виду прийти ко гробу на следующий день (Лк.23:56); Матфей вообще ничего не говорит об ароматах.
На погребение тела Иисуса не пришел никто из Двенадцати – ни Иоанн, ни Петр, ни кто-то другой. Возможно, они боялись иудеев; но и об Иосифе сказано, что он был "тайный из страха от иудеев", и он боялся, но однако же, пришел. А Иоанн, хотя присутствовал при кресте и видел кончину Христову, – не сделал ничего подобного.
Глава 2. Свидетельства евангелистов о событиях «По прошествии субботы»
Древнейший евангельский текст, говорящий о Воскресении, содержится в Евангелии от Марка (ок. 70 н. э.).
По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать тело Христа. Но "приходят к гробнице, и говорят между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гробницы?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гробницу, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облечённого в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищете Назарянина распятого? Он воскрес, его нет здесь! Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он будет ждать вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И выйдя, женщины побежали от гробницы. Их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись." (Мк 16:1–8)
На этом Евангелие от Марка заканчивается. Повествование Марка (16:9–20), как считают специалисты-новозаветники, является поздней вставкой – компиляцией из концовок других евангелий. Такой финал у Марка представлял собой определённую загадку: как христиане узнали о явлениях Воскресшего женщинам, если те никому ничего не сказали («потому что боялись»)? Пётр и другие ученики так и не услышали вести о Воскресении?
Возможно, для Марка эта тема была слишком сложна и сакральна, чтобы о ней писать. Он считал, что сказал всё, что нужно читателям: гробница была найдена пустой – это видели и засвидетельствовали женщины; воскресший Иисус явился впоследствии ученикам в Галилее.
Евангелист Матфей, взяв за основу евангелие Марка, внёс частичную редакцию (Мф 28):
"По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробницу. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гробницы и сидел на нём. Обратившись к женщинам, ангел сказал:«Не бойтесь! Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь: он воскрес, как и сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мёртвых и будет ждать вас в Галилее.»
Когда же шли они возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!..Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею. И там они увидят меня»…
Т.о. Матфей сделал текст Марка более понятным. Если при чтении Марка возникает вопрос: не могло ли так случиться, что тело Иисуса из гробницы вынесли до прихода женщин, то у Матфея таким возможностям, казалось бы, нет места: когда женщины приходят, гробница всё ещё закрыта камнем; ангел отодвигает камень на их глазах, и они видят, что помещение пусто.
Далее, в отличие от Марка, чётче проговорено, что женщины рассказали о виденном ученикам, и ученики послушались, пойдя в Галилею (Мф 28:16).
Евангелист Лука также взял за основу Марка, но сделал из этого текста длинный и развёрнутый сюжет, переставив акценты и кое-где изменив место действия (ЛК 24):
Два мужа в блистающих одеждах сказали женщинам:
«Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки людей грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть!»
И вспомнили они слова его, и возвратившись от гробницы, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. Но показались тем слова их пустыми, и не поверили им. Только Пётр, встав, побежал к гробнице и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошёл назад, удивляясь происходящему.
Согласно Луке, в тот же день Клеопа и ещё один ученик шли из Иерусалима в соседний Эммаус; по дороге им встретился неузнанный ими Иисус и шёл с ними, объясняя, что судьба Мессии – это казнь и воскресение; дойдя до Эммауса, они возлегли за трапезу, и только тут два ученика узнали Иисуса, но он тут же пропал (Лк 24:13–31). Лука сообщает, что ученики побежали в Иерусалим, где их уже ждала весть о явлении Воскресшего Петру (Лк 24:33–35). После этого воскресший Иисус явился уже всем ученикам сразу и беседовал с ними (Лк 24:36–49).
Таким образом, Лука основательно отредактировал Марка, хотя и иначе, чем Матфей. Лука прямо проговаривает, что женщины всё рассказали ученикам; в отличие от Матфея, однако, ученики не поверили, но лишь Пётр и сходил проверить, действительно ли гробница пуста, не ошибка ли это истеричных женщин. Ещё более существенное отличие: Марк и Матфей локализуют явления Воскресшего в Галилее и ни словом о явлениях в Иерусалиме не упоминают; Лука же говорит о явлениях только в Иерусалиме, причём предполагается, что из Иерусалима ученики ещё долго не отлучались (Лк 24:49).
Евангелие от Иоанна рассказывает историю, довольно сильно отличающуюся от рассказанной всеми предыдущими евангелистами (Ин 20).
В отличие от синоптиков, здесь к гробнице приходит не несколько женщин, а только Мария Магдалина, причём приходит, видимо, просто навестить место упокоения, а не помазать благовониями тело. В отличие от Матфея, ангел не отваливает камень от входа у неё на глазах, а она застаёт гробницу уже открытой и пустой. В отличие от Марка и Луки, она не видит там ни «юношу» (ангела), ни двух «мужей» (ангелов). Прямо сказано, что она идёт рассказывать ученикам. Подобно Луке, Пётр бежит к гробнице проверить, но в отличие от Луки бежит туда не один, а с неким анонимным «любимым учеником» Иисуса. Лишь когда они уходят, плачущая Мария видит, что в гробнице появились два ангела, а затем она видит и самого Иисуса, которого поначалу принимает за садовника. Не ангелы (как у синоптиков), но лично Иисус велит ей идти к ученикам и возвестить о воскресении. Она исполняет сказанное. Затем евангелист описывает вечернее явление Воскресшего ученикам в Иерусалиме, что похоже опять-таки на Луку. Лишь затем явления в Галилее (Ин 21), что противоречит Луке, но соответствует Марку и Матфею.
Таким образом, развитие предания привело к тому, что помимо общих мест (пустая гробница, женщины у гробницы и т. д.), образовался целый ряд различий.
Пришла ли к гробнице Мария Магдалина в одиночку или с другими женщинами? Зачем они пришли: умастить тело благовониями или просто проведать гробницу? Нашли ли они гробницу уже открытой или на их глазах её открыл ангел? Встретили ли они у входа стражу? Нашли ли они в гробнице кого-либо и если да, то кого: юношу-ангела или двух мужей-ангелов? Встретили ли они в этот день Иисуса или нет? Поверили ученики женщинам или нет?
Интеллектуально честной гармонизации эти противоречия едва ли поддаются.
Иудеи помнили (в отличие от учеников) о том, что Христос обещал на третий день воскреснуть. Поэтому, хотя они сделали все, чтобы освободить себе субботу для полноценного отдыха, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий, они отправились к римскому наместнику. Этот эпизод приводится только у Матфея:
"На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете". Слова Пилата "имеете стражу" можно понимать так, что он предложил просителям самим организовать охрану пещеры, используя для этого храмовых охранников, находившихся в их распоряжении."Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать" (Мф.27:62–66).
Следует заметить, что действия иудеев противоречат закону о Субботе. который предписывал в этот день полный покой.
Глава 3. А если Христос не воскрес?
Воскресение Иисуса Христа – центральное событие евангельской истории, к которому вело все предшествующее повествование в каждом из четырех евангелий. Апостол Павел писал коринфским христианам:
"А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа" (1 Кор. 15:14–15).
Этим Павел заявляет о том, что без веры в Воскресение христианство не имеет никакого смысла: в этом случае напрасна и проповедь апостолов, и вера тех, кто на нее откликнулся. Вера в Воскресение Христа – вот ключ к пониманию и Его личности, и Его учения.
Для Павла было очевидно, что от того, является ли Воскресение Иисуса историческим фактом, зависит достоверность не только его собственной проповеди, но и всей христианской веры. В ранней Церкви Воскресение «становится окончательным чудом в серии чудес, знаменующих Его земное служение».
Воскресение решает непреодолимую проблему, которую не могли игнорировать последователи Иисуса: распятие делало недействительным его статус Мессии и наследника царя Давида. так как согласно закону Моисея, ставило на Иисусе клеймо проклятия, «ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве (т. е. распятый)» (Втор. 21. 23). Но если Иисус не умер, если его смерть была только прелюдией для его духовной эволюции, – крест перестает быть проклятием и символом поражения.
Апологеты объясняют слова Павла: «А если Христос не воскрес…» следующим образом.
Без Воскресения Христа никто не стал бы проповедовать веру в того, кто умер и не воскрес, потому что проповедь эта сама по себе не стоила бы доверия. Если Он, умерши, не смог воскреснуть, то ни грех не истреблен, ни смерть не упразднена; наконец, и мы проповедовали пустое, и вы поверили пустому… Главный предмет апостольского свидетельства образует воскресение Христа. Поэтому, с отрицанием воскресения Христа, утрачивает все свое существенное содержание и апостольская проповедь. Вера оказывается привязанною к предмету, который существует только в воображении. Богу приписывали бы то, чего Он не совершал, и Это было бы оскорблением Богу…
Если воскресения мертвых нет, между тем как и распятие ради этого было, то следовательно и Христос доселе еще не воскрес, и наоборот: если Христос восстал из мертвых, то и воскресение мертвых несомненно. Воскресение Христа есть несомненный залог нашего воскресения из мертвых, потому, что, восстав от мертвых, Он стал начатком умерших или началом воскресения людей из мертвых, ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». (1 Кор.15:20–33).
Мысль, что Иисус не воскрес, опровергает сами основы христианских догматов и самой христианской веры. Но учитывая, что Иисус оставил после себя группу последователей, состоявшую как минимум из ста двадцати человек (Деян.1–16), невозможно себе представить, чтобы все члены этой общины поверили бы в столь явный обман и впоследствии многие из них отдали свою жизнь за проповедь этого обмана.
Теодос Харнак заявляет, что «либо Христос воскрес – и тогда христианство истинно, либо Он не воскресал – и тогда христианство не имеет никакого смысла». Профессор Уильям Миллиган подчёркивает: «Говоря о свидетельствах в пользу Воскресения нашего Господа, можно добавить к ним и то, что это событие, если оно произошло, отвечает всему смыслу земной жизни Христа». Х.П. Лиддон замечает, что «Вера в воскресение есть краеугольный камень ковчега христианской веры. Если удалить его, то разрушится и всё христианское учение».
Итак, христианские авторы утверждают, что Воскресение было историческим событием, и именно это событие стало для учеников главным доказательством того, что распятый и умерший на кресте Иисус был Мессией (Христом). Все евангельские повествования описывают, по убеждению верующих, события, имевшие место в истории, вопреки мнению тех, кто считает, что Воскресение Христа является исключительно предметом веры, а не историческим событием.
Майкл Грин так пишет о значении Воскресения: "Без веры в Воскресение вообще бы не могло существовать христианство. Христианская церковь никогда бы не возникла, движение последователей Христа с Его казнью зашипело бы и погасло бы подобно подмоченному пороху. Христианство либо истинно, либо ложно в зависимости от истинности воскресения. Докажите, что воскресения не было – и вы избавитесь от христианства."
Таким образом, «Воскресение Христа становится безусловно ключевым вопросом, от которого зависит истинность или ложность христианской религии. Это либо величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества» – заключает известный историк церкви Филипп Шафф.
Однако материалисты придерживаются иных взглядов на Воскресение Христа из мертвых: евангельских свидетельств явно недостаточно, чтобы можно было допустить возможность подобного чуда. Любые свидетельства, тем более исторические, должны, как минимум, отвечать следующим требованиям:1. свидетельства исходят от лица, непосредственно участвовавшего в событиях;2. автор беспристрастен, т. е. у него нет личной заинтересованности;3. описание места событий и их участников подтверждается документами и показаниями других свидетелей, т. е. описываемые события исторически достоверны.
Отвечают ли свидетельства Нового Завета этим требованиям?
Были ли авторы Евангелий очевидцами тех событий, о которых пишут?
– Самым первым из синоптических евангелий считается евангелие от Марка, затем следует евангелие от Матфея и, наконец, Луки, которые созданы не ранее 80-х или 90-х годов,т. е. примерно через 50–60 лет после казни Христа. Могли ли авторы евангелий быть современниками или учениками Иисуса? Сами евангелисты не отрицают того, что они не являлись очевидцами событий. Напр., Лука пишет, что он излагает материал так, "как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова" (Лука, 1:2). А автор четвертого, самого позднего евангелия прямо говорит о том, что не был свидетелем распятия Иисуса и что описывает все со слов другого человека: "И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили" (19:35).
Являются ли авторы беспристрастными жизнеописателями Иисуса?
– Бесспорно, не являются. Их цель диаметрально противоположна: они страстно хотят, чтобы их свидетельству поверило как можно больше людей. Сами евангелисты не скрывают своих целей. Марк, например, в заключительной главе евангелия пишет: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (16:16).
Поскольку в евангелиях речь идет о событиях, происходящих в Иудее и Галилее в первом веке, свидетельство очевидцев должно было быть более достоверным. Подобных описаний мы не находим, за исключением отдельных намёков, которые скорее всего, как показывают исследования, являются более поздними вставками.
Но несмотря на то, что евангелия были написаны людьми, которые, скорее всего, не были свидетелями описанных событий; при том, что евангелия расходятся друг с другом почти в каждой детали своих повествований о центральном событии – Воскресении, а иногда и прямо противоречат друг другу, – тем не менее, как показали последние исследования учёных-новозаветников, при соответствующем подходе, вооружившись современными методами исследований, можно использовать евангелия как источники для понимания истории Иисуса Христа – Человека, который стал Богом.
Истории, связанные с Воскресением Иисуса, были дополнены, приукрашены, изменены, а возможно, даже выдуманы по мере того, как они в течение долгого времени рассказывались и пересказывались, много лет передаваясь из уст в уста. Историки не в состоянии использовать методы исторической науки, чтобы подтвердить, что Иисус действительно воскрес из мертвых, даже если они лично в этом уверены. Если историк (или кто-либо другой) верит в реальность Воскресения, то лишь благодаря собственным религиозным убеждениям, а не благодаря историческим исследованиям. Люди неверующие не могут опровергнуть факт Воскресения на чисто исторических основаниях, потому, что вера в Воскресение Иисуса (или ее отсутствие) – предмет религиозного убеждения, а не исторического познания.
Глава 4. Основные линии "системы доказательств" историчности Воскресения
Обычно апологетами христианства приводятся три основные линии доказательств Воскресения: 1) свидетельство апостолов, которые шли на смерть, отстаивая истинность Воскресения Иисуса; 2) обнаружение пустой гробницы, в которой было захоронено тело Иисуса после снятия с креста, и 3) явления Воскресшего апостолам.
Свидетельство апостолов считается одним из наиболее важных и мощных аргументов, доказывающих историчность Воскресения, Этот аргумент связан с невозможностью, по мнению верующих, дать логичный ответ на вопросы: Если все это было просто ложь, то почему они (ученики и последователи Христа) сознательно цеплялись за нее, терпя преследования, тюремные заключения, пытки и смерть? Как могли робкие, трусливые в начале Проповеди Иисуса ученики, уверовав в Воскресение, настолько «трансформироваться», что пошли на пытки и смерть ради свидетельства о Воскресении Христа?
Материалисты считают, что готовность умереть за веру – свидетельство сильной веры, но не свидетельство истинной веры. Есть множество исторических примеров того, как люди умирали за ложь, полагая, что служат общему благу. Такого рода аргументы можно применить и к тоталитарным сектам. Многие адепты тоталитарных сект с радостью жертвуют своей жизнью ради достижения целей секты. Были секты, в которых люди шли на самосожжение, будучи полностью уверены, что их ведет на это посланник Бога. Разумеется, не следует причислять христианство к тоталитарным сектам. Просто это иллюстрация того, что убежденность сторонников учения не является доказательством их правоты. К тому же свидетельство апостолов о Воскресении Иисуса являлось лишь косвенным доказательством, поскольку они лично были свидетелями не события Воскресения, а явлений Иисуса после смерти на кресте (или веры в достоверность этих явлений).
Смерть Христа была тяжёлым ударом для учеников, которые тосковали о нём и вероятно, чувствовали свою вину за то, что, спасаясь, покинули Учителя. Помимо этого психологического феномена, необходимо отметить суеверия и сильную склонность к мистике. Мученическая смерть за того, кто многими уже считался Мессией и даже Богом, и вера в будущую вечную жизнь придавала огромный смысл и оправдывала мученичество. Необходимо также заметить, что историческое подтверждение (у И. Флавия) имеется только относительно смерти Иакова, брата Иисуса; сведения о др. апостолах – из области преданий и легенд. У нас нет никаких свидетельств, доказывающих, что все они пострадали за свою веру, многие из них могли избежать мученичества.
Но если о мученичестве самих апостолов, непосредственных «свидетелей», никаких доподлинных сведений не имеется, то о мученичестве и "подвигах веры" их последователей, безымянных фанатиков, преисполненных воодушевления и веры своим наставникам, известно доподлинно. Христианские мученики обрекали себя на страшные мучения за веру в Воскресение Христа, за его победу над смертью. Часто упоминается, как при Нероне из христиан устраивали живые факелы и отдавали на растерзание зверям в цирке, но они стойко выносили мучения и готовы были умереть – умереть за свою веру, за Иисуса Христа.
Один из крупнейших современных библеистов, Англиканский епископ Н. Т. Райт исходит из того, что «есть две вещи, которые можно с уверенностью отнести к историческим фактам: – это пустой гроб и встречи с воскресшим Иисусом». Именно эти два факта, взятые вместе, по его мнению, дают основания для появления веры в Воскресение Иисуса, в то время как все иные объяснения не в силах убедительно интерпретировать этот факт. Под конец книги автор приводит читателя к следующему выводу: «историку, независимо от его убеждений, не остается иного выбора, кроме как согласиться, что и пустой гроб и "встречи” с Иисусом – это "исторические события”… это реальные события; это значимые события; они доказуемы – согласно обычным критериям исторической науки».
Далее эти "исторические события" – обнаружение пустой гробницы и явления Иисуса после распятия – рассматриваются с позиции христиан и материалистов-скептиков.
Глава 5. Объяснения "пустой гробницы"
Гробница, в которой был захоронен Иисус, на третий день после распятия была обнаружена пустой: Его тело исчезло. Ученики Христа объясняли это Воскресением: Бог сотворил чудо, воскресив Иисуса из мертвых. Сама "пустая гробница" не могла бы породить веру в телесное Воскресение Христа. Ап. Павел ничего не сообщает о пустой гробнице. Мария Магдалина, увидев пустую гробницу, думает, что кто-то перенес тело в другое место (Ин 20:1–13), и только когда Иисус является ей, она начинает верить (20:14–18). У учеников также вера в то, что «Христос-воскрес», не возникла сразу после обнаружения пустой гробницы. Однако, вера в Воскресение Иисуса не могла бы успешно проповедоваться, не будь гробница Иисуса пустой. так как противники христианства попросту продемонстрировали бы останки Иисуса. Поэтому "пустая гробница" рассматривается апологетами как одно из свидетельств факта – Воскресения Иисуса Христа.
Материалисты утверждают, что евангельских сведений недостаточно, чтобы считать историческим фактом такое сверхъестественное событие как воскрешение из мертвых на третий день после смерти и приводят рационалистические версии, объясняющие исчезновение тела из гроба.
Многие христианские исследователи для доказательства историчности Воскресения с "сугубо рациональных позиций "используют следующую систему доказательств. Они перечисляют серию версий, предлагаемых для материалистического объяснения необычайных событий, последовавших за казнью Иисуса Христа, и опровергнув их с разной степенью убедительности, методом исключения приходят к выводу: "объяснить исчезновение тела из гробницы и последующие явления Христа с материалистических позиций – невозможно: следовательно, мы имеем дело с прямым вмешательством Бога в дела земные". Авторы (Дж. Макдауэлл, Б. Гладков и др.) приводили и последовательно опровергали возражения материалистов против действительности Воскресения Иисуса Христа.:
1. Рационалисты: Женщины перепутали гробницу.
Возражение христиан:
– Маловероятно, ибо, во-первых, их ошибку легко было исправить: когда началась проповедь о воскресении, Иосиф Аримафейский указал бы им на недоразумение, и уж тем более, Синедрион оперативно продемонстрировал бы тело Иисуса. Во-вторых, если за казнью женщины наблюдали издалека (Мк 15:40), потому что подойти ближе мешало армейское оцепление, то наблюдать за погребением они могли с очень близкого расстояния. Ни из чего не видно, что что-то мешало им подойти поближе. В-третьих, данная гипотеза предполагает существование другой пустой гробницы, более-менее похожей, в которой, возможно, тоже лежали погребальные пелены (Ин 20:5).
2. Рационалисты: Иосиф Аримафейский или кто-то из других друзей Иисуса перезахоронил тело.
Возражение:
– Опять же маловероятно: дело не только в том, что Иосиф впоследствии указал бы христианам на ошибку, но и в том, зачем он стал бы это делать. Гробница для Иисуса уже найдена: зачем искать ещё какую-то другую? Да и тревожить останки неблагочестиво. К тому же, если женщины пришли к гробнице рано утром в воскресенье, не вполне ясно, когда можно было успеть с переносом тела: в субботу иудеи не стали бы заниматься такими вещами.
3. Рационалисты; Тело перезахоронили по приказу Синедриона или Пилата.
Возражение:
– Допустим, власти спохватились, что им лучше держать тело Иисуса («на всякий случай») под контролем. Однако после начала христианской проповеди о Воскресении такой «всякий случай» как нельзя более оправдался бы: Синедрион триумфально продемонстрировал бы останки Иисуса. Этого не последовало, а значит, тела у них не было, и где оно находится, они тоже не знали. Наиболее вероятно, что, если бы даже властям пришло в голову контролировать останки (что само по себе сомнительно), они скорее поставили бы стражу (как о том сообщает
Матфей): это намного проще, чем переносить тело и искать для него новую гробницу.
4. Рационалисты: Ученики выкрали тело.
Возражение:
– Опять же сомнительно: зачем они бы стали это делать? Во имя торжества своей «идеи»? Но распятие Иисуса разрушило саму их идею: сначала погиб Иоанн Креститель, потом ещё Иисус, обещанное Царство Божие пока не пришло, – ученики не могли не рассматривать это как знак, что их учителя, увы, ошибались. Подобной ложью они обманули бы, главным образом, самих себя. Никакой корысти они получить не могли: наоборот, стало ясно, что связывать себя с именем Иисуса – значит подвергать себя смертельному риску. В данном же случае мы видим, что ученики пошли не просто на смертельный риск, но и как минимум, некоторые из них пошли даже на мученичество за проповедь о воскресшем Мессии-Иисусе Христе.
Другими словами, истинность тезиса (т. е. утверждение: Воскресение – это исторический факт) устанавливалась путем доказательства ошибочности противоположного ему допущения. Используемый в такой схеме последовательный перебор и опровержение альтернатив имеет смысл только в том случае, когда изучены и опровергнуты ВСЕ мыслимые материалистические версии. Однако при таком способе «доказательств» учитываются далеко не все возможные варианты развития событий. Всегда остаётся теоретическая возможность того, что какие-то человеческие мотивы мы поняли неправильно. Более того, историк никогда не может исключать возможность такого стечения обстоятельств, которое мы сейчас не можем предположить или счесть вероятным.
В качестве примера рассмотрим четвертый вариант, в котором приводится материалистическая версия о том, что ученики могли выкрасть тело Христа. Опровержением этой версии является, с точки зрения христианских критиков, ее неправдоподобие: если бы ученики выкрали тело Иисуса, подобной ложью они обманули бы, главным образом, самих себя. В данном же случае мы видим, что некоторые из них пошли даже на мученичество за проповедь о воскресшем Мессии. Никто не стал бы умирать за заведомо известную ложь. В ответ на это «возражение» материалист может привести «опровержение»: тело могло быть вынесено не только из желания обманом подтвердить факт Воскресения. Примером может служить версия об извлечении тела из гробницы, предложенная Эрнестом Ренаном. Согласно этой версии, тело могло быть взято несколькими учениками и перевезено в Галилею для окончательного захоронения. Остальные ученики, оставшиеся в Иерусалиме, могли не знать об этом. Те же, которые унесли тело в Галилею, могли не знать ничего о том, что происходило в Иерусалиме: вера в Воскресение возникла без них и оказалась для них неожиданностью. Можно также указать время, в течение которого тело могло быть извлечено из гробницы. Стражники были приведены первосвященниками на "другой день, после пятницы", т. е. в субботу. Т. образом, тело не охранялось весь вечер и ночь с пятницы на субботу. О том, что гроб осматривался, ничего не сказано. Упоминание у Матфея о печати на камне имеет один смысл: после наложения печати гробница не открывалась. Однако, открытие гроба могло произойти до того, как была приложена печать, и это было бы нетрудным делом: камень было вполне возможно сдвинуть и одному человеку: в евангелии сказано, что Иосиф смог привалить " большой камень к двери гроба", после чего удалился (Мф 27:60). Можно найти и другие, совершенно реалистичные, внутренне непротиворечивые «сценарии», опровергающие «возражения» апологетов. Эти материалистические версии предлагают решение проблемы, каким образом ранее занятая телом Христа гробница вдруг опустела, и любая из этих версий, строго говоря, более правдоподобна, чем вмешательство Бога.
На каждое из «возражений» на другие рационалистичские гипотезы можно, в свою очередь, привести аргументы, доказывающие их несостоятельность.
В примере с выносом тела из гробницы главное – то, что такая возможность изъятия тела была, и об этом говорит анализ сведений, оставленных самими авторами четырёх Евангелий. А поскольку существует возможность объяснить исчезновение тела Иисуса Христа из гроба, где Он был захоронен, естественным образом, следовательно, для объяснения этого исчезновения с помощью чуда нет оснований.
Как уже говорилось, вера в Воскресение Христа возникла не как результат обнаружения пустой гробницы. Отсутствие в гробу тела можно объяснить множеством версий, но ни одна из них не могла бы убедить учеников в том, что после смерти Бог воскресил Иисуса. Основа их ВЕРЫ в Воскресение – личные переживания: явления им Иисуса Христа после распятия. Пустая гробница лишь усиливает, создает дополнительные предпосылки для веры в Воскресение Иисуса Христа, веры такой несокрушимой силы, что многие действительно, отдавали за нее свои жизни, чем несомненно, вселяли веру в тех, кто были свидетелями этого.
Глава 6. Явления воскресшего Иисуса Христа
Хотя Иисус постоянно говорил о воскресении из мертвых и о новой жизни, но никогда не высказывал определенно, что сам Он воскреснет телесно (Мк.16:11), а если Иисус и говорил это, то апостолы совершенно не поняли Его (Мк.9:10,32; Лк.18:34). Впервые услышав про Воскресение, они проявили недоверие, даже изумление. Но через небольшой промежуток времени уже сложилась легенда: в воскресенье вечером (16 нисана – 5 апреля) факт воскресения Иисуса признавался всеми…
По единодушному свидетельству евангелистов, Иисус, погребенный в пятницу вечером, пролежал субботу в гробу и затем воскрес из мертвых в воскресенье утром (Мф. 28:1; Мк. 16:1; Лк. 24:1; Ин. 20:1), однако, сообщения о том, чтобы кто-нибудь сам видел это происшествие, нет ни в одном евангелии. По словам Матфея, у гроба стояла стража, но ослепленные сиянием сошедшего с небес ангела стражники пали, как мертвые, и, следовательно, тоже не видали, как «ангел отвалил камень и вывел Иисуса из гроба». Но вслед за тем, по сообщению всех евангелистов, к гробу являются женщины и, найдя камень отваленным, узнают от ангела (или ангелов) о Воскресении Иисуса, что вскоре подтверждается явлением самого Воскресшего.
Христианские апологеты утверждают, что без фактического воскресения Иисуса, одним из "неопровержимых доказательств" которого являются его посмертные явления, не могла бы возникнуть и христианская община.
Первое сообщение о том, как появилась вера в воскресение Иисуса среди его учеников, мы находим у апостола Павла, однако, сам он не был очевидцем тех «явлений», на которых утверждалась эта вера, о них он даже и по собственному признанию сообщает лишь со слов других:
«Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам;а после всех явился и мне, как некоему извергу.» (1 Кор.15:3–7)
Следует заметить, что Павел-единственный, кто упоминает об этом событии – явлении «пятистам братиям», и если оно действительно произошло, то трудно объяснить, почему оно так и не попало в Евангелия, ставившие целью доказать, что Иисус физически воскрес из мёртвых. Можно предположить, что если бы это событие действительно имело место, оно дало бы мощный толчок развитию христианства, которого не наблюдалось в I веке, и убедило бы евреев, живших в Иерусалиме и его окрестностях, в том, что Иисус был истинным Мессией. Но даже если Павел точно передает сведения, то это ничем не отличается от заявлений больших групп людей, утверждающих, будто они «видели» Деву Марию или НЛО.
Отдельные рассказы евангелистов о явлении воскресшего Иисуса не трудно свести к происшествиям вполне естественного характера.
По сообщению Луки, на второй день после казни Иисуса двое учеников, идя полем из Иерусалима, встретили незнакомца, который объяснил им во вдохновенной речи смерть Мессии и ее значение, и в то мгновение, когда он в вечерних сумерках стал удаляться от них, они подумали, что он – сам Иисус.
В добавочной главе к четвертому евангелию имеется такой рассказ: несколько учеников, ловя рано утром рыбу с лодки на Тивериадском озере, увидали на берегу незнакомца, который подал им удачный совет относительно закидывания сетей и которого они за это признали «Господом», хотя и не решились спросить его, действительно ли он Иисус.
Признав эти рассказы, по существу, историческими, можно допустить, что ученики Иисуса, взволнованные внезапной его смертью и постоянно вспоминая его образ, легко могли принять за утраченного ими Учителя первого встречного незнакомца, если он сталкивался с ними при необычных условиях и производил на них сколько-нибудь сильное впечатление. К тому же и в истории можно указать немалое число примеров такой же иллюзии, имеющих место при аналогичных обстоятельствах.
Суммируя результаты исследования подобных видений, Дейл Аллисон отмечает, что они обычно влекут за собой ощущение, будто умерший продолжает находиться рядом со скорбящим, иногда даже в одной с ним комнате. Такие видения чаще всего имеют место тогда, когда скорбящий человек испытывает чувство тяжелой утраты, скорби или чувство вины из-за того или иного аспекта его отношений с покойным. Вспомним, что в час нужды все ученики либо предали, либо бежали, либо отреклись от Иисуса. Нередко страдающие от тяжелой утраты стремятся искать утешения в обществе других людей, которые помнят их близких и передают рассказы о них. Все эти черты тесно связаны с тем, что мы имеем в случае с Иисусом – горячо любимым Учителем, который встретил безвременную смерть. В этих «встречах» с потерянными близкими нет ничего уникального, они исследованы и получили рациональное обьяснение. Люди, переживающие подобные видения, почти всегда искренне верят в их достоверность.
Когда мы говорим, что некоторые из учеников почти наверняка имели «видения» Иисуса после его смерти, под «видением» мы имеем в виду то, что можно «видеть», вне зависимости от того, существует ли это на самом деле или нет. Специалисты, изучающие «видения», выделяют среди них «достоверные», то есть отражающие реальные события, и «недостоверные» – то есть человек видит то, чего на самом деле не существует.
Когда речь заходит о видениях Иисуса, которые пережили его ученики, верующие христиане обыкновенно утверждают, что за ними стоит внешняя реальность – то есть, что Иисус действительно явился этим людям. Любой, придерживающийся данной точки зрения, скорее всего, назовет эти «достоверные» видения «явлениями» Иисуса, но их оппоненты скажут, что эти видения были «недостоверными», возможно, вызванными определенными психологическими или нейрофизиологическими факторами и скорее всего, назовут эти видения галлюцинациями.
«Диагностический и статистический справочник по умственным расстройствам», изданный Американской психиатрической ассоциацией, определяет галлюцинацию как «сенсорное ощущение, которое обладает той же убедительностью, что и истинное восприятие реальности, но которое происходит без внешнего воздействия на соответствующий орган чувств». Многие дебаты по поводу Воскресения сосредоточены именно на этом вопросе – были ли видения учеников достоверными или нет.
Большинство исследователей Нового Завета – сами верующие христиане и потому, естественно, склонны принимать христианскую точку зрения на данный вопрос – то есть, что видения были подлинными явлениями Иисуса его последователям. Но другие видные исследователи Нового Завета выступают с противоположной точкой зрения. Например, немецкий библеист-скептик Герд Людеман считает, что видения Иисуса, которые пережили Магдалина, Петр, а затем Павел, были вызваны психологическими факторами.
По мнению Барта Эрмана, вне зависимости от того, были ли видения последователей Иисуса достоверными или нет, результат будет одним и тем же: эти видения привели последователей Иисуса к вере в то, что Иисус воскрес из мертвых. Поэтому можно не зацикливаться как на богословских, так и антибогословских предпосылках, а также предубеждениях как «за», так и «против» сверхъестественного, но просто довольствоваться замечанием, что переживания учеников, были ли они галлюцинациями или нет, были подлинными переживаниями, которые по крайней мере по их мнению, брали начало за пределами их субъективного восприятия.
Можно предположить, что Мария Магдалина и Петр были первыми, кто испытал субъективные переживания или убеждение, что Иисус жив. Позже это убеждение передалось другим последователям Иисуса, которые пришли к заключению, что Он воскрес.
Заявление Марка (16: 9) о том, что Иисус "явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов", – весьма знаменательно: у такой женщины при ее физическом и душевном состоянии внутреннее возбуждение легко могло разрешиться видением.
И мужчинам той эпохи и при тогдашнем уровне образования также было не чуждо подобное душевное состояние, Что касается Петра, то и он, видимо, был предрасположен к разным видениям, и в подтверждение этого можно указать указать на происшествие (Деян. гл. 10), когда неожиданно среди бела дня во время молитвы на кровле дома он пришел в исступление и увидел сходящий с неба как бы полотняный сосуд, наполненный разными зверями, и услыхал из отверстого неба некий глас. Об Иакове, проводившем долгие часы в молитвах, сохранилось в Евангелии Евреев предание, что после многодневного поста ему явился воскресший Иисус; признав этот рассказ исторически верным и сравнив его с рассказом о Петре в Деяниях апостолов (10: 10), мы снова приходим к тому выводу, что явления Иисуса были видениями, галлюцинациями…"
Д. Штраус (1808–1874 г) и Э. Ренан (1823–1892 г) были популяризаторами теории галюцинации;ее разделяют Барт Эрман, Джеймс Элисон, Герд Людеман и многие др ученые, дополнив данными современных научных исследований. Визионерская теория обрела новую жизнь в 20–21 веке.
Как писал психолог Д. Роклифф: «Где есть вера в чудеса, там всегда будут доказательства их существования. Вера производит галлюцинации, а галлюцинации подтверждают убеждение".
Блаженны не видевшие и уверовавшие"
«Заразительность» – это свойство того состояния верующих, в котором рождаются экстаз и видения: среди сборища людей одних верований достаточно одному сказать, что он видит или слышит что-нибудь сверхъестественное, чтобы остальные увидели и услышали то же. Экзальтация одного передается всем; никто не хочет остаться позади, сознаться в меньшей своей впечатлительности. Те же, кто действительно не видит и не слышит ничего, боятся признать открыто свое бессилие, так как это может омрачить торжество одних и вообще повести к неприятным последствиям. Таким образом, когда один из собравшихся видит призрак, то естественно, что и остальные видят его или принимают на веру. Все ученики Христа верили в привидения, во всевозможные чудеса. В такой среде вера в чудо-Воскресение Иисуса распространилась необыкновенно легко, а раз явилась вера в Воскресение Иисуса, неизбежно надо было ожидать и его явлений. Так и случилось. Изречение Иисуса: "Блаженны не видевшие и уверовавшие… Благословенны те, кто поверил, не видя Меня" (Ин 20:29) стало лозунгом. Нравственое значение веры тем сильнее, чем сверхъестественнее то, во что веруешь.
В первые дни после смерти Иисуса верующие были, так сказать, в состоянии сильнейшей лихорадки, действуя друг на друга, заражая друг друга своей экзальтацией, не зная предела своей фантазии. Число галлюцинаций росло с каждым днем. Чаще всего они являлись во время вечерних собраний. Через несколько дней распространялась уже целая серия рассказов, проникнутых одним и тем же духом беззаветной веры. В воскресенье вечером (16 нисана – 5 апреля) факт Воскресения Иисуса уже признавался всеми. А восемь дней спустя были установлены главнейшие моменты жизни Иисуса после воскресения (По книге Э. Ренана «Апостолы).
Традиция сомнений
При рассмотрении значения видений Иисуса на передний план выходит один ключевой вопрос: почему дошедшая до нас традиция так упорно подчеркивает, что некоторые из учеников «усомнились» в Воскресении, даже несмотря на то, что Иисус сам явился им? Если Иисус после своей смерти предстал перед ними живым и разговаривал с ними, в чем тут было сомневаться?
Причина, по которой этот вопрос встает столь настоятельно, заключается в том, что, современные исследования на тему видений показали, что эти видения почти всегда вызывают доверие у тех людей, которые их испытывают. Так почему же видения Иисуса не всегда вызывали доверие? Или, точнее, почему они постоянно подвергались сомнению?
В Мф 28:17 говорится, что Иисус явился одиннадцати ученикам, но некоторые из них «усомнились». Почему же они усомнились, если Иисус находился прямо здесь, перед ними?
В Лк 24, когда женщины сообщили о Воскресении Иисуса, их слова показались ученикам «бредом» и они им не поверили (24:10–11). И затем, даже когда сам Иисус явился им, ему пришлось доказать, что он – не «дух», позволив им себя ощупать. Но и этого оказалось недостаточно: ему потребовалось съесть кусок печеной рыбы, чтобы в конце концов убедить их (24:37–43).
У Иоанна даже когда ученики видят Иисуса, они не верят, что это он. Вот почему ему приходится показать им раны на руках и на ребрах, чтобы их убедить (Ин 20:20). То же и в случае с Фомой Неверующим: он видит Иисуса, но его сомнения преодолены лишь тогда, когда его просят проверить раны физически (Ин 20:24–28).
В Деян 1:3 сказано, что после своего воскресения Иисус пребывал с учениками сорок дней, показывая им себя живым «со многими доказательствами». Сколько же всего доказательств было нужно? И неужели потребовалось целых сорок дней, чтобы их убедить?
С традицией сомнения тесно связаны те явления Иисуса ученикам после Воскресения, когда они его не узнают. Таков лейтмотив знаменитого рассказа о двух учениках по дороге в Эммаус в Лк 24:13–31. Аналогично в Ин 20:14–16 Мария Магдалина первой видит воскресшего Иисуса, но не сразу узнает его, думая, что говорит с садовником. Точно так же в Ин 21:4–8 Иисус является ученикам на берегу и разговаривает с ними, но они долго не узнают его.
Люди, имеющие видения, обычно склонны не сомневаться в них. В сообщениях людей о своем визионерском опыте главное-это то, что они настаивают, что их видения были подлинными, а не просто «родились в их головах». Это применимо ко всем – и к тем людям, которые видели потерянных близких и разговаривали с ними; и к тем, которым являлись какие-либо почитаемые религиозные персонажи, такие, как Пресвятая Дева Мария, и к тем, кто утверждают, будто они были похищены НЛО. Люди, имеющие видения, обычно на самом деле верят в них. Тем не менее, многие ученики им не поверили, пока не получили «доказательства».
Гипотеза заключается в том, что трое или четверо из этих людей имели видения Иисуса спустя некоторое время после его смерти. Одним из них почти наверняка был Петр, поскольку сообщения о явлении ему Иисуса встречаются во всех источниках, включая и самый ранний из них, – у Павла в 1 Кор 15:5. При этом следует подчеркнуть, что Павел знал Петра лично. Сам Павел тоже утверждает, что ему было видение Иисуса, и можно поверить ему на слово, что он действительно был убежден, будто Иисус ему явился.
Мария Магдалина упоминается лишь в одном месте во всем НЗ в связи с Иисусом во время его общественного служения (Лк 8:1–3), и тем не менее, она первая, кто возвестил о Воскресении Иисуса. Правдоподобное объяснение состоит в том, что она имела видение Иисуса после его смерти.
Эти трое, то есть Петр, Павел и Мария Магдалина, и вероятно, Иаков, брат Иисуса, и некоторые другие, по-видимому, рассказали о своих видениях остальным. Многие из их близких друзей и сторонников поверили им и пришли к мысли, что Иисус воскрес из мертвых. Но, возможно, некоторые из первоначальной группы учеников в это не поверили. Это могло бы объяснить, почему в евангелиях существует такая сильная традиция сомнения и почему у Луки, Иоанна и особенно, в Деяниях апостолов делается акцент на том обстоятельстве, что Иисусу пришлось дать «доказательства» своего воскресения из мертвых, даже когда он предположительно находился в присутствии учеников. (Но есть и др. предположения).
С исторической точки зрения, лишь немногие люди имели видения и не все из них им поверили. Мария не сомневалась в том, что она видела, как и Петр, и Павел. Но другие сомневались. Однако по мере того, как истории о «явлениях» Иисуса рассказывались и пересказывались, они, разумеется, приукрашивались, преувеличивались и даже выдумывались, так что очень скоро – вероятно спустя несколько лет, – стали утверждать, будто все ученики, наряду с другими людьми, видели Иисуса.
Что говорит наука о галлюцинациях?
Наиболее серьезные исследования, посвященные видениям, касаются тех из них, которые недостоверны, – по очевидной причине. Люди, видящие то, что находится перед их глазами, просто видят то, что есть. Но как и почему люди видят то, что не находится перед их глазами? Несмотря на то, что опубликована масса работ, посвященных как исследованиям галлюцинации, так и её критике, до настоящего времени единой теории, объясняющей механизм этого явления.
Индивидуальная галлюцинация – это образ, возникающий в сознании при отсутствии внешнего раздражителя органов чувств, качественно схожий с реально воспринимаемым объектом. Галлюцинация воспринимается человеком словно реальный объект, возникший во внешнем мире, и может вызываться самыми разнообразными причинами Галлюцинации могут возникать и у здоровых людей при определённых обстоятельствах.
Коллективные (массовые) галлюцинации – это явление, в самой основе которого всегда будет лежать конформизм, определенная установка восприятия, сниженная критичность по отношению к увиденному, а зачастую – нестабильный эмоциональный фон. Но главное – готовность людей поверить не только своим глазам, но и глазам другого человека, чтобы быть причастным к чему-то поражающему.
Рассказы о явлениях воскресшего Христа объясняли визионерством учеников (т. е. склонностью их к видениям мистического характера) еще на заре христианства. Например, такая гипотеза содержалась в трактате римского философа Цельса «Истинное слово», написанном в 170-х годах н. э. Популяризаторами теории были Д. Штраус и Э. Ренан. В России исследования в этом направлении проводились и описаны В. М. Бехтеревым. Визионерская теория обрела новую жизнь в 20–21 веке. В конечном итоге, большинство исследователей считают, что "современная теория галлюцинаций приходит к выводу о том, что апостолы испытали некие субъективные переживания, вызвавшие веру в Воскресение, и мы можем лишь анализировать последствия этих переживаний, но не можем судить об их природе".
Исторические примеры массовых галлюцинаций в современном мире
Боьшинство христианских апологетов утверждают, что "Массовые галлюцинации " не могли иметь места, т. к. "свыше пятисот братьев", которым явился Иисус, не могли вообразить себе это в одно и то же время.
Людеманн заключает, что для объяснения массовой галлюцинаций учеников, необходимы галлюцинаторные видения, которые наряду со "слуховыми особенностями” произвели "стимулирование”, "энтузиазм”, "религиозное опьянение” и "’экстаз” у одного или нескольких человек. Убежденность Петра в явлениях ему Иисуса распространилось на остальных учеников посредством "непередаваемой цепной реакции”. Эти явления были коллективными, и поднимались к "массовому экстазу”. В принципе массовая галлюцинация выдаёт желаемое за действительное или реальное событие.
Не углубляясь в малоизученные вопросы, связанные с механизмом галлюцинации, следует отметить, что главное возражение апологетам заключается в том, что случаи массового гипноза или массовых галлюцинаций действительно наблюдались, многократно описаны и подтверждаются документально.
Видения почитаемых религиозных персонажей относятся к числу лучше всего задокументированных разновидностей визионерского опыта и не раз описаны в научной и околонаучной литературе. Наиболее интересны исследования в этом направлении профессиональных психологов и психиатров. Ниже приводятся несколько исторических примеров коллективных галлюцинаций, описанных В. М. Бехтеровым в книге «.Внушение и его роль в общественной жизни».
Известны многие исторические примеры коллективных галлюцинаций. К числу таких галлюцинаций относятся видение небесной рати одним отрядом русских войск пред Куликовской битвой; видение крестоносцами закованной в латы и нисходящей с неба небесной рати под предводительством святых; видение светлого рыцаря на Елеонской горе, махающего крестом, во время штурма Иерусалима; известное видение креста на небе с надписью "сим победишь”, испытанное Константином Великим и его свитой перед началом решительной битвы и мн. др. Массовые религиозные видения случались неоднократно и в позднейшее время.
В период тяжелой холерной эпидемии в 1885 году жители деревни Корано близ Неаполя начали видеть Мадонну в черном одеянии, молящуюся за спасение людей на ближайшем холме, где стояла часовня. Слух об этом происшествии быстро распространился по окрестностям, и в Корано начал стекаться народ. Видение продолжалось до тех пор, пока правительство не предприняло решительных мер против дальнейшего распространения этой эпидемической галлюцинации. Часовня была перенесена на другое место, холм же был занят отрядом карабинеров, после чего видение прекратилось. Данная история стала одним из известнейших исторических примеров массовой галлюцинации.
Известна также галлюцинаторная эпидемия, развившаяся в среде крестьян Прирейнской провинции во время Франко-Прусской войны и выразившаяся массовыми видениями религиозного и военного содержания, как, например, видениями на коньках крыш, на стеклах и других предметах изображений Мадонны, распятия, пушек и т. п.
Подобные видения, как считает Бехтерев, объяснимы с точки зрения взаимовнушения совершенно невольного со стороны одних лиц на других. Когда господствует в населении или в группе лиц то или другое настроение и когда мысль работает в известном направлении, тогда у того или другого лица, особенно с психическою неуравновешенностью, легко появляются обманы чувств, по содержанию отвечающие настроению и направлению его мысли, которые тотчас же путем невольного внушения словесного или иного, сообщаются и другим лицам, находящимся в одинаковых психических условиях.
В связи с подобными явлениями Бехтерев говорит о т. наз. «психотических заражениях».…
В вышеприведенных примерах дело идет без сомнения о таких случаях, которые отличаются особой восприимчивостью к психическим влияниям со стороны других лиц. Однако, не подлежит сомнению, что в некоторых случаях передача «психической инфекции» представляется крайне облегченною и среди совершенно здоровых лиц. Особенно благоприятными условиями для такой передачи являются господствующие в сознании многих лиц идеи одного и того же рода и одинаковые по характеру аффекты и настроения. Благодаря этим условиям развиваются между прочим иллюзии и галлюцинации тождественного характера у многих лиц одновременно, т. е. коллективные, или массовые, галлюцинации,
Многочисленные примеры массовых явлений Девы Марии описаны в книгах известных «экспертов по видениям», таких как, напр., Рене Лорантен – современный католический богослов, обладатель диплома по философии университета Сорбонна, имеющий две докторские степени. который написал множество книг по данному вопросу. Он глубоко и искренне верит, что Мария, мать Иисуса, скончавшаяся две тысячи лет назад, действительно являлась людям и продолжает делать это в наши дни. Книга «Встречи с Марией: явления Пресвятой Матери» Дженис Коннелл (1995 г) содержит 14 глав с детальными описаниями явлений Марии, данными с точки зрения верующего человека. Суть не в том, что Мария на самом деле являлась в указанное время и в указанных местах, но в том, что люди глубоко в это верят. И не только те люди, которых мы можем «сбросить со счетов» как особенно склонных к суевериям, но и те, от которых мы вправе ожидать большего.
Действительно ли подобные чудеса случаются? Верующие ответят «да», неверующие – «нет». Но удивительно и достойно внимания то, что обычно верующие, укорененные в одной религиозной традиции, часто настаивают на «доказательствах» чудес, подтверждающих их точку зрения, и полностью игнорируют похожие «доказательства» чудес, отмеченных в других религиозных традициях, хотя в конечном счете набор свидетельств один и тот же (например, показания "очевидцев"), а число их может быть даже большим. Так, протестантские апологеты, заинтересованные в том, чтобы «доказать», что Иисус воскрес из мертвых, крайне редко склонны утверждать подобное в отношении к явлениям девы Марии.
Критика достоверности явлений
Некоторые критики достоверности явлений считают, что можно предположить, что все «свидетели» имели дело не с плодами собственных воспоминаний, а с реальным человеком из плоти и крови.
Мог ли вследствие неузнаваемости Воскресший Иисус на деле быть Его «двойником» – «имитатором»?Человек, распятый между двумя разбойниками в полдень четырнадцатого числа весеннего месяца нисана, был ли он в действительности тем же самым, что шестью днями ранее въехал в Иерусалим под крики «осанна»? Учитывая неузнаваемость воскресшего Иисуса теми, кто его очень хорошо знал, можно ли предположить, что на среднем кресте мог висеть кто угодно, возможно, такой же разбойник, как и два других, которого после бичевания Иисуса нарядили в снятую с Него одежду.
Еще анитичный Порфирий писал:
"Чего ради Иисус после страстей своих и, как вы говорите, воскресения своего не явился Пилату… или Ироду, царю иудейскому, или первосвященнику иудейскому… особенно римскому сенату и народу, чтобы они прониклись удивлением перед его деяниями и не стали общим приговором осуждать на смерть его последователей за нечестивость. А между тем он является Марии Магдалине, которая была некогда одержима семью демонами, и нескольким другим не очень приметным людям; а ведь Матфей говорит, что Иисус предвещал иудейскому первосвященнику, говоря: "Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных". Если б он явился людям значительным, то через них все уверовали бы, и ни один судья не стал бы наказывать их, как измышляющих диковинные сказки; а ведь ни богу, ни разумному человеку не должно быть приятно, чтобы многие из-за него подвергались наихудшим наказаниям…"
«Почему Господь не явился своим убийцам и другим людям, не верующим в него, чтобы уже никому не пришло бы в голову сомневаться в истине Воскресения?» – еще во II веке критик христианства по имени Цельс в трактате «Правдивое слово» приводил это соображение как контраргумент против веры в Иисуса Христа.
И – поразительная деталь: ни один автор (ни евангелисты, ни апостол Павел) не сообщает о том, что воскресший Иисус явился своей матери! С точки зрения общечеловеческой логики, это совершенно немыслимо.
Можно, конечно, привести такой контраргумент, что Иисус проповедовал об отречении от семейных ценностей во имя высшей духовной цели, поэтому не счел нужным и в этой ситуации общаться с членами своей семьи.
Судя по текстам Евангелий, Мария не имела такой веры в Иисуса, какая была у апостолов. И она-то как раз не имела особых оснований ожидать Его Воскресения после казни. Следовательно, если бы Новый Завет описал встречу воскресшего Иисуса с Марией, то появился бы свидетель, гораздо менее предубежденный, чем апостолы: вряд ли мать могла бы ошибиться и спутать родного сына с садовником, случайным прохожим или «имитатором». И тогда сильные подозрения скептиков, что ученики принимали за воскресшего Иисуса других людей, были бы заметно слабее…
Отступление.
Пожалуй, самые удивительные не разгаданные" чудеса", являют индийские йоги. Как можно объяснить галлюцинацию, которую одновременно видят несколько человек? Современная наука не дает однозначного ответа на этот вопрос. По мнению некоторых ученых, массовые галлюцинации невозможны; согласно другим, мы просто ничего о них не знаем.
Вот уже много столетий остается загадкой индийский фокус с веревкой. Старик факир насвистывает на дудочке гипнотизирующую усыпляющую мелодию. Из плетеной корзины высовывается толстая крученая веревка, которая устремляется к небу. Помощник факира, обычно маленький мальчик, влезает по ней и спускается вниз, затем веревка распадается на куски, а потом снова складывается в первоначальную форму. У фокуса есть несколько модификаций. Например, вверх по канату залезает мальчик, за ним с ножом в руке влезает фокусник и оба они исчезают где-то наверху. Слышны крики, и потом на землю градом падают разрезанные на куски части тела. Фокусник спускается с окровавленным ножом, складывает куски в ящик, и потом из него выскакивает улыбающийся мальчик. Психологи также видели, как, собрав части мальчика в корзину, фокусник поднимался с ней по канату и спускался с живым мальчиком. Просмотрев это представление, отснятое на кинопленке, они были поражены: на экране факир и мальчик все время безразлично стояли подле веревки, свернутой кольцом на земле. В 1934 г. этот фокус был дважды повторен в Лондоне, причем второй сеанс организаторы сняли скрытыми кинокамерами. На проявленной пленке был виден лежащий на земле канат и удирающий в сторону кустов мальчик. Присутствовавшие зрители стали свидетелями события, которого в реальности не было.
В 1980 г. Уильям Сибрук описал к журнале «Лейдис хоум джорнэл» вариант этого фокуса, который он видел в Западной Африке: «Рядом со мной находилось два живых ребенка, которых я мог потрогать руками. На таком же расстоянии от меня находилось двое мужчин, вооруженных… стальными трехгранными острыми клинками. Оба фокусника крепко держали клинки в левой руке острием вверх и, подбросив детей высоко в воздух, поймали их на это острие… Крови не было… Зрители закричали и упали на колени. Одни закрыли глаза руками, другие оставались на земле без движения. Фокус оказался иллюзией, продемонстрированной зрителям, которые не могли поверить своим глазам. Весь спектакль оказался воображаемым!
«Разгадок» фокуса и его модификаций предложено масса, но до сих пор никому не удалось воспроизвести его. Если бы сегодня в Европе или Америке нашелся фокусник, сумевший повторить это, то он стал бы миллионером. Уже в наше время Дэвид Копперфильд, согласно сообщениям американской прессы, вел тайные переговоры о покупке секрета фокуса в Индии, предлагая за него несколько миллионов долларов. Эти переговоры ни к чему не привели. Данный фокус отличается древностью, считают, что ему больше тысячи лет. Найти разгадку фокуса можно только через веру самих факиров, но они нам никогда ничего не расскажут. Поэтому вряд ли мы можем сегодня узнать, какой такой управляемый через мальчика полтергейст поднимает веревку и какое искажение реальности заставляет видеть ребенка упавшим с нее, мертвым и кровавым. Это действительно воспринимается скорее как волшебство, чем фокус. Ибо оно укрепляет индусов в своей вере, является тайным, но одновременно – хранит ответ на важнейшие нерешенные вопросы человечества и является, возможно, тем звеном в понимании мира и материи, которое пока не может найти наука.
Материалисты считают, что всем описанным в евангелиях явлениям, связанным с Воскресением Иисуса Христа, можно дать рациональное объяснение, в отличие от христианских авторов, которые рассматривают их как чудо Воскрешения из мертвых, совершенное Богом. Как писал Д. Штраус, "признать подобное неслыханное чудо можно было бы лишь в одном случае – если оно подтверждается таким свидетельством, ложность которого была бы более немыслима, чем реальная действительность свидетельствуемого события".
Рациональные объяснения явлений Христа после распятия, основываясь на теории галлюцинаций, учитывая, что подобные примеры неоднократно наблюдались в истории и описаны в научной литературе, – являются вполне обоснованными. А что могло бы действительно произойти (и произошло ли?), какое событие предшествовало явлениям (или галлюцинациям), – мы знать точно не можем. Именно этот умеренный агностицизм разделяют сегодня большинство учёных – атеистов, скептиков и либеральных христиан.
Рудольф Бультман так выражает свое отношение к вопросу Воскресения Иисуса Христа, которое разделяют многие современные исследователи.
"Воскресение Христа – в любом случае это, конечно, не историчное событие, значимость которого подлежит осмыслению. Может ли речь о воскресении Христа быть чем-либо иным, кроме как выражением значения Христа?.. Воскресение не может быть удостоверяющим чудом, основываясь на котором спрашивающий мог бы без колебаний верить во Христа. Не может не только потому, что воскресение как мифическое событие – возвращение умершего к земной жизни (ведь именно об этом идет речь, поскольку воскресший воспринимается телесными чувствами) – невероятно. И не только потому, что воскресение, несмотря на множество свидетелей, не может быть неопровержимо установлено как объективный факт – так, чтобы отныне стало возможным верить не сомневаясь, а вера обрела бы надежную гарантию. Прежде всего дело в том, что воскресение само есть предмет веры; подкреплять же одну веру (в спасительное значение креста) другой (в воскресение) нельзя".
Глава 7. Тайна склепа. Ессейский след
Даже в наши дни констатация смерти – сложная медицинская задача. Такие ранения, которые были нанесены Христу, по наблюдениям специалистов, как правило, не приводили к трагическому концу.
Возможности организма – в процессе изучения. Например, известно множество людей, выживших после повешения при констатации смерти медиками, и тем не менее, эти люди «оживали» без всякого божественного вмешательства. Общеизвестно, что смерть Иисуса наступила очень быстро для такого вида казни, а значит, вопрос: "умер ли", – остаётся открытым,
Как результат подобных сомнений возникает предположение, что Христос не скончался на кресте. Возможно, Он находился в состоянии комы, на границе между жизнью и смертью, которую стоявшие возле креста могли принять за смерть.
Во время распятия Иисуса и снятия с креста в этих событиях участвовали люди, еще не ставшие приверженцами Нового Завета. Центурион, который дал Иисусу снадобье; воин, ткнувший в распятого копьем, чтобы убедиться в его смерти; сотник, который произнес слова: «воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27:54, Мк. 15:39, Лк. 23:47) – все они кажутся одним и тем же человеком. В апокрифических Деяниях Пилата этот человек носит имя Лонгиний и предстает в качестве офицера (центуриона, или сотника), в обязанности которого входит проведение казней – распятий. Греческая легенда под названием «Мученичество Лонгиния» описывает его в качестве «начальника» Голгофы, которому надлежало надзирать за солдатами, охраняющими могилу Христа. Согласно этому преданию, после Воскресения Иисуса из мертвых именно Лонгиний получил плащаницу в качестве награды; впоследствии, по версии текста Григория Нисского, он даже был возведен в сан епископа. Удивительный сдвиг в мировоззрении, от смертного врага Иисуса к должности христианского епископа, можно объяснить лишь тем, что центурион каким-то образом общался с Иисусом и его учениками непосредственно перед распятием.
Если согласиться с тем положением, что распятие происходило под наблюдением римского офицера, который питал тайную симпатию к жертве даже несмотря на то, что командовал всеми участвовавшими в деле солдатами, тогда все окружающие распятие таинственные события становятся понятными.
И демонтаж креста, и снятие с креста тела происходили под руководством уважаемого, процветающего и влиятельного купца, Иосифа из Аримафеи, которому помогал иудейский советник, книжник Никодим. Возникает вопрос, почему в печальной церемонии не принимали никакого участия ученики? Ответ можно найти в сохранившемся лишь частично «Евангелии от Петра»: «Я (Петр), так же, как и мои сотоварищи, исполнился печали. С болью в сердце утаились мы в убежище, потому что нас разыскивали как злодеев, за то, что мы якобы хотели сжечь храм. Пребывая в печали, мы все время постились и плакали день и ночь, до самого шабата». Другие сочувствующие Иисусу также не приблизились к кресту, предпочитая наблюдать за происходящим издали.
Если предположить, что Иосиф из Аримафеи и Никодим были тайными светскими членами ордена ессеев, то становится понятным, почему именно они могли лучше всех залечить раны Иисуса и помочь его выздоровлению. Опытные целители, ессеи были знакомы с экзотическими лекарственными препаратами и удивительными методами лечения.
Алоэ и миро и по сей день считаются весьма эффективными средствами лечения открытых ран. Евангелие от Иоанна прямо называет лекарственное алоэ, листья которого мелко перетирают, а затем используют в качестве ароматизирующего порошка. Сок лекарственного алоэ применялся в Индии еще в III и II тысячелетиях до н. э., и именно из Индии привозили большую часть используемого в Палестине алоэ. В средние века алоэ в качестве целительной мази появилось в Европе; оно и по сей день используется в качестве гомеопатического медицинского средства.
Миро представляет собой смолистое вещество, содержащее до 10 % этерического масла, которое по сей день применяют в виде спиртовой настойки при лечении воспалительных процессов.
На третий день после казни к могиле отважились подойти несколько женщин. Евангелие от Марка упоминает Марию Магдалину, Марию, мать Иакова и Саломею; именно они принесли бальзам на тело Иисуса. Евангелие от Матфея сообщает о приходе всего лишь двух женщин, а Евангелие от Иоанна упоминает одну лишь Марию Магдалину. Однако все четыре Евангелия сходятся в том, что могила оказалась пустой. Женщины увидели лишь одного-двух людей в белых одеждах. Эти «ангелы» в действительности могли оказаться всего-навсего членами ордена ессеев, которые всегда ходили в белом. Очевидно, в тайну происходящего оказались посвящены лишь приверженцы этого религиозного направления. Даже ученики, впоследствии с великим изумлением встретившие Учителя, оказались совсем не в курсе происходящих событий.
Несмотря на все противоречия и необъяснимые положения евангельских рассказов о воскресении из мертвых и вообще обо всем, произошедшем после распятия, все-таки можно обнаружить нескольких свидетелей, которые своими глазами видели Иисуса во плоти уже после Воскресения.
Мария Магдалина сначала приняла его за садовника (Ин. 20:14); двое из учеников встретили его на дороге в селение (Мк. 16:12, Лк. 24:19), однако, они не узнали Иисуса до тех пор, пока он не сел с ними за трапезу. Лишь манера разламывать хлеб напомнила им об Учителе: (Лк. 24:30–31).
Тот период, который последовал за "воскресением из мертвых", заключает в себе столько противоречий, что невозможно определить даже его продолжительность. Принято считать, что между распятием Христа и его новым появлением прошло три дня. Однако «три» – число мистическое, постоянно встречающееся и в более ранних мифах о случаях воскресения. Возможно, Иисус выздоравливал дольше, и лишь впоследствии начал понемногу появляться перед учениками и последователями. Во всяком случае, встречи эти представляются короткими и тайными…
Из евангелий известно, что перед погребением тело Иисуса было тщательно обработано мощными антисептиками – ста килограммами алоэ и смирны, которые способствовали быстрейшему заживлению ран.
Версии, основанные на предположении, что Иисус не умер на кресте, как и теория галлюцинаций для объяснения посмертных явлений, подвергались и подвергаются постоянной критике со стороны апологетов. Однако, если исходить из принципа, что любое материалистическое внутренне непротиворечивое объяснение воскресения Христа является более вероятным, чем чудо его воскрешения Богом, эти гипотезы также должны быть приняты во внимание. Одна из таких гипотез описана в апокрифе «Евангелие ессеев».
Все евангелисты сообщают, что перед смертью Иисусу «Дали пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав, не хотел пить» (Мф:27:34).
(Ин. 19:29–30): «Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив укусом губку, и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух»
(МК 15:36–37): «Один побежал, наполнил губку уксусом, и наложив на трость, давал Ему пить. Иисус же возгласив громким голосом, испустил дух»
Мог ли «уксус», или иной напоминающий уксус напиток быть повинен в том, что Иисус «немедленно предал дух»? Если это не так, чем именно тогда могла быть эта жидкость? Известно, что уксус обладает таким же временно стимулирующим свойством, как и нюхательная соль; раненым предлагали уксус с целью пополнения энергии. Однако Иисус реагирует совершенно противоположным образом: как только Он вдохнул испарения или попробовал жидкость на вкус, Он произнес свои последние слова и испустил дух. С точки зрения физиологии реакция кажется необъяснимой.
Римские солдаты не только терпимо относились к наркотическим напиткам, но один из них дал такой напиток и Иисусу. Напиток мог представлять собой какое-то снадобье, на вкус кислое, как уксус.
Известно, что существовал индийский священный напиток «Сома» (или «Хаома»), который позволял тому, кто его принимает, на несколько дней словно уходить из жизни, а затем «воскресать» в приподнятом, радостном настроении, которое могло продолжаться несколько дней. Сома (Хаома) – важный галлюциногенный ритуальный напиток, который использовался для религиозных обрядов, описан в ведической и древнеперсидской культурах, где ему посвящено много гимнов, восхваляющих его бодрящие или опьяняющие качества. Изготавливается на основе хвойника (эфедры) и, соответственно, содержит эфедрин, точныеданные о составе древней хаомы отсутствуют.
Для приготовления напитка сома использовались asclepias acida и, возможно, конопля (cannabis indica) и некоторые другие травы подобного свойства (рецепт напоминает известный рецепт напитка Заратустры). В катакомбах Рима, на погребениях первых христиан, встречается изображение обладающего магической силой индийского растения Asclepias acida, европейская разновидность которого называется "цинанхум лекарственный", что по-латыни, означает "побеждать яд, т. е. «противоядие». Разумеется, для того, чтобы использовать его правильно, необходимо точно знать, как именно следует готовить снадобье: слишком сильная доза лекарства могла бы оказаться ядовитой и поставить жизнь Иисуса под угрозу, но в то же время, яд мог быть использован в качестве превосходного лекарственного средства.
Ессеи славились своим умением врачевать. Одна из версий заключается в том, что «уксус», который дали Иисусу, на самом деле, был напиток типа описанного выше, и Иисус находился в бессознательном состоянии, вызванном облегчающим страдания средством, которое изобретательно было дано ему под покровом темноты.
Но что же потом могло произойти с Его телом? Умер – и потом воскрес, а тело сверхъестественным образом исчезло из гробницы, или возможны иные – «земные» варианты?
Из «Евангелия ессеев»:
«Случилось так, что после землетрясения, когда многие люди ушли, Иосиф из Аримафеи и Никодим пришли к месту распятия. Хотя они громко оплакивали его судьбу, им все же показалось странным, что Иисус, провисев менее семи часов, уже умер. Они не могли поверить в это и тотчас подошли к кресту. Иосиф и Никодим исследовали тело Иисуса, и Никодим, глубоко взволнованный, отозвал Иосифа в сторону и сказал ему: «Насколько я уверен в моем знании жизни и природы, настолько же я уверен и в том, что возможно спасти его».
После этого, согласно предписаниям медицинского искусства, они бережно развязали его перевязи, вытащили шипы и с большой осторожностью положили его на землю. Никодим нанес сильные специи и заживляющие бальзамы на длинные куски виссона, которые он принес с собой, и обернул ими тело Иисуса. Эти специи и бальзамы обладали большой целительной силой и использовались ессеями.
Они вдохнули в него свое дыхание (т. е. выполнили искусственное дыхание) и нагрели его виски́. Никодим втер бальзам в обе пробитые гвоздями руки, но он полагал, что лучше не закрывать рану в боку Иисуса, потому что он считал эту открытую рану, из которой вышли кровь и вода, помогающей процессу дыхания и благотворной для возвращения Иисуса к жизни. Затем тело было уложено в скальную гробницу, которая принадлежала Иосифу. После этого они окурили пещеру алоэ и другими травами и поместили большой камень перед входом, чтобы пары могли сильнее наполнять пещеру. Когда прошло тридцать часов, двадцать четыре брата нашего ордена пришли через тайный ход в пещеру вместе с Иосифом и Никодимом. Но Иисус был еще недостаточно силен, чтобы идти далеко, и по этой причине его отвели в дом, принадлежащий нашему ордену, который расположен рядом с Голгофой в саду…»
Хотя канонические евангелия сообщают что Иисус умер на кресте, версия ессеев подразумевают выживание Иисуса после распятия и его спасение. Усилия Иосифа и Никодима, направленные на то, чтобы помочь Иисусу, упомянуты в канонических евангелиях. В Евангелии от Иоанна говорится, что они принесли с собой полотно и состав из смирны и алоэ в количестве около ста литров. Евангелие от Луки сообщает, что Иосиф из Аримафеи принес специи и мази для Иисуса. Если не верить версии ессеев, описывающей распятие (т. е. придерживаться канонической версии смерти Христа на кресте), непонятно, зачем они должны были делать это? Эти вопросы, несомненно, нуждаются в исследовании.
Согласно иудейскому ритуалу, перед похоронами мертвое тело обмывается. В случае с Иисусом нет никаких свидетельств о том, что его тело обмывалось. Вместо этого евангелия указывают, что Иосиф из Аримафеи, Никодим и другие втирали мазь в его тело. Если бы он был мертв, они бы обмывали труп.
По всей видимости, ессеи обладали необходимым опытом, чтобы обеспечить медицинскую помощь Иисусу и спасти его жизнь, потому что они, как утверждал Иосиф Флавий. «с большим успехом исследовали в интересах медицины целительные свойства корней и камней». Описано, что смирна и алоэ были растерты в порошок и помещены между повязками, которые были намотаны в несколько слоев; есть описание состава мази, которой обрабатывали раны Иисуса. Авиценна пишет, что эта мазь обладает чудесной силой исцелять раны. Она может снять гнойное воспаление и восстановить поврежденную плоть в течение нескольких дней. Эта мазь не только способствует формированию новой ткани, но также помогает восстановлению кровообращения и чувствительности тканей после их омертвения.
Согласно тексту ессеев, они укрывали Иисуса из соображений безопасности, а также для того, чтобы Он набрался сил. Поскольку Иисусу было небезопасно находиться в стране, позже Он тайно был уведен в другой центр ессеев.
Бесспорно, что все сведения, описанные в таинственных древних книгах, пока что можно расценивать только как предположение, которое возможно, подтвердят или опровергнут дальнейшие исследования. Мы имеем слишком мало сведений о жизни Иисуса Христа, чтобы утверждать или отрицать какие-либо гипотезы о нем. Например, в Евангелиях отсутствуют какие-либо сведения о приблизительно 17 годах его жизни, которые могли бы прояснить нам многое в его жизни и учении.
Приложение 1. "Тайна пропущенных лет. Жил ли Иисус в Индии?"
Приложение 2. "Кумраниты и зарождение христианства"
Заключение
Факт смерти на кресте проповедника, бродячего Учителя Иисуса Христа не отрицается подавляющим большинством современных учёных. В распятии как таковом нет ничего удивительного: по всей Римской империи распинали множество людей. Мессия из Назарета принял такой же бесславный конец, как и все остальные мессии, приходившие до и после него. Поэтому с точки зрения истории, распятие Иисуса не представляет проблемы. Однако историческую проблему представляет воскресение Христа из мертвых. Это чудо, а сам характер исторических дисциплин не позволяет доказать, совершались ли когда-либо чудеса. Историки способны только определить вероятные события прошлого, они не могут доказать, что чудо, которое является наименее вероятным событием, произошло с наибольшей вероятностью.
Некоторые из последователей Иисуса пришли к вере в то, что Иисус был физически воскрешен из мертвых. Это верование – исторический факт, но остальные аспекты, связанные с его смертью, представляют проблему. Вера в Воскресение не есть историческое знание. но историк может говорить о традиции Воскресения, не предполагая при этом наличия или отсутствия веры. Причем вопрос этот связан не с тем, что от историков требуется предубеждение против всего сверхъестественного, а с тем, что им необходимо отложить в сторону свои личные предубеждения, будь то «за» или «против» сверхъестественного, и реконструировать события, имевшие место в прошлом, на основе дошедших до нас свидетельств.
Нам не известно, что именно произошло с телом Иисуса после его смерти. Но если взглянуть на вопрос с исторической точки зрения, то любое из предложенных альтернативных объяснений все же более вероятно, чем утверждение, будто Бог физически воскресил Иисуса из мертвых. Можно предложить множество правдоподобных сценариев, почему гробница оказалась пустой, и любой из этих сценариев – более правдоподобен, чем вмешательство Бога. Посмертные явления Иисуса также можно объяснить с помощью альтернативных версий.
Были рассмотрены лишь внешние причины возникновения веры в Воскресение Христа: обнаружение пустой гробницы и явления Воскресшего, как это описано евангелистами. Утверждать, что христианство не могло бы возникнуть без фактического события Воскресения, – было бы не верно. Для объяснения дальнейших действий учеников достаточно признать лишь то, что они сами твердо верили в воскресение Иисуса и в его явления после распятия. Можно сказать, что именно благодаря своей темноте, или «простоте», они и оказались избранниками Иисуса, ибо «Блаженны нищие духом»!
Ближайшие последователи Иисуса, а затем и Павел утверждали, что видели его живым после казни. Но значит ли это, что Он на самом деле воскрес из мертвых? Нет, это означает, что они, подобно тысячам других людей, могли иметь правдоподобный, сопровождающийся осязательными ощущениями опыт встречи с умершим человеком и истолковали это событие, как смогли: Иисус жив; должно быть, Он воскрес из мертвых. Речь не о факте, а об интерпретации этого факта, в основе которой лежит вера.
Историк не утверждает, что Иисус не воскресал из мертвых, что гробница не была пуста, что Он не являлся своим ученикам и не возносился в небеса, но поскольку все эти события не имеют доказательств, он не может также и принять их. Верующие убеждены, что все это правда. Однако они верят в эти события не потому, что они подкреплены историческими свидетельствами: верующие принимают их на веру, а не на основании доказательств. С исторической точки зрения, вполне возможно, что после смерти Иисуса ученики выдвинули версию, что Иисус воскрес и сел одесную Бога, – и сами поверили в это. Гробница, вполне возможно, оказалась действительно пуста, но по самым реалистическим причинам. Безусловно, произошло нечто такое, что заставило их поверить, и это «нечто» также может иметь вполне объективное рациональное объяснение.
Вера в Воскресение возникла до 50 г н. э. Когда Павел писал Коринфянам: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял: что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию.…» (1 Кор 15:3–8), он повторял то, что скорее всего, было ранней формулой, следы которой могут восходить к 40 гг первого века. Это означает, что вера в воскресение Иисуса принадлежала к самым ранним символам христианской веры. Тем не менее, факт остается фактом: Воскресение не является историческим событием. Идея могла иметь исторические последствия, но само событие находится за пределами истории и принадлежит области веры. Павел указал ключевой момент: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор:15–17).
Убеждённость апостолов в реальности Воскресения не является доказательством для историка: вера – не доказательство реальности события. Но есть факт, с которым нужно считаться: многие из тех, кто по их словам, видели воскресшего Иисуса, и те верующие, кто позже всецело воспринял веру первых "Свидетелей Христовых",шли на смерть, но не отказывались от своих свидетельств. Их арестовывали, избивали, распинали, но они продолжали говорить о том, что Иисус воскрес.
Мы не можем утверждать, насколько прадивы дошедшие до нас легены о первых ученикх Иисуса, их мученической смерти. Но, в конечном итоге, именно рвение, с которым последователи Иисуса, первые христиане отстаивали веру в Его воскресение, превратило крошечную иудейскую секту в крупнейшую мировую религию. Поэтому все эти обстоятельства, несмотря на противоречивость их описаний в Новом Завете и недостаточность исторических данных, нельзя игнорировать: их необходимо учитывать и продолжать изучать.
Часть вторая. Рождение новой веры
Глава 8. Первая Иерусалимская Церковь
В следующие за смертью Учителя часы ученики пребывали в крайней растерянности. Как и все иудеи того времени, они верили в Мессию – Царя, победителя, они надеялись, что "Он есть тот, который должен избавить Израиль", а Он не мог спасти самого себя. Вся их деятельность не имела никакого смысла. У них не было никакой определённой надежды, разочарованные, они считали всё конченным. Но некоторое время спустя чуть ли не за одну ночь, ученики стали неустрашимыми. Пётр, который недавно отрекался от Учителя, вдруг, под угрозой смерти, во весь голос заявил, что Иисус воскрес из мертвых!
Что могло стать причиной этого удивительного преобразования?
Для последователей и учеников всех религиозных лидеров была характерна одна общая черта: они рассеивались и исчезали без следа, когда умирал их духовный наставник. Ничего подобного не случилось с последователями Иисуса: они сохранили свое организационное ядро, во главе которого стояли ученики, выбранные самим Иисусом. Руководство перешло к Петру, самому старшему и авторитетному ученику, которому Иисус поручил «пасти своих овец».
С исторической точки зрения вполне возможно, что ученики Христа могли придти к выводу о том, что Бог совершил великое чудо и воскресил его из мертвых. Они уверовали в это потому, что Иисус являлся и общался с ними после своей смерти на кресте. Какова была действительная природа этих явлений, по сути не имеет значения: главное – это возникновение абсолютной уверенности апостолов в достоверности видений и их убежденность в Воскресении Учителя.
Пятьдесят дней после распятия Иисуса Христа
Через несколько дней после Пасхи группа учеников во главе с Петром решила отправиться на родину, в Галилею. Женщины, бывшие у гробницы, рассказывали, что ангел возвестил им, что будто бы Иисус встретит их в Галилее (Мф.28:7; Мк.16:7). Другие уверяли, что Иисус сам повелел им отправиться туда (Мф.28:10). Припоминали, что кажется, Он говорил об этом еще при жизни (Мф.26:32; Мк.14:28).
В Галилее они действительно, «увидели» его. Петр, Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы поселившись на берегу озера (Ин.21:2), взялись за свое прежнее занятие – рыбную ловлю. Их беседы с призраками усопшего продолжались, пока однажды они поднялись на одну из гор и там увидели Иисуса. На этот раз Он сам указал ученикам на всю землю и обещал им ее в будущем. После Вознесения Христа они спустились с горы убежденные, что Он повелел им обратить в христианство все человечество и обещал пребывать с ними до скончания века; начать проповедь им следовало с Иерусалима (Лк 24:47).
Вероятно, часть учеников Иисуса в его последние дни оставалась в Иерусалиме. К тому моменту, когда ученики расставались, вера в Воскресение уже установилась и распространялась с двух сторон, что и было причиной полного разночтения в рассказах о явлениях. Сложилось два предания: Галилейское и Иерусалимское. По первому, все явления (кроме относящихся к первым моментам Воскресения) имели место в Галилее, по второму – в Иерусалиме.
Со дня возвращения в Иерусалим апостолы больше не расстаются, если не считать временных отлучек. Иерусалим становится их постоянным центром (Деян.8:1; Гал.1:1–19; 2:1). Перед Вознесением на небо Иисус Христос заповедал своим ближайшим ученикам не отлучаться из Иерусалима до времени, когда они будут «облечены силой свыше» и ждать "обещанного от Бога" (Лк.24:49; Деян.1:4).
Явления становились все реже, начинали думать, что Учитель никому больше не покажется до дня своего торжественного возвращения в облаках. Он обещал ученикам, что пошлет им Дух Святой как свое второе «Я», как «Утешителя», который будет руководить ими и вдохновлять в трудные минуты (Ин.20:22; Лк.24:49; Деян.1:4).
По предложению Петра, на место Иуды по жребию был избран Матфий, ученик Христа со времени начала его проповеди, так что число ближайших учеников Христа осталось Двенадцать (Деян. 1:15–26). Кроме того, в число апостолов вошли еще более семидесяти учеников Христа, ставших свидетелями Его явлений после Воскресения из мертвых (1 Кор.15:5–9).
Праздник Пятидесятницы. «Сошествие Святого Духа»
Наступал пятидесятый день после Пасхи, десятый день после Вознесения Христа. Это был праздник Пятидесятницы, великий еврейский праздник в память дарования Богом через Пророка Моисея своему народу Десяти Заповедей. В этот день произошло одно из главных событий, описанных в книге Деяния апостолов, определивших распространение христианской Церкви по всей Римской империи.
Все апостолы находились в Иерусалиме вместе в одном доме. Был третий час дня по еврейскому делению суток. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждомиз них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2: 2–4).
"Сошествие Святого Духа" не было неожиданным событием для апостолов. Иисус Христос перед распятием посвящает свою прощальную беседу с апостолами предстоящему сошествию Святого Духа. Он объясняет ученикам, что Утешитель – Дух Святой – должен вскоре прийти к ним: «Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Он – Дух Истины… Дух Истины, Который от Отца исходит, будет свидетельствовать о Мне» (Ин.14:16–17,26,15:26).»
…И "исполнились все Духа Святого».
Выбежав наружу, апостолы начинают проповедовать благую весть на языках иудеев «из всякого народа под небом», посетивших Иерусалим во время праздника. Многие очевидцы озадачены этой суматохой," и все изумлялись и дивились", но были и те, кто "насмехаясь, говорили они напились сладкого вина". (Деян.2: 1–13).
Тогда Апостол Петр вышел к народу и "возвысив голос свой", принялся проповедовать собравшейся толпе. В своей импровизированной проповеди он говорит, что наблюдаемое ими является исполнением обещаний Бога, данным через пророков. Он говорит им об Иисусе, о смысле его смерти и Воскресения, убеждая их покаяться. Результат был не менее поразительным, чем само происшествие: многие, уверовавшие в Христа по слову апостола Петра, тут же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к вечеру этого дня маленькая секта выросла до 3000 человек. Таким чудесным событием началось существование Церкви Христовой.
Очень часто сошествие Духа понималось как второе крещение – "Крещение Духом", Считалось, что одни лишь апостолы получили его. Сложившееся у всех представление, что Дух Святой сошел на них будто бы в виде огненных языков, породило целый ряд самых странных представлений, Полагали, что язык человека, на которого сошел Дух Святой, получает особенный дар путем своего рода таинства посвящения. Считалось, что проповедник говорит не сам от себя (Лк.11:12; Ин.14:26), что язык его – орудие вдохновляющего его божества. Огненные языки принимались за символ: по общему убеждению, этим символом Господь хотел показать, что Он изливает на главу апостолов самые драгоценные дары свои – дар слова и дар вдохновения. В моменты экстаза у верных, вдохновляемых Духом Святым, вырывались нечленораздельные бессвязные звуки, которые слушатели принимали за слова на иностранном языке и наивно пытались истолковать (Деян.2:4; 10:44; 11:15; 19:6; 1 Кор.12–14). Сам человек, находившийся в экстазе не понимал ни одного слова из того, что говорил; он даже не сознавал, что с ним происходит (1 Кор.14:13,14,27).
Все это было очень далеко от проникновения учением Иисуса, но для умов, насквозь пропитанных верой в сверхъестественное, такие феномены имели большой смысл. Особенное значение придавали дару языков, как существенному атрибуту новой религии, как доказательству ее истинности (Мк.16:17). Во всяком случае, нельзя не признать, что явления экстаза приносили плоды: они обратили многих язычников. Вплоть до III-го века «глоссолалия» считалась длящимся чудом.
За внешними явлениями «нисхождения Духа Святого последовали внутренние: «исполнившись Духа Святого», согласно Деяниям, апостолы очистились, просветились и преобразовались, и обретя неустрашимое мужество и др. новые качества, начали проповедовать…
День Сошествия Святого Духа на Апостолов считается днем основания Первой Иерусалимской Церкви Христовой.
Глава 9. Апостолы перед судом синедриона
Первым серьезным испытанием для общины назореев стал суд синедриона над ее лидерами – Петром и Иоанном (Зеведеевым). Поводом для судебного разбирательства послужило излечение хромого от рождения человека. Петр избавил его от хромоты «именем Иисуса Христа» в присутствии Иоанна и массы людей, собравшихся у входа в Иерусалимский Храм. Петр сразу признался, что хромой был исцелен отнюдь не их собственной «силою или благочестием», а верою в Иисуса Христа. Здесь же, в Храме, Петр стал проповедовать об Иисусе и его воскресении из мертвых, что вызвало недовольство священников. В результате конфликта с ними Петр и Иоанн были «отданы под стражу до утра», пока не соберется синедрион и не решит их участь (Деян. 3: 1–16; 4: 1–3). Храмовых священников беспокоила не столько проповедь о воскресении мертвых, чего они, как и все саддукеи, никогда не признавали, сколько мессианские ожидания руководителей назореев. Мессианство назореев находило живой отклик в иудейском народе, и любой слух о появлении Мессии грозил волнениями и столкновениями с римлянами, для которых Мессия был всего лишь новым «Иудейским царем», враждебным власти Рима.
Суд не нашел вины в действиях Петра и Иоанна и отпустил их, «не находя возможности наказать их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее» (Деян. 4: 21). Исцеление хромого, а затем и оправдание в синедрионе укрепили авторитет назореев и их руководителей, что способствовало быстрому росту численности общины и ее влияния среди жителей Иерусалима (Деян. 4: 4; 5: 13–14). Чувствуя за собой поддержку иудейского народа, лидеры назореев, и в первую очередь Петр, снова бросили вызов священникам-саддукеям, возобновив проповедь о Христе в самом Иерусалимском Храме. В ответ последовал новый арест, и до следующего суда руководителей назореев отправили в «народную темницу». Правда, из нее апостолов очень быстро освободили. Иудейский народ, разделявший мессианские чая-ния назореев, не позволил священникам-саддукеям осудить Петра и Иоанна. «Деяния» свидетельствуют, что храмовая стража и служители привели Петра и Иоанна на суд «без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями» (Деян. 5: 26). Лидер фарисеев в синедрионе, известный законоучитель Гамалиил, высказался в защиту Петра и Иоанна (Деян. 5: 38–39). Учитывая настроения иудейского народа, членам синедриона не оставалось ничего другого, как принять мнение Гамалиила и отпустить лидеров назореев.
Оправдание в синедрионе фактически узаконило положение назореев как самостоятельной, а главное, легитимной религиозной общины в Иудее. Отныне назореи – первые христиане стали еще одним течением иудаизма наряду с фарисеями, саддукеями и ессеями. При этом, Петр и Иоанн, как и все члены их общины, считали себя не менее правоверными иудеями, чем их противники – саддукеи и фарисеи. Они были убеждены, что их вера в воскресшего Христа не противоречит законам и традициям иудаизма.
Глава 10. Жизнь христианской первообщины
Иерусалимская церковь представляла маленькую галилейскую колонию. Забыты галилейские самоотверженные женщины, до конца остававшиеся преданными Иисусу, сошли со сцены его друзья в Иерусалиме и окрестностях, такие, как Лазарь, Марфа и Мария из Вифании, Иосиф Аримафейский, Никодим. Одна лишь кучка галилеян, сгруппировавшаяся около двенадцати апостолов, оставалась тесно сплоченной и активной.
Последователи Иисуса составляли маленькую, совершенно обособленную общину, жившую своей жизнью. Их было в Иерусалиме около ста двадцати человек. Вскоре в этой первоначальной церкви установились известные правила, сообщившие ей некоторое сходство с монашеской жизнью, которая впоследствии проникла в христианство
Первые христиане жили в сообществе, где никто не владел личной собственностью (Деян.2:42–47; 4:32–37; 5:1–11; 6:1). Становясь учеником Иисуса, всякий продавал свое имение и приносил его в дар общине. Затем старшины общины распределяли общее имущество между всеми, каждому по его поребностям. Жили все они в одном квартале (Деян.2:44,46,47), пищу вкушали все вместе, продолжая придавать этой трапезе мистическое значение, преподанное Иисусом (Деян.2:46; 20:7,11). Долгие часы они проводили в молитвах.
У Иисуса очень заметна склонность к учению эбионизма, т. е. абсолютной бедности. Духу его проповеди вполне соответствует отречение от земных благ и милостыня, доведенная до полной раздачи всего своего состояния. Вера в скорый конец мира порождала отвращение к земным благам и стремление жить сообща. Образец такой жизни уже дали ессеи.
Первые последователи Иисуса считались очень ревностными и набожными, они соблюдали в точности все иудейские обряды, молились в положенные часы и исполняли все предписания еврейского закона (Деян.3:1). Ото всех прочих евреев они отличались лишь тем, что верили в пришествие Мессии как в совершившееся. Секта вызывала мало толков и не нарушала общего спокойствия, так как пребывала в неизвестности.
В маленькой общине неоспоримым авторитетом пользовались избранные Иисусом апостолы, которых считали получившими от него особые полномочия для благовестия миру о Царствии Божием. Иерусалим служил их постоянным местопребыванием; почти вплоть до 60-го года апостолы покидали святой город только для временных миссионерских поездок. Вот почему большинство из них осталось в неизвестности; очень немногим выпала видная роль. Апостолы составляли нечто вроде священной коллегии (Гал.1:17–19), предназначенной главным образом, для того, чтобы блюсти традиции и представлять консервативный элемент. Но, в конце концов, их освободили от всяких активных обязанностей, так что им оставалось только проповедовать и молиться (Деян.6:4). За пределами Иерусалима их имена были почти неизвестны, и к 70–80 годам в списках, куда заносились эти двенадцать первоначальных избранников, не встречалось разногласий только относительно главных имен (Мф.10:2–4; Мк.3:16–19; Лк.6:14–16; Деян.1:13).
Петру принадлежало некоторое первенство над другими апостолами, в основном, за его рвение и энергичную деятельность (Деян.1:15; 2:14,37; Гал.1:18; 2:8). В эти первые годы Петр почти не разлучается с Иоанном, сыном Заведеевым. "Братья Господни" часто появляются наряду с «апостолами», хотя между теми и другими есть разница (Деян.1:14; Гал.1:19; 1 Кор.9:5). Тем не менее, авторитет первых по меньшей мере равнялся авторитету апостолов. В нарождающейся церкви эти две группы составляли род знати, права которой основывались единственно на большей или меньшей близости членов ее к учителю. Это были те самые люди, которых Павел называет «столпами» Иерусалимской церкви (Гал.2:9).
Несмотря на свое очень своеобразное толкование Писания, ученики Христа были в первую очередь, иудеями. Их движение было иудейским, и нацелено оно было в те первые годы после распятия Иисуса исключительно на иудейскую аудиторию. У них не было никакого стремления оставить священный город или порвать с иудейским культом, несмотря на все гонения, которым они подвергались со стороны религиозных властей. Главные вожди движения – апостолы Петр и Иоанн и брат Иисуса Иаков – сохраняли верность иудейским обычаям и Закону Моисея до самого конца. Под их руководством Иерусалимская Церковь стала считаться «Матерью церквей». Неважно, насколько далеко и широко распространилось движение, сколько других церквей было основано в других городах, Филиппах, Коринфе и даже Риме, неважно, сколько новообращенных, иудеев и язычников, привлекло движение – каждая община, каждый новообращенный и каждый миссионер подпадал под авторитет «Матери церквей» в Иерусалиме до тех пор, пока она не сгорела дотла.
Глава 11. Проповедь апостолов среди иудеев
Проповедническая деятельность апостолов не прерывалась. Обращение в новую веру совершалось, главным образом, путем задушевных бесед в тесном, немногочисленном кружке (Деян.5:42).
Первые христиане ("иудео-христиане"), которых другие евреи называли «назореи», были убеждены, что древние еврейские книги были полны предсказаниями об Иисусе Христе: составилась целая коллекция текстов, взятых из пророков, псалмов и некоторых апокрифических книг, в которых, по общему убеждению, его жизнь была предсказана и описана заранее. Содержание речей апостолов сводилось преимущественно к цитатам из Ветхого Завета, в которых искали доказательств того, что Иисус был Мессия.
Весь символ веры первобытной церкви мог уместиться в одной строке: "Иисус – Мессия, сын Божий". Эта вера покоилась на одном неоспоримом факте – Воскресении Христа, свидетелями которого считали себя ученики. В действительности же никто (включая галилейских женщин) не утверждал, что сам был очевидцем Воскресения, но исчезновение тела из гробницы и последовавшие затем явления казались равнозначащими самому факту. Свидетельствовать о Воскресении Иисуса – вот в чем заключалась, по убеждению апостолов, главная миссия, возложенная на них (Лк.24:48; Деян.1:22; 2:32; 3:45).
Ученики имели об Иисусе то представление, которое Он сам им внушил: Он был "великий пророк, сильный словом и делом" (Лк.24:19), Божий избранник, облеченный миссией спасти человечество, которую Он засвидетельствовал чудесами и, главное, своим Воскресением. Он был помазан от Бога Духом Святым и облечен властью; Он был уникальный сын Божий, представитель Бога на земле; Он был Мессия, спаситель Израиля, о котором возвещали пророки (Деян.2:36; 8:37).
В 50-е годы в своем знаменитом послании к жителям Коринфа Павел писал: "Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию" (1 Кор. 15. 3–8). Но одно дело – спорить о том, воскрес ли Иисус: это, в конце концов, вопрос веры, и совсем другое – говорить, что Он сделал это согласно Писанию.
У Луки Иисус сам поднимает этот вопрос, терпеливо объясняя ученикам, которые «надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24. 21), каким образом его смерть и Воскресение стали выполнением мессианских пророчеств, как все написанное в Библии о Мессии привело к кресту и пустой гробнице: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день» (Лк. 24. 44–46).
Однако, нигде не написано: ни в Законе Моисея, ни у пророков, ни в псалмах, что Мессии надлежит пострадать, умереть и воскреснуть на третий день, и возможно, это объясняет, почему евангелист не указал источник цитаты. Не удивительно, почему последователям Иисуса было так трудно убедить своих соотечественников-иудеев, чтобы те приняли их учение. Когда апостол Павел в том же Послании к коринфянам пишет, что распятие «для Иудеев соблазн» (1 Кор. 1. 23), он понимает, что для иудеев выражение «распятый мессия» содержало внутреннее противоречие: сам факт распятия Иисуса отменял его мессианские притязания. Даже ученики понимали эту проблему, и именно поэтому они так старались установить, что на самом деле Царство Божье было небесным, а не земным царством; что мессианские пророчества были неправильно истолкованы; что Писание, если его правильно интерпретировать, говорит совершенно не то, что привыкли думать иудеи; что глубоко внутри текстов спрятана тайная истина об умирающем и воскресающем Мессии, раскрыть которую могли только христиане. Проблема заключалась в том, большинство жителей Иеруслима были прекрасно знакомы с Писанием, в отличие от группы неграмотных крестьян из Галилеи, поэтому как бы ни старались ученики Иисуса, они просто не могли убедить значимое количество жителей Иерусалима признать Иисуса долгожданным Мессией, освободителем Израиля.
Однако, в отличие от иудеев, живших в Иерусалиме, евреи диаспоры оказались куда более восприимчивыми к новому учению и к новой интерпретации Писания, которую предлагали ученики Иисуса. Не потребовалось много времени для того, чтобы эти грекоязычные иудеи превзошли по численности первоначальную общину его последователей в Иерусалиме, говоривших на арамейском языке. Согласно «Деяниям апостолов», община разделилась на два лагеря: «Евреев» под предводительством Иакова и апостолов, имевших своим центром Иерусалим, и «Эллинистов», то есть иудеев диаспоры, родным языком которых был греческий (Деян. 6. 1).
Глава 12. История Анании и Сапфиры
В Иерусалиме находилась управляемая апостолами большая община бедных, куда стекались пожертвования со всех концов христианского мира (Деян.11:29–30; 24:17 и др.). Эта община должна была ввести довольно суровый устав и даже прибегнуть к мерам устрашения, чтобы возможно было ею управлять. Один лишь факт утайки чего-либо из пожертвованного общине имущества выставлялся уголовным преступлением, наказуемым смертью (Деян.5:1–11).
Вожди церкви обладали громадной властью, причем в своем выборе руководствовалась исключительно «указаниями» Св. Духа. Их власть простиралась вплоть до объявления смертных приговоров. Отлучение от церкви считалось равнозначащим смертному приговору; не сомневались, что отлученный апостолами или старейшинами церкви должен погибнуть (1 Тим.1:20). Апостолы почитали себя облеченными сверхъестественной властью и изрекая такие приговоры, были убеждены, что их проклятия не замедлят произвести должное воздействие.
Ужасное впечатление от таких отлучений и ненависть всей братии к отлученным членам общины во многих случаях могли вызвать смерть или, по крайней мере, вынудить отлученного переселиться в другие края. Слово «исторжение» обозначало и внезапную смерть, и изгнание из общины, и ссылку, и одинокую, необъяснимую кончину. Убить богоотступника, богохульника, означало убить тело, чтобы спасти душу, и естественно, казалось вполне законным в те времена. Это было время зилотов, считавших добрым делом убивать нарушителей закона. Многие из первых христиан оставались или прежде были зилотами (Лк.6:15; Деян.1:13).
Рассказывали о таком случае, когда, по слову Петра, преступники упали наземь и тут же испустили дух (Деян.5:1–11)
Анания и Сапфира были супружеской четой, которая под влиянием апостолов примкнула к новой секте и приняла крещение. Согласно указанию, они продали своё имущество, но часть вырученной суммы решили утаить и припрятать на чёрный день.
Пётр, каким-то образом узнавший об этом (не иначе, как от «Духа Святого»), воспылал гневом. Он позвал к себе Ананию и строго отчитал за попытку обмануть Святого духа:
«Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу».
Виновник выслушал его и свалился замертво, будто его ударило молнией. Его тело сейчас же вынесли и похоронили. Через 3 часа туда же вошла Сапфира. Вероятно, ей уже сказали о смерти мужа, но не сказали о подробностях обвинений Петра. Возможно, она, оставшись вдовой, хотела оставить хоть какие-то средства к существованию. Пётр показал на деньги на столе и
«спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее ».
Петр в этой назидательной истории берет на себя роль посредника с Богом и "исполнившись Духа Святого", убивает обоих от Его имени.
Показателен коментарий этой истории преп. Иоанна Кассиана Римлянина: "Анания и Сапфира – первые люди, совершившие сознательный грех в новозаветной Церкви, и как первые виновники нового преступления, подавшие прочим пример греха, должны были послужить примером наказания и страха, чтобы всякий, впоследствии покусившийся на то же, знал уже, что и он, подобно тем людям, осужден будет, и что если откладывается в настоящее время его наказание, то оно постигнет его в день будущего судного испытания. Анания и Сапфира являются словно новыми Адамом и Евой, которые совершили грех первыми и за это постигло их страшное наказание, как урок для будущих поколений.»
Такие эпизоды, как смерть Анании и Сапфиры, принимались как должное (Деян.5:1–11; Деян.13:2–14), не возбуждая никаких сомнений. Идея гражданской власти была так чужда всему этому миру, стоявшему вне сферы действия римского права, так крепко было убеждение, что церковь – это обособленное, самодовлеющее общество, что, когда преступника постигала смерть или увечье, в этом усматривали чудо, а не преступление, караемое гражданским законом.
В таких чисто теократических принципах таилась страшная опасность для будущего. Церковь вооружается мечом, отлучение от нее равносильно смертному приговору. В мире возникает власть, стоящая вне государства, располагающая жизнью граждан. В своем невежестве, они смешали две разные вещи: свободу верить и молиться по-своему со злоупотреблениями, которые не могли быть терпимы ни в одном государстве.
Глава 13. Смерть Стефана. Начало гонений и рассеяние Иерусалимской общины
Семья Анны продолжала властвовать, Кайафа оставался первосвящеником до 36 года, Пилат был отстранен от своей должности. Несколько раз Петр, Иоанн и другие апостолы были заключены в тюрьму и подвергались бичеванию, но это считавшееся «дисциплинарным» раввинистическое наказание их только радовало: они пострадали за Иисуса. Апостолы продолжали проповедовать «всякий день в Храме и по домам» и «не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5:42). Насилия исходили от саддукеев; фарисеи и даже некоторые аристократы относились хорошо к безобидной секте иудеохристиан. Знаменитый иудейский ученый того времени, «уважаемый всем народом» раввин Гамалеил выступил в Синедрионе в защиту свободы евангельского учения (Деян. 5:34–39), но его либеральные взгляды не имели большого успеха среди фанатиков.
Первые гонения против христиан были вызваны проповедями дьякона Стефана. Он не был учеником Иисуса, никогда не встречался с ним. Иудей Стефан, говоривший по-гречески и живший в одной из провинций за пределами Святой Земли, пришел в Иерусалим как паломник вместе с тысячами других иудеев, таких же как и он сам. Его внимание, вероятно, привлекла группа галилейских крестьян и рыбаков, проповедовавших о простом человеке из Назарета, которого они называли Мессией. Этот человек был уже убит – распят на кресте, что по определению, лишало его права считаться освободителем Израиля, но после своей смерти был похоронен в дорогой гробнице, которая подошла бы кому-нибудь из самых богатых людей в Иудее, и – самое главное – его последователи утверждали, будто через три дня после помещения тела в гробницу, их Мессия вернулся к жизни: Бог воскресил его из мертвых.
Ничего подобного тому, о чем говорили эти последователи Иисуса, люди того времени не знали. Мысль о том, что человек может умереть и затем вновь воскреснуть во плоти для вечной жизни, чрезвычайно редко встречалась в античности и не существовала в иудаизме. Это было беспрецедентное заявление в иудейской истории: вера в умирающего и воскресающего мессию не существовала в иудаизме. Пророк Исайя говорит о таинственном «страдающем рабе», который будет «изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Ис. 53), но нигде не называет этого раба мессией и не утверждает, что тот восстанет из мертвых.
Стефан примкнул к движению последователей Иисуса вскоре после казни на Голгофе. Подобно многим новообращенным иудеям из диаспоры, он оставил свой родной город, продал имущество и отдал все средства общине. Вместе с ещё шестью единоверцами Стефан был избран апостолами диаконом для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей» (Деян. 6:1). Избрание диаконов произошло после возмущений несправедливыми раздачами, возникших в среде христиан из «эллинистов», то есть евреев, приехавших в Иерусалим из диаспоры и говоривших на греческом языке.
