Ярослав и Анастасия
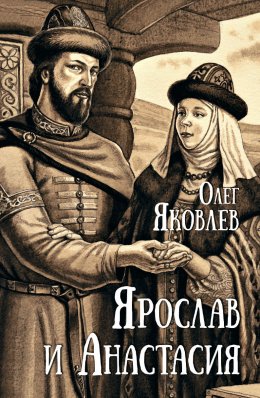
© Яковлев О. И., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь ты на своём златокованом престоле,
подпёр горы Венгерские своими железными полками,
заступив королю путь, затворив Дунаю ворота,
меча тяжести через облака, суды рядя до Дуная.
Слово о полку Игореве. Перевод Д. С. Лихачёва
Глава 1
В лето 1162
Вложены в ножны смертоносные мечи, спрятаны в налучья тугие луки, убраны в колчаны калёные стрелы. Мир настал на многострадальной Червонной Руси[1], минула, схлынула горькая пора лихолетья. Устрашены или погублены враги, заключены и укреплены договоры и союзы с владетелями порубежных и более дальних земель. Самое время пришло возводить храмы, открывать школы, восстанавливать и устанавливать на земле порядок. Благо пашни были обильными, людин[2] не бедствовал, а ремественниками знатными и тороватыми купцами Галичина славилась издревле.
Получив весть о кончине в Фессалониках князя-изгоя Ивана Берладника, своего двухродного брата и соперника, князь Ярослав Осмомысл, более десяти лет вынужденный защищать свой стол[3] от посягательств беспокойных родичей, как-то враз, в единый миг понял вдруг: ушла в небытие, в прошлое часть жизни. Жизни и самого его, властителя Галича, и всей Руси Червонной. Он победил, пускай и горек был вкус этой победы. Теперь, он знал, грядут совершенно иные дела, и ждут его годы покоя и разочарований, тяжких потерь и великих радостей. Это будет, должно быть, ибо таков мир вокруг, жестокий, но прекрасный, жуткий и неповторимый в своём многообразии.
Раскрыв в очередной раз книгу пророка Екклесиаста, прочитал там князь: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом… Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать…»
Воистину, после бурь и войн прежних, после потерь и поисков настало для него, владетеля Галича, время сберегать обретённое – власть, землю свою, Русь Червонную, княжество Галицкое, что раскинулось ныне от польских границ и истоков обоих Бугов[4], Западного и Южного, почти до берегов Эвксинского Понта[5]. О былых же ратных делах напоминали Ярославу два застарелых шрама. Один проходил по лицу, тянулся под правым глазом от резко выступающего носа с родовой горбинкой к виску, второй белел на деснице[6] между средним и безымянным перстами и пересекал вдоль всю ладонь.
С недавних пор по утрам Ярослав стал подолгу бывать на забороле[7] крепостной стены. Во всякую погоду: в снег ли, в дождь, в жару – непременно простаивал он какое-то время у зубцов или в стрельнице, окидывал взором дальние дали, любовался раскинувшимся внизу собором Успения, смотрел на гладь Днестра и заречные холмы, густо поросшие лесом. Вдыхая полной грудью чистый воздух, словно набирался князь сил для грядущих дел.
Вот вроде всё он сделал, всего достиг в свои тридцать семь лет, его уважают, его боятся, но вставали перед ним новые и новые заботы. Нелёгок путь правителя, тяжко оно, бремя власти над землёй. Это он ощутил в полной мере. Лишь иногда, на короткое время позволял он себе отвлечься от дел и выехать куда-нибудь за город, на ловы[8]. Но и там его настигали вести, и там подступали к нему бояре, просили волости в держание, подходили, улучив мгновение, смерды[9] и закупы[10], падали в ноги, молили о княжеском суде.
Такова была жизнь. Власть – она забирала его, Ярослава, целиком, без остатка, заставляла погружаться в дела, как в омут с головой. А тут ещё и в доме собственном не было никакого покоя и порядка.
Был Ярослав женат на дочери покойного Юрия Долгорукого, Ольге, – женщине грубой, неотёсанной, громогласной, с годами располневшей непомерно. Супруги не любили друг друга, и неприязнь эту порой едва сдерживали. Скрадывали их извечное взаимное недовольство ночные совокупления, но и они становились с годами всё реже. В браке с Ольгой имел Осмомысл двоих детей – сына Владимира и дочь Евфросинью. К дочери привязался, с дочерью возился, когда позволяло время, Владимира же недолюбливал, ибо полагал, что не его то сын и что была уже Ольга беременна, когда двенадцать лет назад ударили их отцы по рукам, заключая выгодный союз между Суздалем и Галичем…
Князь радовался тем немногим дням и часам, когда мог отбросить в сторону докучливые заботы и забыть о судах, волостях и обо всём, что творится в своём тереме. Вот почему улыбнулся Ярослав, когда подошёл к нему в очередной раз с предложением поохотиться в своих лесных угодьях боярин Чагр, сын перешедшего на службу ещё к его деду, Володарю, половецкого[11] бея[12].
– Говоришь, зверья много? – переспросил Осмомысл, лукаво щуря свои глубоко посаженные глаза цвета речного ила. – А хоромы там у тебя как, добры ли, просторны?
– На всех места хватит, княже. Так поедем?
– Поедем, боярин. Уважу тебя.
…Соловый[13] иноходец под седлом вышагивал важно, степенно, выбрасывал вперёд длинные ноги, иногда мотал светлой гривой, отгоняя назойливых мух.
Намедни[14] Ярослав самолично вычистил и помыл своего любимца. Добрый конь чуял руку хозяина, шёл спокойно, твёрдо. На голове у него красовался пышный султан из белых перьев.
Лицо галицкого князя загорело под августовским солнцем, русые волосы, спускающиеся на чело и на затылок из-под войлочной шапки, выгорели, посветлели, равно как и долгая узкая борода, придававшая Ярославу вид скорее учёного мужа, нежели правителя.
По правую руку от него скакал боярин Чагр, по левую – Шварн Милятич, чуть позади держался Зеремей Глебович. За ними следом растянулся отряд молодшей дружины[15]. Здесь же ехали и боярские родичи и слуги. На крытых рядном возах везли добро и доспехи.
Лёгкое алое корзно[16] струилось за плечами Ярослава, жемчужная застёжка, фибула[17], сверкала на плече, рукава синего кафтана, шитого из лунского[18] сукна, перехватывали обручи. Бояре тоже были одеты в богатые одежды – на каждом был плащ-мятелия, на выях[19] блестели золотые и серебряные гривны[20].
По приглашению Чагра держали они путь на берега стекающей с Горбов быстрой речки Ломницы. На самом крутом яру над рекой находились двухъярусные Чагровы хоромы, а окрест[21] обнесённого высоченным тыном двора простирались по обоим берегам пенистой речки обширные охотничьи угодья. В хоромах решено было на короткое время остановиться и поутру заняться ловитвою. Хоть ненадолго, но хотел Осмомысл отвлечься от державных хлопот.
А хлопоты предстояли немалые. Едва вздохнул князь облегчённо, сведав о гибели Берладника, как смуты охватили соседнюю с Галичиной землю угров[22].
На исходе мая в Эстергоме[23] в королевской резиденции в одночасье внезапно скончался прежний лютый враг Ярославова отца, а в последние годы его союзник, король Геза. Власть в Венгрии взял совет из «лучших и достойных лиц», во главе которых встали вдовая королева Фружина и епископ Лука. На престол был возведён один из сыновей покойного, пятнадцатилетний Иштван. Этому воспротивился брат умершего Гезы, Владислав, до недавнего времени – правитель Боснии. В угорские свары тотчас вмешался ромейский базилевс[24] Мануил, решивший поддержать Владислава в борьбе за трон. Угорская знать раскололась надвое, в ряде городов вспыхнул мятеж против Иштвана и его матери.
Как следовало сейчас поступить ему, Ярославу? Недавно он разорвал былое соглашение отца с империей ромеев, в котором покойный князь Владимирко признавал себя вассалом Мануила. И теперь приходилось кусать уста и мучительно размышлять: а не поспешил ли он? Но разве мог он предвидеть столь неожиданный поворот событий?!
В одном был Осмомысл уверен – в прочности своего союза с Волынью. Тамошний владетель, князь Мстислав Изяславич, его братья и родичи непременно помогут ему ратью, если только Мануил и Владислав осмелятся… Но об этом пока не было и речи. Слишком тугой узел противостояний завязывался в Эстергоме, в самом центре Европы. Он, Ярослав, не торопился, старался взвесить все «за» и «против». И он не решил покуда, чью принять сторону.
…Из-за поворота дороги вынырнули просторные хоромы. На широком увале раскинулся двор с приземистыми мазанками челяди[25], с псарней и конюшней, с одноглавой часовенкой, сложенной из белого галицкого камня.
Угорский иноходец величественно вплыл в ворота. Тотчас обступила вершников[26] толпа челяди. Князю кланялись до земли, помогли сойти с коня, проводили к терему. Ярослав приветливо кивнул сыновьям хозяина, Матфею и Луке, узнал племянника Чагра Акиндина, скромно стоящего в стороне от ворот, знаком поманил его к себе, сказал:
– Ну вот, друже. Просился ты на службу, и настал наконец-то, пробил твой час.
Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто их не слышит, князь добавил вполголоса:
– После ловов приходи. Будет к тебе одно дело хитрое.
Смуглое лицо молодого половчанина просияло, он слёзно благодарил князя и кланялся ему в пояс.
«Поглядим, как управишься с первым порученьем. И способен ли будешь не токмо[27] мечом махать, но и многотрудное проворить», – думал князь. На Акиндина он надеялся.
Навстречу ему в малиновом летнике с широкими рукавами, с венчиком в белокурых волосах выступала павою совсем ещё юная девушка, столь красивая, что глаза захотелось зажмурить. Не бывает такой красоты на земле, только ангелы могут быть столь прекрасны. Как сказочное видение, проскользнула, неслышно ступая по траве, молодица через расступившуюся толпу слуг, поднесла Ярославу на рушнике хлеб-соль, поклонилась ему, чуть присев и склонив голову. Глазки серые с раскосинкой смотрели пытливо, без робости и смущения.
«Неужели она?! Та самая девочка Настя, дочь Чагра?! Ну да, конечно! Выросла, во красу писаную превратилась! Сколько ей лет? Пятнадцать, должно быть. И глазки те же, и уста пунцовые, и носик тоненький! И глядит-то как! Словно ждёт, что я ей скажу».
С трудом, одолевая наваждение, оторвал князь взор от красавицы-девушки.
– Спасибо за хлеб-соль, боярышня, – коротко поблагодарил он её и, переглянувшись с Чагром, пошёл ко всходу[28] с мраморными ступенями.
– Всегда тебе услужить готова дщерь моя, – осторожно заметил Чагр.
Молвил тихо, так, чтобы ни Зеремей, ни Шварн не услыхали.
В горнице допоздна шумел весёлый пир. Ярослав сидел вместе со всеми, поднимал чару, а думал только о ней – об Анастасии. Глухими толчками билось в груди сердце. Пил одно красное вино, ол[29] и мёд не принимал, по прежним пиршествам зная, как после смешения напитков болит чрево. Вообще, выпил вроде он в тот вечер немного, но голова кружилась, по телу растекалась какая-то необычная лёгкость.
Боярский челядин отвёл его в ложницу, слуга – старый верный Стефан – стянул с ног тимовые[30] сапоги, помог снять рубаху. Повалился Ярослав на пуховую постель, мягкую и широкую, забылся сном.
Проснулся он ещё затемно, словно от толчка какого-то. Перекрестился недоумённо и даже немного испуганно, огляделся по сторонам. Ложница, как ложница. Вокруг – никого. Стефан посапывает тихо на ларе у двери.
Князь поднялся с ложа, набросил на плечи рубаху, прислушался, уловил едва различимый короткий стук в дверь.
Странно, что старик Стефан не проснулся. Он всегда спит чутко и слышит каждый шорох в ночи. Или… Бог весть, чем угостили его на поварне боярские слуги.
Ярослав, неслышно ступая, подошёл к двери и медленно отодвинул засов.
Чья-то маленькая рука ухватила его за запястье.
– Пойдём, княже. Ступай за мной, – прошелестели милым шёпотом слова.
Яко тать[31], крался он по переходам, поднимался по лестницам, спускался вниз, потом снова поднимался.
Возле одной из дверей спутница его остановилась. Звякнул в замке ключ. Вспыхнула зажжённая свеча. Огонь выхватил из темноты лицо Анастасии, улыбка проступала на её пунцовых устах.
Она потянула его к себе, втащила в камору и решительно закрыла дверь.
Ярослав стоял очарованный, глядел на неё и не мог налюбоваться. Не передать словами всей открывшейся ему в одночасье юной красы.
Девушка села на край скамьи, со светлой улыбкой глянула на него, оробевшего, застывшего возле дверей, залилась тоненьким журчащим смехом.
– Испугался меня, что ль? Я думала, все князья – люди отважные и смелые. Да не русалка я, не вила лесная. Не погублю, не бойся. Просто… Хорошо нам с тобою будет. Вижу, по тебе вижу: несчастен ты. Никто тебя не приголубит, никто не пожалеет. А я… я для того и пришла.
Откуда столько смелости взялось у юной Анастасии? Зарделась девица, вспыхнули багрянцем её нежные гладкие ланиты. Задрожали трепетные уста. Чуть не разрыдалась боярышня, но Ярослав порывисто обхватил её сильными своими дланями, впился устами в багрянец щеки, затем жарким поцелуем ожёг уста. Забыта была в этот миг обоими робость, забыл Ярослав, что он – князь, что у него жена и дети, а Анастасия не помнила, что есть у неё строгий отец и братья. Всё осталось где-то в стороне, вдали, были в целом мире сейчас только они двое – мужчина и женщина, и было охватившее их обоих всепоглощающее чувство, такое чистое, светлое, обжигающее, как летнее солнце, яркое, как вспышка костра в чёрной ночи.
До утра они лежали на широком ложе в светлице. Утомлённая ласками, Настя заснула, князь с умилением и нежностью смотрел на её лицо, слушал её тихое дыхание. Он осторожно провёл ладонью по её волосам, долго любовался её маленьким розовым ушком, её тонким носиком, словно из мрамора выточенным, лебединой шеей, на которой чуть заметно билась голубоватая жилка.
«Экая прелесть!» – только одно и сидело в голове.
В оконце, прорубленное наверху в стене, упал луч восходящего солнца. Ярослав спохватился, стал наскоро надевать порты, натянул на плечи рубаху. Девичья нежная длань обхватила его, легла на живот.
– Давай ещё полежим, – шепнула Настя.
– После, лада моя. Сейчас мне идти надо. Челядь, бояре. – Ярослав обернулся, крепко расцеловал её и с улыбкой добавил, разведя руками: – Князья – люди несвободные. Всегда на виду, все на них смотрят. Хочешь стать княгиней – пойми это. Часто приходится идти наперекор своим желаниям. Ну, до встречи. Не в последний раз, чай, видимся. Жалимая моя!
– Погоди. Не уходи покуда! Всё одно дороги не отыщешь в лабиринтах наших. Провожу. – Анастасия засмеялась. – Гость дорогой! Заплутаешь в переходах. Да тем и отбрешешься, еже[32] что. Вышел, мол, по нужде, да обратной дороги не сыскал.
– Князю оправдываться не перед кем, – усмехнулся Ярослав, понимая, впрочем, что возлюбленная права.
Не замеченные вроде бы никем, покинули они бабинец[33] и расстались в переходе на лестнице. Ярослав узнал дверь своего покоя.
– Ночью приходи. Или я приду. Челядинца своего отошли куда, – шёпотом предложила на прощанье девица. Лукаво светились её серенькие глазки. – Да, – поспешно добавила она, – и на ловах себя береги. На зверя не лезь. Пущай бояре тешатся.
В сенях[34] послышался шум. Настя тотчас исчезла в переходе, словно растворилась. Будто и не было её вовсе, а был один сон, одна марь какая-то. Виски сдавила лёгкая боль. Ярослав юркнул в свой покой и растолкал старика Стефана.
– Вставать пора! Солнце на дворе, – объявил он, нарочито хмурясь.
…«Хочешь стать княгиней», – так сказал Насте Ярослав. Застучало сердечко девичье, забилось, когда шла Настя по переходу и вспоминала эти слова. Ещё бы, не хотела она быть княгиней! Всюду и всегда жаждала она быть первой, встать мечтала выше прочих, вознестись так, чтоб голова кружилась. Напрасно старая бабка-ворожея остерегала, говорила ей, качая головой:
– Падать, чадо моё, больно с высоты высокой! Не лезь в гору крутую! Беда тамо тя[35] ждёт!
Вечно боялась за неё бабка. Да вот сама не убереглась, в прошлую зиму перебиралась по льду через Ломницу, провалилась в воду и утопла. Оставила после себя она Насте каморку на верхнем жиле[36], на чердаке хором, старую книгу чародейскую в дощатом окладе и кое-какие знания ведовские.
Разумела Настя толк в травах, собирала их на лужайках и в лесу, каждую травку в строго означенное время: одну – на закате, другую – на рассвете, третью – в полдень.
После из сухих сборов готовила дочь Чагра разноличные зелья. Никого не лечила, никого не травила, никому доднесь[37] в питьё ничего не подливала. Просто по нраву была сия знахарская наука. Когда же заметила Настасья внимание к себе князя, решила тайное знанье своё применить. Незаметно подсыпала старому Стефану в чару сонной травы, Ярославу же добавила в вино немного приворотного зелья. И, кажется, возымело и то, и другое действие. Вот так и обратилась прежняя нелепая забава в важное для юной боярышни дело.
Идя по переходу и вспоминая Ярославовы ласки, Настя довольно хихикала, прикрывая ладонью рот.
– Мой будешь, княже! Никуда не денешься! Всё от тебя получу! – беззвучно шептали уста.
Молодость, красота, неуёмная энергия били из дочери Чагра могучей струёй. Она клялась самой себе, что ни за что не остановится, покуда не взберётся на самую крутую вершину. А дальше? Да пусть и вниз, пусть – падение! Пусть – вдребезги! Она рискнула раз, рискнёт снова. И будь, что будет! Лучше один день провести на высоте, в короне золотой на голове, чем век вековать в безвестности и ходить в убрусе[38] чёрном!
Начала бедовая лукавая девка свою игру, и ничто на свете не могло теперь её удержать: ни доводы разума, ни наставления отца, ни опасения покойной бабки.
Глава 2
Утренний лес наполняло звонкое пение птиц. Воздух напоён был свежестью, запахами листвы и хвои. Меж дерев промелькнула небольшая полянка, вся сплошь покрытая сухой выжженной солнцем травой. Вершники вереницей проскакали по её краю, унырнув затем в тенистую прохладу под раскидистые дубы и грабы.
Вдали раздался громкий лай собак.
– Зверя гонят! – радостно крикнул, предвкушая лихую забаву, Матфей Чагрович.
Всадники, нещадно хлеща коней, растеклись по лесу широкой лавой.
Ловчий, холоп[39] Чагра, показался из поросшего орешником оврага.
– Боярин, медведя стронули! Не медведь – медведище! Огромадный, лохматый. Отродясь таковых не видывал!
Загорелись глаза у удатных[40] молодцев, рванулись они вперёд, туда, куда указывал ловчий.
Вспенив воду в ручье на дне оврага, вершники взмыли на увал, вытянулись в линию, помчались в сторону Ломницы, откуда доносились крики и лай.
Ярослав держался сзади. Слава Христу, о его присутствии, кажется, все забыли. Он остановил скакуна, неторопливо спешился, напился из ручья ледяной ключевой воды. Права Настя: пусть тешатся ловами бояре. У него, Ярослава, к охоте душа не лежала.
Он достиг, ведя коня в поводу, берега Ломницы. Крики и лай удалялись, затихали, уходили куда-то вдаль, в сторону лесистого гребня Горбов.
Красивы здешние места, очаровывают путника, особенно в конце лета или в начале осени, когда одеваются деревья в золотой сказочный наряд. Глаз не оторвать от скал на противоположном берегу, от речки, которая громко шумит на перекатах и раз за разом круто меняет направление своего течения. Потому, верно, и прозвали её Ломницей, русло её – словно ломаная линия. Кое-где проступают посреди реки белые спины крупных валунов.
Засмотрелся Ярослав, качая заворожённо головой, залюбовался видом с высокого берега и не заметил сразу, как подъехал к нему на вороном жеребце и остановился рядом некий всадник в синем плаще. Когда же обернулся на шум, хмуря чело от того, что оторвали его от созерцания величественной природной красоты, то внезапно вздрогнул. Лукавые серые глазки Настасьины встретили его, улыбка ласковая играла на устах. Вся светилась от радости девушка. И опять не выдержало истосковавшееся по любви сердце, шагнул Ярослав навстречу красавице, стянул её с седла, прижал к груди. Нежно опустил на траву, впился устами в белую лебединую шею, прошептал:
– Радость моя! Жизнь моя! Кажется, давно тебя ждал! Ждал и верил!
– Княже мой! И я, как тебя увидала, почуяла: вот оно. Захолонуло сердечко! Никого и ничего боле не надобно! Токмо ты, ты! Люб ты мне!
Забытые кони жевали траву. Охотники и ловчие ушли куда-то далеко и не мешали влюблённым. На берегу было пустынно и тихо. Забравшись под ветви могучего дуба, скрытые от посторонних очей, наслаждались Ярослав и Настасья друг другом.
Быстро, незаметно пролетели часы неземного счастья. Ярослав первым словно очнулся от забытья, услышав громкие голоса гридней[41], зовущих его.
– Мне пора, – прошептал он, на прощание целуя Настасью в губы. Наскоро натянув порты, рубаху и плащ, обув ноги в тимовые сапоги, он свистом подозвал коня, впрыгнул в седло и помчался на голоса, крикнув в ответ:
– Здесь аз!
…Как ни хоронились влюблённые средь густой листвы, а не укрыл их дуб от людских недобрых глаз.
Вскоре в один из поздних вечеров постучался в дом боярина Коснятина Серославича шурин его, Зеремей. Ввалился в сени, бросил на руки холопу кожух[42], шумно сопя, расположился на крытой алым бархатом лавке напротив мрачного хозяина.
– Слово имею к тебе, зятюшко. – Он смахнул ладонью с чела крупные капли пота.
– Говори, Зеремей. – Коснятин через силу натянуто улыбнулся. – Вижу, не попусту пришёл. Есть что молвить.
– Помнишь, на прошлой седьмице[43] ездили мы на ловы? Боярин Чагр пригласил. Дак вот… Заметил я, князь-от наш, Ярослав, с дочки Чагровой очей не сводил. Спору нет, красна девка сия.
– Настасья, кажется. Так ведь её звать? – перебил Зеремея сразу заметно оживившийся Серославич. – И что? Мало кто там кому приглянуться может? Посмотрит князь – да позабудет тотчас.
– Эге! Как бы не так! – Зеремей рассмеялся. – Поутру выехали мы на зверя. Медведь матёрый попался, едва управились. Дак вот, гляжу я, что все бояре тут, на ловах, а князя-то и несть нигде. Ну, покуда Чагр тамо с сынами своими да со боярами с добычею управлялись, отъехал я посторонь. С коня сошёл, веду в поводу. Любуюсь, значит, берегами Ломницы. Баско вельми окрест. Красота – дух захватывает. Вдруг вижу: две лошади у брега пасутся. Признал в одном княжьего скакуна. Ну, подобрался я поближе и вижу: под дубом раскидистым, под ветвями зелёными Ярослав со дщерью Чагровой греху предаются. Лежат в чём мать родила на шелковых мятелиях и срамным делом занимаются, значит. Ну, я в сторонку, подалее. А потом слышу, гридни князя кличут. Тотчас отозвался он, вышел к ним. А Настасьи более не видывал. Верно, другой дорогой к дому уехала.
– То точно Чагровна была?
– Точно, Коснятин. У мя глаз на баб намётан. – Зеремей снова расхохотался.
– Уймись. Не к месту смех твой, – зло пресёк веселье Серославич. – Вот оно, стало быть, как. Чую, не случайно Чагр всё вокруг князя отирается. Сынов пристроил, племянничка. Топерича[44] и дочку, выходит, в княжью постель толкает. Хитёр, белый куман![45] Ну да и мы не из простых. Тако ведь? – Коснятин лукаво подмигнул собеседнику. – Вот что, Зеремей. Никому о том, что видал, ни слова не сказывай. Со временем узнаем, всерьёз ли увлечётся князь Чагровной, али позабудет сию забаву пустую. А покуда молчи. Не вздумай княгине Ольге чего ляпнуть.
– Да чего я ляпну? Ко княгине ты мя и близко не подпустишь. Окружил её псами своими.
– Тако нать. Княгиня, чую, когда и поможет. А когда, наоборот, мы ей. Вот сынок у тебя, Глеб. Сколь годов ему ныне?
– Ну, двадцатый идёт. А чего?
– А Настасье, верно, пятнадцать, не более. И вон сколь ловка девка!
– Не уразумел. К чему тут сына моего приплетать? – нахмурился Зеремей.
– Да к тому, что красавец он у тебя. Заглядываются, чай, на добра молодца и посадские[46] бабы, и дщери боярские. И у княгини, чай, сердце не каменное. И ей ласк хочется.
– Дак ты что ж?!
– Да я ничего. Думаю вслух просто. И полагаю, что мы с тобою – не глупее Чагра. А у княгини на Руси – связи широкие. Братья у неё, Юрьевичи, – вона какие князи. Что Андрей, что Глеб. И потом, сынок у неё… Одиннадцать лет парню. В его лета уже и столы в иных землях княжичи получают. А слуги верные любому князю надобны, тем паче молодому. Когда что подсказать, когда направить думы и дела по пути верному. А кто, как не бояре ближние – самые слуги надёжные. В общем, пораскинь мозгами, Зеремеюшко. И о сыне своём, и о княгине с княжичем, и обо всех нас, боярах галицких.
Замолчал Коснятин, кривая ухмылка пробежала по его устам. Зеремей, полный, огромный, напоминавший со своей толстой мощной шеей и выступающим вперёд лбом быка, хмурился, вороватыми карими глазами окидывал светлую богато украшенную майоликой[47] горницу.
Наконец отмолвил хрипло:
– Ладно. Глеба в хоромы ко княгине приведу. Ты его тамо представь как подобает да ко княжичу приставь. Пущай окрест княжича отирается.
– Вижу, разумом тебя Господь не обделил. Хвалю. Ну, а топерича… – Коснятин поднялся со скамьи. – Дозволь, отобедай у меня. Щи знатные да ушица из голавля, да пироги, какие Гликерья стряпает, – персты оближешь. Ну и вина у меня вдоволь. Из угров привезено, белое.
…Попировали, и в самом деле, бояре в тот день славно. Когда же отправился Зеремей восвояси, поздно ночью явилась к мужу в покой Гликерия Глебовна.
– Слыхала я весь разговор ваш. На что толкаешь ты брата, Коснятин? – потребовала она ответа. – Али супротив князя что мыслишь?
– Да что тебе… – начал было Серославич, но внезапно осёкся. – Ты, выходит, подслушивала, дрянь! Да как ты посмела?!
– Да будто я и без того не ведаю, что ненавидишь ты князя нашего. Вот почто ненавидишь, не пойму никак. – Гликерия грустно усмехнулась и пожала плечами. – Одно ведаю: из за сей ненависти твоей и деток у нас более нету. И Пелагея умом повреждена.
– Экая глупость! – злобно рявкнул Коснятин. – А что не по любу мне Ярославка, дак оно верно. Вопрошаешь, почто?! Да он тогда под Теребовлей отца моего в чело поставил, на гибель верную, а сам сзади укрылся! Батюшка мой сгинул, а Ярославка с ворогами нашими, со Мстиславом Изяславичем союзиться вздумал! И ещё. Вот ты подслушиваешь под дверью толковню[48] нашу. И что разумеешь? Ответь: в чём сила земли Галицкой?.. Молчишь? А я тебе отвечу: в нас, в боярах, в единодушии нашем! Мы, бояре – сердцевина земли, мы – опора её! Без нас не будет ни князя, ни попов, ничего не будет! А Ярославка – он нас, родовитых бояр, не держится, таких, как Семьюнко безродный или как Шварн, чужой нам, на наши места в думе выдвигает. Хочет пригнуть бояр к земле, навязать им свою волю, узду на шею повесить. Да не получится у него! Слышишь ты?! Не получится! Вон как в Новом городе, тако и у нас будет! Князя сами себе выбирать станем мы, бояре!
Боярыня сокрушённо замотала головой в тёмном убрусе.
– Экие мысли у тя страшные! Бес в тебе сидит, Коснятинушко! Ты б во храм сходил, покаялся! Иначе… Сердцем чую, лихо нам всем будет. Не получится у нас, яко в Новом городе. Не собрать тебе бояр. Розно они живут. У кажного – свои помыслы, своя стёжка-дорожка. И кажен другому путь перебежать хочет.
Ничего толкового не ответил ей Коснятин, не возразил, отмахнулся лишь, промолвил скупо:
– Тамо поглядим. Ясно дело, голову в пасть львиную класть не стану. Но батюшкину смерть ему не прощу. Николи[49] не прощу! Тако и ведай!
Жена, взяв в руку свечу, со вздохом удалилась, а Серославич долго ещё вышагивал взад-вперёд по покою и тихо повторял:
– Чагровна, стало быть. Что ж, поглядим, поглядим!
Глава 3
Князь Киевский Ростислав Мстиславич паче прочего уважал и любил иноческий чин. Почасту проводил он время в Киево-Печерском монастыре, приходил на трапезу к монахам, вкушал по средам и пятницам постную пищу и со слезами на глазах почти всякий раз говорил, что покинет наскучивший ему великий стол, примет постриг и окончит земные свои лета в Печерах. И всякий раз монашеская братия во главе с новым игуменом Поликарпом, который занял место почившего Акиндина, хором удерживала Ростислава от столь неблагоразумного поступка, говоря:
– Тебе, княже, иная стезя Господом назначена! Правь нами, сирыми, а мы молиться будем за тебя и за всю землю Русскую.
Растроганный, возвращался Ростислав в свой дворец. Править ему и в самом деле не хотелось, но твёрдо осознавал он, понимал: он – старший, и власть его зиждется на старых обычаях, на заветах отцов и дедов. Если же порушишь сии заветы, всё пойдёт на Руси кувырком, как было в годы правления обоих Изяславов.
Не обделил Бог князя Ростислава потомством. Первенец его, Роман, занял смоленский стол, второй сын, Святослав, княжил покуда в буйном и непокорном, как необузданный конь, Новгороде, младшие сыны – Давид, Рюрик и Мстислав – получили от отца городки в Киевской волости. Так уж вышло у Ростислава, что следом за пятью сыновьями родила ему княгиня троих дочерей – Елену, Аграфену и Агафью. Дочери пока были малы, но им уже подыскивал чадолюбивый князь добрых женихов на Руси и за её пределами.
Семью свою Ростислав любил, всех старался обустроить, а вот державными делами занимался мало, не следил ни за дружиной, ни за тиунами[50]. От разборов судебных дел отмахивался, словно не его то были заботы. Тиуны лихоимствовали, бояре самоуправствовали, о Правде Ярославовой начинали в сёлах и деревнях забывать.
После гибели в бою на Желани главного противника Ростислава в борьбе за Киев, Изяслава Давидовича, жизнь в Киеве потекла размеренно и спокойно. Никто не воевал, не грозил ратями, мир был заключён и с Черниговом, и с Суздалем, и с половцами. Наезжали в Киев послы в нарядных одеяниях, щедро одаривали Ростислава и его ближних подарками, славили самого князя и его окружение за мудрость. Так было принято. Наступило на Руси время хрупкого, зыбкого равновесия.
…Галицкий боярин Избигнев Ивачич в последнее время зачастил в стольный. То посылал его Осмомысл с грамотами к Ростиславу, то приглашал погостить у себя в вотчинах старинный приятель, боярин Нестор Бориславич, а то и сам, по своей воле и охоте приезжал Ивачич в Киев. На Копырёвом конце[51], возле строений Симеонова монастыря купил Избигнев старинный дом, говорят, выстроенный некогда одним иудеем-ростовщиком. Иудей тот погиб вместе с семьёй во время полувековой давности встани[52] в Киеве, вспыхнувшей по смерти князя Святополка Изяславича, и просторный дом переходил из рук в руки. Сперва володел им огнищанин[53] Всеволода Ольговича, после – вышгородский[54] тысяцкий[55], следом за ним – богатый купец – гречин, который, собственно, и продал сии хоромы Избигневу.
Дом пришлось обновить, окна покрыть наличниками, стены снаружи подвести киноварью[56], изукрасить узорами. Имел дом два яруса и две круглые теремные башенки, пристроенные по краям. Деревянные ступени всхода велел боярин заменить на новые, сложить их из белого галицкого камня. Рядом с домом возвели одноглавую церковь, неподалёку, посреди двора, выстроили высокую серокаменную башню с узкими решётчатыми окнами. Башня сооружена была для боярыни Ингреды и напоминала ей о Швеции, где провела супруга Избигнева свои юные годы.
К башне примыкал яблоневый сад с небольшим прудом, в котором плавали утки и гуси.
Два лета без малого строили, подновляли и украшали хоромы на Копырёвом конце зиждители[57] и строители. И вот когда наконец завершены были все работы, пригласил к себе Избигнев друзей своих киевских – бояр Нестора и Петра Бориславичей.
Вначале, как было принято, обошли дом и сад, Избигнев показывал, как у него что устроено, братья Бориславичи кивали в ответ головами, отвечали коротко:
– Лепо. Баско. Добро содеяно.
После сытного обеда сидели втроём в горнице. Нестор спрашивал, хитровато щуря карие глаза:
– Боярыню мыслишь поселить здесь с чадом? И сам жить будешь? Киянином[58] порешил стать?
– Не совсем так, друже. Жить здесь временами буду. Всё ж таки на службе состою у князя Галицкого, дел и в Галиче немало. Дом же пусть стоит. Уж вельми место сие приглянулось мне. Может, дети мои, внуки навсегда здесь поселятся. А может, и нет.
– Может, нет, – задумчиво повторил многомудрый Пётр.
Беседа быстро перетекла на нынешнее положение вещей. Избигнев стал расспрашивать о князе Ростиславе.
– Хандрит князь, – отвечал ему Нестор. – Всё в монахи идти хочет. Едва отговорили намедни.
– И что будет, если уйдёт он?
– Да что будет. Мстислава Изяславича в Киеве любят. Многие бояре – за него.
– А сыны Ростиславовы?
Нестор пожал плечами и ничего не ответил. Промолвил Пётр:
– Давид и Рюрик – жадны они до волостей. Роман – тот покладистей, спокойней норовом. Книжник, как твой Осмомысл. Но Мстислав Изяславич – стратилат. И прав на Киев у него больше. Ибо отец его сидел в Киеве раньше Ростислава.
– Да уж. – Нестор вздохнул.
Видно было, вспомнил боярин прежние времена, князя Изяслава Мстиславича. Вспомнил и Избигнев слова Петра у гроба Изяславова: «Последний великий князь был у нас».
После явилась к ним молодая хозяйка, вся блистающая узорочьем цветастых дорогих одежд. Выступала Ингреда, стойно[59] княгиня, говорила, чуть растягивая гласные:
– За стол прошу вас садиться, бояре. Сбитня, квасу, закусок разноличных прошу отведать.
Красива была Ингреда. Тонкий стан, белоснежная кожа лица, высокое чело, короткий, немножко вздёрнутый носик, уста алые, как ягодки рябины, – засмотрелись на неё братья. Пётр первый одёрнул себя, отворотил взор, потупил очи. Зарделся, яко девка, а ведь в свои сорок с лишком годков уже во второй раз был женат.
– Благодарим тебя, хозяюшка добрая, – поднявшись с лавки, слегка наклонил голову Нестор. – Рады мы за тебя и за Избигнева. Видим, что живёте вы друг с дружкою душа в душу. Тако бы и нам всем.
Он искоса глянул на брата. Пётр ни в первом браке, ни во втором счастья не обрёл. Первой супругой его была сестра тысяцкого Улеба. Красивая была девка, да гулевая, не сиделось ей в тереме у Бориславичей. Носила боярыня гордое имя Евпраксия, но за похождения её, всему Киеву известные, прозвали её Забавою. Во время одного из приходов в Киев Долгорукого сбежала она от Петра с красивым суздальским отроком[60]. После искали её, даже в Суздаль людей посылали. Ответил тамошний тысяцкий: померла, мол, Забава ваша во время мора вместе с полюбовником своим.
Погоревал Пётр, да делать нечего, оженился вдругорядь[61], на одной молодой вдове, Евдокии Путятичне. Да вновь неудачно, хоть и получил за женой немалое богатство. Новая жена оказалась крикливой и властной бабой, кулаки у ней были крепкие, такие, что и поколотить могла своего тихого, спокойного нравом супруга. Кроме того, на каждом празднике упивалась боярыня до положения риз, так, что стыдно за неё становилось перед людьми. Где то видано было, чтоб жёнка тако себя вела? Оставалось вздыхать да разводить руками. Прогнать бы её прочь, да не хотелось Петру терять доставшиеся ему от жены волости. В волостях тех навёл он порядок, сам поставил верных себе честных тиунов из своих холопов, наладил в короткий срок порушенное хозяйство. Его хвалили, а кроме того, известен был Пётр на весь стольный Киев своей учёностью. Был умелым уговорителем, мог и князя убедить в своей правоте. Князей в Киеве сменилось немало, а он, Пётр, оставался. Бояре киевские ценили его советы, простой люд уважал за то, что не бесчинствовал он в своих владениях, давал дышать простому человеку. А вот в семье у Петра лада не было. Приходилось ему тосковать горько да другим завидовать.
…Братья покинули Копырёв конец уже в вечерних сумерках. Ехали конные, шагом, не спешили.
– Добре друг наш Избигнев устроился, – сказал Нестор.
– Это так, – согласился старший брат.
Оглядевшись по сторонам, не подслушивает ли их кто, он хриплым голосом негромко добавил:
– Ты, брат, не всегда ему всё, что думаешь, говори. Пойми, он – человек Осмомысла. А у галицкого властителя, думаю, чаяния и мечты дальние. Это тебе не Ростислав богомольный. Осмомысл – у него на Галичине порядок, бояре спесивые тихо сидят.
– И что? Думаешь, Осмомысл на Киев посягнёт?
– Нет, не то. Умнее он. Полагаю, он своего ставленника посадить здесь захочет. А Избигнев – первый у него человек. Вызнает всё, и о боярах, и о посадских людях. Вот тогда… Как бы нам под Галичем и не оказаться, брат Нестор. Но то так покуда, мысли мои, предположенья. Одно скажу: осторожен в разговорах с Ивачичем будь. Лишнего не болтай. Понял?
Нестор угрюмо кивнул головой. Не хотелось ему хитрить с человеком, которого считал другом, но понимал он, что Пётр прав. Сегодня они – заодно, а заутре… Бог весть, что будет. Слишком тугой верёвкой переплетены на Руси интересы разных людей: князей, бояр, воевод.
…Утонули в синей сумеречной мгле за Жидовскими воротами всадники. Стих вдали топот копыт. На Киев спустилась ночь.
Глава 4
Плоскую равнину, поросшую дубовым и буковым лесом, пересекали узкие, глубокие овраги, по которым проложили себе русло бесчисленные речушки. Край, полный зверя, птицы, рыбы, окаймлённый с западной стороны долиной Сирета, а с востока – Прута, сложенный известняками, глинами и песчаниками, издревле был обиталищем разноличных бродяг и беглых людей из сопредельных земель – Угрии, Червонной Руси, Болгарии. Крутой дугой охватывала плато река Берлад, а на правом берегу её раскинулся город с тем же названием – самый большой в этих местах. Селились тут славяне, греки, угры, волохи[62], печенеги – кого только не было. Неподалёку от Берлада находились развалины древней дакийской крепости Зузидавы, разрушенной то ли римлянами, то ли славянами, то ли готами много столетий назад. Город Берлад имел широкую пристань, просторное торжище, повсюду видны были мазанки и отдельно стоящие избы-хутора. А вот укреплён был Берлад неважно, опоясывал его лишь частокол из плотно подогнанных друг к другу заострённых кольев. Но нападения вольница берладницкая не боялась – где не спасали стены, помогали храбрость и отчаяние. Доселе никому из соседей не удавалось подчинить Берлад, склонить к земле, подавить волю его непокорных жителей. Жили набегами, ходили «за зипунами» аж за сине море. Друг дружку держались, понимая, что при такой лихой жизни всякая может приключиться беда, братались, а для выбора нового похода скликали круг. На том же круге выбирали тысяцких, сотников и десятников. Единой власти не было. Кто не хотел, мог уйти.
…Старый, с седыми вислыми усами и морщинистым лицом, в нескольких местах перерезанным застарелыми шрамами, сотник Нечай не удивился, увидев перед собой незнакомого чернявого парня, одетого кое-как, в стоптанные постолы[63] и пыльный кафтан землисто-серого цвета. Баранья папаха лихо заломлена набекрень, чуб вьётся на смуглом челе, белые зубы сверкают в улыбке. Много таких, молодых удальцов, приходило в Берлад, многие добывали себе славу, богатство. Но были и те, кто и голову терял в первом же бою, в лихой сумасшедшей сшибке с очередным врагом. Это уж кому как повезёт.
Сам Нечай в последние годы жил тихо, в походы почти не хаживал. Лета были уже не те, чтоб мчаться с саблей наголо по степи, выискивая добычу, или грести на струге, вспенивая морскую гладь. То одно болит, то другое. Добра же накопленного за годы жизни в Берладе покуда сотнику хватало. Да вдвоём со старухой-женой они как-нибудь век свой доживут. Было у Нечая трое сынов, да все полегли в жарких сечах, были две дочери, да давно уже вышли они замуж и уехали в дальние края: старшая – на Волынь, младшая – в Поросье. Только и осталось у старого Нечая в жизни, как вспоминать столь быстро прошедшие годы, былые походы да смахивать с глаз слёзы по погибшим сынам. А тут этот молодец…
– Звать меня Акиндином. Из Галича пришёл. Братья двухродные все мои волости под себя сгребли. Вот я и ушёл. Со мною десятка два людей верных, – коротко поведал Нечаю о себе незнакомец.
Старик вздохнул, кивнул седой головой, промолвил в ответ:
– Много тут таких, как ты, хлопче, собирается. Кто волости потерял, кто из кабалы боярской ноги унёс, кто из угров, в рабы идти не захотел.
– И что? Давно ли делами своими славны были берладники? Самый Киев в страхе держали!
– Были дела. Тогда князь у нас был, Иван Ростиславич. Он нас вёл. А ныне сгинул он. Бают[64], отравили. Многим на Руси не был он люб.
– Я слыхал, ты с сим Иваном повздорил крепко, ушёл от него?
– Гляжу, немало обо мне проведал, хлопче, – то ли с одобрением, то ли осуждая, заметил Нечай. – Да, было такое. Не по любу мне стало, когда половцев поганых он на Понизье навёл. Вот и отъехал от него. Поганых на Русь водить – последнее дело.
– А как думаешь, крепка ныне вольница берладницкая? Готова ли на большие дела? – перевёл разговор на другое Акиндин.
– Оно, может, и пошли бы удальцы хоть за сине море, да токмо… Как на духу те скажу: нет в Берладе вождя достойного. Смуты идут. Вот ежели б… Хвастать не хочу, но коли б был помоложе, смог бы, думаю, поднять вольницу в большой поход. На тех же половцев али на угров.
– А что, если круг собрать и предложить?
– Что ж ты предложишь? Корабли грабить? Купцов в плавнях ловить? На Олешье[65] али на Белгород-на-Днестре набег лихой учинить? Биты в прошлый раз были, не пойдут. Остерегутся.
– А если я… если больше… Что там купчишек потрошить? Если через Дунай, в ромейские пределы? Пройтись по Добрудже, по Лудогории. Много там и товару доброго, и скота, и пленных взять можно.
Нечай аж присвистнул от изумления.
– Ну, ты даёшь! Экие у тя замыслы дальние! На ромеев! Опасное дело то, хлопче! Ромеи – они мстительны. Не сами, дак чужими руками зло содеют. Тут подумать крепко надоть[66], прежде чем на круг идти. Вот что. Пошлю я к сотникам, к тысяцким, к ватаманам. Соберёмся у меня, обсудим.
– Добро, – коротко кивнул Акиндин.
Чем-то нравился Нечаю этот, по всему видно, смелый порывистый молодец. Так и проглядывает в нём лихая удаль. Такой, если на что пойдёт, на что решится, не остановится. Ещё Нечай знал: как раз такой и нужен берладницкой вольнице вождь.
…В избе было шумно, сотники и десятники говорили наперебой, не дослушивая друг друга. Одни не хотели связываться с ромейским базилевсом, другие, наоборот, поддерживали Акиндина, баили, что ввязавшийся по горло в кровопролитную войну с уграми император Мануил никак не сможет им сейчас помешать.
От шума звенело в ушах. Акиндин, сурово сведя брови, переводил взгляд с одного крикуна на другого. Десница стискивала эфес харалужной[67] сабли. Хотелось ясности, твёрдого решения, но ясности никакой не было.
«Вот что значит твёрдой руки нету. Орут, и некому их осадить. Да, вольница лихая, необузданная! Не сладить с тобою! А может, так и лучше даже! Когда они врозь, их и подчинить потом будет легче? Кого лестью, а кого и силой», – проносились в голове Акиндина мысли.
Честно говоря, как сейчас быть, что сказать, он не ведал.
В избу, громко хлопнув дверью, влетела запыхавшаяся молодица в мужском наряде – шапке лисьего меха, кафтане, шароварах и высоких угорских сапогах с боднями[68].
– Марья-разбойница! – прокатился по рядам собравшихся шепоток.
Известна была Марья своими жестокими нападениями на приграничные сёла Галицкого княжества. Полонили её люди смердов и закупов, разоряли боярские вотчины, жгли, убивали и всякий раз ловко уходили от погони. В Берладе Марья появлялась нечасто, но вот, видно, услыхав о совете, примчалась, не желая оставаться в стороне от больших разбойных дел.
– Который из вас Акиндин еси! – крикнула она, выскочив на середину избы. – Ты?!
Голос у ватаманши был резкий, звонкий, неприятный, хотя внешностью Господь её не обделил. Высокая была девка, стройная, лицо отличалось правильностью черт – тонкие брови, высокий, но не чрезмерный лоб, обрамлённый каскадом чёрных распущенных волос, прямой тонкий нос. Акиндин, недовольно морщась, выступил вперёд, встал с нею рядом.
– Ты, стало быть, ромеев воевать задумал?!
– Я!
Марья быстро, но с пристальным вниманием оглядела его с ног до головы. Добрый удалец, и статен, и в плечах широк. И держится гордо, не склоняет головы.
– С тобой иду! – выкрикнула внезапно молодица. – Надоело людям моим свиней у смердов галицких угонять да голытьбу сию стрелами калёными потчевать. Жаждут дальних походов!
– И мои такожде[69]! – поддержал Марью Смолята, бывший соратник князя Ивана, ныне выбранный в сотники.
– И мои!
– И мы идём!
– И нам без добычи негоже оставаться! Не хуже прочих! – раздавалось со всех сторон.
Неожиданное вмешательство женщины решило исход совета. Большинство ватаманов и сотников поддержало Акиндина. Только некоторые старые берладники продолжали сомневаться, но и они в конце концов под напором Марьи и своих молодых сотоварищей сдались.
…Походы свои берладники готовили быстро. Собирались в условленном месте, конные и пешие, когда надо, грузились на струги или на конях выступали посуху. Припасы большие с собой не брали, рассчитывали на добытки в разоряемых сёлах, зато поводные вторые кони были у них всегда. Быстрый конь – главная ценность, главный помощник в лихом стремительном набеге.
Несколько дней спустя выступила разноцветно наряженная кто во что рать на юг, в места, где быстротекущий Сирет вливается в многоводный Дунай. Баданы[70], бехтерцы[71], кольчуги, латы, шеломы[72], мисюрки[73] покоились покуда в обозе. Но едва нескладное свиду войско переправится через Дунай на наскоро сколоченных плотах, засверкают доспехи на плечах, заблестят на головах шеломы, заиграют на солнце стальные наконечники острых копий. И начнётся стремительный ярый набег.
…В эти же самые дни в другую сторону от Берлада, на север, нахлёстывая скакуна, мчался галопом вершник. Вёз он в Галич зашитую в кафтан писанную на клочке бересты грамотицу. И уже в Понизье, в Черновицах, тайно собирал князь Ярослав Осмомысл дружину.
Глава 5
Славно потешились в Добрудже и Лудогории берладницкие удальцы. Брали они штурмом укреплённые городки, налетали вихрем на болгарские и валашские сёла, угоняли скот и коней. Грабили купеческие ладьи, отбирали у вельмож дорогие одежды и ценности. Сопутствовала берладникам удача, лишь кое-где в городках оказывали им слабое сопротивление немногочисленные ромейские гарнизоны. Не ожидая с этой стороны нападения, император Мануил увёл большую часть войск в Сербию и Далмацию[74], где сейчас шли ожесточённые бои между Ромеей и уграми. Опустошённые после лихого набега, лежали придунайские области империи, неоткуда было Мануилу ждать подвоза продовольствия для своего войска. Выходило так, что на руку уграм сыграли берладники. Но о том удальцы не думали, набег был их стихией, «за зипунами» готовы были они ходить хоть на край света.
Возвращались назад довольные, обременённые добычей, на тех же плотах перевезлись через Дунай на родную Берладскую сторону. Вот уже и Текуч прошли, уже и пристани Берлада неподалёку.
Акиндина хвалили наперебой, казалось многим, вот он, вождь их, главный ватаман. А что – и умом не обделён, и силушкой Господь наградил щедро. И храбр – первым лез на крепостные стены, врывался в городки через проломы. Многие вспоминали князя Ивана – тот тоже хоробр был и отчаян, да токмо неудачлив. К Акиндину же воинское счастье будто само липло.
…Последнюю ночь перед возвращением в Берлад они встали лагерем на берегу реки. Акиндин сидел у костра, задумчиво глядел на снопы искр, ворошил палкой тлеющие угольки. Свежий веющий с реки ветерок обдувал лицо. Стоял сентябрь, в этих местах ещё тёплый по-летнему, ещё зеленели листвой буки и дубы, ещё не чувствовалось дыхания скорой унылой осени.
Берладники шумно пировали, праздновали успех. Даже связанными меж собой возами с бычьими шкурами не огородили они лагерь. Кто теперь посмеет напасть на них, какой ворог! Враги далеко, а крепость их – всего в одном дне пути!
С холодной усмешкой слушал Акиндин, как беснуется вольница. Что на рати бешены и удалы, что на пиру. И беспечны. Что ж, их то беда.
Марья неожиданно вынырнула из темноты, села возле него, вытянула поближе к огню ноги в высоких угорских сапогах. Смотрела на Акиндина задумчиво, размышляла о чём-то своём. Потом вдруг вымолвила:
– Слыхала я, ты из бояр. Братья тебя наследства лишили. Тако?
– Да.
– Я вот тоже. Отец у меня посадником был в Кучельмине. Князь Ярослав отобрал у него земли все, своему дружку отдал, Семьюнке, коего за рыжий цвет волос да за лукавство Красной Лисицей кличут. Слыхал о таком?
– Слыхал.
– Дак вот сей Лисица отца моего по приказу княжьему повесить велел. Гад! И я… Покуда им не отомщу, не успокоюсь! Где б сей ворог ни укрывался, сыщу и угощу стрелою калёною!
– Брось затею сию, красавица. Месть – она токмо душу губит. Тебе бы… – Акиндин на мгновение замолк, глядя в полыхнувшие удивлением и гневом тёмные очи женщины. – Тебе бы замуж выйти, детей рожать. А что отец твой с князем не поделил – то дело прошлое. Забудь, смирись. Я вот свою братву не то чтоб простил, но отодвинул, что ль, как тебе сказать, посторонь… Иными словами, не думаю и не вспоминаю. Так жить легче!
– Не ждала от тебя речей таких! – Красавица хмыкнула. – Замуж, баишь, детей рожать! Нет, покуда не убью его, не выйду!
– Кого «его»? Красную Лисицу, что ль?
– Нет. Лисица – он сподручник токмо. Выполнил работу грязную, волости за то получил. Князя Ярослава! Он в гибели отца моего виновник главный! С тобою, вижу, мне не по пути!
Резко вскочила Марья, отбежала прочь от костра, лишь тень чёрная мелькнула в звёздной ночи.
И едва скрылась она в темноте, загудела вдруг пронзительно в близлежащем буковом леске боевая труба. Ей вторила другая, со стороны реки. Плотной массой хлынула на стан берладников вооружённая до зубов рать. Сверкали в свете факелов доспехи, шишаки[75], бармицы[76], свистели стрелы, громко ржали кони. Акиндин глянул вдаль. В лагере начиналась резня. Тяжело вздохнув, взмыл Акиндин в седло и ринул с кручи вниз, к реке, к переправе, за которой уже дожидался его верный слуга.
…Убитых и раненых среди берладников было без числа. Погибли в ночной сече почти все ватаманы и сотники. В полон тоже увели немало лихих людишек. Поутру служивый князь Святополк Юрьевич, возглавлявший галицкую рать, объехал поле брани и с удовлетворением отметил, что среди дружинников почти не было потерь. Всего десять убитых – против такой орды лучше и быть не могло. Вот что значит неожиданность и прозорливость.
…Акиндин прискакал в Берлад около полудня. Встретившие там Чагрова племянника оружные[77] галичане тотчас провели его в знакомую Нечаеву избу.
В горнице напротив хмурого хозяина, к удивлению своему, увидел Акиндин князя Ярослава, облачённого в простой суконный кафтан. На княжеское положение его указывала лишь золотая гривна на шее в три ряда. Обернувшись в его сторону, князь улыбнулся.
– А, ты, друже! Входи, садись. Думу вот с сотником думаем. Упёрт Нечай, чёрт старый! Не хочет со мной соглашаться. Может, вместе его убедим.
– Енто что ж, выходит, твой человек? – качнул головой Нечай в сторону Акиндина. – Ты его подослал? И поход на ромеев придумал? Сничтожить, стало быть, вольницу нашу порешил! Лукавством взял, Ярославец! Не в честном бою, из-за спины… Вот ты каков!
– Да не кипятись ты! – с досадой прикрикнул князь. – Уразумей, не век вам в вашем углу Берладницком сидеть! Вокруг вон что творится! Всюду рати, встани! Клокочет мир, яко вулкан. Хочу привести вас в свою волю. В жизнь вашу внутреннюю влезать не стану. Даже дани, и той не потребую. Но отныне будет в Берладе отряд оружной дружины стоять. И посадник мой будет в Малом Галиче. Вы же обязаны будете службу воинскую править, рубежи Червонной Руси боронить от любого ворога. Тако ведь было при отце моём. Помню, как ты, Нечай, вместе с нами под Теребовлей бился.
– Знаем мы твою правду. Бояре твои станут закупов своих беглых отыскивать, кабалить их по новой.
– Не станут. Я им то запрещу.
Нечай ничего не ответил. Молчал, сомневался в правдивости княжеских слов, не до конца верил сказанному. Но понимал он также и то, что в главном Ярослав прав. Вольнице их долго не протянуть меж ромеями, уграми и половцами. Одной храбрости здесь мало.
В горницу просунулась масленая рожа княжеского ближнего мужа Семьюнки. Рыжие раскосмаченные волосы его разметались в стороны, зелёные глаза источали живые огоньки.
– Княже! Пленных ведут наши! Порубал берладников Святополк!
Все они тотчас выскочили из избы и поспешили на торговую площадь городка.
…Пленных было много. Захваченные врасплох, многие берладники не смогли оказать дружине должного сопротивления. Брели понуро, только свисали вниз чубы-оселедцы, взирали исподлобья, по-волчьи, дикой ненавистью жгли Ярослава и его ближников.
– Что, перемог[78], ворог? – раздавались хриплые голоса.
– Змий лукавый!
– Гад!
– Волк лесной! Исподтишка накинулся!
Хладнокровно старался держаться князь, с виду равнодушно взирал и слушал полные гнева слова.
«Этих в холопы увести! Нельзя их тут оставлять! Таких не уговорить по-доброму! – думал он. – Эх, Нечай! Если бы ты меня понял! Хотя бы ты! Тогда бы мы зажили! Караваны ладей поплыли бы по Пруту и Дунаю в дальние страны с товарами, и наоборот, к нам бы в Галич купцы иноземные зачастили без опаски! А вчерашние разбойные люди за плату охраняли бы купцов от половцев! А где Дунай, там – море, просторы великие, края богатые!»
Мысли князя прервал голос Семьюнки:
– Жёнки среди них есть!
И почти в тот же миг метнулась к Ярославу чья-то тень:
– Княже, оберегись!
Сулица[79] короткая пропела в воздухе. Акиндин, оттолкнув Ярослава, принял удар на себя. Сулица вонзилась молодцу в горло. Захрипев, Акиндин медленно осел наземь.
– Держите её! – раздался мощный бас Святополка.
Двое ратников выхватили из толпы и бросили к ногам Ярослава женщину в чёрном платье, в убрусе на голове.
– Кто такова? – хмуря чело, спросил Ярослав.
– Ненавижу тебя! – На князя уставились два полных дикой ярости глаза. – Убью, гадина! – Женщина попыталась подняться, но два ратника крепко держали её за плечи.
– Се Марья-разбойница! – сказал Ярославу Нечай. – Ватаманша. Много сёл твоих на Днестре и Пруте огню предала.
– За что ж ты меня, Марья, ненавидишь-то так? – сокрушённо качнув головой, спросил Осмомысл.
– Отца моего, боярина Творимира, твой подручник повесил в Кучельмине! Он вот! – Грязным перстом она указала на Семьюнку.
– Заслужил твой отец смерть за измену земле Галицкой! – сухо отрезал Ярослав, стиснув от внезапного приступа злости зубы.
Отвернувшись, он склонился над Акиндином, возле которого колдовали лекари.
– Кончаюсь я, князь! – На мертвенно-бледных устах молодца промелькнула улыбка. – А здорово… мы с тобой… Всех их… объегорили!
– Акиндин! – Ярослав ухватил его за руку. – Ты погоди, не помирай! Мы ещё с тобой и на рати походим, и мирную жизнь устраивать будем!
– Нет, княже! Прости!
Выпала рука умирающего из княжеской ладони, бессильно опустилась на песок.
– Скончался боярин Акиндин, – тихо объявил старший лекарь.
Князь с превеликим трудом сдержал на глазах слёзы и подавил рыдания.
– Жаль удальца! – вздохнул Нечай.
Ярослав снова подошёл к Марье. Со связанными руками и ногами, разбойница сидела под охраной воинов на крытом сеном возу.
– Что, дрянь, платить будешь восемьдесят гривен за убиение княжьего мужа?! Так по Правде Русской положено. Или не будешь? – спросил он, с немалым трудом одолевая гнев и отвращение.
Женщина отрицательно замотала головой.
– Если бы только эта смерть за тобой числилась! А сколько людей русских – смердов, закупов, холопов ты сгубила?! Отец был ворог, крестьян своих обирал до нитки, так и дщерь такая же. Как говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Эй, ратники! Повесить гадюку! Сей же часец! Вон на том древе!
Не желая более думать и говорить с преступницей, Осмомысл отошёл в сторону. Лишь глянул с отрешённым видом, как тело молодой женщины, дёрнувшись, тяжело повисло и замерло в петле.
– Нечай! – подозвал князь старого сотника. – Не договорили мы с тобою! Пойдём-ка, друг мой, опять в твою избу, побеседуем.
…Они сидели вдвоём при свете лампады на столе до позднего вечера. Князь раскрывал перед берладником свои широкие замыслы, не таился, рисовал на бересте крепости, реки, очертил берег Чермного моря.
– Будем торг вести, связи с дальними странами наладим, станет Русь Червонная равна самой империи ромеев. Не посмеет тогда базилевс меня вассалом своим звать, – убеждал Нечая Ярослав. – А чтоб все задумки эти в жизнь претворить, надобны мне слуги верные. Вот и предлагаю тебе, Нечай… посадником моим стать в Малом Галиче. Знаю мудрость твою, помню, как рубился ты за Червонную Русь с Изяславом Киевским, с уграми и ляхами. И знаю также, что вольница берладницкая тебя слушает.
– Дай подумать, князь. Не торопи с ответом. Тебя я понял, – ответил старый сотник. На перерезанном шрамами лице его проскользнула слабая улыбка.
Князь ушёл, а Нечаю так и не удалось заснуть до рассвета. А тут ещё жена…
Встала перед ним, упёрла руки в бока, принялась отчитывать:
– Сдурел ты, что ли, на старости-то лет?! Со князем, с ворогом нашим первым, дружбу водишь! Вольницу нашу с им вместях[80] сничтожить умыслил?! Сыны наши, все трое, головы свои за неё положили, а ты… Отметчик[81] ты!
Она рухнула на лавку, завыла, забилась в рыданиях.
– Ладушка, ты чего?! – Нечай попытался обнять её, но получил в ответ затрещину и обиженно отодвинулся посторонь.
– Вот послушай, что скажу. – Едва не силой он заставил её сесть рядом с собой на лавку и заговорил, стараясь убедить в своей правоте. – Вот живёшь ты тут, в Берладе, ходишь по улицам, слушаешь разговоры разные. Так ужель не смекаешь, не ведаешь, что окрест творится?! Была вольница, да конец ей настал. Живём мы тут, теснимся меж уграми, половцами да ромеями. С теми ворогами в сечах и полегли сыны наши. Любой из ворогов сих, коли силу наберёт, сметёт нашу вольницу, яко ветер лист осиновый. А князь Ярослав нам защиту предлагает. Русские мы с тобой люди – так за кого, как не за Русь, нам держаться! Ты уразумей: меняется окрест нас жизнь. И былого не воротить. Вот иные не понимали того. Такие, как князь Иван, царствие ему небесное. А я вот понял худым умишком своим: супротив своих воевать – последнее дело. Хоть и стар уже, но силы в себе покуда чую. И на княжье предложенье порешил согласиться.
Жена понемногу присмирела, доверчиво прижалась головой к его груди, сопела, всхлипывала, Нечай гладил её по густым седым волосам, шептал:
– Ты успокойся, душа моя. Всё лепо будет.
…В ту же осень в небольшом городке Малом Галиче, расположенном возле впадения Сирета в Дунай, в месте, где проезжие купцы складировали свои товары, развернулось крепостное строительство. Обнесли городок новой дубовой стеной с башнями, стрельницами, воротами из кованой меди. Отныне безопасно будет купцам останавливаться здесь и сохранять добро. В городе сем стал посадничать бывший берладницкий сотник Нечай, ныне – правая рука князя Ярослава Осмомысла. И кончилась на этом берладницкая вольница. Недовольные Нечаем уходили на восток, в степи, к половцам и дальше, на Дон, на берегах которого селились такие же беглые и вольнолюбивые люди, не терпящие над собой ничьей власти.
Канули в прошлое лихие набеги, сабельные рубки, походы «за зипунами». Установилась на берегах Прута, Сирета и Нижнего Дуная власть галицкого князя.
Ярослав и Нечай расстались в Малом Галиче уже глубокой осенью, в ноябре. Князь засобирался к себе, в стольный город земли. Перед прощанием они долго стояли на гульбище[82] в новом тереме посадника, выстроенном на круче над Дунаем, рядом с крепостной стеной, глядели вдаль на проплывающие струги, вспоминали прошлое, обсуждали последние насущные дела, мечтали о будущем. Разные были они оба, разные по нраву, по интересам, по взглядам на мир. И всё же было нечто, объединяющее их, и это общее было – Червонная Русь, на благо которой они теперь оба трудились.
Из былого недруга сделал Ярослав крепкого и верного соузника. Наверное, неслучайно всё-таки прозвали его Осмомыслом. Восемь смыслов – то есть был он умён за восьмерых. Он умел подбирать людей, умел вникать в их чаяния, умел их слушать и потому ошибался в них редко. Но бывало всё же, что и ошибался, и за ошибки те приходилось платить, порой несоразмерно жестоко.
…В Берладе остались-таки в малом числе радетели былой вольницы, супротивники галицкого князя. Тайно в одной из изб собрали они малый круг и порешили слать гонца в Киев. Дал бы старый Ростислав Мстиславич им во князи кого-нибудь из своих сынов, помог бы возродить прежние вольные порядки, заставил бы хитрого Осмомысла уйти из Берлада.
Послом в Киев направился сотник Смолята. Служил он некогда верно покойному Ивану Берладнику, а вот врагам его служить не захотел.
Далёк путь до стольного града по степным шляхам, через зимние бураны, через кочевья враждебных половецких орд. Хоронясь по балкам и буеракам, голодая, замерзая от холода, добрался-таки удатный молодец Смолята до Киева. Достиг княжеских хором, объявил о себе стражу-гридню, долго дожидался возле мраморных ступеней высокого крыльца ответа.
Наконец провели его оружные воины в огромную горницу. Ближние бояре восседали вокруг князя на лавках, рядом со стариком Ростиславом – двое его сынов: Рюрик и Давид, оба в нарядных цветастых кафтанах, с золотыми поясами, в востроносых тимовых сапогах, в шапках с собольей опушкой.
Отвесил Смолята великому князю глубокий почтительный поклон. Молвил:
– Челом бьёт тебе, княже стольнокиевский, вольный люд славного города Берлада!
По рядам бояр прошёл ропот.
– Разбойник, как посмел явиться сюда?! – Злобный шепоток раздался за спиной удатного молодца.
Стараясь не обращать внимания на враждебность Ростиславова окружения, твёрдым голосом изложил Смолята решение круга.
На устах обоих молодых княжичей пробежала усмешка.
– Что, Рюриче, пойдёшь в Берлад княжить?! – С издёвкой вопросил младшего брата Давид, темноволосый молодец лет двадцати трёх.
– Сам туда иди! – со смехом ответил ему совсем ещё подросток Рюрик. – Волосы обрей, один чуб оставь, саблю в руку, да наперёд!
Следом за княжичами долго потешались над предложением Смоляты киевские бояре. Он же, выпрямившись, держался спокойно, хоть и ходили желваки по скулам. Он ждал княжеского ответа.
…Ростислав махнул рукой. Тотчас несколько гридней обступили Смоляту.
– Отдай оружье, следуй за нами! – Приказал один из них, видно, старший.
Не стерпела такого обращения вольная душа берладницкая. Вырвал Смолята саблю из ножен, рубанул что было силы гридня, рассёк ему голову. Тотчас остальные накинулись на него, повалили на пол. На подмогу им прибежали ещё ратники, неподобная возня закипела на полу горницы. Наконец обезоружили Смоляту Ростиславовы люди. Связали ему руки за спиной крепкими ремнями, отвели во двор, бросили в тёмный, сырой подпол. Там и просидел, в окружении вшей и мышей, незадачливый посол из Берлада месяц с лишком. Всё же смилостивился князь Ростислав, после очередного посещения Печер велел он выпустить Смоляту из темницы.
Развязали берладнику руки, дали коня, воротили саблю. И сказал на прощание боярин, начальствующий над порубами[83]:
– Радуйся, дурень, свободе. Князь у нас добрый. Ступай себе на все четыре стороны. И мой тебе совет: от Киева подалее держись. Тут таких, как ты, борзых, не любят.
Ускакал Смолята в степь. Решил, что возвращаться в Берлад с пустыми руками нету ему никакого смысла. Ушёл добр молодец на Дон, к таким же, как он, бесстрашным разбойным людям.
А на Червонной Руси жизнь потекла своей чередой.
Глава 6
Любил княжич Владимир утиную охоту. Подолгу сиживал на озёрном берегу с луком и стрелами наготове, ждал терпеливо, высматривал в прибрежных камышах стаи птиц. Стрелял метко, руку набил, а вот ловы крупного зверя не жаловал. Вообще, наука воинская давалась княжичу плохо. Меч был тяжёл, щит неудобен, копьё слишком длинно, панцирь дощатый давил на плечи, словно некая вражеская сила тяжкая, шишак сидел на голове, стойно горшок. Вздыхала, сокрушалась о Владимире мать, княгиня Ольга Юрьевна, говаривала не раз с досадой:
– Что за наказанье мне такое? В отца, весь в отца пошёл! Тот тоже в час сечи в тылу хоронился в одном кафтане! Вот брат у меня Андрей али отец мой, Юрий князь – вот то стратилаты! И что с тобой будет, как княжить ты станешь? Не век же за материными юбками прятаться!
Сына своего княгиня Галицкая, хоть и ворчала на него порой, любила, баловала, спускала ему всякую шалость. На пакости мелкие был Владимир охоч, а вот грамоту книжную едва осилил, учился кое-как, в Законе Божьем и в счёте такожде не преуспевал.
С недавних пор в свиту к юному княжичу был определён среди прочих (а в основном окружали Владимира его ровесники – сыновья приближённых ко княгине суздальчанок) молодой Глеб, сын боярина Зеремея. Привёл его в новый княгинин терем и представил Ольге Коснятин Серославич.
– Вот, светлая княгиня, се Глеб, боярыни моей племянник. Двадцать лет хлопцу, – говорил Коснятин. – Пора пришла ему службу править. И без того засиделся в хоромах отцовых. Порученья твои исполнять будет. Ну и, полагаю, княжичу Владимиру пользу немалую окажет.
Милостиво приняла Глеба княгиня. Тем паче что красив был Зеремеев отпрыск, плечи имел широкие, а стан тонкий, яко у девицы. Да и на лицо юноша был пригож: глаза голубые, волосы кудрявые, нос прямой, яко у римского цезаря. Молодость и без того прекрасна, а этот выглядел, словно Аполлон из греческих мифов. Стоял смущённый, когда же позволила ему Ольга поцеловать свою руку, вовсе зарделся и едва коснулся холёной княгининой длани влажными дрожащими устами. От прикосновения этого осторожного как-то не по себе стало Ольге, проснулось в ней сильное плотское желание, возжаждала она заполучить юного Глеба себе на ложе. Пока же приставили боярского отпрыска в стольники к юному Владимиру.
Привели в покои, подвели ко княжичу, молвили:
– Вот, Владимир, отныне стольник се твой, Глеб Зеремеевич.
Вначале сильно стеснялся Глеб, всё озирался по сторонам, словно искал поддержки. Неуютно, одиноко чувствовал он себя в этом огромном, чужом, не знакомом ему доме. Но ничего не поделаешь, надо было привыкать к новой жизни.
Во время трапезы он стоял за спиной у княжича и подавал ему кушанья, после стал сопровождать Владимира в его частых охотах на уток и на рыбалке. С трудно управляемым неуемным юнцом приходилось Глебу проводить порой целые дни.
Однажды вернулись они из пригородных плавней уже поздно вечером. Сильно устал сын Зеремея, не столько за утками он следил, сколько за княжичем, который так и норовил запрятаться поглубже в заросли камыша. А там… Бог весть… Порой топкие места встречались в плавнях, а то и на каких лихих людишек можно было невзначай набрести.
Мокрый и голодный воротился Глеб в княжеский терем. Чертыхаясь про себя, понуро приплёлся в горницу, рухнул на лавку, исподлобья молча глянул окрест. Горница была пуста. Словно ветром смело княгининых слуг. Или час уже поздний, и укрылись они каждый в своём утлом покое?
Ольга явилась внезапно, выплыла откуда-то сбоку, верно, из потайной двери. Прошуршала ромейская багряница, скрипнула половица.
– Что сидишь тут, Глебушка? Уморился, чай! Ещё бы! Цельный день с моим непоседою по плавням шастать! На-ко вот, кваску испей!
Княгиня сама подала оробевшему боярчонку большую оловянную кружку с медовым квасом. Ошалело озираясь по сторонам, Глеб осторожно, маленькими глотками медленно втягивал в себя холодную, приятную на вкус сладковатую влагу.
Ольга опустилась напротив него на лавку.
– Ты не робей! Чай, не съем я тя. Не зверюга какая. Жёнка, как и все. И как и прочие, добра хочу от людей. Сижу вот тут в тереме, скучаю, порой за цельный день и слова единого доброго ни от кого не услышу. Тоска от того сердце мучит, Глебушка. Князь – у него свои дела высокоумные, меня он в них не посвящает. Да и к чему мне, бабе глупой, сии премудрости державные? А вот любви, ласки – сего хочется. Кошка – и та любит, когда ласкают её.
Намёки Ольгины сметливый сын Зеремея прекрасно понимал. Но понимал он также и то, что волею отца и дяди Коснятина впутывается в лабиринт больших и малых придворных ков и интриг, из которых потом выбраться будет ох как сложно! И он сидел, хмуро тянул из кружки квас, делая вид, что устал и не понимает до конца, о чём хочет сказать княгиня.
Вот допит последний глоток, отставлена в сторону порожняя кружка. Напряжённый, как натянутая тетива лука, Глеб недвижимо застыл на лавке. Ольга улыбнулась, шурша одеждами, поднялась, взяла в десницу свечу.
– Пойдём со мной. Ступай следом, – велела она коротко, звеня связкой тяжёлых ключей.
Лязгнул замок в утопленной в нишу двери. За дверью оказалась высокая винтовая лестница, крытая ковровой дорожкой изумрудного цвета.
– Ступай сторожко[84], не запнись. Узки и круты здесь лесенки. – Княгиня шла впереди со свечой.
Поднявшись, они свернули в другую дверь, затем долго шли по тёмному переходу. Огонёк свечи едва трепетал во мраке, Глеб слышал перед собой тихое дыхание Ольги и, стараясь быть бесшумным, напряжённо всматривался вперёд. Вот оконце узенькое промелькнуло, вот в углу ещё дверь широкая, вот княгиня повернула ключ, раздался тихий щелчок. И тотчас свет ударил в лицо. Глеб резко остановился, прикрыл рукой глаза, но Ольга решительно и довольно-таки грубо толкнула его вперёд.
Они оказались в просторной опочивальне с наглухо закрытыми ставнями. Ярко светило подвешенное на цепях к потолку паникадило. Добрую половину покоя занимала широкая пуховая постель с балдахином из серского[85] шёлка. Возле неё находился маленький столик, вдоль стен помещались медные лари и ларцы поменьше. В дальнем углу около окна виднелся небольшой шкафчик, украшенный чеканным узором. Рядом с ним висело высокое серебряное зеркало старинной работы, отражающее балдахин и часть стола. На ставнике[86] в другом углу перед иконами мерцали лампады. Большая муравленая печь[87] довершала убранство княгининой ложницы.
Пока сын Зеремея опасливо озирался и осматривал покой, Ольга быстро заперла дверь, поставила на стол свечу, глянула на себя в зеркало, поправила прядь чёрных волос, выбившихся из-под парчового убруса, снова улыбнулась, затем игриво ущипнула боярчонка за бок.
– Ну, так и будешь, что ль, стоять тут? Давай-ка, кафтан снимай. Почитай, дом здесь твой топерича будет.
Глеб начал несмело расстёгивать пуговицы.
– Да поскорей ты. Тако до утра провозишься.
Сама княгиня в единый миг скинула с плеч летник, сорвала плат с головы, быстро стянула с себя понёву[88].
Босая, в одной холщовой сорочке, под которой взволнованно вздымались пышные округлости грудей, с распущенными волосами, она решительно сорвала с Глеба рубаху и с тихим смешком принялась стаскивать с него порты.
– Ты чего? – Глеб недовольно отпрянул от неё. – Сам я уж.
Ольга юркнула в постель, под невесомое одеяло лебяжьего пуха.
– Полежи со мной, – шепнула она ласковым, завораживающим голосом.
Белая холёная рука обхватила боярчонка за тонкий стан, притянула к себе. Он поддался её словам и движениям, чувствуя, как закипает в нём желание обладать этой женщиной, такой мягкой и нежной. Естество его наливалось соком греха, возбуждаясь, он отбросил прочь стеснение и робость свою, в ответ обнял жаждущую соития женщину, стал пылко целовать её в пухлые пунцовые уста. Она отвечала ему со всей своей страстью. Погасла на столе свеча, плотный полог закрыл их от паникадил и зеркал. В полумраке они предались греху. Когда, не выдержав, пролил сын Зеремея на постель горячую первую струю, Ольга долго хохотала над ним, подшучивала, затем она стала дланями возбуждать его, наконец добиваясь того, чего хотела. Стало жарко, тяжело дышали они оба, уставшие, но жаждущие ещё утех.
– Как сладко, – призналась потом, уже поутру, Ольга. – Давно так не было. Вот что. Заутре снова приходи. А дальше я сама скажу, когда. И, понятное дело, рот на замке держи. Никто про сии дела проведать не должен. Уразумел?
Утомившийся Глеб устало кивнул.
– Да, светлая княгиня, – только и вымолвил он, поспешно натягивая на себя рубаху и порты.
За окнами громко пели петухи. Наступало утро, и ему надо было как можно скорей покинуть княгинин покой.
…Следующей ночью он снова пришёл к ней, потом приходил опять. Ольга учила, показывала ему разные способы совокупления: то они ложились сбоку лицом друг к другу, то она, как обычно, оказывалась внизу, то возбуждала его, ложась сверху и стискивая его своими сильными бёдрами. Иногда она придумывала ещё что-нибудь неожиданное. Один раз сказала:
– Давай поиграем. Я буду львицей, страстной, ярой. Буду рвать тебя, кусать. А ты отвечай, распаляй меня тоже, целуй мне грудь.
Она натянула на ноги чулки-копытца, прыгнула на него, будто в самом деле хищница, стала кусать в грудь, царапать возле сосков острыми ногтями, затем впилась устами в естество, возбудила его и сама ввела его плоть в свою, трепещущая, рычащая по-звериному от страсти. Когда наконец Глеб совершил, что и хотел, ему вдруг стало не по себе. Нечто бесовское, львиное, яростное увидел он в чертах распалённой жаждущей греха женщины. Захотелось убежать, но бежать было некуда. Он забился в самый угол ложа и, воздев вверх длани, взмолился о пощаде.
– О пощаде взываешь?! Но львица хочет ещё! Рвать тебя буду сегодня, давить, выжму из тебя все соки!
Ненасытна была Ольга во грехе. Нехотя подчинился ей сын Зеремея, благо молод был и сил телесных надолго хватало. Утром, правда, ушёл от неё, шатаясь, зевая на ходу. От встречи с княжичем в тот день отказался, велел передать, что прихворнул, и отсыпался до обеда в своём покое, испытывая одновременно и страх, и какую-то гадливость, и в то же время желая, чтобы снова повторилась когда-нибудь нынешняя страстная ночь.
Так и жили, встречались тайно от всех ночною порою, а днём Глеб проводил время возле юного княжича. И за всеми его делишками следил пристально издалека дядя Коснятин. Всё туже стягивалась вокруг терема княжьего тугая петля. И неприметно оказывалась Ольга, а за ней следом и Владимир внутри этой петли, из которой было им не выбраться, не разорвав стальной боярской воли. О таком – послушном, покорном своей воле князе, о княгине, всецело себе подчинённой и связанной по рукам и ногам, мечтал хитроумный Коснятин Серославич.
Но на столе галицком сидел его враг. Враг, который мог догадаться о его игре. И покуда этот враг был жив, не было ни власти у Коснятина, ни покоя на душе. И он понимал, сколько много ещё разных событий должно произойти, прежде чем наконец столкнутся они, схлестнутся в яростной схватке. И каждый будет отстаивать свою правду, своё право, свой порядок жизни. От исхода той грядущей схватки зависела будущая судьба Червонной Руси.
Глава 7
Над линией могучих Траяновых валов, что тянулись цепью вдоль Днестра и убегали далее на полдень, ярко голубело чисто вымытое небо. Под лёгкими струями ветра шевелились стебельки зелёной травы. Всё это Ярослав видел ясно, чётко, словно наяву, а не во сне. Вот солнце, обогнув вершину вала, расплескивая золото, медленно покатилось вниз, туда, где за крутой насыпью журчит стремительный Днестр. Как-то любознательный князь спросил у одного местного старейшины, почему названы эти старинные земляные укрепления Траяновыми, и узнал, что насыпали валы воины Древнего Рима в те времена, когда великий разумом и силой император Траян покорил Дакию и продвинул до днестровских берегов границу своей державы.
Получалось, валам было больше тысячи лет. Даже не верилось, что они рукотворны, что человек, маленький такой в сравнении с могучими горами, с исполинскими дубами и стремительными полноводными реками, смог создать этакую громаду. И ведь на сотни вёрст простирались насыпи, грозные памятники древних противостояний.
Старейшина рассказал, что после Траяна, лет через двести, уже далёкие предки славян стали использовать валы себе на пользу. Для этого они засыпали ров со своей, полночной, стороны и выкопали его с другой, полуденной, тем самым закрывая путь преемникам Рима – ромеям и иным ворогам.
События во сне проносятся быстро, порой неожиданно сменяя одно другое, а проснёшься – и помнишь лишь обрывки, отдельные яркие части только что виденного.
Так и Ярослав – в дикой круговерти замелькали перед ним в хаосе какие-то лица, то ли знакомые, то ли нет, потом он снова, как наяву, оказался возле Траянова вала. Было время заката, багряная заря разливалась по небу, и, причудливо озарённые ею, бежали по склону встречь ему три девушки. Все три – красивые, такие, что дух захватывает. Они всё ближе, ближе к Ярославу. Вдруг замечает он, что все три имеют одно и то же лицо. То была Анастасия, дочь Чагра. Оторопело застыл Ярослав, развёл в беспомощности руками, наконец позвал, окликнул давешнюю знакомицу:
– Настя!
Ответом ему стал дружный заразительный смех.
– Вот она я! Держи, бери меня! – неслось с трёх сторон.
Схватил Ярослав за руку одну из девушек, самую громкогласную, но вырвалась красавица, отвернулась и… тут заметил с ужасом Ярослав, что нет у неё спины.
«Мавки лесные! – пронеслось в голове. – Завораживают, погубить меня хотят!»
Он попытался перекреститься, но десница словно налилась свинцом и не двигалась. Видел он, что и у остальных девушек отсутствуют спины. Вот все они дружно, взявшись за руки, подпрыгнули и вмиг исчезли, растворились на гребне древнего вала. Только смех их ещё долго стоял у Ярослава в ушах.
…Он проснулся в поту, набожно перекрестился, сел на кровати. Тишина и мрак царили в хоромах. Под дверью негромко похрапывал старый Стефан. Всё было мирно и спокойно, но почему-то в душу вкралась тревога.
Или, в самом деле, дочка Чагрова – мавка, злой дух старых славянских мифов? Господи, что за глупость идёт на ум! Девка-красавица и умом не обижена! Таких поискать ещё средь боярских дочерей – так и не сыщешь!
Приснился сон нелепый, дак что ж, верить ему теперь? Мало ли какая глупость во сне привидеться может?
И уже заныло в тоске сердце: как воротился давеча[89] из Малого Галича, так даже и не заглянул к Чагру в гости. Даже и мыслей о Насте не было в последние дни. Всё заботы: суды, советы с боярами, выезды в сёла.
«Поутру надо собраться к Чагру в хоромы, – решил князь. – Пусть хоть издалека, но погляжу на Настю».
…На дворе Чагра встретили Ярослава обряженные в чёрные платья молчаливые слуги. Тотчас показалась на крыльце и Анастасия – Ярослав обратил внимание на её заплаканные глаза, полные слёз и немого укора.
«Об Акиндине скорбят! А я уж и позабыл о нём! Да как же так?! Человек голову за меня положил, а я…»
С сокрушением глянул Ярослав на свой багряный кафтан. Впору хоть беги отсюда, с этого двора. Но ничего не поделать. Коли уж приехал…
Приложив длань к сердцу, князь наклонил голову.
– Скорблю с тобой вместе, боярышня. Добрый молодец был Акиндин. Ловок был и умён. Большое дело мы с ним справили. Меня защищая, и пал он… – Князь не договорил, стиснул уста, с трудом сдержал неожиданно подступившие рыдания.
Настя положила ему на десницу свою нежную белую руку и слабо улыбнулась. И опять, в который уже раз, заворожили, заколдовали, восхитили Ярослава эти серые с раскосинкой глазки, в которых под лёгкой паволокой скорби проглядывало лукавство. Понял, почувствовал Ярослав – она рада его приезду. Равно как уразумел он и то, что скорбь её невелика, что отплачет она, прольёт по обычаю по двухродному братцу положенные слёзы, повздыхает, пожалеет о столь быстро сгинувшей молодой жизни, а затем всё будет, как прежде – свидания их тайные, поцелуи и состояние не испытанного никогда им ранее блаженства. Грех? Да, грех! Но хотелось крикнуть в лицо тому ханже, кто осмелится их осуждать – а жить без любви, одной похоти ради – не грех разве?! Что вот они с Ольгой, что иные князья и бояре многие! Да, они венчаны, но что с того? Так было надо, того требовали их отцы, да и не только они… Это было важно для Галичины – крепить союз с сильным тогда суздальским владетелем. Было! Да, было! Тогда, не сейчас! Теперь всё по-иному. И не нужен стал Ярославу его брак, противна становилась ленивая, переваливающаяся при ходьбе, как утка, обожравшаяся на галицких харчах дочь Долгорукого!
Развод? Это шум на всю Русь, это вражда с Андреем и Глебом, это споры церковников, возможные епитимьи[90]. Одним словом – позор это! Да и потом… Многие князья в открытую живут со своими наложницами, хотя имеют и законных жён. Святополк Изяславич Киевский имел сразу двух жён, а Всеволод Ольгович и вовсе держал в Киеве целый гарем, словно сарацин[91]. Одни бабы по нему и ревели, когда он умер. Немало любовниц было и у Долгорукого, и у нынешнего владетеля Волыни Мстислава Изяславича. Не случайно написали про него дотошные летописцы: «Жён любил многих, но ни единая им не обладала».
Мстиславом не обладала, а вот им, Осмомыслом, кажется, овладела эта стройная, как стебелёк, прекрасноликая белая куманка. И уже запала в голову лихая мысль: вот сейчас он схватит её, возьмёт на руки, всадит впереди себя в седло и помчит, подгоняя боднями фаря[92], по склону горы вверх, в княжеские палаты. И больше он её никуда не отпустит. А Ольга? Пусть живёт в своём тереме и тешится, с кем пожелает. А дети? О будущем детей он, Осмомысл, позаботится.
Мысль о детях остановила лихой порыв.
«Сперва устрой их обоих, потом и решай. Не время, князь, рвать семью, какой бы плохой она ни была», – словно сказал ему некто строгий.
…Навстречу дорогому гостю уже бежал впереди облачённых в чёрные одежды сыновей и дворовых боярин Чагр. Смешно семенил он кривыми короткими ногами, кричал:
– Извини, светлый княже! Не ждали тебя! Проходи, светлый княже, гостем у нас будешь! Хоть и не веселье у нас нынче, но скорбь, но тебе всегда мы рады!
Вместе с хозяином и его сыновьями Ярослав помянул погибшего Акиндина и вскоре воротился к себе в хоромы. Дорогой скребли на душе кошки, он старался, но не мог отбросить в сторону мысли о Насте.
«Ну, не время о ней думать! Да и она, почитай, ребёнок ещё совсем. Подрастёт, тогда…»
И что тогда? Двойная жизнь, поцелуи тайком? Нет, он приведёт её к себе в дом и станет с ней жить, как с женой. А Ольга – ну её! Пусть уезжает, куда хочет. В монастырь или к братьям в далёкое Залесье. Вот только сначала надо подумать о Владимире и Фросе.
…Вроде и ездил недалеко Ярослав, а устал, как будто сто вёрст проскакал. Медленно сполз он с седла и, шатаясь, побрёл к морморяному[93] всходу. Он не замечал стелющихся в раболепных поклонах челядинцев, воинов в кольчугах, охраняющих терем, холопок с коромыслами в руках.
Думал он сейчас о своих чадах и их будущем.
Глава 8
Венгерский воевода Дьёрдь Або застыл в почтительности посреди горницы. В руках он держал грамоту с вислой печатью. Не в первый раз воевода в Галиче, хорошо знают его Осмомысл и ближние бояре. Постарел седоусый угорец, лицо его, грубое, коричневое от загара, испещрено было сеткой морщин, взгляд маленьких чёрных глаз стал не таким острым и колючим, каким был ранее. Устало и, казалось Ярославу, безразлично смотрел Або перед собой. Ничто не могло его удивить, всего насмотрелся старый воевода в жизни. Были и кровопролитные сечи, и миры, и трудные переговоры.
Ярославу хотелось сейчас остаться с угорцем наедине, вспомнить былое, поговорить по душам. А что? Дьёрдь Або всегда благоволил ему, всегда стремился к союзу с Галичем.
Но то будет после. Пока же старый Ярославов знакомец, разворачивая грамоту, читал на ломаном русском языке её содержание. Собравшиеся в горнице бояре слушали, переглядывались, перешёптывались между собой.
– Ишь, старый лис! Мира хочет, заигрывает с нами!
– А помните, бояре, как он со своим крулём под Перемышлем землю нашу огню предавал?
До тонкого слуха Осмомысла доносились обрывки неодобрительных фраз, князь хмурился, сидя на стольце[94], старался не обращать на злобный шепоток бояр внимания, кивал головой, слушая хриплый голос старого угра.
Молодой король Иштван, сын умершего Гезы, предлагал властителю Червонной Руси союз. С немецкой помощью он сумел победить в жаркой сече своего противника – дядю, именем тоже Иштван, сторону которого держал император Ромеи Мануил. Теперь на голове отпрыска Гезы вновь воссияла золотая корона, но положение его в стране мадьяр[95] оставалось весьма непрочным. Мануил готовился к новой войне, и многие знатные угорские бароны держали его сторону. Вот почему столь важен был юному Иштвану крепкий союз с ближним соседом.
«Сколько этому Иштвану лет? Кажется, семнадцать. Мальчишка! Кто же у них там, в Уграх, верховодит? – размышлял Ярослав. – Фружина Мстиславна, его мать, вдова Гезы? Та самая, сестра покойного Изяслава, которая подговаривала своего муженька начать войну с моим отцом? Бан[96] Белуш? Или, может, латинский архиепископ Лука? Говорят, он взял большую власть в стране угров. Добился у короля права назначать на церковные должности. Надо, ох, надо потолковать с Або с глазу на глаз!»
Он принял грамоту и милостиво отпустил посла, сказав, что подумает над предложением венгерского короля.
Едва покинул Або горницу, шум пронёсся по рядам бояр. Разгорелись жаркие споры. Зеремей, перекричав прочих, заявил громогласно:
– Неча вора сего слушать! Нам, княже, надобно за единоверную Ромею держаться, но не за латинских еретиков! Тако отец и дед твой поступали!
– Угры – они завсегда ножи за спиной держат! – поддержал его Внезд Держикраевич.
С ними соглашался, постукивая по полу посохом, епископ Козьма.
Иное сказал Избигнев. Просто и ясно изложил Ивачич свою мысль:
– Ссориться с уграми нам не с руки. Они – рядом, тогда как Мануил – далече.
За союз с Иштваном высказался также и Филипп Молибогич.
Долго спорили бояре, старые ворчали, не веря в разум молодых, молодые же готовы были подкрепить свои доводы кулаками.
Ярослав, недовольно сдвинув брови, призвал к тишине и покою.
– Негоже руки распускать! – пресёк он споры. – Выслушал я ваши советы, мужи. Полагаю, с королём угорским нужен нам мир. Что же до Мануила… там посмотрим. Не время пока с ним враждовать. Но вассалом его почитать я себя не намерен. Всё на этом!
Бояре ушли, одни с ропотом, другие согласившись с княжеским решением. Единства среди бояр не было, и крики эти и шум – очевидные признаки раскола между «набольшими мужами», даже радовали порой князя. Такие, разобщённые, не смогут они навязывать ему свою волю.
…Беседа с Або состоялась у Ярослава на следующий день. При встрече в покое на верхнем жиле хором присутствовал также Избигнев. Вначале вспоминали былое, неудачные переговоры с Изяславом Давидовичем, поездку в половецкие вежи[97] на Буге, схватку в стане и тяжкое ранение Избигнева половецкой стрелой. Постепенно Осмомысл перевёл разговор с минувшего на настоящее.
– Выходит, Иштван укрепил власть свою? Многих баронов подчинил себе? Правда то? – спросил он, привычно лукаво щуря глаза цвета речного ила.
– Правда, князь.
– Но король Иштван ещё весьма юн, – продолжил Ярослав. – А в таких важных делах, как управление державой, нужен немалый опыт.
Або усмехнулся и смолчал.
– Что ж, буду говорить более прямо и откровенно. Ответь мне, достойный воевода. Кто водил рукой юного короля, когда писалась давешняя грамота? Вдовая королева Фружина? Архиепископ Лука? Или, может, бан Белуш?
– К сожалению, бан Белуш погиб. Его убили изменники, прихвостни императора Мануила, – со скорбным вздохом ответил старый воевода. – Удивлён, что ты не ведаешь об этом горестном событии.
– Увы, воевода! – Ярослав развёл руками. – Вести не всегда преодолевают вершины Горбов.
Ему становилось ясно, что опытный, искушённый в делах Дьёрдь Або не желает раскрывать тайны эстергомского двора.
«Пошлю к уграм Избигнева. Надо, чтоб проведал… Он сможет. Тем паче, что бывал у них. Знает их молвь», – решил Ярослав.
– Ну, ладно. Прожитого не воротить. Выходит, король ваш мира со мной ищет. Мир – то добро. Я тоже с ним ратиться желания не имею. Ответь, воевода, у короля вашего невеста есть?
– Нет пока. А что? – Вопрос последний, видно было, застал Або врасплох.
– Да подрастает у меня невеста. Десять лет. Дитё ещё, конечно, младше Иштвана твоего, но обручить вполне можно. А подрастёт немного, и скрепим союз наш этим браком. Вот и передай королеве Фружине, или кто там у вас верховодит, о предложении моём. Мол, польщён князь Ярослав вниманьем к себе и жаждет мир с вами упрочить. Понял, воевода? – Осмомысл лукаво подмигнул несколько смущённому угру.
Або пробормотал после некоторого молчания:
– Думаю, твоя мысль будет приятна королю.
На том князь и воевода и расстались, довольные друг другом. Избигнев получил повеление вместе с Або отъехать в Пешт, где сейчас обретался королевский двор. Отпустив обоих, Ярослав остался в покое один. Он думал о маленькой Фросе, и становилось ему страшно. Что ж это он делает?! Он, любящий отец! Он хочет устроить выгодный брак и обеспечить будущее дочери? Да, так. Но ведь Фрося ещё столь мала! И полюбит ли она короля угров? А если нет, если станут они жить так же, как и он с Ольгой?!
Нескончаемой цепью выстраивались перед Ярославом вопросы. Искать ответы на них было негде. Словно стена высокая возникла на его пути, и куда бы он ни пошёл, всякий раз упирался в эту стену. В конце концов он нехотя поднялся и направился через тёмный охраняемый стражей переход в хоромы Ольги.
Час был вечерний, и Ольга уже отдыхала после обильного ужина. Лениво зевая, она села на широкую постель, отбросив в сторону одеяло. Ярослав устроился напротив неё на лавке, исподлобья глянул на её густые спутавшиеся волосы, на грузное тело, на тяжко вздымающуюся в такт дыханию грудь.
Давно уже живут они врозь. В прошлом остались жаркие ночи, поцелуи и совокупления. Ярославу доносили, что завела княгиня себе молодого любовника, но почему-то ему было всё равно, навет это или правда. Анастасия царила в сердце Осмомысла, царила нераздельно и неотступно. Он знал, Настя – это его судьба, его жизнь, его будущее. А Ольга – прошлое, осколок былых страстей, былых, старых союзов.
– Чего тебе? Почто пришёл? – В словах княгини чувствовалось удивление. – Али соскучился?
– Речь о нашей дочери, – пояснил Ярослав. – Принимал давеча угорского посланца. Король угров предлагает мир и союз. Нынче снова имел беседу с послом. С глазу на глаз баили. И мысль есть обручить Ефросинью с королём Иштваном. Вот и пришёл вопросить, что ты об этом думаешь?
Ольга передёрнула плечами. Вздохнула тяжело, промолвила:
– Говорила не единожды: любишь ты дочь нашу. Лишний раз в том убедилась. Устраиваешь её, выгодного жениха вот сыскал. О таком любая невеста мечтает. А что мала Фроська, дак вырастет, оглянуться не успеешь. Об ней, стало быть, заботу имеешь, а о Владимире нисколь не думаешь. А ить[98] сын наш большой уже – тринадцать годов. Дед мой Мономах в его лета уже в Ростове княжил. Пора нашему сыну стол давать.
– Землю делить? Не для того отец мой её собирал воедино! – резко ответил ей Ярослав. – Стола ему не дам покуда. А к делам управленья – что ж, пусть ездит со мной на полюдье[99], на суды, пусть учится, опыт перенимает. Да только гляжу я: не лежит к этому душа Владимирова. Грамоту едва осилил. Куда такое годится? Боязно дела большие ему доверять.
– Не любишь ты его вовсе!
– Вот с Фросей уладим дела, тогда и за Владимиром очередь. Обещаю тебе: сыщу ему добрую невесту, – объявил жене Осмомысл. – Может, оженится, умней станет.
– Может, – тихо повторила Ольга.
В свете свечи глаза её, серые с голубинкой, источали печаль. Едва не впервые стало Ярославу вдруг её жалко.
«Не виновата она. Выдали, не спросясь. На всё воля Божья», – пронеслось в голове.
– Что ж, Фросю я подготовлю. Расскажу ей об Угрии, о короле, – пообещала княгиня.
Эту ночь супруги провели вместе. Хоть и не было прежней страсти, и быстро заснула Ольга, положив доверчиво руку ему на грудь, но по всему телу Ярослава растекалась нежность. Впереди были ссоры, обиды, была вражда, была Анастасия и много ещё чего, но сейчас он гладил волосы нелюбимой жены, слышал её тихое похрапывание и вымученно улыбался. На душе воцарилось спокойствие.
Глава 9
Начало осени в тот год выдалось на редкость хмурым и дождливым. Небо до самого окоёма[100] обложили серые тучи, и непрестанно, изо дня в день, обильно поливал землю дождь. На полях пропадало жито, в грядущую зиму ожидался голод, какого не бывало даже в годы тяжких ратных противостояний.
Большие и малые реки выходили из берегов, затопляя дома, поля и пашни. Днестр, набухший, мутный, грозно клокотал меж крутых берегов, силился освободиться из их крепких объятий, бушевал яростно, взметая пенную волну. Наконец единожды в ночь вырвался из скальных оков бешеный поток, снёс, как пушинку, мост, покатили в обе стороны свирепые волны, всё сметая и ломая на пути своём: заборы, дома, деревья.
Непогодь была жуткая. Вода дошла аж до Быкова болота, даже Луква, и та разлилась, по галицкому посаду люди передвигались на лодках и спасались от напасти на верхушках самых высоких холмов, докуда водная стихия добраться не могла. Давно такой беды не случалось на Червонной Руси. Старики, и те не могли вспомнить ничего подобного. Да, были войны, были лютые зимы, были неурожаи, но чтоб такое!..
Порой страшно становилось Ярославу. Без устали скакал он во главе дружины из веси в весь, иной раз проваливаясь по брюхо конское в мутную жижу, приказывал возводить насыпи, отводить воду в сторону от жилых построек. По его веленью гридни раздавали в особенно сильно пострадавших селениях оборванным несчастным крестьянам хлеб и рыбу. Даже дань, и ту приказал в сей год Ярослав где уменьшить, а где и вовсе не брать – видел он, понимал, что нечем людям платить. Но так было только в княжеских вотчинах, в боярских же сёлах тиуны лютовали, что звери – не было таким, как Коснятин или Зеремей, никоего дела до нужд простонародья.
…Мчались вершники по напоённым влагой полям, брызги летели из-под копыт, кафтан князя весь вымок и покрылся пятнами грязи. Где-то чуть позади скакал Семьюнко, князь слышал недовольное ржание его пегой кобылки. По левую руку держался могучий богатырь Святополк, рядом с ним нёсся, хмуро поджимая губы, молодой десятник Дюк. Они обогнули Быково болото и выехали к затопленному берегу Днестра. Впереди замаячили крыши нескольких больших изб. Сами жилые строения находились под водой. Дождь бил в лицо, и уровень воды всё прибывал. Люди спасались на высоких деревьях, их осторожно спускали вниз и сажали в обоз. После потерявших кров отвезут в Галич и накормят с княжьих харчей – так распорядился Осмомысл. Люди ему были нужны, ещё он хотел, чтобы простой народ его уважал и любил. Как покойного Ивана Берладника, про которого уже пели песни. Пусть же знают, что он, Ярослав, справедлив и милостив и не оставит пострадавшего от наводнения в беде.
Семьюнко отвлёк князя от дум.
– В тех домах – житьи[101] живут. Люди небедные. Холопов своих имеют. Хозяйство у них справное… было.
– Вот то ж, что было, – отозвался Ярослав, вытирая ладонью мокрое от дождя чело. – А ныне невесть – жив ли там кто.
Он подхлестнул коня, но тотчас круто остановил его.
– Далее не проехать. Лодка надобна.
Возле крыши затопленного дома на верхушке стройного бука виднелись две фигурки в белых посконных[102] свитах[103].
– Кто ж тамо? Дети, что ли? – силился разглядеть их издали Дюк. – Как будто тако.
– Должно быть, – согласился с ним Семьюнко.
Ярослав первым впрыгнул в лодку. Вместе с Семьюнкой и Дюком они погребли к дому. В ушах свистел ветер, пару раз их едва не захлестнуло волной, прежде чем оказались они возле торчащего из воды широкого ствола.
Две дрожащие от холода и страха девчушки из последних сил цеплялись за ветви древа и плакали от отчаяния. Ярослав подхватил одну из них, темноволосую смуглянку лет одиннадцати, вторая же девочка сама уцепилась за его локоть и осторожно спрыгнула в лодку.
– Кто вы таковы? Как тут оказались?! – спросил Семьюнко, едва девочки устроились на дне лодки.
– Я Порфинья, а она-от – Фотинья, – ответила чёрненькая. – Из житьих мы.
– Экие имена заковыристые, – рассмеялся налегший на вёсла вместе с князем Дюк. – А отцы, матери ваши где?
– Мои все утопли. – Порфинья, не выдержав, горько расплакалась, спрятав лицо на плече у подружки.
– А о моих не ведаю, – вздохнула вторая девочка, сероглазенькая, с волосами под цвет глаз и смешным кругленьким носиком. – На том берегу живут. Отец в Галич по делам уехал, а мама… Мама меня к Порфинье погостить отпустила. А тут беда сия. Вытолкали Порфиньины отец с маткой нас, усадили на древо, а сами… спастись не успели. Волною накрыло.
На глазах Фотиньи засверкали слёзы.
Вроде и некрасива совсем, а мила была девчушка и чем-то притягивала к себе взоры взрослых мужей.
– А вы кто? – спросила, нисколь не смущаясь, Фотинья.
– Я князь ваш, – едва сдерживая улыбку, отмолвил ей Ярослав. – А они мужи мои ближние. Это Семьюнко, это Дюк.
– А ты вправду князь? Ты нас спасёшь, да? Вот здорово! – Серенькие глазки девочки вытаращились от изумления.
Подружка её тем часом утёрла слёзы и смотрела на Осмомысла с неменьшим любопытством.
Лодка наконец уткнулась в песок. Девочек вытащили на сушу. Фотинья недолго думая вскарабкалась на княжьего коня и устроилась перед Ярославом. Порфинью подхватил и усадил к себе на конь Дюк.
– Мчим в Галич! – приказал, обернувшись к своим, Ярослав.
– Как твоего отца звать? – спросил он девочку. – Где его сыскать можно?
– Миколой его кличут. А должен быть он у Тверяты, купца. С ним многие дела он имеет.
– Из житьих вы, стало быть? Хозяйство своё имеете, скот, холопов. А знаешь ли ты, что таких, как вы, могу я к себе в хоромы пристроить? Ну, не к себе – в бабинец. Будете за столами знатным боярыням прислуживать. А подрастёте – женихи для вас найдутся. Для всякого житьего служба на княжьем дворе – большой почёт.
– За то вельми благодарны будем тебе, княже, – пропищала в ответ Фотинья.
…Обеих девочек Ярослав, как обещал, пристроил в бабинец. Ольга была не против – выходцы из житьих чаще оказывались более верными князьям, чем бояре с их интригами и коварством. Прислуживали Порфинья и Фотинья с тех пор княгине и боярыням за столом во время частых пиршеств, раскладывали скатерти, носили кушанья и вина. Отца Фотиньиного нашли целого и невредимого, жива оказалась и мать её, правда, хозяйство всё было порушено наводнением.
– На три лета освобождаю тебя от дани! – объявил Миколе, приземистому мужичонке с пегой бородкой, Ярослав. – И даю тебе такожде двунадесять гривен – чтоб отстроился заново, двор свой и хозяйство возродил.
Ошарашенный такой милостью Микола кланялся князю в пояс и слёзно благодарил.
– Что-то добр ты вельми, княже, к сим житьим людишкам. С них жёстче спрашивать надобно. Пускай бы отрабатывал гривны твои, – упрекал после Ярослава Семьюнко. – Или… мне сие дело поручи. Уж я с него стрясу!
– Сказал: дарую гривны! – недовольно прикрикнул на него Ярослав. – И довольно об этом! Всех, конечно, гривнами не задаришь, но Микола… пусть отстраивается.
Семьюнко обиженнно прикусил губу. Не первый год косился он на богатые рольи[104] этого житьего, хотел прибрать их к себе, да всё никак не получалось. А теперь… такой был случай! Но князь вмешался, не дал закабалить сего Миколу, спросил, догадываясь, верно, о замыслах товарища своих детских лет:
– Или у тебя земли мало, что всё на чужое глядишь, друже Семьюнко?
– А с Порфиньиным двором как быть? Она ж топерича сирота.
– А Порфиньин двор и хозяйство, коли родичей более у неё нет, под себя я возьму. Так положено, коли она у меня в хоромах служит. А после, как замуж пойдёт, мужу её и отдам, – сказал Ярослав. – Всё тут просто и ясно. Что мудрить?
Скрыл в душе своё недовольство Семьюнко, через силу улыбнулся в ответ, пожал плечами, отмолвил кратко:
– Твоя воля, князь.
Но с того разговора, с тех слов пробежала между друзьями первая тень.
Глава 10
Избигнев вернулся в Галич уже зимой, когда мало-помалу схлынули мутные воды, закончились проливные дожди, Днестр успокоился в своём каменном ложе, покрывшись тонкой корочкой льда, а в воздухе закружились в причудливом плясе снежинки. Белым покрывалом укутались холмы, лёд сковал ушедшую в своё обычное русло Лукву, засыпало снегом густой кустарник, росший по балкам и буеракам.
Галичане отстроили заново мост, возвращались к обычной повседневной жизни, возводили хаты, амбары, бретьяницы[105] на месте разрушенных наводнением. Жизнь после ненастья потекла прежним порядком. Шумел торг, струились дымки над мастерскими ремественников, важно разъезжали по улицам боярские возки.
Горячо расцеловав в щёки улыбающуюся Ингреду и маленького сына, Избигнев тотчас вновь взмыл на коня и понёсся к княжескому терему. Вести он имел важные и срочные.
…Опять сидели они вдвоём в покое на верхнем жиле. По соседству, в смежной каморе, где располагалась библиотека, корпел над книгами инок Тимофей.
– Не бойся. Тимофей там. Этот не разболтает. Свой, – рассмеялся Ярослав, когда Избигнев глазами молча указал ему в сторону сидящего на кленовом стульчике за приоткрытой дверью монаха. – Ну, рассказывай давай, друже, что сведал у угров.
«Бывают сведения, о которых не следует знать никому лишнему, будь то даже лучший друг», – подумал Ивачич, но смолчал. Воистину, Тимофей умеет держать язык за зубами.
– Ну, так, – начал он. – Первое, и главное – вдовая королева и палатин[106] вельми рады предложенью твоему. Второе. Архиепископ Лука – тот супротив брака короля с княжной. Мол, не латинянка Евфросиния. И третье. Заправляет всеми делами в Угрии королева Фружина. По сути, она страною сею правит. Но Иштван – вельми капризный юнец. С матерью почасту спорит, дерзит. Бешеный нрав у королька. Думаю, подрастёт, оперится, опыта немного наберётся и перестанет материной юбкой прикрываться. Вот тогда бог весть что там у них случиться может.
Высказал разом Избигнев всё, что хотел, и умолк, вопросительно уставившись на хмурящего чело Ярослава. Но вот поднял на него князь свои глаза цвета речного ила, отмолвил твёрдо:
– Что ж. Стало быть, нынешней зимой и отправим княжну в Угрию. Обручим её с Иштваном. А потом отъедет она в монастырь в Тормово, там и поживёт до своего совершеннолетия года два-три. Мала покуда. Тот монастырь ещё королева Анастасия Ярославна сто лет назад основала. Наши русские жёнки православные там живут, Бога в молитвах славят.
– Так, княже. – Избигнев согласно кивнул. – Но всё же… Не рано ли твоей дочери к уграм ехать? Мала ведь, сам говоришь. Почитай, ребёнок совсем.
– Пусть едет. Ты пойми, друже, обручение это – залог мира и союза с Иштваном и его матерью. Королева Фружина! – Ярослав усмехнулся и качнул головой. – С нею лучше дружить. Умная она жёнка. И смелая. С мужем своим покойным, Гезой, даже в походы не раз вместе хаживала. В Галич сюда приезжала она единожды, ещё когда молод я был. Не помню, о чём толковня у Гезы с отцом была. Её только запомнил – едет, в шеломе, в панцире дощатом[107], словно ратник, вся железом облитая. Шелом сняла с подшлемником, косы золотистые на плечи упали, тогда лишь и понял я, что жёнка. И гордая вся, строгая, властная. С такой не пошутишь. Дочь Мстислава Великого. Хотя юная совсем была.
– Очи у ней светлые, – добавил со вздохом Избигнев. – И волосы, как лён. Мать ведь её – новогородка. В мать и дочь, видно.
Осмомысл неожиданно рассмеялся.
– Ты в неё влюбился, что ли? Говоришь так, будто томишься, сохнешь по ней.
– Да что ты, княже! У меня – жена, сын. Просто яркая она жёнка. Верно ты сказал: умная, смелая. Не позавидую я её врагам.
Вспомнил Ивачич давнюю схватку свою на саблях с венгерским бароном Фаркашем на Вишеградской горе[108], когда остановила их поединок гневная женщина – королева. И как стыдила она потом их обоих, но почему-то не обидно было совсем Избигневу. Наоборот, он смотрел на красивое лицо королевы и восхищался ею. Хотелось преклонить перед ней колено, поцеловать край платья, дать клятву верности. Но он был посол, чужеземец, он не мог…
Ровный голос князя оторвал Избигнева от воспоминаний.
– Брат Иштвана – Бела, в заложниках у Мануила, – перевёл разговор на другое Ярослав.
– Так, да не так, – возразил ему тотчас Ивачич. – Палатин Угорский в келейной беседе иное мне поведал. Думает базилевс Мануил дочь свою Марию за Белу выдать. А так как сынов у базилевса нет, объявить Белу наследником своим. А заодно и посадить его на стол в Эстергоме заместо Иштвана. Объединить мыслит Ромею и Угрию. И ещё. Бела, бают, мать свою Фружину ненавидит за то, что предпочла она ему Иштвана. Тако вот.
Осмомысл аж присвистнул от изумления.
– Не ведал я этого, – признался он. – Спасибо, друже Ивачич, просветил. Дальние, выходит, у Мануила замыслы. Кстати, матерью его была Пирисса – тоже угринка. Впрочем, и у меня в жилах угорской крови немало. Мать моя Софья – дочь короля Коломана. Бабка, Анна, супруга князя Володаря, правда, из Поморья родом была. Зато прабабка, княгиня Ланка, опять же из угров – сестра Ласло Святого. Впору хоть самому на угорский стол посягать. Но то так, шутки одни. Бела, кажется, на год младше Иштвана?
– Верно, княже. Но он давно в Константинополе. Вначале, видно, в самом деле просто заложником был, а после, когда побит был и изгнан из угров Стефан, младший брат покойного короля Гезы, прихвостень ромейский, уразумел Мануил, что не на того человека опереться хотел. Вот и приблизил он Белу к своей особе.
– Не мешало бы нам проведать о ромейских делах побольше. Кого бы послать тайно в Царьград[109]? – Ярослав задумчиво огладил бороду.
– Пошли Птеригионита, – предложил после недолгого молчания Избигнев.
При упоминании грека-евнуха, не раз выполнявшего для князя тайные скользкие поручения, Осмомысл внезапно вздрогнул. К счастью, собеседник его этого не заметил. Другое занимало ум молодого боярина. Вспомнил он давний уже разговор в этой же палате, когда говорил им с Семьюнкой князь, что мечтает постричь княгиню Ольгу в монахини, а на вопрос о детях ответил, что их не бросит, а устроит как подобает.
«Вот и устраивает», – подумал Избигнев, взглянув в умные Ярославовы глаза цвета речного ила.
Он не мог знать, что в этот же самый миг и Осмомысл вспомнил тот разговор.
Утром князь имел долгую беседу с дочерью. Маленькая девочка, вся испуганная, нахохлившая, как воробышек, смотрела со страхом своими большими тёмными, будто перезрелые сливы, глазами на отца, говорившего твёрдым, не допускающим противоречий голосом:
– Такова, доченька, участь всех княжон. Подолгу живут они вдали от дома. Отдаю тебя не в землю незнаемую, не за море-окиян. Соседственна с нами земля угров, ведомы нам свычаи и обычаи этого народа. Сможешь и ко мне приезжать. Недалёк, чай, путь. Чрез Горбы перевалить – тут тебе уже и Галичина.
Молчала маленькая Евфросиния, поджимала и кусала тонкие уста, стараясь не расплакаться. Накануне мать, как обычно, строгая и холодная, убеждала её, что стать женою короля угров – великая честь для любой русской княжны.
– Не одна ты поедешь, – успокаивал её отец, – и мамка с тобой будет, и слуги верные. Много народу.
Поднялась Фрося со скамьи, отмолвила отцу не по-детски строго:
– Отче, я пойду за короля Иштвана.
…Княжну отправили к жениху после Святок, на исходе января, неожиданно холодного и ветреного для этих благодатных мест. Провожал богато убранный поезд весь город. Ярослав сопровождал возок дочери верхом на коне до Немецких ворот. Там они расстались, расцеловав друг друга на прощание.
– Я напишу тебе, как приеду, – пообещала Фрося.
В кожушке синего цвета, узорчатых рукавичках, в шапочке с парчовым верхом и опушкой меха соболя, в сафьяновых сапожках, она, казалось Ярославу, сразу, в одночасье стала намного взрослей.
«Воистину, невеста и есть», – подумалось князю, когда Фрося, гордо вскидывая вверх голову, прошла к своему возку и поднялась по крытым ковровой дорожкой ступенькам. Возок помчал вперёд, задымила дорожная печь, из трубы на крыше повалили густые белые клубы. А дальше перед глазами Ярослава был только снег, была метель, свистел в ушах отрывистый ветер.
Он круто поворотил коня и быстрым намётом помчался в Детинец[110]. Следом за князем поскакал отряд оружных гридней. Нижний город скрывался посреди белой дымки, лишь свинцовые купола собора Успения тускло поблескивали вдали.
…Ольга с сыном провожали княжну, стоя на забороле крепостной стены. Там и нашёл её запыхавшийся, весь обсыпанный снегом Ярослав. Окружали княгиню ближние боярыни. Среди них заметил Ярослав скуластую жену Чагра, рядом с которой… Да вот же она, Анастасия, в шапочке куньего меха, стреляет его немного насмешливыми лучистыми глазами, вся светится красотой! Но всего одно мгновение любовался Ярослав прелестью молодицы. Тотчас закрыли её своими спинами боярыни, стали наперебой хвалить его, говорить, что он «добре устроил дщерь свою».
Князь спустился по крутой винтовой лестнице во двор крепости и поспешил укрыться у себя в покоях. Не по сердцу было это непомерное славословие. Подумалось вдруг, что поспешил он, что надо было обождать, потерпеть с дочерью. Настя – да, да, он её любит, он восхищён, очарован её неземной красой! Но при чём тут Фрося?!
Метался Ярослав из угла в угол палаты, скрипели под ногами половицы, никак не мог он обрести покой.
Впереди ждали его события, во многом изменившие судьбу Галицкой земли.
Глава 11
Рослый черноволосый человек лет сорока пяти в долгой испачканной грязью и порванной в нескольких местах тунике[111] ромейского покроя, как только привели его к Ярославу стражи, довольно-таки самоуверенно уселся на лавку напротив князя и громким голосом, чудно мешая греческие и русские слова, объявил:
– Я Андроник Комнин, себастократор[112]! Я твой двоюродный брат, архонт[113]! Пришёл к тебе в надежде отыскать спасение! Базилевс Мануил преследует меня незаслуженным гневом! Двунадесять лет я провёл в темнице, и вот… – Он размашисто развёл своими сильными, жилистыми руками. – Мне удалось наконец бежать!
Что-то знакомое сквозило в чертах этого человека, Ярославу даже почудилось вдруг, что перед ним не кто иной, как Берладник, только почему-то потемневший лицом и волосами. Разве цвет глаз – чёрных, как южная ночь, немного успокоил недоумевающего галицкого князя.
Меж тем неизвестный широко, во весь рот, улыбнулся, обнажив ряд крепких белых зубов.
– Понимаю твою насторожённость, равно как и твоё недоверие, архонт. Покажу тебе этот предмет. – Он снял с шеи и положил перед Ярославом оберег с родовым знаком Рюриковичей – соколом-балабаном.
– Этот амулет моя мать, Ирина, сестра твоего покойного отца, когда-то давно повесила мне на шею. Он хранил меня от многих бед. Да, архонт. Верь мне. Мы – родственники.
Ярослав усмехнулся, хитро прищурился, неожиданно спросил:
– А ты не боишься, что я позову стражу, велю заковать тебя в цепи и выдам базилевсу Мануилу?! Или просто прикажу казнить! Мало ли какой оборванец выдаёт себя за царского родственника?!
– Нет, я не боюсь! Даже если бы я оказался самозванцем, ты не отдашь меня Мануилу! Тебе это невыгодно, архонт. Насколько мне известно, ты порвал багряный хрисовул[114] базилевса и расторг союз Мануила с твоим покойным отцом. И ты поддерживаешь мадьяр в начавшейся недавно войне с Ромеей.
Андроник внезапно громко рассмеялся. Один из стоявших у него за спиной стражей тупым концом копья возмущённо ударил его в плечо.
Грек обернулся, соскалил недовольную рожу, прошипел что-то обидное и злое на своём языке, а затем снова обратился к Ярославу:
– Крепкая у тебя стража, архонт. Но тебе не следует меня опасаться. Я твой друг. Да, сегодня я нищ, наг, одет в лохмотья, я ищу у тебя в доме приюта, но завтра я снова могу стать сиятельным принцем, и тогда… Обещаю, что не забуду того, кто протянул мне руку помощи в час беды!
Самоуверенность пришельца коробила Ярослава, он едва сдержался, чтобы не приказать стражам отвести Андроника, действительного или мнимого, в поруб и посадить на хлеб и воду. Остановила его мысль, что, по сути, этот ромей говорит правду. И не всё ли равно, кто он, самозванец или принц? Главное, он, Ярослав, мог бы использовать его в своих целях.
Когда-то князь Владимир Мономах принял у себя самозваного сына императора Романа Диогена и даже выдал за него свою дочь Марицу. Наверное, сверстный умом Мономах знал или догадывался, что перед ним отнюдь не царевич, но, враждуя с тогдашним базилевсом Алексеем, дедом нынешнего Мануила (и Андроника, кстати, тоже), постарался насолить своему врагу. Вот и ему, Ярославу, выпадает случай вмешаться в дела империи.
Осторожный Осмомысл поначалу ничего определённого ромею не обещал, спросил только:
– Как же ты сумел убежать из темницы? И почему ты в такой одежде?
– О, это долгая история, архонт! – Андроник удобнее устроился на обитой бархатом скамье, снова улыбнулся, обнажая белые зубы, и изготовился начать подробный и долгий рассказ.
По приказу князя стражи скрылись за дверями. Челядин поставил перед ромеем большое блюдо с оливками, наполнил серебряную чару вином. Отхлебнув глоток, Андроник наконец приступил к повествованию:
– В юности мы были дружны с базилевсом Мануилом. Вместе ходили в походы, рубились с неверными турками, крошили алчных латинян. На ристалище мы тоже были равны. И даже любили мы двух родных сестёр. Ах, Евдокия! Как она была прекрасна!.. – Ромей мечтательно вздохнул. – Но однажды базилевс внезапно разгневался и приказал бросить меня в мрачную камору в холодной каменной башне. Там я просидел долгие годы. Меня кормили, выводили на прогулки, но стража была бдительна и крепка.
– За что же тебя осудил император? – спросил, врываясь в речь Андроника, Ярослав. – Кажется, ты переоделся латинским наёмником и хотел проникнуть к нему в палатку во время похода? Охрана задержала тебя возле самого порога. Или я что-то путаю?
Ромей вздохнул и согласно кивнул кудрявой головой.
– Ты прав. Я мечтал об императорском венце. Я ни в чём не уступал Мануилу и полагал, что достоин быть на троне. Но мне не повезло. Видно, я прогневил Господа. За то и был подвергнут столь суровому и долгому наказанию. В тюрьме я едва не сошёл с ума. Как-то раз я вдруг обнаружил в углу каморы, куда я был заключён, под грудой кирпичей небольшое отверстие. Как же велико было моё разочарование, когда оказалось, что это всего лишь углубление, а не потайной ход из башни! Но и этим я решил воспользоваться. Скажу тебе, архонт, что никогда не следует, даже в самом безысходном положении, впадать в отчаяние. Я спрятался под кирпичами и с удовлетворением слышал, как кричат и бестолково снуют по каморе стражи с факелами в руках. Они решили, что я сбежал! Базилевс велел закрыть порты и городские ворота, меня разыскивали по всему Константинополю, в то время как мою жену, которую заподозрили в содействии моему побегу, заточили в ту же самую камору. Когда я выбрался из своего укрытия, она пришла в ужас, приняв меня за привидение. С трудом убедил я её в обратном. В этой каморе мы зачали ребёнка. Ну, а немного позже, когда бдительность стражей ослабла, а моя жена вернулась в свой дом, мне удалось-таки убежать из опостылевшей темницы. Увы, я недолго радовался свободе. Меня снова схватили, привели в Константинополь и заковали в двойные цепи. Одного не учли мои враги: у меня были верные слуги и друзья, которые сохранили мне преданность. Однажды я получил с воли бочонок доброго хиосского вина. В нём я обнаружил ключ и длинную верёвку. Ночью я отпер двери каморы, спустился по верёвке с башни и перелез через стену сада перед дворцом, где живут моя жена и дети. Обняв и расцеловав на прощание своих родных, я тотчас снял с себя проклятые цепи, переоделся в доброе дорожное платье, вскочил на быстрого коня и умчался из города. Когда меня хватились, я был уже далеко. Путь мой пролёг через валашские степи и горные хребты Горбов. Я спешил к тебе, архонт. Я знал, что ты – самый могущественный из правителей, чьи земли примыкают к берегам благословенного Эвксинского Понта. Я хотел прибыть в Галич, как положено знатному ромейскому придворному, в подобающих случаю одеждах. Но уже недалеко от Галича меня нагнал отряд вооружённых до зубов валахов. Они знали, что за мою поимку базилевс Мануил обещал большую награду, и они схватили меня, внезапно напав из-за кустов. Опять я оказался в плену! А так близки были спасительный Галич и ты, архонт! И вот я собрал в кулак всю свою волю и весь свой ум! Я не дал погубить себя отчаянию и прибег к хитрости. – Андроник неожиданно громко расхохотался. – Обманул я этих простаков-валахов! Сказал, что страдаю поносом и желаю отойти по нужде, нашёл в кустах длинную палку, повесил на неё шапку и дорожную хламиду[115], а сам в одной тунике скрылся в горном лесу, среди кривых пихт. Мне удалось уйти от погони, сбить врагов со своего следа. И вот я тут, сижу перед тобой, архонт. Исстрадавшийся, несчастный, полуголый, голодный! Ты должен поверить мне. Я – твой друг! Сейчас и в будущем. Пойми, архонт. Жизнь переменчива. Если я когда-нибудь стану базилевсом, то не забуду о тебе. Вместе мы с тобой сокрушим любого недруга!
– Занятно сказываешь, сладко поёшь, – выслушав долгий рассказ ромея, отмолвил Ярослав. – Что же, во многом ты меня убедил. В поруб тебя не брошу, не в моих то правилах. Поселю на верхнем жиле, велю кормить хорошо, стражей приставлю. А там посмотрим…
Он хлопнул себя по коленке и решительно поднялся, оканчивая трудный разговор. Ромею он не верил до конца, но решил его, если что, использовать.
…Евнуха Птеригионита давно не звали в княжеский дворец. Каково же было изумление маленького хромого человечка, когда явился к нему один из самых доверенных людей Осмомысла – боярин Избигнев Ивачич, и сопроводил в княжой терем. В утлой каморе было проделано у пола оконце, откуда обозревалась просторная горница. Яркий свет хоросов[116] резко ударил евнуху в глаза.
– Ответь мне, кто этот человек?! – потребовал Избигнев. – Тот, что сидит на лавке и греет ноги у печи.
Птеригионит внезапно вздрогнул.
– Не может быть! – прошептал он испуганно.
– Ну же! Отвечай! – приказал Избигнев.
– Это Андроник Комнин, двоюродный брат базилевса Мануила. Но я слышал, что он заключён в темницу.
– Ты не врёшь? Лучше гляди давай.
– Да нет, светлый боярин. Я не ошибаюсь. Это на самом деле Андроник Комнин.
– Ну ладно. Ступай. Вот тебе сребреник. И помни: коли слукавил, головы тебе не сносить.
Избигнев поспешил к князю, а Птеригионит, попробовав на зуб серебро, постарался поскорее унести ноги из княжеских хором.
Впрочем, спустя седьмицу к нему снова явился Избигнев. И снова плёлся, вздыхая, колченогий уродец по склону горы, пробирался через забитые возами ворота, восходил вверх по лестницам дворца.
Князь Ярослав принял его милостиво. Получил Птеригионит повеление отправиться в Константинополь. Хотел хитроумный Осмомысл доподлинно узнать, как живёт и чем дышит главный город империи ромеев.
Глава 12
Солнечный луч падал через забранное слюдой узкое высокое окно в просторный покой Влахернского дворца. Несколько мужей в дорогих, украшенных золотом плащах – полудаментумах, почтительно склонились перед человеком с короткой каштановой бородой, который, раздражённо расстегнув и бросив на плечи слуге полукруглую пурпурную мантию с кистями на концах, торопливо расхаживал по мраморным плитам.
– Выходит, Андроник добрался до русских пределов. Его следы отыскались в Галиче. Это ты, Контостефан, не уследил за ним! – прикрикнул он на одного из коленопреклонённых.
Последний втянул голову в плечи и едва сдерживал дрожь.
– О, солнцеликий! Мы виноваты, спору нет. Но Андроник имеет много сторонников среди столичной знати. Они-то и помогли ему ускользнуть, – заметил другой придворный, седой старик с изрытым морщинами лицом.
– Протосеваст Василий Аксух! – не слушая его, обратился император к рослому мужу, застывшему в почтительности возле двери. – Как наши дела на Дунае? Как ведут себя мадьяры?
– Пока на Дунае царит тишина, мой повелитель. Твой флот, доблестный, вселил страх в обросшие грубой шерстью сердца мадьяр, – елейным голосом проговорил Аксух.
Высокие пурпурные сапоги проскрипели по мраморному полу. Император неожиданно резко обернулся.
– Выйдите все! – приказал он грозно. – И позовите мне Белу, моего будущего зятя.
Базилевс расположился в просторном кресле.
Вскоре в палату явился тонкостанный молодой человек очень высокого роста в тёмно-синей тунике с широкими рукавами, доходившими до земли. Чёрные волосы юноши слегка вились кудрями, подбородок был гладко выбрит, смуглое лицо и глаза слегка с раскосинкой выдавали в нём выходца из мадьярского рода.
– Ты звал меня, автократор[117]? – Молодой человек отвесил императору земной поклон.
– Да, звал, сын. Не удивляйся, что я называю тебя так. Ибо недалёк тот день, когда ты соединишься брачными узами с моей возлюбленной дочерью Марией. – Базилевс обратил на Белу своё исполненное мужества, всё словно бы дышащее силой и энергией лицо.
Бела прикусил губу. Он с трудом скрывал досаду. Шестнадцатилетняя императорская дочь сегодня в очередной раз назвала его варваром. Она едва терпит его присутствие во дворце. Но скажешь об этом Мануилу, и бог весть, как поведёт себя базилевс. Возьмёт да и назначит своим наследником кого-нибудь другого. А он, Бела, надеется в будущем получить и императорскую корону, и престол Венгрии. Соединив под единым скипетром[118] две державы, он сможет стать самым могущественным правителем в Европе. Ради этого стоит терпеть насмешки толстой откормленной дочки Мануила.
Мария была единственным ребёнком императора от первого брака со свояченицей германского императора Конрада, Ириной. После кончины первой супруги Мануил женился вторично на дочери князя Раймунда Антиохийского[119], именем тоже Мария. Новая базилисса была на редкость хороша собой, она умела нравиться, в её честь поэты слагали стихи, она цвела, красовалась в лучших одеждах, но… пока она не могла родить базилевсу сына. И Бела, бывший заложник, сын покойного короля Гезы и русской княжны Фружины, стал теперь надеждой ромейского трона. Эх, если б императорская дочка была хоть чуточку краше или хотя бы не дразнила и не издевалась над ним! Молодой человек вздыхал и насторожённо косил взглядом чёрных глаз на восседавшего в задумчивости в высоком кресле базилевса.
– Вот что, Бела, – прервал воцарившееся в палате молчание Мануил. – Хочу посоветоваться с тобой. Учителя хвалят тебя, говорят, ты неглуп и прилежен. Наука управления империей трудна и многогранна. А нынешняя наша тема касается твоей родины. Много дурных событий происходит в славном городе Эстергоме. Ты знаешь, что на престоле земли мадьяр закрепился твой старший брат, Иштван. Всеми делами вашего королевства заправляет твоя мать, Фружина.
– Мой базилевс! У меня давно нет матери! Ты, порфироносный, стал мне и отцом, и матерью! – пылко воскликнул Бела.
В словах его была искренность. Но не настолько привязан был молодой Арпадович к Мануилу, сколько ненавидел свою родную мать и брата. Это они сделали его заложником и заставили пресмыкаться в этом гадюшнике, каким Бела считал Влахернский дворец. Если он станет императором, то непременно переедет отсюда в Палатий – древний дворец Юстиниана[120] и Василия Болгаробойцы[121]! Или в Магнавру на живописном берегу Босфора!
– До нас дошли вести, что твой брат Иштван собирается жениться. У него есть сильный союзник – галицкий князь Ярослав. Так вот, дочь Ярослава уже прибыла в страну мадьяр. В скором времени намечается свадьба. Как ты понимаешь, против империи ромеев складывается весьма сильная коалиция. Мадьяры, князь Ярослав, чехи, сербский жупан Неманя. Не забывай также римского папу и сицилийских норманнов[122]. Иными словами, в начинающейся на Дунае войне нам придётся нелегко. Вот я и позвал тебя. Подумай, как сделать, чтобы князь Ярослав отстал от союза с твоим братом и твоей матерью. Если он отпадёт от Иштвана, то, поверь мне, не пойдут помогать мадьярам ни чехи, ни Сицилия. А со Стефаном Неманей мы как-нибудь справимся сами. Он друг мадьяр ненадёжный, ибо ищет лишь свою выгоду. Так какие у тебя мысли, Бела? Говори, не бойся.
Молодой человек, опасливо озираясь по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь подслушает их разговор, несмело предложил:
– Ну, может быть… У всесильного базилевса найдутся в окружении Иштвана доброжелатели. Я слышал о свойствах восточных ядов. Не станет Иштвана, не будет и союзов, вредных особе автократора и империи ромеев, не будет и войны.
– Что слышу я! – Мануил в негодовании вскочил с кресла и заходил по палате, размахивая руками. – Ты брата родного убить предлагаешь! Ты! Господи, какой позор! Правильно моя дочь называет тебя варваром, Бела! Ты знаешь, сколько у меня братьев, родных и двоюродных! И далеко не все они верны мне! Но я никогда, слышишь ты, щенок, никогда не желал им смерти и не пытался от них избавиться! Сколько заговоров строил против меня Андроник, и сколько раз мог я приказать его умертвить! Но я не сделал этого, ведь он мой брат! Это до какой же низости надо дойти, чтобы предлагать такое!
Бела рухнул ниц, тёмно-голубая туника разметалась по мраморному полу.
– Прости, о божественный автократор! Я не постиг в полной мере преподанной мне мудрости. Просто я… я хочу блага империи ромеев, – пролепетал испуганный потомок Арпада.
Мало-помалу базилевс остыл и сел обратно в кресло.
– Надо расстроить брак Иштвана с дочерью галицкого князя. Как это сделать? Подумай, Бела. Наша мерность поручает тебе это дело. Только чтобы без яда, кинжала и прочих гадостей. Ты понял меня?
Бела кивнул, стукнувшись лбом о пол.
– Тогда иди. И знай: сегодня ты меня разочаровал.
Подобрав полы одежды, Бела поспешил покинуть покой императора. Он долго шёл по широким коридорам дворца, ловя завистливые взгляды придворных. Царевна Мария, облачённая в красную столу[123], в мафории[124] голубого цвета на русых волосах, проскользнула вверх по лестнице в сторону гинекея[125], сопровождаемая двумя лоратными патрицианками[126]. Заметив угорца, она остановилась, надула пухлые пунцовые губки, недовольно наморщила мясистый нос с горбинкой и насмешливо промолвила:
– У тебя такой жалкий вид, Бела. Что, досталось от отца?!
– Напротив, базилевс был ко мне милостив, как всегда, – ответил ей Арпадович.
– Не лги! Некоторые добрые люди слышали, как император кричал на тебя. В этом дворце, дорогой «женишок», стены имеют уши. Знай это.
Мария неожиданно рассмеялась.
Скрипнув зубами, Бела смолчал и, пропустив женщин, ринулся вниз по крутым ступеням. Он поспешил покинуть ненавистный Влахерн и в сопровождении небольшого отряда стражи направил стопы к угорскому подворью, расположенному на берегу бухты Золотой Рог.
«Найди способ, как расстроить брак». Легко сказать, а как, как это сделать? Мучили сына Гезы неприятные мысли.
«Вот не справлю дела, и прогонит меня базилевс, чего доброго. И придётся мыкаться в нищете, сидеть тут в заложниках!» – кусал в отчаянии Бела уста.
На угорском подворье встретил его Фаркаш – молодой барон, не так давно взятый к нему в услужение. Покуда вёл он себя почтительно, тихо и различные мелкие поручения выполнял толково. Но, бог весть, сумеет ли этот Фаркаш проворить дела более сложные и трудные.
К нему от безысходности и решил обратиться Бела. Рассказал во всех подробностях о разговоре с императором, только о недовольстве Мануила и гневе царственном смолчал. Фаркаш думал недолго, тотчас поклонился ему в пояс и предложил:
– Есть, королевич, один человек. Как раз недавно он приехал в Константинополь из Руси. Он скопец. Его имя – Птеригионит. Думаю, он сумеет помочь тебе в столь нелёгком деле.
– Птеригионит. Крылышко. Странное прозвище. – Бела нахмурил чело, пожал плечами. – Где ты его нашёл?
– Он сам отыскал меня. Явился сюда, на наше подворье. Попросил поделиться новостями.
Бела глянул на простоватое, озарённое угодливой улыбкой лицо Фаркаша.
«Слишком прост, чтобы лукавить», – подумал Арпадович, по привычке кося по сторонам глазами, и продолжил свои расспросы:
– Ты знал этого скопца раньше? Откуда?
– В первый раз он встретился мне года четыре назад, в Фессалониках, в таверне. Как раз он и посоветовал мне отправиться в Константинополь.
– Насколько я помню, четыре года назад в Фессалониках умер один русский князь. Иван, кажется. Говорят, он спорил с князем Ярославом за Галич. Или я ошибаюсь?
– Ты не ошибаешься. Именно в те дни в Фессалониках скончался некий Иван Берладник. Он приходился владетелю Галича двоюродным братом.
– Не приложил ли этот самый евнух руку к его смерти? Как ты полагаешь, барон?
Фаркаш развёл руками:
– Его вина не доказана, королевич. Но больше я евнуха Птеригионита не встречал… вплоть до вчерашнего дня.
– Вот что, Фаркаш. Как можно скорее доставь этого Крылышка сюда, ко мне. Будет к нему одно дело, – приказал Бела.
«Поглядим, что за птица. Может, с его помощью и удастся мне выполнить повеление базилевса», – подумал сын Гезы.
В чёрных, чуть раскосых глазах его заиграли искорки надежды.
Глава 13
Шурша шёлковой хламидой, Птеригионит распростёрся перед Белой ниц. Он долго лежал, слушая, как королевич на греческом языке предлагает ему опасное, многотрудное дело.
– Мне стало известно о намерении моего брата Иштвана, короля угров, вступить в брак с дочерью галицкого князя Осмомысла. Следует расстроить эту свадьбу. Если ты сумеешь помочь мне в столь щекотливом деле, я не пожалею золота, – коротко, не вдаваясь в подробности, сказал Бела.
Он с силой стиснул пальцами подлокотники стольца. Волнение охватывало молодого угорца, он чувствовал, что рискует и что ставит себя, своё грядущее благополучие в зависимость от этого маленького невзрачного человечка, который сейчас валяется у него в ногах, но который может изменить многое… очень многое как в судьбе самого Белы, так и в исходе долгого ромейско-угорского противостояния.
Птеригионит наконец несмело поднял голову. Лицо его озарилось заискивающей улыбкой, выставились наружу уродливые лошадиные зубы.
– Постараюсь помочь тебе, светлый принц. Я знаю, что надо делать. Только… У меня будут к тебе две просьбы.
– Говори, – нетерпеливо потребовал Бела.
– Первое. Я не смогу обойтись в нашем деле без помощника. Прошу, дай мне в подмогу барона Фаркаша.
– Хорошо. Отныне Фаркаш поступает в твоё распоряжение, – согласился Бела.
– И второе. Дело твоё требует немалых затрат. Нужно серебро. Много серебра.
– Я дам тебе серебро. Столько, сколько ты попросишь. Когда ты сможешь отправиться в путь?
– Хоть сейчас, о светлый принц. Но перед тем, как ехать в Угрию, я должен побывать в Фессалониках.
– Это ещё зачем?
– Для успеха нашей затеи мне будет нужен ещё один человек. И я знаю, как заставить его оказать нам необходимую помощь.
Маленькие глазки скопца плутовато блестели.
– Пусть светлый принц не беспокоится. Евнух Птеригионит знает, что делать и как делать.
Довольно убедительно говорил маленький человек, и Бела проникался уверенностью, что план его, подсказанный базилевсом, будет исполнен.
Он отсыпал скопцу серебра, сказал, что по окончании дела даст ещё больше, и велел ему незамедлительно собираться в дорогу.
…Фаркаш и Птеригионит выехали из Золотых ворот Константинополя рано утром, на рассвете. Городские улицы были в этот час пусты. Никакие зеваки не обратили внимания на необычную парочку – трясущегося на ослике маленького евнуха, облачённого в долгую серую хламиду, и рослого усатого угорца в цветастом жупане и высоких сапогах со шпорами, ехавшего верхом на породистом аргамаке[127].
Сперва путь их лежал в Фессалоники. Фаркаш недоумевал и приставал к евнуху с вопросами, зачем они туда едут, ведь Угрия находится совсем в другой стороне. Сделав такой крюк, они только потеряют много времени.
– В Фессалониках нас ждёт одна важная встреча, – коротко отвечал скопец и угрюмо отмалчивался, наотрез отказываясь удовлетворять любопытство угорца.
…Они остановились в одной из таверн на берегу залива Термаикос. Обедали простой бобовой похлебкой и козьим сыром. Быстро утолив голод и выпив чару белого вина, Птеригионит осмотрелся по сторонам.
– Нам нужна одна женщина, гетера[128]. Её зовут Лициния, – обратился он к хозяину таверны. – Не помог бы ты, добрый человек, нам её найти.
– Лициния иногда приходит сюда по вечерам. Но, вообще-то, она теперь служит у одного знатного и богатого человека. Вряд ли она согласится провести ночь с твоим другом. – Пожилой грек с сомнением глянул на Фаркаша.
– Вот тебе серебряная монета, – предложил ему Птеригионит. – Пошли за ней. Скажи, что её очень хочет видеть один старый знакомый.
…Пышногрудая черноволосая гетера, молодая красивая гречанка лет двадцати пяти, евнуха не узнала, Фаркаша же она вовсе никогда ранее не видела. Удивлённо блестели в тусклом свете чадящего светильника на столе глаза цвета южной ночи.
– Что вам от меня надо? Кто вы такие? – спрашивала она. – Откуда вам известно моё имя?
– Не помнишь меня, красавица? – Птеригионит улыбнулся, выставив зубы, чем заставил женщину недовольно поморщиться. – Тогда я тебе напомню. Четыре года назад. Ты была такой же молодой и красивой. Я привёл тебя к одному русскому архонту. Беглому архонту. Его звали Иван Берладник.
Лициния испуганно вскрикнула и прикрыла рукой рот.
– Я вижу, ты вспомнила. Архонт умер однажды утром, после бурной ночи с тобой. Полагаю, ты подсыпала ему в вино какого-нибудь снадобья.
– Это ложь! – воскликнула пылкая гречанка. – Это ты его отравил!
– Я? Да как я мог это сделать? Когда архонт умер, я был уже далеко от Фессалоник. Он послал меня в Галич, хотел разведать, как там обстоят дела. Да и зачем было мне убивать того, кто меня кормил со своего стола? – Хитрый евнух умело плёл свою паутину.
Гетера умолкла, стала беспокойно озираться. Нечего было ей возразить, вспомнила она, как боялась, что заподозрят её в отравлении русского князя.
Меж тем Птеригионит продолжал:
– На твоём месте я бы постарался покинуть Фессалоники. Мало ли что. У некоторых людей цепкая память. У меня есть к тебе предложение. Хорошее предложение. Ты молода, красива, сможешь не одному мужчине вскружить голову.
– Что ты хочешь от меня? – спросила Лициния.
– Такая красавица, как ты, не беглецов должна ублажать, а лиц королевской крови.
– Мой нынешний друг достаточно богат, – хмыкнула гетера. – Я не нуждаюсь в милости королей.
– А вдруг он узнает о русском архонте? – С уст скопца исчезла улыбка, лицо его стало серьёзным и злым.
Лициния задумчиво потеребила пальчиком с накрашенным ногтем нос.
– Говори, какая тебе нужна от меня услуга? – после недолгого молчания наконец спросила она.
– Мы с моим другом едем в страну угров. Хотим, чтобы ты сопровождала нас. Мы купим тебе богатую одежду, неплохо устроим. А ты… твоей целью будет соблазнить молодого короля, – пояснил ей Птеригионит.
– Чтобы в одно солнечное утро его обнаружили мёртвым в постели со мной? И меня казнили как убийцу? Я не стану играть в такие игры! – решительно заявила гетера.
– Успокойся. Ни у кого и в мыслях нет убивать нашего дорогого и горячо любимого короля Иштвана. Просто… король хочет поразвлечься. Пока он холост… В скором времени к нему доставят будущую жену, и юный монарх… Одним словом, он не хотел бы осрамиться. Ему необходим некоторый опыт…
– Не верю тебе. – Гречанка тряхнула волосами.
– Можешь не верить, но есть ли у тебя выбор, красавица? Виселица, а если не она, так темница или нищета вечная. В Угрии же тебя ждёт богатство, немалое богатство. Мы с Фаркашем потребуем от тебя… просто некоторой услуги. Правда ведь, друг мой? – Птеригионит, снова оскалив в улыбке зубы, повернулся к молчавшему доселе барону.
– Это так, – подтвердил Фаркаш.
Лициния примолкла, на этот раз надолго. Смотрела она на чадящий светильник, вздыхала, с опаской поглядывала на евнуха и его спутника. Наконец она выдохнула, выдавила из себя с силой:
– Я согласна. Нет мне другой дороги.
– Начало положено, – шепнул на ухо Фаркашу довольный Птеригионит.
Глава 14
Вода в Блатенском озере отливала яркой синевой под безоблачным куполом небес. Лёгкий ветерок приятно обдувал разгорячённые долгой стремительной скачкой лица. Который день шла на лесистых берегах озера королевская охота. Лаяли до хрипоты псы, трубили в рога ловчие, угорская знать, разряжённая в яркие кафтаны, жупаны, кинтари[129], без устали гоняла по долинам быстроногих оленей и мохнатых диких вепрей. Свистели стрелы, ржали кони, вечерами в лагере под Веспремом рекой лилось янтарное вино. Веселье, шутки, смех сменяли бешеную скачку и крики. На вертелах жарилась добыча, изголодавшиеся за день бароны с довольным урчанием поглощали свежее мясо убитых животных. А наутро всё начиналось снова – скачки, погони, схватки со зверем.
Фаркаш долго искал удобный случай подъехать к королю и заговорить с ним. Пребывание в Константинополе научило его быть осторожным и рассудительным. Уже не рубил он, как на пороге юности, сплеча, а выжидал, как затаившийся хищник, того мгновения, когда почти невозможно будет промахнуться. И вот на пятый день ловов, когда ехали они трусцой вдоль берега озера, заметил Фаркаш, что румяное, дышащее здоровьем лицо молодого короля Иштвана сделалось скучным и угрюмым. По всему было видно, что охота надоела молодому монарху. Ехал он медленно, отпустив поводья, хмуро взирал на синеву Балатона, устало морщился, слушая безмерную похвальбу и пьяные рассказы баронов о давешнем лове. И Фаркаш рискнул. Незаметно подъехал он к молодому королю, поравнялся с ним, завёл неторопливый разговор:
– Я вижу, ваше величество вполне насытился охотой. Может, следует вам заняться иным делом?
Иштван с удивлением приподнял бровь.
– О чём ты говоришь, барон?
Лицо его сразу оживилось.
– Вы молоды, ваше величество. Полагаю, найдутся женщины, которые доставят вам удовольствие. Не всё же время скитаться по лесу в поисках зверя. И не вечно воевать. Иногда можно позволить себе вкусить иных прелестей.
– Ты же знаешь, Фаркаш, что у меня есть невеста. Русская княжна, Евфросинья. Моя дорогая матушка уже всё за меня решила! – Иштван недовольно поморщился.
– Но вы ведь уже не ребёнок, государь. Вы сами вполне созрели для важных решений. Стоит ли вам во всём слушать вашу матушку? – Последние слова Фаркаш произнёс тихо, почти шёпотом.
Иштван опасливо огляделся по сторонам. Шумная свита баронов немного отстала от них и отъехала в сторону от озера, лишь трое верных слуг держались несколько позади короля. В любой миг готовы они были обнажить свои огромные двуручные мечи и броситься на его защиту, если бы такая потребовалась.
– Что ты предлагаешь? – продолжая хмуриться, резким голосом громко спросил Иштван.
– Здесь неподалёку есть одно место. Небольшое загородное поместье. Там можно остановиться и весело провести время.
Иштван задумался, прикусил губу. Верно говорил Фаркаш – он уже далеко не мальчик. Мать навязала ему невесту – толстощёкую галичанку, совсем ещё девчонку, которая ему совсем не пришлась по нраву. Их обручили наскоро в соборной церкви в Эстергоме, после чего Ярославну отослали в Тормово, в монастырь – пускай поживёт там пару лет, пока станет взрослой и сможет рожать ему, Иштвану, здоровое потомство.
Но, в конце концов, он ведь король, а не кукла какая тряпичная! В восемнадцать лет он сам способен выбрать себе будущую жену. Мало ли что там думает мать. Она полагает, что без помощи галицкого князя он не сможет победить ромеев. Как бы не так! Да он ещё не раз покажет на поле брани этому самому Мануилу свою отвагу и свою силу! Он отгонит его за Дунай, за Балканы! Пусть убирается в свой Константинополь и сидит там, дрожит за свою шкуру!
– Хорошо. Говори, куда ехать, – ответил наконец молодой король согласием на предложение Фаркаша.
Они свернули с прибрежной тропы и понеслись рысью по пыльному шляху.
…Лёгкий шёлк цвета морской волны приятно обрисовывал стройную фигуру. Уста покрыл слой коринфского пурпура, долгие ресницы были подкрашены, брови подведены сурьмой, на иссиня-чёрных волосах красовался невесомый полупрозрачный плат. Трудно было узнать в нарядно одетой красавице вчерашнюю портовую гетеру. Сияла она прелестью, притягивала мужской взор обаянием улыбки, а манерами походила на знатную гречанку, благо Птеригионит оказался неплохим учителем. Даже имя Лициния сменила молодая женщина на благозвучное «Мария».
– Ты должна забыть о том, кем была раньше, – давал ей последние наставления евнух. – Ты станешь любовницей короля, сможешь влиять на самые важные дела, которые будут твориться в этой стране. Помни, что императрица Феодора была в юности цирковой артисткой, а будущая супруга двух базилевсов Феофано прислуживала в таверне. И обе они возвысились благодаря, в первую очередь, своей красоте. Ну и здесь… – Птеригионит постучал себя по лбу. – Кое-что у них имелось. Вот и тебе предоставляются неплохие возможности.
Лициния-Мария молчала. Она не верила в добрые намерения евнуха и его дружка, держалась настороже, но соблазнить короля угров хотела. Встречу с ним ждала она как некое захватывающее приключение. И когда явился к ней этот пропахший лесом и конским потом юнец, оказавшийся грубым и бесцеремонным, испытала она немалое разочарование.
– Ты кто? – спросил он, стряхивая с дорожного кафтана пару сухих листьев. – Ты гречанка? Я воюю с греками.
– Моё имя Мария. И да будет тебе известно, что не все греки – друзья императора Мануила.
– Ладно, хватит нам заниматься пустыми разговорами. Сними с меня сапоги и раздевайся сама! И поспеши! У меня нет времени на глупости! – приказал король.
Он опустился на стул и позволил ей стянуть с себя высокие сапоги с боднями.
После, когда она послушно разделась и легла, он набросился на неё, словно дикий зверь. Она успокоила его, позволила ему удовлетворить плоть, а затем возбуждала раз за разом, как умела, с удовлетворением замечая, как дикость варвара сменяется в молодом Иштване восторгом от соития. Дело своё Лициния-Мария знала хорошо. День, вечер и ночь провёл король угров в постели с красавицей-гречанкой.
– Я возьму тебя с собой. Увезу отсюда, – говорил он после. – Сделаю тебя королевой, посажу на трон.
– Но ведь у тебя есть невеста? – лукаво щурясь, спросила Мария.
– Я выгоню её! Велю убираться к своему отцу! На что мне эта девчонка?! Некрасивая, толстая, как пирожок! Ты мне нужна! Ты!
Бывшей гетере сделалось вдруг страшно. Мало ли что болтал там Птеригионит об императрицах. Сейчас другое время, и знала она твёрдо, что никакой королевой ей никогда не стать. Захотелось убежать, скрыться от этого гадкого евнуха. Или убить его, что ли? Подкрасться ночью да заколоть кинжалом. Она сможет, хватит у неё решимости и силы. Но что потом? Опять портовая таверна, грязь, пьяные моряки? Нет, даже думать о той, прежней, жизни Мария-Лициния не хотела. И когда утром король наконец покинул её ложе, она никуда не ушла, никого не убила. Осталась она сидеть на ложе, растрёпанная и усталая после ночного бдения, совершенно не зная и не понимая, что же теперь её ждёт.
А тем часом Фаркаш, неотлучно сопровождавший короля в обратном пути к Блатенскому озеру, осторожно спрашивал:
– По нраву ли вам пришлась эта гречанка? Говорят, она красива и умна.
– Ты прав, Фаркаш. Я подумаю, чем тебя наградить. Бывают же женщины! – Иштван тяжело вздохнул.
– В чём печаль ваша, государь? – спросил, нарочито хмурясь, Фаркаш. – Вам чем-нибудь кто-нибудь не угодил?
– Нет, друг мой. Не в том дело. Я бы… я бы хотел отослать обратно к отцу свою невесту. Но моя мать…
– Ваша мать? – удивился Фаркаш. – Вот что я вам посоветую, государь. Сходите-ка вы к епископу Луке. Насколько я знаю, он противится вашему браку с дочерью галицкого князя. Думаю, он найдёт способ повлиять на вашу мать.
– А ведь ты прав! – воскликнул обрадованный Иштван. – Как я сам не додумался? Точно! Епископ Лука мне поможет! Отошлю противную девчонку восвояси – и тогда заживу, как и подобает королю! Женюсь на какой-нибудь красавице королевских кровей…
– Конечно, ваше величество, конечно. К примеру, у австрийского герцога Генриха, кажется, есть красивая дочь. Чем не королева Венгрии? – заметил Фаркаш. – А не она, так другие найдутся.
Барон мысленно потирал руки и благодарил Бога. Кажется, их с Птеригионитом план сработал. А дальше… Король благоволит к нему. На что, в конце концов, сдался Фаркашу этот Бела! Если всё сложится как надо – он останется в Угрии и займёт место в свите короля. А евнух пусть проваливает в свой Константинополь!
…Продолжалась на просторах Европы хитроумная игра страстей, кипела на Балканах война, и всё новые и новые люди втягивались в нескончаемую цепь событий, в запутанный клубок противостояний.
Глава 15
Давно не учинялось на княжеском дворе в стольном Галиче таких шумных и многолюдных пиров. Как в давние уже времена покойного Владимирки, вздымались чары с пенящимся олом и мёдом, произносились здравицы, плясали меж столами весёлые скоморохи. Яств обильных на столах было немерено. Чего только не сыскать здесь! Тут и рыба разноличная, и фрукты заморские, и зажаренные целиком молочные поросята, и лебеди в сметане, и медвежатина, и кабанина. Текли в ендовы[130] вина красные греческие и белые угорские, ол тёмный ячменный соседствовал со светлым пшеничным, густая сливовица стояла рядом с бочонками, наполненными крепким мёдом. Не скупился князь Ярослав, на широкую ногу устроил он празднества в честь своего двухродного брата, царевича Андроника Комнина.
Вчерашний беглец восседал по правую руку от князя, облачённый в дорогие одежды: в фиолетовом аксамите[131], в шапке с собольей опушкой, в красных тимовых сапогах. Подымал он чашу – ритон[132], говорил на правильном русском языке, не коверкая слов, хвалебные речи, благодарил князя за оказанный ему добрый приём.
На пиру Осмомысл торжественно провозгласил, обращаясь к своим ближним боярам:
– Земля моя! Бояре земские и люди градские! Сподобил нас Господь чести лицезреть великого гостя – брата нашего, кир Андроника, единокровного нам по матери его, архонтиссе Ирине Володаревне, единоверного нам по равноапостольному Константину[133]. День этот навсегда, на веки вечные вписан будет буквецами златыми в летописи славного города нашего, поскольку впервые принимает он в своих стенах потомка столь великого множества славных царей и цариц, наследника величайшего из всех земных престолов!
По Божьему соизволению странником нищим, гонимым судьбою пришёл он к нам, и тем дороже должен он быть для нас, тем теплее будет наша забота о его благе. В кормление дорогому гостю даю я свои города – Тисменицу, Толмач и Хотимир со всеми ловищами, лебедиными, гогольными и турьими займищами. Пусть заменит ему роскошь и богатство великого Царьграда охота на диких туров в лесах наших! Пью за здоровье твоё, брат Андроник!
Смыкались со звоном чары с хмельным питьём, шумно приветствовали приближённые князя улыбающегося Андроника, отмечали его храбрость, ловкость и силу. В заснеженных карпатских лесах не одного дикого тура убил он, не одного оленя догнал, не одного медведя заколол рогатиной. Хоть и ромей был Андроник, а не было в нём ничего келейно-завистливого, льстивого, изнеженного, не жаловался он ни на холодную зиму, ни на то, что вынужден жить изгнанником и рассчитывать лишь на милость и доброту Ярослава.
Многим по нраву был рослый, сильный ромейский царевич, особенно же вздыхали по нему боярские жёны и дочери. До женского пола был Андроник так же охоч, как и до поединков с дикими зверями. В теремах шептались, что не одна жёнка зачала от него ребёнка. В некоторых богатых семьях боярских явились уже на свет смуглые малыши с вьющимися кудрями. Обманутые мужья покуда молчали – пользовался Андроник у князя большим почётом.
Пиры продолжались без малого седьмицу. И невесть сколь долго шли бы они и далее, да на шестой день ввечеру прискакал в Галич на запалённом иноходце скорый гонец от угров. Шатаясь от усталости, проследовал он в сопровождении стражи мимо пирующих на верхнее жило княжьих хором, упал перед встревоженным Осмомыслом ниц, промолвил прерывисто, тяжело дыша:
– Княже! Король угорский Иштван… на Дунае на отряд, посланный тобою, нападение учинил… Средь нощи, коварно налетели на нас… Тудор, воевода твой, пал в сече… Отметчик король Угорский!.. Дщерь твою Евфросинию велел к тебе в Галич отослать. Все, кто противу были, в темницу брошены… Мать, королева Фружина, сперва супротив была… но топерича всё одно, за сына стоит… Слушает же во всём король токмо бискупа[134] латинского Луку да барона Фаркаша… Меня воевода Або… послал… Велел передать… Рвал бы ты с королём Иштваном дружбу.
Недобрые вести поразили Ярослава в самое сердце. Вот оно как вышло! Выходит, весь тот союз, который он долгие годы сколачивал, рухнул в одночасье по глупости и вероломству мальчишки Иштвана! Жаль, безумно жаль было верного Тудора и ратников. Посланные им в помощь уграм, стали они жертвами подлого предательства!
– Что же, король угров думает заключить мир с базилевсом Мануилом? – спросил князь после долгого скорбного молчания.
Гонец отрицательно замотал головой.
– Нет, княже. Рать на Дунае продолжается. Безумное затеял королёк сей. Похвалялся, что в одиночку со греками совладает.
Пальцы с силой вцепились в львиные головы на подлокотниках стольца. В голове после выпитого вина стоял хаос, мысли мешались, путались, на душе было горько, обидно! Понимал Осмомысл одно: союзу с уграми у него более не бывать. А Фрося? Что будет с ней? Тревога охватила Ярослава. Поспешил, ох, поспешил он! Надо было здесь обождать. Настя бы уразумела.
Словно отвечая на немой вопрос, гонец воеводы Або добавил:
– Дщерь твоя вборзе[135] в Галиче будет. Нынче в Перемышле уже обоз её.
«Ну, хоть так. Хоть Фросю не тронул, мерзавец! Ничего, поквитаюсь с тобой! За позор мой и её землями в Подунавье заплатишь, глупец!» – думал с ожесточением Осмомысл. Желваки гневно ходили по его скулам.
Он не знал, не ведал, что в этот самый час из ворот Константинополя выехало в Галич пышное посольство, возглавляемое двумя епископами. Император Мануил предлагал возобновить прежние мир и дружбу и выражал готовность простить своего непутёвого двоюродного брата. Победа в долгом упорном ромейско-угорском противостоянии на Балканах клонилась в сторону базилевса.
Глава 16
Ольга пушила Ярослава на чём свет стоит, заходилась в крике, от которого дрожала слюда в окнах. Князь молча, с отрешённым видом выслушивал её гневные слова, сидя на лавке у муравленой печи.
– Как мог ты?! Дочь нашу на позор отдал?! Латинянину поганому?! Что, доволен?! Вот они, соузнички твои! Вспомяни, как под Перемышлем бойню учинил круль Геза! Как батюшка твой ратоборствовал с ими! А ты?! Мириться, соузиться вздумал?! Стыд какой, Господи! Дочь нашу назад отослал угорец! Да топерича вся Русь над тобою смеяться будет! Позор, Господи, какой! Срам на главу мою! – бесновалась, вся багровая от возмущения, княгиня.
Что было силы она ударила кулаком по столу и грузно повалилась на лавку в стороне от Ярослава.
Досадливо морщась, Осмомысл глянул в её сторону. До чего отвратительна эта женщина! Как мог он жить с нею столько лет, как не было противно ему ласкать её по ночам?! На душе стало гадко, мерзко. Хотелось уйти, убежать куда-нибудь… Да куда угодно, лишь бы подалее от неё и от этой палаты!.. Но куда уйдёшь?!
Одно слово бросил он через плечо, едва разжав стиснутые зубы:
– Охолонь!
И снова Ольга взвилась, как укушенная, снова из уст её посыпалась ругань:
– Дурак ты! Дочь свою сгубить измыслил?! Сидишь тут! Рохля! Другой бы меч в руки взял да пошёл бы за позор дочерин мстить, а ты?! Задницу свою с лавки не подымешь! Всё по-лукавому хочешь! Да токмо никому твои лукавства не страшны! Никто тя не боится! Тебе в лицо плюют, а ты и доволен!
В конце концов Ярослав не выдержал.
– Хватит глупости тут молоть! Ишь, расшумелась! – прикрикнул он, обрывая её на полуслове. – Разберусь как-нибудь без твоих воплей истошных, что мне делать и как дочь свою устроить. Сама-то давно ли довольная ходила, говорила, что правильно, пора Фросе замуж идти! А теперь меня во всех грехах упрекаешь, безлепицу[136] молвишь! Помолчала бы! Без тебя тошно!
Зашуршала громко драгоценная парча. Поднялась княгиня, опёрлась руками о стол, ответила неожиданно спокойно и веско:
– За русского Фроську надобно отдать, за княжича какого. Одна вера, одна молвь, единые свычаи и обычаи. Легче тако-то вот. Сама я сим займусь.
Сказала эти слова Ольга, тотчас повернулась круто и вышла из палаты.
«Ну-ну. Давай дерзай! Ищи жениха! Токмо гляди не просмотри! Будто у нас на Руси все ладом живут!» – хотелось Осмомыслу крикнуть ей вслед.
Сдержался, остывая от жаркого спора, от обиды и неприязни, долго стоял у окна, молчал, смотрел на видные вдали главы собора Успения, думал невесёлую думу. В конце концов не выдержал, покинул горницу, хлопнув дверью, сбежал вниз с крыльца, велел седлать коня. Выехал шагом за ворота, окунаясь в вечернюю прохладу городских улиц, ударил скакуна боднями, ринул вниз с горы, к посаду. Оставив коня на попечение верного челядина, стойно вор, пробирался к дому Чагра, пролез, отодвинув доски забора, во двор, тенью юркнул к высокой теремной башне. Осторожно ступал по деревянным ступеням лестницы, протиснулся в дверь светлицы. Нежные белые руки обхватили его за шею.
– Настенька, любовь моя! – Слова потонули в страстном долгом поцелуе.
– Княже мой! Любый мой! Сожидала тя ночами бессонными! Мой ты, мой! Ничей более! – шептала женщина.
Он срывал с неё одежды, окунался лицом в каскад шелковистых волос, забывая обо всём на свете, отбросив прочь все свои дневные заботы, проваливаясь словно бы в иной мир, наполненный ароматами любви, красотой и счастьем.
Утром, неожиданно строгая, прямая, Анастасия скажет ему:
– Тяжела я, княже! Ребёнок будет… у нас с тобой!
Новость была и желанная, и радостная, и тревожная вместе с тем. Как поступить ему теперь, как быть?
Ярослав решил, что хватит ему таиться, красться по ночам к дому возлюбленной. Отец и братья Анастасии давно знают об их отношениях. Ни от кого это давно не тайна во всём Галиче. Он введёт её в дом свой и будет жить с ней, как с женой. А Ольга… Пусть крикливая дочь Долгорукого поступает, как хочет. Отошлёт он её от себя, как только представится удобный случай. Жить с ней под одной крышей становится для него невыносимым. И Владимир… Растёт чужой ему отрок, который дичится и знать его не желает, где-то рядом, но будто в стороне совсем. Избалованный, взбалмошный, уже, говорят, и не одну девку испортил в свои невеликие лета.
Нет, надо с этой труднотою кончать! Хватит, хватит терпеть! У него будет ребёнок! Если Анастасия родит сына, его он и сделает наследником, ему завещает галицкий стол!
Хотелось думать, что всё сложится легко и просто. Сам себя убеждал Ярослав, что так оно и будет, но в глубине души своей он осознавал, сколь придётся ему тяжело ломать этот устоявшийся, годами создаваемый мир взаимоотношений. И ещё: он понимал, чувствовал подспудно, что вступает на путь многотрудный и что ждёт на нём его немало тяжких, невозвратимых потерь.
Глава 17
Мысли на ум Семьюнке в последнее время приходили невесёлые. Давно ли, кажется, был он князю самым близким человеком, делился с ним князь самым сокровенным, а ныне… другие оттеснили, отодвинули его в сторону от златокованого галицкого стола. Это раньше могли они с Ярославом вдвоём долгие часы проводить вместе, говорить о делах, как высоких державных, так и мелких. Ныне стало инако… Окружили князя новые люди, невесть как, но первым ближником его стал отныне боярин Чагр. Влез к Ярославу в доверие, видать, чрез дочкину постель. А за Чагром тянутся его родичи – сыновья, племянники, братья двухродные и трёхродные. Обложили князя, как охотники волка, а он словно и не замечает, не видит ничего, очарованный красотою Анастасии. Спору нет, прекрасна собою сия белая куманка, куда там до неё княгине Ольге! Да только не всё же прелестью глаз меряется, следует и голову на плечах иметь. А князю – тем паче.
Возок медленно катил вниз по склону горы, клубилась пыль, скрипели колёса. В забранное слюдой оконце падал солнечный луч. Вечерело. По небу неторопливой чередой ползли белые облачка, тихо было, лёгкий ветерок шевелил листву на могучих дубах и буках.
Заканчивалось очередное лето, из подвластных Семьюнке сёл и деревень тиуны везли обильный урожай. Радоваться бы, но радости не было. Что-то он, Семьюнко, не учёл, чего-то не уразумел. Вот и приходится сидеть долгие часы сиднем дома, кусать недовольно уста и думать… В чём тут дело? Неужели только в этой девке, дочери Чагра? Говорят, она колдунья, знает многие травы. Вот и очаровала, верно, князя, обволокла его зельями своими, замутила рассудок. И теперь бог весть, что будет! Сокрушённо тряс сын Изденя головой. Вот ведь сколько путей прошли они с Ярославом вместе, плечом к плечу, сколь много добра сделали друг другу, а ныне… горько, обидно становилось бывшему отроку, а ныне владельцу обширных волостей.
Он спрыгнул с возка возле ворот своего дома, шёлковым платом вытер со лба проступивший пот, вознёсся на всход.
Челядины стелились перед ним в поклонах, верный слуга осторожно стянул с боярских ног тимовые сапоги, надел цветастые восточные чувяки с загнутыми кверху носками, затем подал лёгкое домашнее платно из белого сукна. Переоблачившись, Семьюнко поспешил в женин покой.
Боярыня Оксана вплетала в две золотистые косы жёлтые шёлковые ленты. Прекрасна была она в шёлковом халатике, под которым проступали пышные округлости грудей. Недавно она стала матерью, родила Семьюнке девочку. Ребёнка нарекли при крещении Еленой в честь Равноапостольной царицы, крохотная дочь мирно посапывала в колыбельке, и боярин, глянув на неё, умилённо улыбнулся. Одна отрада в жизни у него – семья. Слава Христу, хоть тут покуда мир и покой.
– Был во дворце? – спросила Оксана, закончив свою работу и отбросив косы за спину.
– Был. Да до князя не добрался. Говорят, занят он. Чагровы люди в хоромах на лестницах сторожу правят. Словно позабыл Ярослав, кто ему столько лет служил верно.
Семьюнко вздохнул.
– Ты не печалься, – стала успокаивать его жена. – Придёт час, вспомнят о тебе. Вон, бают, с уграми у нас размирье. Дочь Ярославову воротил круль, отослал от себя, не восхотел ожениться. А на кого князю опереться в час лихой, как не на таких, как ты. Пришлют за тобою вборзе.
Глядя в синие озёра жениных очей, на её остренький носик, слегка подрагивающий при разговоре, любуясь невольно её красотой, мало-помалу отходил Семьюнко от досады, он почти поверил сказанным мягким грудным голосом Оксаниным словам. Подумалось уже: а права ведь она! Куда князю Ярославу без преданных, добрых советников?! Чагр, что ли, станет дела править али дщерь его? Непременно понадобится Ярославу он, Семьюнко.
…Уже в сумерках явился внезапно к Семьюнке нежданный гость – боярин Коснятин Серославич. Приехал верхом, не в возке, и сопровождали его всего трое гридней. Одет был по-простому, в мятелию серого цвета поверх домотканой свиты, да в шапке войлочной, столь же серой и невзрачной. Сразу и не догадаешься, что боярин великий. Поприветствовал Изденьевича, вопросил о дочке, а затем, когда уединились они в горнице, завёл хитрый разговор:
– Ведомы всем, боярин, заслуги твои перед Червонной Русью. Помнят, как под Перемышлем ты в стан угорский ездил и как со Мстиславом Волынским мир творил, и как под началом Долгорукого ратоборствовал. И супротив Давидовича как ты ходил не единожды, кровь свою за Галич проливал. Не щадил ты себя, боярин, службу правил князю Ярославу верно и честно. И что получил ты за верность и честность? Что, много земли, холопов князь тебе дал? Куда там! Боярство от его едва получить ты смог. А топерича и вовсе что выходит? Князь-то о тебе позабыл. Одни Чагровичи у его в чести. Тако вот стало. Отныне ни тебя, ни меня, ни иных многих не слушает князь, совет не держит. Вскружила ему голову дщерь Чагрова, девка непотребная. О княгине своей и детях вовсе позабыл князь, живёт с Настаской сей, яко с женою венчанной.
Хоть и немало напраслины возводил Коснятин на Ярослава, но суть того, что творилось сейчас в Галиче, передал верно. Сошлась речь его с давешними мыслями Семьюнкиными. Согласился сын Изденя с Серославичем. Много правды было в его словах. Одобрительно кивал Семьюнко головой, а Коснятин, видя это, продолжал:
– Особо возмущает то, что княгиню Ольгу, дочь Долгорукого, позорит Ярослав. Не забывай, боярин, что у Ольги на Руси немало сторонников, братья её, Андрей и Глеб, владеют Суздалем да Переяславлем[137]. Ещё же один брат, Василько, от базилевса Мануила городки на Дунае получил. Не хотелось бы, чтоб из-за блудодейки Настаски ратное нахожденье на Червонной Руси началось. Ох, не хотелось бы!
– Что предлагаешь, Коснятин? – прямо спросил, перебивая многоглаголивого собеседника, Семьюнко.
– Да что я покуда предложить могу? – Серославич развёл руками. – Одного добиваюсь: чтоб мы, бояре, заедино стояли. Много меж нас недовольных Ярославом. Вот приехал, поделиться думами своими измыслил. И скажу тако: ежели вместе мы все станем, сумеем Чагра и его свору из княжьих хором вышвырнуть. А тамо… Князья меняются, а мы, бояре, остаёмся. Мы – соль Руси Червонной, мы – сила её. Без нас не стоять столу галицкому!
Закончил Коснятин молвь свою торжественно, смотрел он на Семьюнку, гордо приподняв обрамлённое круглой короткой бородой лицо.
Не возразил ему Семьюнко, ни слова супротив не молвил. Вспомнил вдруг, как взял под себя Ярослав тех двух девчонок, спасённых во время потопа. Не дал ему, Семьюнке, угодья их родителей – житьих. Не хотелось ему вспоминать о прежней княжеской милости, о детских годах, о дружбе былой с Ярославом, одно думалось: прав Коснятин! В них, в боярах великих, – сила земли!
Так и ответил, а уже провожая гостя, бросил, как бы невзначай:
– Ты, еже что, приходи. Али к себе зови. Есть, чай, над чем подумать.
…Довольный, покинул Коснятин Серославич Семьюнкины хоромы. Мнилось ему, что обрёл он в Красной Лисице единомышленника и союзника. А о том, что «дальше», Коснятин не говорил никому. Не время было, крепко покуда сидел на галицком столе ненавистный ему «Ярославка». Однако дела Серославича продвигались, медленно, но верно. И даже Настаску он в мыслях благодарил, что невольно помогала ему разжигать среди бояр недовольство князем и его нынешним окружением. Но, понимал Коснятин, час решительных действий ещё не пробил. Он научился ждать, быть терпеливым – и ждал, терпел, надеялся. Он чуял, как волк на охоте за добычей: скоро пробьёт его час.
…О разговоре с Коснятином Семьюнко никому не поведал, даже жене. Но в княжеских хоромах с того вечернего разговора старался бывать он как можно реже. Запали слова Серославича ему в душу.
Глава 18
На высоких сенях в деревянном тереме в Тисменице, даренной ему щедрым Осмомыслом, Андроник Комнин не только охотился и предавался греху с молодыми жёнками. Были у него и дела поважнее. Началось всё с того, что единожды явился к нему некий маленький колченогий человечек в чёрном одеянии. Долго кланялся, говорил визжащим тонким голосом, наконец завёл речь о главном:
– Моё имя Птеригионит. Недавно мне посчастливилось побывать в Константинополе. Я исполнял одно поручение архонта Ярослава. Так вот, я имел встречу и беседу с людьми, близкими к твоему двоюродному брату, сиятельнейшему автократору Мануилу. Мне велено передать тебе, царевич Андроник: базилевс не держит более на тебя зла за прошлое. Он ожидает, что ты верно послужишь империи ромеев. В скором времени в Галич прибудут послы автократора. Ты можешь возвратиться в империю.
– С чего вдруг базилевс сменил гнев на милость? – недоверчиво качая кудрявой головой, спросил принц. – И почему я должен верить тебе? Кто ты? Ради чего явился ко мне?
– Ты забыл меня. А ведь я не раз оказывал тебе важные услуги, светлейший. – Птеригионит рассмеялся, обнажив уродливые лошадиные зубы.
Смех евнуха, скрипучий, противный, с провизгом, помог Андронику вспомнить кое-что из прошлого. Он долго молчал, сурово глядя на смуглое лицо улыбающегося скопца, затем поднялся во весь свой огромный рост и прикрикнул громко:
– Помню, как ты вынюхивал в Палатии в гинекее! И как базилисса Ирина гневалась на тебя! Наверное, было за что! Где же ты был потом?! Укрывался в Галиче?! Отвечай!
Улыбка исчезла с лица Птеригионита. Евнух стал не спеша, опуская некоторые подробности, рассказывать, как попал он впервые в Галич и какие важные дела пришлось ему выполнять по приказу князя и княгини.
– Значит, отравил архонта Ивана тоже ты! Ну и злодей же ты, однако! – усмехнулся Андроник. – Одного не пойму: почему не убил ты его раньше? Зачем было пускать стрелу в эту самую архонтиссу Марфу, жену Изяслава Давидовича и возлюбленную архонта Ивана?
– Тогда архонтисса Ольга не заплатила бы мне ни обола. Сказала бы: архонт Иван погиб в бою. Не поверила бы, что сулицу пустил я. А архонтисса Марфа могла о многом догадаться. Пока она находилась рядом с архонтом Иваном, мне было трудно на него влиять.
– То, что ты говоришь, справедливо. А вообще-то, ты весьма мерзкая тварь, евнух! – заключил громким, заставившим скопца вздрогнуть голосом Андроник. – В другой час я приказал бы повесить тебя на ближайшем суку! Но раз ты принёс доброе известие о том, что базилевс Мануил меня простил… Твои слова, конечно, следует проверить. Но если это правда, не вернёшься ли и ты в Константинополь? Здесь тебя по головке не погладят, узнав, что ты натворил у угров. Да, ты ловок, бестия! А мне такие, как ты, нужны!
– Я с радостью соглашусь сопровождать тебя, о доблестный, в твоём пути на родину. Смею надеяться, у тебя впереди большое будущее, сиятельный! – тотчас согласился евнух. – Мне нужен такой покровитель, как ты. Служить тебе я почёл бы для себя великим благом и великой честью!
– Довольно слов! – недовольно поморщился Комнин. – Дождёмся послов базилевса. Меня он, конечно, может обмануть. Заманит в Константинополь и бросит в темницу, я его знаю! Но, думаю, он так не поступит. Он слишком будет дорожить дружбой с архонтом Ярославом. Ему надо сейчас победить угров, и кто, как не оскорблённый королём Иштваном архонт Галича, станет базилевсу Мануилу главным союзником. Вот почему, Птеригионит, я готов поверить твоей болтовне. Но… подождём послов. Не будем спешить. Сейчас ты уползёшь в Галич и будешь сидеть там, тихо, как мышь. А потом… Я тебя позову, когда настанет нужный час.
Принц брезгливым жестом руки указал Птеригиониту на дверь. Маленький человек, всё поняв, тотчас скрылся, словно провалившись в прохладу тёмных осенних сумерек.
Взобравшись на своего неизменного ослика, поспешил евнух в Галич. Дорогой он думал о том, что все властители, с кем бы ни приходилось ему встречаться, его презирали. И этот Андроник, и базилисса Ирина, и Бела, и Иван, и княгиня Ольга, и Давидович. Все, кроме одного, который, кажется, его понимал и даже по-своему жалел. Этим одним-единственным был Ярослав Осмомысл, князь Галича.
Глава 19
Сразу две горькие вести, словно вороны чёрные, прилетели в Галич этой осенью. В Зимино, под Владимиром, в своём любимом сельце тихо скончалась вдовая княгиня Рикса, мать волынского князя Мстислава. Ярослав с горечью вспоминал, как когда-то давно долго убеждал он её стать ему союзницей, как назвал сестрой и как после Рикса почасту бывала у него в Галиче, как встречала его после победы над половцами. Вот истинная была княгиня – гордая, мудрая, всегда готовая совет дельный дать. Это благодаря ей в первую голову заключил он, Ярослав, крепкий союз со Мстиславом Волынским и благодаря ей в конце концов разбили они самохвального наглеца Давидовича. Его успехи стали и её удачей. И вот… необратим, скор бег времени. Рикса ушла из этой жизни, из этого мира… И некому больше приехать в Галич, не с кем потолковать по душам о своей жизни, о семье и о детях. Слёзы застили Ярославу глаза.
Другая новость была и того горше. В Познани отдала душу Господу последняя, самая младшая из его сестёр, Евдоксия, бывшая замужем за князем Мешко. Умерла она при рождении сына, названного Владиславом. Хрупкая, болезненная, слабенькая Евдоксия – Ярослав любил её паче других своих сестёр, они росли вместе, маленькие ходили, держась за руки. Хоть и нравная была отцова любимица – то колола его иголками, то щипалась, то отнимала у него тряпичные игрушки. Он ребёнком почему-то всегда ей уступал – и в спорах детских, и в играх. Может, потому что единожды отец сказал ему: «Се молодшая сестрёнка твоя. Оберегай её. И уразумей – девочка она. Слабая, а ты – муж, ты – сильный. И должен слабых беречь и уступать им».
В браке с Мешком она, кажется, была счастлива. По крайней мере, несмотря на суровый нрав, познанский князь супругу свою любил. Вот только ребёнка никак не могла Евдоксия родить. Когда же наконец забеременела, радовалась, стойно девочка, с нетерпением ожидая появления малыша.
«Будет вборзе у тя племянник али племянница!» – писала она брату в Галич, обещая приехать и показать младенца. Увы, не суждено было ей вкусить земного счастья материнства. А сын её выжил, выкормили его ближние панны, говорят, здоровый родился мальчик, достойный вырастет, Бог даст, у Мешка наследник.
Познанский князь, похоже, долго не горевал. В то же лето оженился он вдругорядь, взял в жёны немецкую принцессу, племянницу императора Фридриха. И снова, по слухам, готовится стать отцом.
Ярослав Мешка не осуждал. В конце концов, жизнь на земле продолжается, несмотря на тяжкие невосполнимые потери. Лях просто не стал терять времени и заручился выгодным союзом с Германией. Произойди такое и с ним, Ярославом, тоже постарался бы использовать имеющиеся возможности.
Возможности… Что говорить, когда у него есть она, Настя! Она для него теперь – всё, с нею он любые невзгоды одолеет, любую беду переживёт!
Когда приходила она к нему в покой каждую ночь, забывал он обо всём на свете, мир сужался для него, дела державные уходили куда-то в сторону, казались неважными, второстепенными, мелкими, он не вспоминал о них, погружаясь в серую бездну прекрасных очей, зарываясь лицом в шелковистые волосы, вдыхая аромат её благовоний, чувствуя рядом её тёплое, исполненное любви тело. Кроме этого, не было для него ничего. И в этом нескончаемом наслаждении, в любви, в уходе от дел и крылась его главная жестокая ошибка. Он поймёт после, что, перестав заботиться о земле своей, о Червонной Руси, забыв о том, что наступило для неё сейчас «время сберегать», погубил он и свою любовь, и жизнь свою, и многих других людей исковеркал. Но то будет позже. Сейчас же он предавался ласкам ненасытной до плотских утех молодицы и ждал от неё ребёнка. Остальное отошло в сторону, не замечал Ярослав хмурых взглядов друга детских лет Семьюнки, не видел лукавых перемигиваний Коснятина с Зеремеем Глебовичем, не смотрел в полные немого бешенства глаза Ольги.
А надо было ему всё это видеть, всё примечать. Беда наваливалась, надвигалась, как туча чёрная на небосклон, и недалёк был день, когда окажется он один посреди бушующей стихии страстей, посреди бури, унять которую сможет лишь ценой тяжких утрат.
Глава 20
Узенькая голубая ленточка Быстшицы блестела меж холмами. Громко журчала вода в ручье, пенистым потоком, разбиваясь о камни, бежала к реке, проваливалась в глубокий овраг, растекалась вширь у самого впадения. Здесь вода была прозрачная, чистая, каждую песчинку на дне было видать. Осторожно, ковшиками зачерпывали жители Люблина водицу сию из ручья, несли в вёдрах на коромыслах до дому. Вода ключевая, по старинным поверьям, была целебной, дарила здоровье и долголетие.
Старый боярин Лях вздыхал, качал седой головой. Ветер ворошил густые взъерошенные волосы. Жить бы да жить, радоваться тёплому осеннему солнышку, греть на крыльце старые кости, пить водицу молодильную, так нет ведь – мысли недобрые будоражили ум боярина. Вроде неплохо устроился он в Люблине, сёла имел в округе, пашни обширные, а тянуло домой, в Галич. Там, возле стола златокованого, видел он себя, там, считал, было его место.
После гибели супруги Млавы Лях так и не женился, жил бобылём. Когда помоложе был, так водил к себе гулевых девок, предавался с ними сладкому греху. Теперь куда уж – сыны выросли. Старшему, Володиславу, шестнадцать годков стукнуло, двое молодших – Яволод и Ярополк, тоже не чада малые, вытянулись вверх, что дерева стройные, уже и отца выше будут.
О детях своих и думал Лях тяжкую думу. Часами сиживал на берегу ручья, глядел в воду, видел своё отражение – морщинистого старика с нечёсаной долгой бородой и тусклым, угасающим взором.
Посылал в Галич тайно Лях своих верных людей, велел проведать, как живёт, чем дышит Русь Червонная. Всё сомневался он, всё не решался створить то, что давно напрашивалось. Разговор серьёзный с сынами назревал, но неведомо, завёл ли бы его старый боярин, кабы давеча невзначай не услыхал он, как Володислав с Яволодом баили меж собой в горнице.
Тонким, звонким голосом первенец Млавин разъяснял молодшему:
– Давно слухи такие ходят. Матушка-то наша, боярыня Млава, полюбовницей была князя Владимирки. И сказывают, будто уже когда она мною тяжела была, отдал её князь замуж за отца твоего. Выходит, я княжич. За то, верно, и преследует семью нашу галицкий Ярослав. Ведает, кто я есмь на самом-то деле.
– Ты, брат, небылицы всякие не слушай. Мало ли, о чём люди бают. Язык, он – без костей, – возражал старшему братцу не по летам рассудительный Яволод.
Голос у него был слегка с хрипотцой, говорил он медленно, неторопливо, словно взвешивал каждое слово.
– А ежели даже и тако, дак кто что видел, кто что топерича докажет. Мало ли с кем мать путалась? У неё, верно, и после полюбовники водились. Может, и мы с Ярополком от какого князька на свет белый появились.
– Вы позже уже родились! – промолвил Володислав резко, с явным возмущением. – Не может такого быти! Да и на отца вы похожи оба! Высокие, власы тёмные. А вот я… я не в вашу породу. Влас более светел, и росту не столь великого. Князь Владимирко, сказывают, таким же был.
– Ох, братец, братец! Опасное ты измышляешь. Не дай бог, проведает кто о толковне нашей да князю Ярославу о том донесёт. Как бы не подослал князь к нам убивцев! – остерёг Володислава Яволод.
Неведомо, чем бы окончился сей разговор в горнице, да явилась челядинка убирать посуду. При ней прикусили братья языки, сидели тихо, молча, а потом разошлись каждый по своим делам. Старшой умчал на охоту, Яволод же, прихватив с собой Ярополка, поспешил на речку, неся с собой удилища.
С той поры Лях потерял покой. Надо же, оберегал как мог сынов от слухов и сплетен, а пробрались-таки они к нему в дом. Язык бы поганый вырвать тому, кто сию гадость Володиславу в уши нашептал. А меж тем… слух тот, может, и верный был. Дыма без огня не бывает. Ведь и в самом деле похож Володислав на покойного Владимирка. А что Млаву он, Лях, взял тяжёлой, то – брехня! Опять же не одного Владимирку ублажала покойная его жёнка, многие боярчата у неё в постели побывали. Вот, к примеру, тот же Коснятин. Пригрела на груди у себя змею Млава, а змея-то и укусила, вонзила в неё жало смертоносное! Отомстить бы сему Костьке, ироду, да сил недостаёт! Уже ходит по дому он, Лях, и то с трудом, ноги шаркают по полу, а без трости и вовсе на крыльцо не взойти ныне.
Сидел старый боярин у ручья, думал думу тяжкую. И порешил в конце концов: довольно! Не след сынам его изгоями оставаться на чужой земле! Рискнуть надо!
Ускакал в Галич из Люблина скорый гонец. Не на княж двор спешил отрок боярский, возле Горы городской повернул он коня влево, остановился возле двора Чагра, постучался осторожно в ворота, привязал скакуна у коновязи. Воровато озираясь, скрылся в темноте долгих переходов просторного терема.
С кем беседу вёл, о том доподлинно неведомо, но выехал пару дней спустя довольный, вёз в перемётной суме берестяную грамоту, мчал быстро, благо путь был недалёк.
…Повертел Лях грамотицу в сухих старческих руках со вздутыми жилами, велел тем же вечером скликать в горницу сынов. Тяжело сел в высокое кресло, обитое рытым бархатом[138], глядел на встревоженные лица отпрысков своих, думал, с чего начать толковню.
Молвил наконец:
– Стар, дряхл стал я, сыны мои возлюбленные. Что мог, содеял для вас. Сам изгоем живу которое лето. Невзлюбил меня князь Ярослав. Пришлось мне с вами малыми бежать из Галича в ляшские пределы. Но отныне… имею грамоту. Прощён я князем. И вы такожде можете в Галич езжать. Никто вас тамо не тронет. Сыскались за нас заступники добрые – боярин Чагр и дочка его, Анастасия. Поклонились за нас князю в ноги, упросили, вымолили мне прощенье, а вам – места достойные в свите княжой. Ты, Яволод, стольником отныне будешь, а ты, Ярополк, в дружину молодшую зачислен.
– А я?! – спросил, изумлённо воздев брови вверх, Володислав.
– А тебе волость выделена обширная, под Перемышлем. То вотчина матери твоей.
– Вот как? Мне, стало быть, князю не служить? – Володислав задумчиво прикусил губу.
– Тако. Гляжу, верно меня уразумел. Около княжого стола нечего всем вам троим вертеться. Смутные времена ожидают Галичину. Ведаете, что пренебрёг князь княгинею своею, завёл себе полюбовницу.
– И что с того? – пожал плечами Володислав. – Мало ли князей так живут? Иные и не одну полюбовницу имеют.
– Оно верно. Да токмо бояре в Галиче многие сторону княгини держат. Вот с ними-то, сын, и надобно тебе снестись. Сторожко, тихонько, но войди в круг недовольных. А далее сам смекай. Вы же, – обратился Лях к притихшим молодшим, – покуда крепче за князя держитесь. Трудно сказать ныне, чья перемога[139] будет. Потому и порешил я, что лучше вам разделиться. Но… поклясться вы должны, что брат брата в беде не бросите николи, что помогать ему станете! Друг за дружку крепко стойте! Тогда никто вам не страшен будет: ни князья, ни бояре галицкие. Уразумели?
– Уразумели, отче, – отвечали братья хором.
Лях слабо улыбнулся. Кажется, дошёл до сынов его дальний замысел. Жаль, самому ему не створить уже того, что удастся им. Пролетела, промчалась кобылицей лихая молодость, впереди – одни болезни тяжкие, одни охи да вздохи!
Ещё сказал в тот вечер сынам своим Лях:
– Ворога своего главного такожде должны вы ведать. Костька Серославич – он матушку вашу сгубил. Готовила матушка ваша заговор супротив Ярослава, переписываться стала с князем Изяславом Давидовичем, привлекла к делам сим многих опальных бояр галицких. Оказался средь них и Костька. Да токмо предал он нас, открылся княгине Ольге, переметнулся на сторону Осмомысла! А после, как сведала княгиня Ольга о помыслах наших тайных, людишки Костькины матушку вашу и сгубили. Тако говорят. Будь он проклят, гад этакий! Отомстите ему, сыны, как час пробьёт. Остерегу от одного: не торопитесь. В силе покуда Костька. А вот когда слабость его учуете – бейте, не бойтесь! Верую: отольются ему слёзы ваши сиротские!
Окончил на том Лях толковню. Каждый из сыновей подошёл к нему, принял благословение, облобызал старческую отцову десницу.
Опустела горница, тускло чадил на стене факел. Сидел в одиночестве, сгорбившись, положив руки на стол, старый боярин, вспоминал былое, вздыхал. По щеке его покатилась вниз, скрывшись в жёсткой бороде, горькая одинокая слезинка.
Глава 21
Императорский хрисовул на багряном пергаменте с золотой вислой печатью лежал перед Ярославом на столе. Не вспоминал базилевс Мануил о вассалитете покойного Владимирка, не проскальзывало меж строк замысловатого греческого письма столь ненавистное Ярославу слово «hуpospondos». Напротив, император обращался к нему, как равный к равному, называл почтительно «господарем Галицкой земли». В послании, переданном Осмомыслу двумя епископами, прибывшими к его двору во главе пышной свиты, говорилось, что Мануил прощает своего двоюродного брата Андроника, а с ним, князем Руси Червонной, намерен заключить союз против короля угров. И просит направить в Землин, на берега Дуная, отряд галицкой дружины, поставив его под начало Андроника, мужа искусного во владении оружием и в способах ведения боя.
На предложение базилевса Ярослав после недолгих размышлений решил ответить согласием. У всех на памяти было бесчестье княжны Евфросиньи и предательство Иштвана. Князь собрал в горнице бояр, слушал их советы, смотрел на поддакивающих его словам Чагровичей, на сомнения Филиппа Молибогича, на молчавшего в глубоком раздумье Семьюнку. Разные были они, бояре, это было и хорошо, но порой и пугало его. А как схватятся за мечи в жарком споре, или соберут своих подручных да пойдут тузить друг дружку. Галичине нужен был мир и нужна была крепкая рука. Но достаточно ли сильна его, Ярослава, десница? Велика ли власть его над всеми ими?!
Нужна была помощь Церкви – ох, как нужна! Но Козьма – не тот человек, чтобы поддерживал его начинания! Слышал не раз Ярослав, как злобно шептались у него за спиной клирики[140] из окружения епископа, да и сам Козьма иной раз мог подлить масло в огонь. Осуждали его за связь с Анастасией, за то, что живёт с ней невенчанный и при живой жене. Ещё не могли простить того, что отнял у одного из монастырей два богатых села и отдал их Чагру, отцу своей полюбовницы. Может, и не надо было так поступать, да не смог, в который уже раз, он, Ярослав, отказать в просьбе любимой, утопал он в серых с раскосинкой очах её, лишаясь воли и разума.
…В решении о союзе с империей ромеев епископ Козьма князя поддержал.
– Греки – единоверцы суть наши, не латиняне, не поганые. С ними дружбу водить – дело благое, – говорил Козьма на совете совсем по-мирскому, не ссылался на Святое Писание, больше уповал на силу собственного убеждения.
С Андроником простились по-братски, облобызали друг друга на прощание. Не узнать было в облачённом в сверкающий на солнце чешуйчатый доспех воине того жалкого изгнанника, который явился в Галич без малого год назад. В жизни Андроника, наполненной любовными приключениями и честолюбивыми надеждами, его недолгое пребывание на Руси останется забавным мгновением, короткой, но яркой вспышкой. Он уезжал, навсегда покидал гостеприимную Галичину, отправляясь на очередную войну, в очередное захватывающее путешествие. Не думал избалованный женским вниманием царевич о том, как во многих боярских теремах и в хатах простого люда тяжко вздыхают молодые жёнки и девицы – забытые им эпизоды его бурной судьбы. А кое-где уже подают голоса крохотные, не признанные никакой властью отпрыски рода Комнинов – плоды ночных соитий местных красавиц с влюбчивым сладкогласым ромеем.
Но уляжется пыль за копытами коней, отъедут по шляху на юг важные епископы, ускачет на далёкие дунайские берега отряд дружины, и воротится жизнь в прежнюю колею, на круги своя. Снова потекут для галичан привычной чередой малые и большие дела и заботы. Новые заботы предстоят и Ярославу.
…В обозе Андроника среди многих других трясся маленький неприметный человечек. Он опасливо озирался по сторонам и мучился в сомнениях: правильно ли поступил, перейдя на службу к ветреному баловню удачи, двоюродному брату базилевса.
Глава 22
Маленький Олег издал первый свой крик на рассвете в пасмурное ноябрьское утро. За слюдяным окном срывался мокрый снег, дул ветер, тучи ходили над Галичем. Бурлил вспенённый недовольный Днестр, рвался тщетно из тяжких каменных оков, вздымал волну. Шумела под Горой вышедшая из берегов Луква.
Ярослав, радостный, счастливый, подхватил младенца на руки. На него уставились два серых, чуть с раскосинкой глаза, таких же, как и у Насти. Вдруг закутанный в пелёнки ребёнок дёрнулся, зашёлся в плаче, крохотное личико его исказилось, из глаз потекли слёзы.
Князь, беспомощно оглядевшись по сторонам, торопливо сунул новорожденного в руки холопок. Затем, распахнув высокие двустворчатые двери, решительно шагнул в опочивальню.
Анастасия встретила его слабой улыбкой. Утомлённая родами, она лежала на широкой постели, смотрела на него молча, с обожанием и тихой радостью.
– Сын. У нас с тобой – сын, – наконец выговорила она. – Ты сказал, назовёшь его Олегом. Олег – княжеское имя.
– Всё верно. Мой сын – княжич. Как иначе? – Ярослав развёл руками.
– Но ведь я – не княгиня. Я всего лишь полюбовница твоя.
– Не говори таких слов. Ты для меня больше, чем княгиня.
– Тогда прогони Ольгу. Зачем тебе она? Чего ты боишься? Кого? Мой отец, мои братья помогут тебе. У тебя сильная верная дружина. Не пора ли…
– Довольно! – хмурясь, оборвал её Ярослав. – Я должен устроить жизнь своих детей, Владимира и Фроси. Потом, позже…
– Я устала ждать, княже! Или твои слова о любви – лишь отговорки, и ты не собираешься рвать с Ольгой! – Анастасия едва не сорвалась в крик.
Радостного настроения у Ярослава как не бывало. Чувствовал он себя, словно меж двух огней. Как поступить ему, что теперь делать, что сказать?
Он стоял перед любимой женщиной, запутавшийся, растерянный, тупо сжимал уста, понимал, что говорить сейчас и обещать что-то было нелепо.
Буркнул, нахмурив чело:
– После потолкуем. Не время. – И, круто повернувшись, толкнул дверь.
В сенях немного остыл, постоял у окна, подумал, что, собственно, иначе и быть не могло. Начнутся обиды, ссоры, пересуды нелепые. Твёрдо знал Ярослав одно: об устройстве детей своих следовало похлопотать незамедлительно.
…Княгиня Ольга сперва, когда привёл Ярослав в княжеский терем Анастасию, не особенно горевала и злилась. В конце концов, сама тоже изменила мужу, заведя полюбовника. Многие князья и княгини жили так, лишь внешне, на людях показывая видимость семейного лада. Но когда сведала дочь Долгорукого о рождении у Анастасии сына, то сразу забеспокоилась. Как бы Ярослав не предпочёл ребёнка от наложницы её Владимиру. Не мешкая поспешила Ольга в хоромы мужа.
Она ввалилась в горницу, тяжело дыша, грузно повалилась на лавку, брезгливо отодвинула в сторону поданный челядинцем жбан с медовым квасом. Смотрела на бледное, усталое лицо Осмомысла, сидящего напротив на стольце, кривила некрасиво уста, говорила, как всегда, громко, не выдерживала, переходила на крик:
– Что, доволен?! Родила сына Настаска твоя! Ему, верно, стол галицкий передать метишь?!
– Да я вроде покуда помирать не собираюсь. И как я чадо такое малое на стол посажу? Думай сперва, чем орать тут! – огрызнулся Ярослав.
Он исподлобья недовольно глянул на высокую кику[141] Ольги, сплошь затканную розовым новгородским жемчугом.
Топилась муравленая печь. Ольга распахнула бобровый кожух, вытерла пот с чела. Резким движением сдёрнула, швырнула на стол рукавицы, заговорила по-иному:
– Бросить меня хочешь, вижу! Дак не выйдет у тя, волче! Бояре твои не хотят воевать с братьями моими! Да ты и сам боисся! – Она внезапно громко расхохоталась. – И сына своего я в обиду не дам! Слышишь, князь? Он будет на столе златокованом, а не выблядок твой! И я яко мать чад своих от твоей нелюбви оберегу! Не дам их в обиду! Кому угодно горло перегрызу, а не дам! Любого, кто на пути встанет, изведу! И тебе не позволю ни себя, ни их позорить!
– Не в ту сторону глядишь ты, Ольга, – с усмешкой спокойным голосом возразил ей Ярослав. – Ты уймись-ка давай лучше. А коли о сыне твоём речь зашла…
– И твой то сын!
– Ну, пусть и мой, – неожиданно быстро согласился с её словами Осмомысл. – Ты вот ответь мне, где он ныне? В тереме его давно не вижу. Хочешь, покажу кое-что?
– О чём глаголешь? – Ольга сразу насторожилась.
– Погоди, оденусь, сходим с тобой вдвоём в одно место. Здесь, на Горе, недалече. Полюбуешься на чадо своё. – Ярослав решительно поднялся со стольца, кликнул челядина, велел подать кафтан и шапку.
Вдвоём, не взяв с собой гридней, князь со княгиней прошли через ворота Детинца и свернули влево от шляха. Пропетляв между домами, они вскоре очутились у дверей просторной корчмы, откуда доносились громкие пьяные голоса.
– Ну вот. Пришли мы.
– Что се за вертеп?! – брезгливо поморщилась Ольга.
Ярослав резким движением распахнул дверь. В лицо ударил терпкий запах немытых тел вперемежку с ароматом жарящегося мяса.
На лавках повсюду сидели люди самого разного звания и положения. Вот отрок из молодшей дружины макал в кубок с олом вислые усы, рядом какой-то нищеброд в лохмотьях жадно обгладывал брошенную ему кость, за соседним столом веселились, обнимая бесстыжих хохочущих гулевых девок, несколько изрядно подвыпивших боярчат. И среди них… К ужасу своему, Ольга узнала сына. Владимир одной рукой сжимал наполненный мёдом ритон, а другой обнимал за тонкий стан простоволосую девицу в цветастом саяне[142]. Видно было, что княжич пьян.
– Позор экий! – только и пробормотала Ольга.
– Ну, видишь? Убедилась?! Вот оно, воспитанье твоё! Ни в чём отказа не ведал с малых лет – и во что теперь превратился твой Володенька! – зло процедил сквозь зубы Ярослав.
Он подошёл к столу, вырвал из слабой Владимировой длани ритон, швырнул его на пол и властно возгласил:
– Хватит бездельничать! Ступай за нами немедля!
– Отец! – Владимир явно струхнул. Когда же, воровато озираясь по сторонам, он заметил в середине горницы мать, то тотчас отстранил смеющуюся девицу и вскочил на ноги.
Хмель мигом вылетел у княжича из головы. Потупив очи, послушно поплёлся он вслед за родителями домой в терем.
– Вот от кого и от чего следовало бы тебе оберегать своё чадо, – выговаривал после Ольге Ярослав, когда они снова остались с глазу на глаз в горнице хором.
Пьяного Владимира уложили спать, и сон его охраняли гридни. Княгиня распорядилась, чтобы покуда княжича со двора не выпускали. Понимала она, что Ярослав во многом оказался прав. Она упустила сына, излишне избаловала его. Впрочем, князя она снова осыпала упрёками:
– Ты ведал и молчал! Ничего мне не сказал доселе! Видел, что пьёт наш сын, что с людишками худыми дружбу водит, и доволен сим был! Выходит, всё одно тебе! Права я! Настаскино отродье на стол посадить мыслишь! Тако я и думала!
– Хватит попрекать меня Настей! Сама не без греха! – прикрикнул на жену Осмомысл. – Развела тут! Что я, за каждым шагом Владимировым следить должен был?! Ну, раза два я его из этой корчмы вытаскивал с гриднями, и он меня упросил, чтоб тебе не сказывал. Боится, видно, гнева твоего. Следи за ним отныне лучше. Человека верного приставь. Да, кстати, о дружке твоём хотел я, о Глебе Зеремеиче! Кликнуть-ка велю я его сюда.
Князь позвонил в медный колокольчик и приказал двоим выросшим на пороге высоким гридням с копьями в руках немедля сыскать и привести сына Зеремея.
– Он здесь при чём?! Не трогай его! – Ольга побагровела от негодования. – Что ты задумал, змей?!
– Да не бойся ты. Хочу твоему Глебке дело одно доверить. Вот и посмотрю, на что он годен. Только под твои юбки лазить или важные дела проворить способен.
Ольга понемногу успокоилась, стихла. Сидела на лавке, подозрительно косилась на Осмомысла, который, видно, продумывал предстоящий разговор с сыном Зеремея.
Растерянный Глеб появился на пороге, бухнулся князю в ноги. Весь он содрогался от страха. Ярослав насмешливо посмотрел на Ольгу. Княгиня в негодовании хмыкнула и отвернулась.
– Встань с колен и сядь. Чай, боярский сын, не холоп! – приказал Зеремеевичу Ярослав.
Когда молодой боярчонок несмело расположился на лавке неподалёку от княгини, Ярослав продолжил:
– Давно знаешь сына нашего, княжича Владимира. Не одно лето, слыхал я, дружны вы. Вот и хочу, чтобы оказал ты ему, и мне заодно, важную услугу. Хватит игр детских, хватит по девкам вам бегать. Здоровые лбы, чай, не младени уж. Вот и думаю… пора княжичу Владимиру жену добрую сыскать.
Ольга резко повернула голову в сторону Ярослава, соболиные брови её изумлённо изогнулись в две крутые дуги.
– Что ты измыслил?! – воскликнула она.
– А то, что остепениться Владимиру пора. Иначе вовсе сопьётся в кабаках с бабами непотребными да дружками лихими. Только и будет уметь, что жёнок портить. А семья удержит его от греха и, даст Бог, на путь истинный направит.
– Тебя что-то не направила, – кольнула его с ехидной улыбкой Ольга.
– Полно препираться! Дело я говорю! – сурово прикрикнул на неё Осмомысл. – Вот что, Глеб. Дам я тебе грамоту. Поскачешь с ней в Чернигов, ко князю Святославу Всеволодовичу. Этот князь по смерти дяди своего, старого Святослава Ольговича, занял стол черниговский. Старший он ныне среди всех Ольговичей. Чад у него много. И среди них… Дочь у него есть, Болеслава. Вот её и надо за Владимира сосватать. Переписка у меня со Святославом налажена, и намекает черниговский князь о дщери своей в последнем послании. Весьма прозрачны намёки его. Вот и поезжай, Глеб. Высватай за Владимира черниговку. Будешь перед Святославом и боярами его – хвали усердно нашего княжича. И знай: если всё сделаешь, как велю, в накладе не будешь. Я верных своих слуг не забываю. И княгиня Ольга, полагаю, не обидит тебя лаской. – Он выразительно глянул на гневно фыркнувшую жену.
…Зеремеевич поклонился и ушёл, а Ярослав добавил:
– Твоего человека, Ольга, посылаю. Дружбу со Святославом крепить хочу. Важно это для всей земли нашей. А ты говоришь: Настасья. Тут дела поважнее. И, как видишь, Владимира твоего в стороне от них я не оставляю. Роскошную свадьбу ему приготовлю.
– Браком сим ты от меня откупаешься, – тотчас с презрением перебила его княгиня. – И бояр, кои супротив тебя ковы замышляют, умирить на время хочешь. Но меня не проведёшь, Ярослав. Лукав ты, ведомо то мне. Кого угодно обмануть можешь: и сына, и бояр. Не меня токмо. Ибо знаю я тебя, как облупленного. – Ольга зло рассмеялась.
– Думай, что хочешь. А Глебке заодно ещё одно порученье я дам. Княжичей молодых в роде Ольговичей немало. А у нас Фрося на выданье. Говорила мне тогда ты: за русского, мол, её отдать надо. Вот и поищем ей жениха доброго.
Ольга в ответ молча кивнула головой. Она сидела задумчивая, внезапно притихшая. Слова все были сказаны. Всё, что объединяло их сейчас, были дети. И о детях своих оба они пеклись усердно. Но кроме детей, не связывало Ярослава и Ольгу, по сути, уже ничего, всё оставалось у них в прошлом, впереди ждали их лишь ссоры, обиды, взаимные упрёки. И вражда лютая готова была вспыхнуть, прорваться бешеным огнём в любое мгновение.
Они расстались, Ольга ушла к себе, а Ярослав долго ещё сидел посреди горницы, мрачный, сомневающийся, верно ли поступает, и старающийся провидеть, чем обернётся для него в грядущем предстоящая женитьба первенца.
Глава 23
Неслись по заснеженному зимнику расписные возки. Мчались удалые тройки, звенели бубенцы, всюду раздавались песни и весёлые шутки.
Седьмицу шумно гуляла золотая галицкая молодёжь, празднуя свадьбу шестнадцатилетнего княжича Владимира. Вздымались ввысь наполненные хмельными медами чары, говорились здравицы, слепцы-гусляры, ударяя по яровчатым струнам, возглашали славу князю Ярославу. Хорош, молод и красив был юный Владимир. Приоделся, кафтан весь заткан золотом, широкий пояс украшают драгоценные самоцветы, на востроносых сафьяновых сапогах тоже сверкают каменья. Под стать жениху и юная Болеслава Святославна – не поскупился владетель Чернигова, богатое приданое дал за дочерью. Тут и посуда чермная, и шкурки соболей, и шубы горностаевые и песцовые, и платья из парчи, и кони резвые, с богато расшитыми сёдлами. Сама невеста на фоне всего этого великолепия казалась Ярославу маленькой, словно бы случайно попавшей на взрослый пир и свадьбу девочкой. Испуганно косила она по сторонам своими большими глазками цвета перезрелой черешни, то и дело поправляла на голове цветастый убрус. Беспомощная, жалкая, напоминала она Осмомыслу загнанную в капкан мышку. Воистину, мышка. И носик такой остренький, и над верхней губой пушок, как у подростка.
«Полюбит ли её Владимир? – с сомнением думал князь, тихо вздыхая. – Привяжет ли она его к себе, или так и будет беспутный Ольгин сын шастать по кабакам да по гулевым девкам?»
Почему-то жалко становилось ему эту девочку. Наверное, иного жениха была достойна дочь Святослава Черниговского. Впрочем, она далеко не красавица. Да и о чём теперь рассуждать? Вспомнил Ярослав, как сам он женился на Ольге. Неприятно становилось, тяжко на душе от воспоминаний тех.
«Что тут поделать? Всем нам, князьям, такая участь выпадает. Не тех к алтарю ведём, которых любим», – пронеслось в голове.
С трудом отбросив прочь невесёлые думы свои, поднял Осмомысл очередной кубок. Говорил о дружбе, о союзе Галича с Черниговом, о том, что все они, и галичане, и черниговцы – русичи, а стало быть, родичи, у всех единая молвь.
За дружбу пили охотно, вспоминали, как вместе Ярослав и нынешний властитель Черниговской земли ратоборствовали против Давидовича, как брали Киев, как стояли полки их под Вщижем и Вырью. Было о чём потолковать с посланными Святославом боярами. Но то после – пока же гремело в горницах веселье, в стороне оставались высокие помыслы и дела, и хотелось, пусть хоть ненадолго, отвлечься от нудных повседневных забот, от тревог и тягостных сомнений.
…Владимир пришёл к отцу вечером. Хмурый, угрюмый, он капризно кривил уста и с обидой выговаривал:
– И кого же ты мне, отче, высватал?! Уродину какую-то! Да она… Ничё в ей нету! Ни ума, ни красоты! Дура позлащённая! Одно, что черниговская княжна! Что, невесту добрую не судьба сыскать мне было?! Глебку уж я отругал, на глаза попадаться боится! А что Глебка?! Ты ить ему повелел! Святослав зато, верно, рад-радёшенек! Обхитрил, объегорил нас с тобою! Яко купец лукавый, толкнул за великую цену товар худой!
– Что мелешь?! – зло прикрикнул на него, не сдержавшись, Осмомысл. – Да я тебе лучшую во всей Руси княжну нашёл. Самый товар дорогой. И если ты, Владимир, правильно тем богатством, что мы с матерью тебе приобрели, распорядишься, то, поверь, многого в земной нашей жизни достичь сумеешь. Всё у тебя будет – и стол княжой добрый, и союзники сильные. Постарались родители твои, подумали о будущем твоём. Тесть твой отныне опорой тебе в любом деле станет. Ибо какой родитель дщерь свою не любит!
– Да не люба она мне, понимаешь, не люба! – Владимир аж взвыл от досады и негодования.
– Замолчи ты! Ишь, раскапризничался тут! Не малое дитя, чай. Разуметь должен, что к чему! – словно плетью, ожёг его гневом Осмомысл.
Владимир как-то сразу обмяк, повалился на лавку, притих. Посидел какое-то время молча, раздумчиво поглядел на сурового отца, на топящуюся печь. Затем вдруг вскочил резко, бросился за дверь, метнулся в тёмный переход, туда, откуда доносился шум продолжающегося пира.
– Ненавижу, ненавижу всех вас! – шептал он, вздрагивая от негодования. – Что отец, что мать, что Святослав, что Глеб – все вы супротив меня! Вам лишь бы выгода была! А мне как с ею жить, с нелюбимой?
Был порыв отчаяния, ярости, злости. Владимир выбежал на крыльцо. Слёзы застилали глаза. Он влез на послушно подведённого челядином каракового скакуна, хотел уж было ударить боднями, но чья-то сильная рука резко ухватила поводья.
– Охолонь, княжич! – увидел он перед собой строгое спокойное лицо боярина Коснятина.
И сразу подумалось: «Вот он, он один поймёт, поддержит, успокоит!» Послушно, как мальчишка нашкодивший и кающийся, сполз Владимир с седла наземь. Коснятин Серославич ласково положил длань ему на вздрагивающее от рыданий плечо, заговорил мягко, вполголоса:
– Всё к добру, княжич, идёт. Разумею: тяжко оно! Невеста твоя, яко мышь дохлая! И откель этакую и выволок, из какой бретьяницы папаша ейный! Ну да ничё, ничё, княжич! Сдюжим! Ты, главное, не робей! И не сокрушайся такожде! Вборзе час наш пробьёт!
И Владимир, чуя поддержку опытного боярина, доверчиво прижимался к его груди и, рыдая, шептал:
– Верно, верно баишь, Серославич! Слёзы нонешние сторицей окупятся!
Отчаяние в душе юнца схлынуло, уступив место решимости. Подбадриваемый Коснятином, Владимир воротился в хоромы. И потекла жизнь прежней чередой, на первый взгляд, размеренно и спокойно. Но так только казалось.
Глава 24
Медленно трусил по киевскому Подолу гнедой рысак. Чуть покачиваясь в седле, Избигнев глядел по сторонам. Вроде тот же стольный град, что и раньше, те же соборы золотятся в выси, те же богатые хоромы боярские кичливо высовываются из-за оград, тот же шум царит на торгу. Но что-то неуловимое, не понятое, такое, что и словами-то не передать, менялось, что-то исчезало в жизни гордого Киева, матери русских городов. И всякому приезжему путнику становился он чужим, холодом веяло от всей этой красоты, от золота, киновари, узорочья, от расписных возков и ладей под алыми ветрилами[143]. Почему-то раньше такого ощущения не было, стольный был «своим», дальним, но таким же русским городом, как родной Свиноград, как Перемышль или Владимир. Что же случилось, почему тревога, грусть и горечь гложат душу, едва только копыто коня ступило на дощатый настил улицы?
Своего состояния Избигнев сам не мог понять. Пытался рассуждать про себя, но только пожимал плечами и… по-прежнему не понимал ничего. Ну, помер прошлым летом на пути из Смоленска старый, ветхий летами великий князь Ростислав Мстиславич, ну, замутилась было земля Киевская, дак вборзе Мстислав Волынский с галицкой помощью отодвинул посторонь дядей и прочих ненасытных родичей. Всем определил волости, умирил кого словом, а кого и угрозою. В Новгород послал на княженье старшего своего сына – Романа, не обделил и двоюродников своих. Давид Ростиславич получил из рук его Вышгород, брат же его Рюрик сел в Овруче, в древней земле древлян. После ходил Мстислав во главе рати союзных князей далеко в степь, на Орель[144], бил в пух и прах половецкие орды, очищал путь торговым судам в греки. Силён стал бывший волынский владетель, ему завидовали, перед ним склоняли головы, им восхищались.
Вроде бы и союз прежний с Галичем был у Мстислава крепок. Дружины галицкие водил на половцев вместе с иными служивый князь Святополк Юрьевич, показали в боях со степняками галичане дерзость и отвагу настоящих героев. Но всё одно – тяжесть какая-то висела на сердце у Ивачича.
Ещё более усилилась тревога его, когда постучался он в ворота дома старинного приятеля своего – Нестора Бориславича. Встретил его у врат некий незнакомый служка в монашеской рясе, долго подозрительно осматривал, вопрошал, кто и откуда. После, кое-как сопроводив в сени, отмолвил на вопрос, где хозяин:
– Лихо у нас. Боярин Нестор с братом Петром в Вышгород утекли. Нощью, тайно. Размолвка у их вышла со князем Мстиславом. Обвинил князь боярина, будто табун увёл тот у его и клейма свои на коней поставил. Да токмо лжа всё. Оговорили Нестора Бориславича вороги. А ты, баишь, дружен с им был? Дак вот те совет мой: езжай с Киева подобру-поздорову. Смута у нас вызревает. Недовольны князи и бояре самовластьем Мстиславовым. Крут он.
Сильно встревожил Избигнева рассказ служки. Поспешил он к себе на Копырёв конец, в новый свой терем. Подъезжая, невольно залюбовался красотой места и серокаменной башней над кровлями теремов. Да, разжился он. И как не хотелось бросать всю эту красоту, почитай, своими же трудами и созданную!
Ингреда не разделяла опасений и беспокойства Ивачича. Пожав плечами, сказала она ему:
– Что князь с Бориславичем не поделил, то его дело. Нам с тобой ничего не угрожает. С Галичем князь Мстислав будет прежний союз иметь. Неглуп он. И что мне бояться? Мать Мстислава, княгиня Рикса, меня с малых лет растила. Почти родная я им всем.
Мало-помалу Избигнев успокоился, улеглись в душе его тревоги и сомнения. Подумалось, что, воистину, Ингреда права. Как жили, так и будут они жить. Будут приезжать сюда, в стольный, останавливаться надолго, будет он здесь отдыхать от перипетий княжеской службы. Сейчас же ему надо было возвращаться в Галич. Ингреда с сыном останутся в Киеве до лета. А там ждут их новые заботы, новые великие и малые дела. В Свинограде тоже мыслил Ивачич обновить старые хоромы. Как-никак княжой муж.
…Поутру, отоспавшись, выехал Избигнев по знакомой дороге в Галич. Заканчивался февраль, снег начинал таять, и он торопился, стараясь успеть до распутицы. Недолог путь, а подгонять приходилось резвого скакуна. Внизу, под копытами местами стояли лужи, снег превращался в грязное месиво. Конь тяжело дышал, выпуская в воздух клубы пара.
Но вот осталось позади Межибожье, посверкал свинцом церковных куполов шумный людный Теребовль, и маячат уже впереди за гладью Днестра и широким мостом строения Галича. Близит конец пути.
…Снова, как и много раз ранее, поутру Избигнев сидел на лавке в княжеской палате напротив Ярослава. Говорили о многом: о походе на половцев, о недовольстве князей Мстиславом, о Несторе и его брате.
Снова закрадывалось в душу Ивачича давешнее беспокойство. Не таясь, он поведал о мыслях и чувствах своих князю. Осмомысл хмурился, отводил взор в сторону, молчал, словно примериваясь и прикидывая, как быть. Наконец промолвил твёрдо:
– Союз с Мстиславом рушить не буду, роту[145] не преступлю. Ведомо мне: ведут князья речи крамольные против Изяславича. Исподволь смуту сеют. Ко мне тоже посылали. Так вот: я им в этих злых делах не товарищ. Мы, галичане, на своих рубежах стоим, чужого нам не надо. А как со Владимиром Мачешичем, стрыем[146] Мстиславовым, дружбу водить, ты, Избигнев, помнишь, надеюсь. Вертляв он, от одного князя к другому бегает. И предаёт всех и вся. И многие такие, не один Владимир. Ну да довольно о них. Покуда ты в Киеве был, приезжали ко мне из Северы[147] бояре. Фросю сватают за князя Игоря, сына Святослава Ольговича покойного. Поразмыслил я, прикинул, что да как, и дал согласие. Об Игоре молва добрая идёт. Осьмнадцать лет парню, а уже на рати себя показал, половцев сёк. И, говорят, статен, собою пригож. Одно слово: добр молодец. Ударили мы по рукам.
«Вот как, выходит. Фросю, значит, устраиваешь… И что тогда? Как со княгиней Ольгой быти?» – Избигнев промолчал, но уставился на Осмомысла вопросительно.
Князь, заметив его выразительный взгляд, грустно усмехнулся и тотчас перевёл разговор на другое.
– Владимир совсем от рук отбился, – пожаловался он. – На княжну Болеславу и глядеть не желает, всё по кабакам пропадает, с бабами непристойными водится. Тако вот. Уж и не знаю, как управу на него найти. Жалко Святославну, конечно… А Ольг мой растёт. Уже и ходит, и говорит. Одна радость. – Лицо Ярослава внезапно просияло.
Обо всём забывал он, когда заходила речь о Насте и сыне. Ради них двоих готов он был на что угодно. Ольга и Владимир – да, они были, жили, существовали где-то рядом, но становились они лишними, чужими, ненужными в жизни его. Понимал, что поступает неправедно, что беду может навлечь на Галицкую землю, и потому ждал, не решался на открытый разрыв. Ждал… неведомо чего и зачем.
…Тревога Избигнева после беседы с князем лишь возросла. Выходит, и здесь, в Галиче, небезопасно теперь. Уже подумывал он, как бы поскорее съездить ему в Киев да привезти в родной Свиноград жену и сына, как вдруг среди ночи постучали ему в окно. По терему засновала, забегала челядь. Во дворе вершник на запаленном скакуне коротко сообщил:
– Рати суздальские ворвались в Киев! Жгут, грабят! Князь Мстислав на Волынь ушёл! Разор и насилье в стольном!
Избигнев в ужасе застыл на ступенях крыльца.
Глава 25
Смотрела на себя в круглое серебряное зеркало в украшенной самоцветами оправе, каждый раз находила себя всё более привлекательной, любовалась своей красотой. Хотелось прыгать от счастья, смеяться весело, радоваться удаче. Светились лукаво серенькие половецкие глазки, на тонких розовых устах играла приятная улыбка, брови-стрелы были подведены сурьмой, на ланиты наложены румяна. Распущенные волосы цвета золота плавно ложились на плечи.
Всё было прекрасно в молодой Настасье, была красота её всепобеждающа, она вырывалась из тесных стен боярских теремов и летела словно бы, парила в воздухе, заявляла о себе. Вот, мол, я какая! Кто, что сильней, что краше меня в этом вашем мире?! Вера?! Лёгкий смешок пробегал по накрашенным коринфским пурпуром губам. Что им, этим уродливым людишкам, прячущим своё безобразие под чёрными рясами?! Они ненавидят земную красоту, потому как для них она недостижима и недоступна. Тогда, может, стремление к власти, к богатству превосходит её прелести, затмевает разум мужчин? Да, конечно, но своей красотой она достигла всего, чего хотела. Один шаг осталось ступить – добиться, чтоб прогнал князь из хором своих эту крикливую ненавистную ей Ольгу, и тогда… Тогда она станет княгиней, она исполнит свою мечту, она заблистает на пирах и на приёмах иноземных послов, ей будут целовать длани, её будут просить о всяких услугах (впрочем, просят уже и теперь), наконец, один лишь её благосклонный взгляд будут принимать как высшую награду.
Зеркало отложено в сторону. Прислужница принялась заплетать Настасье косу, другая уже приготовила узорчатый плат с вкраплёнными каменьями, держала его на руках, любуясь переливами самоцветов.
Отец, боярин Чагр, появился на пороге, нерешительно потоптался, кашлянул, обращая на себя внимание дочери. Он всегда ходил тихо, крадучись, словно боясь чего-то, косил по углам, в тёмных переходах дворца всегда клал крест. Настя смеялась над этой отцовой осторожностью, но Чагр, качая головой, всякий раз предупреждал её:
– Ворогов тут у нас с тобою много, дочка. Вот и хоронюсь. Князь от всех оберечь не сможет, самим нам с тобою надобно о себе заботу иметь.
Выждав, когда челядинки, створив своё дело, скрылись за дверями покоя, боярин удобно расположился на лавке возле забранного слюдой окна. Заговорил медленно, поглаживая светло-русую бороду:
– Что князя ты окрутила, то добре, дочка. Он топерича у нас, что пёс ручной. Одно что еду из рук не тащит.
– Люб мне Ярослав! – оборвала речь родителя, недовольно сдвинув брови, Настасья. – Сын у нас. Не молви тако, не смей!
Чагр в ответ лишь хитровато подмигнул ей и криво усмехнулся. Известно, мол, что у тя, доченька, первей – побрякушки сии златые, мечты высокие али князева любовь! Видал, знаю, как каждую седьмицу ездишь ты, ведуница, в терем на Ломнице, как готовишь зелья приворотные!
Сделав вид, что согласен, что поверил её словам, поспешил боярин перевести разговор на другое:
– Вот о чём сказать тебе хочу, Настя. Князева любовь – оно, конечно, добре. Но надобно нам с тобою поболе людей верных иметь. Не слуг, не рабов – нет. Сего товара у нас хватает. Из бояр, из житьих людей верные нужны. Ты им когда пособи, когда князю что шепни, когда сама приласкай да обольсти.
– Молвила ить: Ярослав один мне люб!
– Опять ты меня не поняла, дочурка. Приласкать – не значит вовсе, что в постель тащить. Иной раз слово доброе большую силу имеет, чем близость плотская. Мало того, такое скажу: близко особо к собе никого не подпускай. Держи на расстояньи, но привечай. Сим токмо преданных людей обретёшь. Вот, к примеру, устроиться ты помогла троим братьям Кормилитичам. Яволод при дворе стольником служит, Ярополк – во дружине молодшей супротив половцев на Орель ходил, а Володислав волость родовую из рук твоих, почитай, получил. Вот, поглянь на сих молодцев, приветь. Расспроси их, как и чем живут. Кого одним взглядом одари, а кому, к примеру, какую безделушку подкинь ко свадьбе али к именинам. Потом, живёшь ты ныне, яко княгиня, свиту свою имеешь. На твоём бы месте пригляделся я ко двум девчонкам из житьих. За столом они боярыням знатным прислуживают да всякие делишки малые в тереме проворят – платы и убрусы вышивают, посуду злащенную порченную к ремественникам носят. Работой лишней не обременены хохотушки сии. Весело им, вольготно живётся. Бают, князь Ярослав во время потопа их спас. Вот, улыбнись им лишний раз, слово доброе промолви, робёнка доверь, чтоб поиграли да покормили. Тоже верны тебе будут Фотинья с Порфиньей.
– Имена-то экие заковыристые! – удивилась Настя. – Не спутать бы их. Ну а Кормилитичей и вовсе различить трудно. Который Яволод, который Ярополк – бог весть. Одинаковы, яко две капли воды.
– Ничего, разберёшься, если желание иметь будешь. Главное, запомни мой совет. Ищи и обретай людей верных. Без них, Настя, не осилить нам княгиню Ольгу и суздальскую её свору.
…Крепко запомнила Настасья отцовы слова. В тот день долго задумчиво бродила она по палатам терема, шурша богатым парчовым платьем. Князя в доме не было – выехал он творить суд в одно из сёл на Днестре. Тихо было в покоях, лишь во дворе кипела жизнь – скрипели телеги, ржали лошади, громко говорили меж собой отроки и челядинцы.
Вспомнилось вдруг молодой женщине детство, игры на этом дворе и забавный баловник Петруня, сын поварихи. Где он теперь? Жив ли?
Направила Настасья стопы вниз, на поварню.
Постарела, пополнела Агафья. Говорила медленно, страдала одышкой. Настю она вспомнила не сразу, подивилась причудам столь высоко вознесшей её судьбы, о Петруне же сказала так:
– Не стал сынок мой при дворе прислуживать, попросился в дружину княжью. Дома топерича редко бывает. Нынче на стене градской охрану несёт.
– Как явится, пущай ко мне придёт без боязни. Я, чай, не обижу. Давние мы знакомцы, – холодно промолвила Настасья.
На улицу она выходила редко, в собор Успенский – ещё реже. Ловила всюду осуждающие взгляды степенных горожанок, слышала заспинный шепоток:
– Наложница княжеска! Ни стыда, ни совести! Ведьма, воистину ведьма! Красота колдовская, словно и не человечья!
Господи, как ненавистно было ей это слово гадкое: «наложница». Будто она без роду, без племени. Привёз её князь к себе в хоромы, положил, как вещицу красивую, и держит при себе, любуется.
«Княгиней стать хочу! Боже, помоги рабе своей!» – немо молила она в темноту, держа в руке тонкую свечку.
Петруня пришёл к ней в тот же вечер. Сидел, смущённо стискивал длани в кулаки, словно не зная, куда их деть, смотрел несмело на подружку своих детских игр, говорил, что рад будет ей служить.
– Я тебе помогу по дружбе. Хочешь начало получить над сотней? Князя попрошу, тотчас содеет, – предложила неожиданно Настя.
Петруня аж вздрогнул. Засветились глаза его, спросил он, краснея, стесняясь самого себя и своих вопросов, но в то же время с радостной надеждой в голосе:
– Правда? Давно хотел…
– Ну, тогда дело решённое. Мне князь не откажет. Токмо, отроче, об одном прошу: не забывай сию услугу. Помни, кто тебе добра желает.
– Николи не забуду, светлая… – Он на миг замешкался, думая, как к ней обратиться. – Боярышня.
Настасья благосклонно склонила голову.
«Ничего, вборзе по-иному величать мя будете», – думала она, с улыбкой глядя на некрасивое носатое лицо увальня Петруни. Надо же, какой вырос. А малый был шустрый да ловкий. Вот как порой жизнь людей меняет.
…С девушками тоже получилось просто и легко. Чагр мог быть доволен дочерью. Позвала Настасья Фотинью и Порфинью в свои покои наутро, велела заправить постели, а после поручила их заботам крохотного Олега. Годовалый мальчик только-только научился ходить, и юные отроковицы, держа его за руки, вывели гулять в сад. Стоя на крыльце, Настасья слышала их громкие голоса и звонкий смех. Сперва она не могла понять, которую девушку как звать, но быстро сообразила: светленькая и курносенькая – та Фотинья, чёрненькая и смуглолицая – Порфинья. Фотинья шустрая и весёлая, Порфинья – более строгая и рассудительная. Миловидны дочки житьих, но ей, Настасье, обе они – не соперницы. Куда им? Ну, повертятся в княжом тереме, а потом выйдут замуж за кого-нибудь навроде Петруни, нарожают чад. А может, кто из них похитрей окажется, поближе ко княжому столу устроится. Вон та, с носиком смешным, стойно шарик, по всему видно, ловкая девка. Окрутит какого боярчонка и будет здесь, в Галиче, в тереме боярском хозяйничать. И надобно, чтоб помнила, не забывала, кто ей прежде иных милость оказал и возле себя пристроил.
