Жизнь прожить – не поле перейти
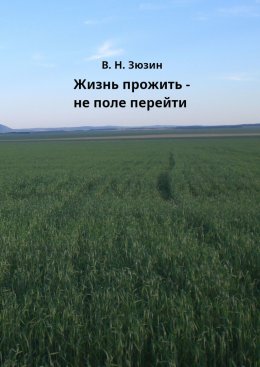
© Василий Никитович Зюзин, 2025
ISBN 978-5-0065-9731-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Художественное оформление Р. Зюзина
Предисловие Г. В. Забиняковой
Редактор Ф. Зюзина-Шнайдер
В книге использованы фотографии
из семейного альбома автора
Воспоминания Василия Зюзина – свидетельство о времени и себе. Первый том связан с жизнью автора в Казахстане. Цель его книги: сохранить память о малой родине, о своих предках и земляках, о былом, а значит – сохранить свою душу.
Публикуется в авторской редакции
Посвящаю родителям
Екатерине Ивановне и
Никите Ивановичу Зюзиным,
преждевременно ушедшим
из жизни в годы Великой
Отечественной войны
Книга «о времени и о себе»
Человек —
сродни дереву:
без корней жить он
не может.
Корни эти незримы, ибо
таятся в глуби
родимой земли.
Роберт Вебер
Книга В. Н. Зюзина «Жизнь прожить – не поле перейти» – исповедь человека, в судьбе которого отразилась частица истории страны. Автор принадлежит к особому «гвардейскому» поколению, отличающемуся лучшими человеческими качествами: духовным богатством, принципиальностью, честностью, правдивостью, высоким профессионализмом, неравнодушием к судьбе своей Родины. Обычно в предисловии принято знакомить читателей с биографией автора. В данном случае это неуместно, потому что автор сам рассказал в книге «о времени и о себе» в таких подробностях, что невозможно не восхититься его исключительной памятью. Авторское повествование основано на абсолютно достоверных фактических событиях.
В своеобразной «летописи» В. Н. Зюзин поставил перед собой цель: рассказать не только о себе, но и о своём поколении, о тружениках земли; причем пишет автор о них с особой сердечной теплотой. В воспоминаниях автора использованы уникальные личные наблюдения, реальные случаи, богатый жизненный опыт – все это придает книге неповторимую индивидуальность. С одной стороны, интересны сведения автора о самом себе, с другой – его оценка событий и людей, с которыми сталкивала его судьба. Особый колорит придают повествованию интересные случаи, весёлые эпизоды, живые и яркие портреты родных и коллег. Главный редактор казахстанского журнала «Аграрный сектор» Н. Н. Латышев писал об опубликованных отрывках из воспоминаний В. Н. Зюзина: «Это живое восприятие начала великой эпопеи человеком, который всю жизнь посвятил работе с землёй, выращиванию хлеба…»1
Книга состоит из двух томов. В первом томе воспоминаний, который состоит из шести отдельных частей, речь идёт о жизни автора в Казахстане, о становлении его личности, о выборе профессии, рассказывается об истории родного и других сёл, а также г. Кокшетау, где он трудился.
Ещё и о том, как В.Н.Зюзин постепенно пришёл к призванию своей жизни – агрономии. Ею он живёт и сегодня. Находясь в Германии, автор постоянно следит за ходом сельскохозяйственных работ в родном краю, регулярно публикуется в казахстанском журнале «Аграрный сектор».
Василий Никитович, работая двенадцать лет директором совхоза на моей родине, ввёл за этот период различные новшества, улучшающие условия жизни и труда сельчан. Самые значимые из них:
– после трёх лет его руководства совхозом показатели по механизации трудоёмких процессов в животноводстве вышли на первое место среди совхозов Володарского района, во всех отделениях совхоза была освоена двухсменная работа доярок, что позволило значительно сократить их рабочее время и улучшить условия труда;
– после первых пяти лет во всех сёлах отделений совхоза были построены котельные для центрального отопления школ, клубов и нескольких жилых домов, а также общественные бани, летние культурные дойки с закрытыми помещениями, душевые для животноводов;
– по его инициативе в хозяйстве были изготовлены высокоэффективные автоматы по изготовлению резиновых скребков для кормораздатчиков, а также для поделки гвоздей и заклёпок; в животноводстве стали использоваться мобильные запарники концентрированных кормов новой конструкции и клетки для содержания телят;
– показатели по урожайности зерновых культур и кукурузы на силос за несколько лет работы В. Зюзина вышли на первое место среди совхозов Володарского района;
– на центральной усадьбе совхоза, в селе Казанка, построены первая в районе вальцовая мельница и спортзал для рабочей молодёжи;
– в третьем отделении, в селе Всеволодовка, построен двухэтажный клуб на 200 мест, который по оценке областных руководителей стал лучшим в области среди отделенческих домов культуры;
– во всех четырёх сёлах совхоза строились жилые дома по проектам, предназначенным для молодожёнов и многодетных семей, проезжие части большинства улиц были спрофилированы и засыпаны щебёнкой;
– в центре Казанки на тротуарах были уложены бетонные плитки и смонтированы светильники для ночного освещения, а также на части улиц уложен асфальт;
– администрация совхоза постоянно поддерживала инициативу учительского коллектива Казанской средней школы в развитии художественной самодеятельности; благодаря энтузиастам коллектив в районных смотрах неоднократно занимал первые места.
Автор также рассказывает о новом способе снегозадержания методом «ловушек», разработанном и внедрённом им лично. Этот способ заметно увеличивал урожайность сельхозкультур в совхозе и за его пределами.
Разработанный автором метод широко освещался в прессе того времени: было опубликовано множество статей в республиканских, областных и районных изданиях. Например, статья Н. Четвергова о методе эффективного снегозадержания под заголовком «Снег и хлеб» была издана в «Казахстанской правде» 30 декабря 1977 года.
Этой теме была посвящена и главная всесоюзная сельскохозяйственная передача «Сельский час», транслировавшаяся по центральному телевидению СССР.
Об этом событии в истории сельского хозяйства Казахстана писал Н. Н. Латышев, высоко оценивая его значимость: «В середине 70-х годов прошлого века известный казахстанский агроном и руководитель сельхозпроизводства Василий Зюзин предложил новый метод снегозадержания, который позволил получить существенную прибавку урожайности зерновых культур».2
Профессиональную деятельность В. Н. Зюзина высоко оценивали в районе, о чем свидетельствуют многочисленные статьи в газетах того времени. Редактор районной газеты «Айыртау» В. Васильев вспоминал: «Его помнят коллеги как грамотного, принципиального агронома и руководителя, сделавшего много для развития сельского хозяйства нашего района».3
Один из разделов книги повествует о работе В.Н.Зюзина в Кокшетауском областном управлении сельского хозяйства в должности главного специалиста, а затем начальника отдела земледелия. Особенностью этого периода жизни автора книги было то, что он совмещал исполнение своих служебных обязанностей с исследовательской деятельностью. На основе многолетних наблюдений им было сделаны две разработки, которые впоследствии засвидетельствованы Министерством юстиции Казахстана как его интеллектуальная собственность и признаны научными произведениями.
Научный сотрудник ТОО «Заречный» Акмолинской области Александр Макаров в своей статье «Загадки климата Северного Казахстана» так написал об этом в журнале «Аграрный сектор»: «…При этом В. Н. Зюзину надо отдать должное. Обладающий пытливым умом, рассудительностью и способностями к неординарному анализу, он впервые среди исследователей климата Северного Казахстана установил периодичность и динамику изменения урожайности зерновых культур в зависимости от колебаний климата.
Заслуга Василия Никитовича и в том, что он первым проанализировал обширный материал нескольких районов и областей, интересно и убедительно его интерпретировал для широкой общественности. Безусловно, результат исследований Василия Зюзина пополнит копилку знаний о климате и послужит в будущем для окончательной расшифровки «климатического кода».4
Еще можно сказать об авторе этой книги, что он замечательный отец и дед, отличный семьянин, надежный друг. Обо всем этом читатель может узнать, прочитав книгу В.Н.Зюзина «Жизнь прожить – не поле перейти».
Но главную значимость книги определил А.И.Макаров в письме к автору после ознакомления с некоторыми её частями: «… особая благодарность за возможность прочитать Ваши уникальные воспоминания. Уже два дня хожу под впечатлением от прочитанного. В Вашем рассказе заметен философский посыл очень гуманного человека, который пережил нелёгкую, но интересную жизнь и который хорошо знает тяжёлый труд селянина, особенно в периоды исторических перемен.
…Василий Никитович, Ваш писательский труд обязательно должен приобрести форму полноценной книги. И эта книга должна быть в школьной библиотеке села Комаровки, в районной библиотеке этого района, в библиотечном фонде Краеведческого музея в Кокчетаве. Это стоит того! Для меня тоже было честью в своей скромной библиотеке иметь такую книгу.
Должна быть не только преемственность поколений, но и преемственность исторической информации. Вы являетесь прямым потомком первых переселенцев и хранителем памяти той поры, со временем цена Ваших воспоминаний будет только расти».5
Г. Забинякова (Леонова)
Родное мое село
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой…
Иван Суриков
Комаровке уже более 100 лет, так как она образовалась в 1908 году. Мой дед по матери, Иван Иванович Фролов, был одним из первых поселенцев села. По его неоднократным рассказам, их переселение произошло в результате реформ Столыпина, который возглавил Российское правительство после революции и повсеместных крестьянских бунтов 1905 года. Пётр Аркадьевич Столыпин организовал на государственном уровне активную агитацию о переселении малоземельных крестьян на льготных условиях из европейской части страны на свободные чернозёмные земли Сибири, которые были богаты ещё и сенокосами, лесами, дичью и так далее. Для проверки достоверности такой агитации в те края предварительно выезжали делегации из авторитетных крестьян. Тем более что ещё до названной реформы самые отчаянные крестьяне самостоятельно переселялись в далёкую Сибирь.
Первое крестьянское село с 1861 года на Кокчетавщине было Кривозёрное (Володарское, затем Саумалколь). Несколько позже заселялись Антоновка, Кирилловка, Казанка (с 1895г.), Всеволодовка (с 1898 г.) и другие. Но ранее, ещё до крестьянских сёл, здесь были из сибирских казаков образованы станицы. Первая военная крепость Кокшетауская была учреждена в 1828 г., затем станицы Щучинская, Зеренда, Арыкбалык, Челкар, Аиртав (с 1848г.) и так далее. Так вот, в одну из делегаций пензенских крестьян в 1906 году входил и мой прадед Иван Денисович Фролов, который, вернувшись из теперешних мест Северного Казахстана, подтвердил на сельском сходе, что те места действительно богаты чернозёмными землями, сенокосными угодьями, строительными лесами и прочей благодатью.
Многие семьи, в том числе и мой дед, решили распродать своё имущество и в 1907 году навсегда переселиться в Западную Сибирь. Надо сказать, что мои предки были не совсем бедные люди, так как у них в частной собственности имелась ветряная мельница, которая приносила, по словам деда, некий доход. Но всё-таки возобладал соблазн заиметь больше земли. Для переезда по железной дороге до Петропавловска за счёт льгот правительства бесплатно выделялся один товарный («телячий») вагон на две семьи переселенцев. Разрешалось взять c собой одну лошадь с телегой, корову с телёнком, свиноматку, трёх овец, неограниченное количество птицы, домашний скарб и необходимые на первый случай в хозяйстве средства. Из Петропавловска переселенцы обозом поехали на юг до села Кирилловка, где ранее уже проживали их родственники, у которых они и пережили зиму 1907—1908 годов.
Получив к весне от властей официальное разрешение на поселение, они прибыли на землю, где теперь находится Комаровка. Расположившись стоянкой конкретно в том месте, где автодорожный въезд со стороны Саумалколя, они построили балаганы и стали ждать землеустроителей от омского генерал-губернатора. Через несколько суток ежедневно к их стоянке стали наезжать верховые казахи и требовать уехать с этого места, так как эти земли принадлежат им. С каждым днём верховых становилось больше, а их требование всё грознее. Землеустроители прибыли только через месяц и, показывая губернаторские документы с гербовой печатью, стали через толмача-переводчика убеждать местных людей в решении заселить крестьянами эту местность. Спор продолжался в течение недели, и с каждым днём казахов становилось меньше. В конце недели спор прекратился, и землеустроители приступили нарезать на приехавших усадьбы и сельские улицы.
Первым поставили символический крест с указанием будущего кладбища, где уже были похоронены два ребёнка, умерших в течение месяца. Затем определили центр села и поставили крест с назначением строительства будущей церкви. Последним делом землеустроители обозначили границы землепользования сельской общины с указанием полей пашни, сенокосов и выгона для скота. Пашню, сенокос и лесные участки наделяли по долям только в соответствии с числом мужских душ в семье. Местоположение наделов определяли по жребию, который повторялся через каждые 5 лет. До сих пор помню, где были некоторые дедовские наделы, и где в лесу находилась его картяжка для изготовления дёгтя. Переселенцы срочно стали заготавливать деловой лес и строить капитальные избы и другие постройки, чтобы к зиме заиметь жильё. Самые расторопные семьи успели ещё и вспахать целинную пашню.
Административные переселенческие органы в те времена, надо признать, грамотно подходили к расположению населённых пунктов. Так, крупные сёла для удобства сообщения между ними и планированию строительства будущих дорожных магистралей располагали относительно по одной линии. К примеру, Комаровку расположили по линии Кокчетав – Еленовка – Антоновка и затем Кривозёрное – Кирилловка – Андреевка, и так далее. Это стало потом большим благом для населения названных и других таких больших сёл. Дороги строили, так сказать, всем миром. В моё время на колхозы и самих колхозников возлагалась на год определённая дорожная повинность. Помнится, как на уроке физики преподаватель сказал, что есть такая новая техника – бульдозер, который один на строительстве дорог заменяет 1000 рабочих, и когда он появился в Комаровке для расширения грейдера, нас всем классам водили смотреть на его работу. По дороге на Саумалколь, несколько дальше кладбища, находится, можно сказать, в натуре музей-история этой дороги: направо сохранилась низкая и совсем заросшая узкая послевоенная, а налево – небольшой участок первоначальной асфальтированной дороги, обе по своему маршруту ещё обходили даже небольшие болота.
Благодаря автодороге сельчане имели возможность отвозить на базары в Володарское и в Кокчетав различную продукцию от своего домашнего хозяйства. На полученные деньги они там же приобретали необходимые промтовары.
Комаровка расположена, конечно же, на красивом месте среди берёзовых перелесков, небольших озерков и болот, заросших камышом и осоковыми травами. Село находится в такой глубокой низменности, что оно даже в ясную погоду не просматривается с самых высоких Аиртауских сопок, хотя все соседние сёла хорошо видны. Надо полагать, что здесь находилась глубокая впадина древнего моря, так как на небольшой глубине во многих местах в селе и её окрестностях расположены залежи белой глины с вкраплинами морских ракушек.
Моя фотография 1957 года дедовского дома, два дальних окна без ставень относятся к избе, срубленной в 1908 году
На моей памяти в те времена, когда в сельские магазины ещё не завозили известь, все комаровичи и население соседних сёл заготавливали у нас для побелки белую глину. Случались при этом большие трагедии, когда люди в погоне за качественной глиной сильно углублялись, и происходило обрушение карьера с их гибелью. Был случай, когда погиб мужчина из села Пятилетка, и его тело провозили на телеге мимо школы как раз во время большой перемены, и мы, школьники, в страхе и оцепенении смотрели на эту телегу.
Первые годы наше село называлось Толстовка, потому что на этих землях раньше жил очень толстый богатый казах-бай. Но после того как во время работы на сенокосе у одной молодой матери грудного ребёнка до смерти искусали комары, так как он остался без присмотра и распеленался, село стали называть Комаровка. Имя этого толстого бая мне неизвестно, но имена его трёх сыновей остались в названиях местностей: Баялла, Джиялла и Сиралла. Дед вспоминал, что якобы после смерти отца эти братья делили между собой его наследство следующим образом: коней – табунами, овец – отарами, а деньги – пудовыми мерами.
Комаровка быстро заселялась приезжими крестьянами со многих губерний России. Село особенно бурно развивалось до Гражданской войны, когда численность населения в нём достигала 500 человек. Это было связано ещё и с тем, что, кроме вышеперечисленных льгот, переселенцам уже на месте выделялся на постройку дома и двора бесплатный деловой лес в определённых лимитах, а также денежные средства на покупку коровы, для вспашки целинной пашни и приобретение семенного материала. Даже во время Первой мировой войны продолжалось переселение людей. Так, семья Зюзина Ивана Ивановича, нашего деда по отцовской линии, с моим 7-летним отцом прибыла в Комаровку из села Аршиновка Пензенской губернии уже в 1915 году. Случалось, что поселенцев не устраивали условия жизни в этих краях, и они возвращались на прежние места проживания. Но это была меньшая часть приехавших. Я как-то спросил своего деда, хотел бы он вернуться на родину. Он мне весьма корректно ответил: «Что я там ржаного хлеба не кушал».
По названиям комаровских улиц можно было определить, откуда приезжали переселенцы. Например, одна из улиц называлась Пермятская, надо полагать, что на ней компактно поселялись семьи из Пермской губернии, другая – Черниговская, с домами: Васильченко, Петренко, Кузьменко, Черненко, Герасименко и Романенко, понятно, что они были из Черниговщины. На моей памяти сразу после войны ещё было много улиц, но некоторые из них быстро исчезали, к примеру, Аршинская, Кенащинская и «оторвановка» на Пермятской. Некогда большая улица Черниговская, где жили мои родители, и где я родился, постепенно сокращалась по количеству домов до полного их исчезновения. Намного укоротились такие улицы, как Антоновская, Пермятская и Сельсоветская, на которой, к слову, были по соседству усадьбы моих обоих дедов.
На некоторых улицах стояли большие, высокие и красиво срубленные деревянные дома под тёсом. К примеру, на Черниговской улице находился такой дом бывшего главного сельского богача Свирида, у которого была самая высокая урожайность зерновых культур и, по словам моего деда, нередко достигала 200 пудов с десятины благодаря тому, что он строго придерживался трёхполки, тройки пара, своевременной и качественной обработки земли. Тогда как у других хлебопашцев 100 пудов считалось уже хорошим урожаем. К сожалению, этого прогрессивного земледельца и рачительного хозяина потом раскулачили и с семьёй выслали. Правильней надо квалифицировать такие действия тогдашней власти, в больших случаях, как разорение самых способных и трудолюбивых крестьян. И, более того, отрыв таких людей от земли и высылка их в отдалённые места было ничем иным, как уничтожением лучшего крестьянского генофонда России. Сама же коллективизация в форме колхозов и совхозов, выдуманная в тишине кабинетов большевистскими горе-теоретиками, привела к вековой отсталости в сельском хозяйстве той страны, которая в своё время своими богатейшими природными ресурсами кормила большую часть Европы.
В самом конце Пермятской, в так называемой «оторвановке», на моей памяти был уже пустующий громадный дом семьи Ронженых. На Аршинской стоял также крестовый дом великого сельского оригинала Дмитрия Акимова, по прозвищу «дед Аршинский». Он всё лето ходил в валенках и при ходьбе никогда не подымал ноги, а тащил их волоком по земле, при этом за ним зачастую тянулся шлейф пыли. Когда его спрашивали, почему не подымает ноги при ходьбе, он отвечал, что незачем тратить на это силы. Но в своё время он был весьма предприимчивым хозяином, так как имел собственную маслобойку.
Также стояло много больших домов-пятистенников, например: у Щербининых, Морозовых, Аксентия Петренко, Игната Акимова и других. Как правило, они были с высокими потолками, под которыми нередко подвешивались просторные полати, где хранилась сезонная одежда, а в многодетных семьях на них ночевали дети.
Восхищение вызывало мастерство плотницких артелей, которые могли срубить величественные церкви, высоченные ветряные мельницы и большие дома под осиновым тёсом. Наверное, в настоящее время непросто найти таких талантливых мастеров, которые могут вручную, только с помощью пил и топоров, построить подобные здания.
В каждом доме и даже в любой избе находилась русская печь с большим лежаком наверху, на котором отогревались дети после катания на снежных горках, или взрослые, озябшие на холоде в своей изношенной и многократно заплатанной одежде. Её горячие кирпичи являлись превосходной кварцевой ванной получше всяких песчаных пляжей. А какие в ней выпекались караваи, калачи, разнообразные сдобные каралики и варились незабываемые вкусные щи!
Русская печь заслуживает того, чтобы ей в каком-либо сибирском селе поставить если не бронзовый, то гранитный памятник за спасение бесчисленных людских жизней.
Среди традиционных деревянных домов в 1942 году были построены многочисленные землянки российских немцев, депортированных осенью 1941 года в наши края. Они были на зиму расквартированы в домах сельских старожилов. К нам в родительский дом тогда подселили семью Ивана, младшего Беннера, у которой моя сестра научилась готовить очень вкусные штрудли, и потом ими часто нас кормила.
К сожалению, впоследствии и на сохранившихся улицах среди домов появились многочисленные пустыри. Массовый отъезд людей из села произошёл в начале промышленного строительства, коллективизации, в голодные 1931—1933 годы и сразу после войны, когда молодёжь, в большинстве девушки, сбегали из колхоза в города. Отток населения несколько прекратился только с поднятием целины. На сокращение численности населения влияли бесконечные войны, частые жестокие засухи, приводившие к массовому голоду, и такие идеологические эксперименты властей, как насильственная коллективизация в форме колхозов. Была большая детская смертность. Так, в семье моего деда родилось 12 детей, а выжили только трое: это старший брат матери Степан, парнем мобилизованный в колчаковскую армию, в которой его убили под Курганом, и младший брат Иван, добровольцем ушедший на фронт и восемнадцатилетним юношей погибший во Второй мировой войне, вследствие этого к концу войны осталось у него всего нас трое внуков.
Двухлетним ребёнком не запомнил, как уходил в начале июля в 1941 году на войну мой отец Никита Иванович Зюзин, которого природа, по словам хорошо знавших его односельчан, наградила большим чувством юмора, ещё он был одним из первых трактористов на селе. На его тракторе с железными колёсами на шпорах в войну работала моя кузина Мария Зюзина, а после войны – зять Григорий Лягин. Также не помню моей 34-летней матери Екатерины Ивановны Зюзиной, простудившейся на колхозной работе, и маленькой сестрёнки Анечки, умерших весной 1942 года. В памяти не остался и случай, когда осенью 1942 года была получена так называемая в народе «похоронка», а именно: извещение на имя сестры Татьяны, в котором сообщалось о гибели нашего отца.
Первые жизненные события, сохранившиеся в моей памяти, – это насильственное изъятие остатков зерна и муки в нашей семье. В первой комнате дедовского дома в углу стоял ларь, внутри которого хранились хлебные запасы, и мы с братом ночевали на нём. Однажды ранним утром вошла в дом комиссия, нас, ещё сонных, подняли и стали для нужд фронта выгребать зерно, остатки ещё рекордного урожая 1938 года. Дед умолял этих людей, хотя бы немного оставить для военных сирот, но они забрали всё дочиста. Были случаи, когда у людей отбирали булки прямо из печки, якобы на сухари солдатам.
Помнятся разговоры женщин на посиделках, около которых мы, дети, любили крутиться и с любопытством слушать их воспоминания. Шёл разговор даже о Гражданской войне, когда им было по 14—16 лет. О том, что в нашем селе стоял небольшой колчаковский отряд, а в Кривозёрном (ныне Саумалколь) уже находились красноармейцы. В один день группа красных на конях подъехала к Комаровке и с пулемёта застрочила вверх над домами. Колчаковцы в панике уехали в Антоновку, где квартировал их основной штаб. Красноармейцы промчались по основным улицам и, убедившись в том, что выгнали белых, стали возвращаться к себе, но один хромой колчаковец спрятался во дворе Саженевых и потом из-за угла выстрелил из винтовки в спину командира отряда Володарскому, который по дороге в отряд скончался от раны.
Шёл разговор также о коллективизации, о ликбезе (мероприятии по ликвидации безграмотности) в Комаровке. Особенно много разговоров было о текущей войне, к примеру, что случится, если победит Гитлер. Женщины приходили к выводу, что в таком случае не будет колхозов. Хорошо запомнился митинг около сельсовета в честь победы. Только мне было тогда по-детски совсем непонятно, почему взрослые люди в такой долгожданный и радостный день сильно плакали.
Хорошо помню похороны в феврале 1945 года моей славной бабушки Агафьи Клементьевны Фроловой, когда сельские женщины за ту доброту, которую она сделала при своей жизни, не дали везти её в гробу на конских санях, а понесли на руках по сугробам на кладбище.
Надо признать, что жертвами войны стали не только те, кто в длинном списке фамилий высечены на памятнике в центре села. Они только меньшая часть, а большая – это преждевременно ушедшие из жизни люди, заболевшие в самом селе легко излечимыми болезнями, но умершие от отсутствия медицинской помощи, так как на фронт ушли большинство медработников и лекарственных средств. Наша семья за четыре года войны потеряла пять человек, из них трое раньше времени умерли дома. В других семьях ещё больше таких фактов, особенно у немцев, высланных в наши сёла.
Мы же, малолетние сироты войны, остались живыми, конечно же, благодаря труду дедовской семьи. В годы военного лихолетия, да и нескольких лет после окончания войны, население в сёлах выживало за счёт выращенных овощей и картофеля на своих больших огородах, площадь которых разрешали в тот период иметь для семьи до пятидесяти соток. Трудолюбивая семья моего деда, например, кроме большой площади картофеля, лука, чеснока, гороха, выращивала ещё на довольно-таки значительной части огорода коноплю. После специальной обработки её стеблей, как длительное вымачивание в болотной воде и затем их высушивания, необходимо было за счёт трудоёмкой работы выделить из них пеньку. Прядильное волокно конопли, в первую очередь, шло для изготовления на домашних станках холста и веровины, без которых тогда в сельской жизни нельзя было обойтись. Получая неплохие урожаи на своём огороде, мой 70-летний дед большую часть продукции с него увозил на попутных машинах для продажи на володарском и кокчетавском рынках.
После победы случалось, что многие демобилизованные с войны солдаты шли пешком от села к селу домой. Один из таких солдат попросился к нам в дом, чтобы испечь несколько своих картофелин, и я с большим любопытством наблюдал за ним, замечая, что он был очень голоден, так как не стал дожидаться полной готовности картошки и начал её есть полуиспечённую. Мой дед извинился, что не может предложить ему хлеба. На всю жизнь мне запомнились тогда слова солдата: «Ничего, ничего, скоро станет так много хлеба, что будет ешь – не хочу». Дед ещё долго иронизировал над его словами, приговаривая, что в России ещё не было такого времени, чтобы имелось хлеба «ешь – не хочу». Но, слава богу, вещие слова этого оптимиста-солдата после поднятия целины исполнились, и людям в деревне не приходилось больше есть лепёшки из горькой сурепки, а в городах занимать в хлебных магазинах очереди с двух часов ночи, как нам с сестрой в Караганде в 1954 -1955 годах за покупкой двух булок серого хлеба.
Особенно голодно становилось к весне, когда заканчивались продуктовые зимние запасы. Первым спасением являлся весенний сбор колосков на прошлогодних посевах пшеницы. При первых проталинах дети и женщины, как муравьи, разбегались по полю, зачастую для этого выжженному, и подбирали каждый колосок, потерянный при осенней уборке. Ещё приходилось весной специально перекапывать огороды, чтобы выискать оставшуюся в земле мёрзлую картошку, пюре из которой можно было проглотить только через силу. Потом здорово выручали дикорастущие лук, щавель, чеснок, дудки лесного борщевика. В пищу нередко шли листья лебеды и крапивы. Настоящим деликатесом были жареные на сковородке печерицы (шампиньоны обыкновенные), найденные на перегнойных почвах по пустырям.
Где-то в конце 40-годов колхоз выдавал на трудодни семена сорнополевой сурепки, полученных после очистки зерна, из которых выпекались абсолютно чёрные и сильно горькие лепёшки.
Известно, как тяжело было выполнять натуральные сельхозналоги, возложенные на семьи колхозников по многочисленным статьям. Мне неоднократно приходилось относить домашнее молоко в счёт налога на колхозную молоканку, которая находилась в начале Пермятской улицы. На всю жизнь запомнил случай, когда агент министерства заготовок Константин Спирин за недоимку по налогам конфисковал моего любимого коня. Плача горючими слезами, я бежал через всю Комаровку, умоляя этого жестокого человека, не забирать нашу рабочую лошадь.
В войну и несколько позже наш комаровский колхоз, называемый «им. Комминтерна», держался в основном на женщинах, а летом, в период школьных каникул, ещё и на учениках, в том числе малолетних с 11-12-летнего возраста. Буквально на следующий день после окончания занятий в школе, рано утром, в доме появлялся бригадир полеводческой бригады и требовал от школьника немедленно отправляться на колхозную работу. Так было и со мной в 11 лет, когда бригадир полеводческой бригады №3 Д…, который вначале меня отлупил черенком кнута по спине за то, что я, увидев издали его коня с ходком, спрятался по наказу сестры в бурьяне, где он нашёл меня и увёз в бригаду для безвыездной работы погонщиком на рабочих быках. По субботам нам не разрешали, хотя бы вечером, съездить домой в баню. Но!…Иногда бригадир потихоньку позволял ночью мальчишкам группой верхом на конях съездить в село и наворовать у людей в огородах овощей, в первую очередь, огурцов, луку, моркови и других.
Была и положительная сторона жизни в колхозной бригаде, это, хотя и совсем скромное, но постоянное трёхразовое питание по сравнению с домашним супом из лебеды. Запомнилась бригадная каша с непросеянной мукой из овса, которая с болью проходила в желудок и очень болезненно выходила из детского организма. Жили мы в бригаде в передвижных самодельных деревянных вагонах, вернее сказать, спали в них только ночью вместе со взрослыми парнями и девушками на двухъярусных нарах. Кто постарше – наверху, а мы, пацаны, снизу.
Парни любили над нами малыми частенько устраивать всяческие розыгрыши. Запомнился один самый свирепый, так называемый «велосипед», когда поздно вечером мы, уставшие от работы, крепко засыпали, кто-то из этих оболтусов вставлял клочки газеты между пальцами ног, которые зачастую свисали с нар, и спичкой поджигал газетки. Жертве спросонья только и оставалось по-велосипедному от боли махать ногами. Не помогало мальчишкам, если они ложились лицом к дверям, тогда спящему на голове «копали картошку». От такой жестокой затеи один мальчик на всю жизнь остался с больной головой. Доставалось по ночам от наглецов и девушкам, так что некоторым из них приходилось среди ночи убегать из будки и прятаться до утра в лесу.
Если днём работа была неизнурительная и раньше кончалась, то длинными летними вечерами мы устраивали вокруг костра, на котором в котле варилась каша, различные игры, чаще всего боролись между собой и на того, кто победит, выходил другой желающий. Таким образом, выявлялись между нами самые сильные и ловкие борцы. Помнится, что среди моих сверстников всегда выходил победителем Виктор Кайзер.
Дневная работа состояла из трёх «упряжек»: первая – самая ранняя, ещё до завтрака, вторая – до обеда и третья – после полудённой жары, до вечера. Если в обеденный зной работа затягивалась, то от укусов оводов у быков случался так называемый «бзык», после чего они неудержимо неслись вместе с погонщиками в первое попавшее болото по брюхо в воду. Вначале мне поручалось погонять верхом быков на вспашке паров, потом во время сенокоса подвозить волокушей сено к скирдующим. На следующее лето мне, уже 12-летнему, доверили домой на круглые сутки пару быков с бричкой, на которой я возил женщин и школьников на ручную прополку по зерновым полям, а позже – колхозниц на сенозаготовку. После возвращения поздно вечером домой должен быков выгнать на пастбище, а рано утром пригнать и запрячь в бричку.
Зарплата в колхозе начислялась в виде призрачных трудодней, за которые в ряде лет в конце года не выдавались ни деньги, ни зерно. Почему-то в нашем колхозе очень часто менялись председатели. На мой взгляд, самой колоритной личностью из них был неоднократно избираемый наш дальний родственник Андреан Петрович Колузаев. Говорили, что он и его сестра Анисия, моя крёстная, были одними из первых активных комсомольцев в 20—30 годах, которые вечерами группами ходили по улицам, распевая революционные песни.
Помнится ещё, как по вине семьи лесника Ефрема Лиморенко, горел наш родительский дом, в котором квартировала его семья. Мы, его юные хозяева, втроём прибежали на пожар и потом, обнявшись, неутешно плакали над остатками нашего дома. Впоследствии сельсовет обязал лесника восстановить его. В течение нескольких лет я потом дважды возвращался жить в отчий дом. Первый раз, когда мы отделились от деда, и юная, но самоотверженная 17-летняя сестра Татьяна, отказавшись отдать нас в Казгородской детдом, взяла на себя воспитание двух сорванцов: меня, 7-летнего, и 10-летнего брата. Потом вернулся ещё раз после проживания у дяди Николая Ивановича Зюзина и отъезда сестры и брата в Караганду, когда меня взяли на воспитание мать и сестра зятя Григория, квартировавшие в нём.
Надо заметить, что наша школа, в которой в 1947 году я стал восьмилетним первоклассником, построена ещё до войны и была очень хорошим и красивым зданием под жестяной крышей. Стояла она на высоком фундаменте с просторными и светлыми классами, а её широкий и длинный коридор долгие годы использовался ещё и для показа сельчанам привозного кино из-за отсутствия сельского клуба. Приезд киномехаников в село был большим событием, несмотря на то что послевоенные кинофильмы вначале были неозвученные. Взрослое население приходило в кино со своими скамейками или табуретками, а мы, дети, устраивались, сидя или лёжа перед экраном на полу. Громадный интерес у нас вызывал американский многосерийный фильм «Тарзан». Насмотревшись на Тарзана, я как-то на перемене забрался на высокую школьную крышу и прошёл по всей длине очень острого конька, за что попал в кабинет «на ковёр» к директору.
