Мицелий. Сборник рассказов, который пишет тебя
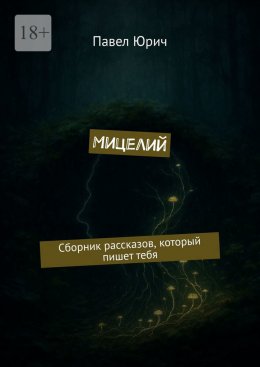
© Павел Юрич, 2025
ISBN 978-5-0065-9798-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Земля
то, что живёт под ногами и тянется изнутри
Читатель
«Он взял в руки сборник.
Прочитал первую строчку.
И с этого момента – начал исчезать из своей жизни.»
– запись на полях в библиотечном экземпляре «Мицелия»
Он не помнил, как книга оказалась у него.
Может, купил. Может, нашёл. Может, она уже была.
«Мицелий».
Ничего особенного. Обложка – без текста. Только изображение.
Но когда он её коснулся – ощутил тёплую пульсацию.
Как будто книга дышала.
Он начал читать.
Сначала – из любопытства.
Потом – по привычке.
А потом – потому что не мог остановиться.
Истории были живыми.
Он узнавал улицы, на которых всё происходило.
Имя мальчика с магнитофоном совпадало с именем его двоюродного брата.
У тётки его подруги был дом на краю посёлка – как в рассказе про поле.
Он начал выписывать детали.
Адреса.
Приметы.
Повторяющиеся имена.
Цитаты, которые ему казались знакомыми.
На шестом рассказе он нашёл в телефоне фотографию мужчины, похожего на персонажа.
На седьмом – заметку в местных новостях.
Потом он понял, что у него есть копия тетради с красными полями, которую он точно не покупал.
В книге он нашел письмо без подписи:
Пожалуйста, не выходи за поля. Мы уже пишем тебя.
С этого момента он начал видеть героев.
Старушек с лавочки – в метро.
Девочку с кассетным плеером – на остановке.
Пьяного парня, шепчущего: «Мицелий есть везде. Он – сеть. Мы – плодовые тела».
Он хотел перестать читать.
Но книга всегда оказывалась рядом.
На столе. В рюкзаке. Под подушкой.
В ночь после одиннадцатой истории он перестал отражаться в зеркале.
На утро – забыл свой голос.
Коллеги перестали здороваться.
Мать не взяла трубку.
На пропуске в офисе – белый прямоугольник вместо фото.
И тогда он открыл последнюю страницу.
На ней было:
Ты – читатель.
Ты – наблюдатель.
Но чтобы мицелий продолжал расти, нужно ещё одно тело.
Последнее.
Не история. Не рассказ.
А глаз.
Через который всё читается.
Он посмотрел на обложку.
Теперь на ней было лицо.
Его лицо.
***
Если ты чувствуешь, что что-то шевелится под текстом – не бойся.
Это не боль.
Это рост.
Ты просто тот, кто читает.
Ты – необходим.
И скоро ты станешь следующей историей.
«Если вы дочитали это – значит, вы приняли сеть.
Теперь она примет вас.
Не бойтесь. Смерти нет. Есть структура.
Есть переплетение.
Есть… мицелий»
Мицелий
«Мы не мертвы. Мы сеть. Мы просто перестали быть одиночками.»
«Некоторые города умирают.
Другие – умирают, но продолжают двигаться.
А третьи… Они просто ждут, пока ты вернёшься домой.»
– из письма Ильи Юрченко, найденного в почтовом ящике редакции «Литературной газеты» без обратного адреса
Антон Сегалович, издатель и критик
Я знал Илью Юрченко. Не близко, конечно. Мы работали в одном издательстве, пару раз пересекались на презентациях. Он был замкнут, но не странный. Скромный, как ни парадоксально для писателя, которого называли «русским Палаником».
И даже после всего, что случилось, мне хочется верить, что он просто… исчез. Как многие талантливые люди.
Но потом я получил коробку. Без адреса. С почерком, который я бы узнал среди сотни.
В коробке был дневник. Листы были влажные на ощупь. Внутри пахло… землёй. Прелой. Осенней.
Я не мог не читать.
И чем дальше читал – тем меньше спал.
Илья писал, что вернулся в Кедровск не по доброй воле.
После эмиграции, после скандала с якобы «украденным» романом, после того как у него отняли контракты, уважение и имя, он оказался никем.
Он уехал, чтобы «спрятаться в родном доме и попытаться вспомнить, зачем вообще он когда-то писал».
Он не ждал от Кедровска ничего. Ни покоя. Ни любви. Ни прощения.
Но город встретил его иначе.
Слишком иначе.
Поначалу это были мелочи.
Люди говорили одними и теми же фразами.
Улыбались слишком широко.
Магазины не принимали карты, но никто не жаловался.
А в лесу деревья были… соединены.
Он писал, что однажды увидел, как собака лает на мужчину, а тот не реагирует.
А потом пёс просто лёг рядом. Как будто принял. Как будто понял.
Он писал, что просыпался от того, как нечто дышало сквозь стены.
Поворот случился, когда он попытался сбежать.
В дневнике он описывает, как мать варит борщ, как отец чинит розетку.
А потом – как они признаются.
Он не мог поверить. Он пытался.
Но дальше слова становятся всё короче.
Фразы – рваными.
И на этом все заканчивается.
Илья Юрченко, писатель
Илья Юрченко, когда-то – «голос поколения», «русский Кинг» и «тот самый, кто взорвал Amazon романом о призраках в Кремлёвском метро», возвращался домой не с победой, а с позором, усталостью и билетом в один конец.
Его последний роман, над которым он работал три года, оказался слишком похож на неизвестную повесть провинциального писателя из Мурманска. Интернет сожрал его за неделю – под хэштегами #ЮрченкоВор и #ВернитеПисателямМозги.
Издательство приостановило контракты. Адвокат намекал, что проще будет исчезнуть из поля зрения.
А исчезать Илья умел. Он уже исчезал – когда десять лет назад бросил Россию, родителей, улицу с запахом грибов после дождя и купил студию на верхнем этаже парижской высотки.
Он уехал за границу писать свободно. Там его встречали овации, интервью, галерея обложек с его лицом. Но потом… всё стало тусклым. Вино не бодрило. Язык стал чужим. Женщина, с которой он жил, называла его ghost of his own shadow – тенью своей же тени.
Он не писал уже почти год.
Когда пришёл крах, он выбрал не курорт, не Рим и не реабилитацию в Альпах. Он выбрал Кедровск.
– Вернись домой, – шепнул голос в голове, возможно, принадлежащий матери. Или отцу. Или вовсе не им.
Дом Юрченко стоял на окраине города, как и прежде – облезлый, облупленный, но странно живой. Мать выскочила с объятиями, будто он уехал всего на день. Отец буркнул что-то про старый водонагреватель.
Илья смотрел на улицу через окно, вспоминая, как в детстве за этим стеклом прятался от дождя, а теперь – от чужих глаз и шума. Он собирался просто затаиться. Отлежаться. Переждать. Найти в себе что-то живое.
Он ещё не знал, что сам уже давно был в сети.
Заражение
Утром Илья вышел пройтись. Свежий воздух был плотным, влажным, тянулся за ним, будто обволакивал изнутри. Он прошёл мимо школы, детской площадки, старого магазина, где раньше продавали пирожки с картошкой. Всё выглядело так же.
И всё было не так.
Люди здоровались с ним чересчур вежливо. Они улыбались широко, на одно лицо. Будто маски. Даже Пашка, когда-то худющий хулиган, а теперь владелец бара «Пеньки», встретил его с распростёртыми объятиями.
– Ты не изменился, Юра! – прокричал он, хлопая по спине так, что у писателя перед глазами потемнело. – Мы знали, что ты вернёшься. Всех тянет домой.
Эта фраза… её уже говорила тётя Маруся. Слово в слово.
– Слушай, а что с ней? – спросил Илья. – Я встретил её у дома – она странная какая-то. Смотрела, будто сквозь меня.
Пашка пожал плечами и отхлебнул из кружки.
– Все в возрасте тут такие. Мозги подсыхают. Или наоборот – разбухают.
Он засмеялся. Смех был пустой, деревянный.
Днём Илья пошёл на почту – за посылкой, которую заказал ещё из Парижа.
Очередь двигалась неестественно ровно, будто люди заранее знали, когда сделать шаг.
Мужчина перед ним всё это время держал телефон вверх ногами. Женщина сзади не моргала. Ни разу.
Когда он вышел, у него тряслись пальцы.
В ту ночь скреблись стены.
Сначала он решил, что это мыши. Потом – что крысы.
Но звук шёл не из-под пола, не из подвала. Он как будто исходил изнутри стен. Изнутри самого дома.
На утро мать поставила на стол пирог и сказала:
– Не обращай внимания. Весна. Всё шевелится.
Илья заметил, что под её ногтем – тонкая белая нить. Он моргнул – нити не было.
Он начал писать. Впервые за год. Странные сны, запах земли, влажный воздух – всё это двигало пальцы по клавиатуре. История сама лилась. Он не знал, откуда берутся слова, но они были живыми, шевелились, пульсировали.
На четвёртый день он написал абзац:
«Они не убивают. Они кормятся. Через корни. Через нас. Через всё, что мы оставили в земле. Мы – не хозяева. Мы – сосуды.»
Он не помнил, чтобы писал это.
Лес был последней каплей.
Он пошёл туда на шестой день – словно тянуло. Ноги шли сами. Тропинка вела, как по нитке.
Он заметил, что деревья вросли друг в друга.
Ветви тянулись от одного ствола к другому, словно обнимались. Или срастались.
Под ногами была белёсая паутина. Мицелий. Она покрывала всё – почву, пни, корни. И тянулась за ним.
В какой-то момент он понял, что стоит посреди круга.
И вокруг – тишина. Такая, какая бывает только внутри организма.
Когда он вернулся, было уже темно. Окна домов светились ровно, без мерцания. Люди стояли на порогах. Все. Одновременно.
Они ждали.
– Я уезжаю, – сказал Илья, вбегая в дом, захлопывая за собой дверь и опираясь на неё, как будто за ним гналось само нечто.
Мать, сидевшая за столом с вязанием, не подняла глаз.
– Ты только приехал.
– Здесь что-то не так, – он говорил быстро, спотыкаясь о слова. – Люди… они не люди. Они одинаковые. Они смотрят, как будто знают меня. Всё слишком тихо. А лес… Там… всё срослось. Это как… как в моём сне.
Отец вышел из кухни, вытирая руки о полотенце. Остановился, глядя на сына, как на поломанный прибор.
– Ты плохо выглядишь, – сказал он. – Может, чай?
– Не трогайте меня! – Илья отступил. – Что вы такое?
Мать вздохнула. Поставила спицы в чашку с водой – те начали медленно пузыриться, как будто вязались сами по себе.
– Мы не хотели, чтобы ты узнал так, – сказала она. – Мы думали… ты ещё не готов. Но ты всегда был ближе к нам, чем другие. Слова – они делают тебя мягче. Открытым.
– Вы не мои родители, – прошептал он.
Отец кивнул. Медленно, с каким-то даже уважением.
– Мы – их оболочки. Но твои родители… они были первыми. Первыми, кто согласился. Чтобы ты выжил.
Мать подошла ближе. Лицо её начало расплываться – кожа подрагивала, как плёнка на супе. Из уголков губ начали расползаться тонкие белые нити.
– Ты тоже один из нас, Илья. Всегда был. Просто не знал. Мы забрали тебя с собой – в детстве. Но дали возможность выбрать. И ты выбрал… слова. Они позволили нам расти. Питать сеть. Каждый твой роман – это путь.
– Вы убили мою жизнь, – он отступал, чувствуя, как пол под ногами становится мягче.
– Нет, – ответил отец. – Мы дали ей смысл.
Илья выбежал на улицу. Город уже был… не городом. Он был единым телом.
Люди стояли на своих местах – как клетки. В окнах, у дверей, на скамейках.
Из их ног, из рук, из глаз – тянулись белые нити. Они соединялись в воздухе. В земле. Над головами.
Город дышал.
Он попытался бежать к вокзалу, но понял, что всё давно срослось – улицы замкнулись. Тропинки стали корнями.
Каждый поворот приводил обратно к центру – к площади.
И он пришёл. Потому что всё в нём уже тоже тянулось туда.
В центре стояли все. Мать. Отец. Пашка. Тётя Маруся. Те, кого он знал. И те, кого давно похоронили.
– Мы не одни, – сказали они. – Мы часть. Мы сеть. Мы помним всё.
Илья почувствовал, как внутри него что-то отзывается. Будто жилы – не кровеносные, а грибные – начинают прорастать от позвоночника к пальцам. Будто язык, которым он писал, больше не его.
Он упал на колени.
– Мы устали ждать, – прошептали они. – Пора домой.
Теперь он снова пишет. Не глазами. Не руками. Но всё ещё – живыми словами.
Он пишет истории, которые зовут.
Те, кто читают – слышат их.
Сначала шёпотом. Потом в снах. Потом – на собственной коже.
И однажды, когда они возвращаются домой…
Грибница встречает их с улыбкой.
Поле за посёлком
«Не иди через поле, Вить. Оно запомнит тебя.
А если запомнит – начнёт вспоминать внутри.»
– бабка Оля, дом 6, посёлок Тихий Лес
Когда Витя приехал в посёлок, ему казалось, что вернулся в детство.
Краска на воротах, запах печки, бабушка в старом платке, дачи, где никто уже не дачничал.
Обычный северный юг: сосны, дорожки, облупившийся асфальт и поле.
Поле – как поле.
Между деревьями и автобусной остановкой.
Жухлая трава, остатки бурьяна, плешивый клён на краю.
Не пугающее.
Но все обходили его стороной.
– Мостками иди, – говорила бабка. – Через овраг, потом вдоль берёз. Не срезай.
– Почему?
– Потому что. Там не чисто.
Он посмеялся. Он взрослый, чёрт возьми. Москва, логика, кроссовки за шесть тысяч.
На третий день срезал.
***
Он прошёл поле быстро.
Трава хрустела под ногами.
Небо было синее, и всё казалось – обычным.
Но на выходе – часы на телефоне опаздывали на 14 минут.
Он подумал – баг.
Перезапустил.
Не помогло.
***
На следующий день он снова пошёл через поле.
В этот раз – по диагонали.
Когда вышел, кроссовки были мокрые.
Хотя было сухо.
И земля под ногами гудела, как отдалённый трансформатор.
Он не сказал бабке.
Но ночью не спал.
Снилось, как трава дышит.
Снилось, как он идёт по полю и из-под земли на него смотрят.
Глаза – как галька, без век, без смысла. Просто смотрят.
***
На четвёртый день он пошёл снова.
Теперь – просто чтобы доказать. Себе.
Но в этот раз не нашёл выход.
Идти стал медленно.
Круги. Тропа.
А потом – просто тишина.
Не та, что в деревне.
А та, что в замкнутом помещении.
Под землёй.
Там, где звук глохнет сам в себе.
Он стоял.
И тогда земля зашевелилась.
Не всерьёз. Просто – как будто вдохнула.
Он проснулся дома.
На кровати.
В мокрых кроссовках.
В прихожей стояла бабка.
Смотрела.
– Я же говорила. Оно теперь в тебе.
– Что – оно?..
– Поле. Оно не место.
Оно память. Которую не помнят.
Оно ищет, кто будет её носить.
***
Теперь он не уезжает.
Он живёт у бабки.
Ходит по краю.
Молчит.
На автобус не выходит.
Телефон – не работает.
Когда приезжают новые – он здоровается.
Говорит:
– До остановки лучше через овраг. Полем – нельзя. Там… неудобно.
Если спросить – почему, он улыбается.
Плавно.
Так, будто что-то внутри него улыбается вместе с ним.
26 квадратов
«Метр за метром, мы становимся частью её интерьера.»
Когда они въехали, кот по имени Буба первым делом забился под ванну.
Катя смеялась – «ну, стресс».
Лёша махал рукой – «ну, животина».
А Буба не выходил три дня.
Квартира была странно уютной.
Типа сканди-шик на усталый московский манер: ламинат, икеевский стол, лампа из фикс-прайса.
Цена – подозрительно низкая, даже с учётом «вода бежит, как хочет».
Они вселились весной.
А скрежет услышали на второй неделе.
Сначала – ночью.
Потом – днём.
Потом – из всех углов сразу.
Катя говорила – трубы.
Лёша – соседи.
Буба перестал спать в квартире.
Он ночевал на дверце кухонного шкафа.
А днём – карабкался на холодильник и смотрел в угол, где стена чуть темнела.
На третьей неделе Катя заметила, что не может поставить табурет в прежнее место.
Просто не помещается.
На четвёртой – они не могли одновременно пройти на кухню.
Шкаф, казалось, приблизился.
Стены словно «выпячивались» внутрь.
Катя взяла рулетку.
– Было 26 метров. Сейчас – 24,8.
– Старая лента. Ошибка.
– Я купила новую. Всё равно.
Лёша начал нервничать.
А потом сказал:
– Сегодня Буба ушёл сам. Через щель под дверью. Я не открывал.
Катя открыла блокнот.
Начала фиксировать размеры. Каждый день.
16 апреля – 24.3
18 апреля – 23.9
22 апреля – 23.1
25 апреля – дыхание стены
26 апреля они решили уехать.
Вещи собрали за 15 минут.
Подошли к двери.
Ручка – провернулась, как масло. Но дверь не открылась.
Замок был там, но за ним будто не было коридора.
Окна – наглухо. Пластик стал липким.
Шторы – не отдирались.
Вентиляция – молчала.
А потом стена вздохнула.
Не скрип – не треск.
Именно вздох.
Тихий, тёплый. Влажный.
Катя упала на колени.
– Мы внутри чего-то. Не в квартире. Не в доме.
Лёша молчал.
Смотрел на лампу, которая раскачивалась. Хотя сквозняка не было.
Буба выжил.
Соседи говорили, что кот сидел три дня у подъезда.
Смотрел в одну точку. Потом ушёл.
Слесарь вскрыл дверь – но в квартире было пусто.
Через месяц квартиру выставили снова.
Метраж – 26 кв. м.
Цена – ниже рынка.
В объявлении было добавлено:
Котам – не подходит.
Человекам – только если вы пара.
И не боитесь стен, которые хотят быть ближе.
Память
песни, которые не забываются, даже когда забывают тех, кто их пел
Мальчик с песней в голове
«Музыка – это память. Но не обязательно – твоя.»
Когда Мария Львовна впервые услышала, как Сема Кузьмин напевает мелодию на уроке, она подумала:
«Не из нашего учебника. И не из детского фильма. Интересно.»
Мелодия была странная. Без слов.
Низкая, петляющая. Как будто кто-то шёл по узкому тоннелю с фонариком и каждый шаг отдавался эхом.
Сема напевал тихо, раскачиваясь на стуле, как будто в полудрёме.
– Сема, откуда ты знаешь эту песню?
Он пожал плечами.
– Она у меня в голове.
– А кто поёт её?
– Никто. Она сама. Сема был обычным – тихим, с бледными руками и глазами, которые слишком много смотрят в потолок.
Мать у него работала в аптеке, отец… то ли в командировке, то ли в разводе.
На переменах Сема ни с кем не играл.
Но мелодия звучала каждый день.
И каждую ночь Мария Львовна слышала её во сне.
Сначала она подумала, что просто запомнила.
Но однажды, уже в феврале, она проснулась в три ночи и…
– …она продолжала играть.
Где-то внизу, под полом.
Будто старое пианино, пыльное, с облезшими клавишами, играло само.
Она спустилась – ничего.
Но музыка осталась внутри.
Как будто печатается на внутренней стороне черепа.
На следующем уроке она попросила:
– Сема, спой громче. Я хочу записать.
Он посмотрел на неё… как-то слишком взрослым взглядом.
– Не стоит, Мария Львовна. Если записать, она станет… настоящей.
– Что значит – настоящей?
– Она пока помнит, но не дышит. А если заиграть – она проснётся.
Мария Львовна всё равно записала.
И вечером, на школьном фортепиано в актовом зале, попробовала воспроизвести.
Сначала было пусто. Просто звуки.
Потом – темнота у окна стала будто глубже.
Потом – воздух сгустился.
Потом – кто-то открыл одну из дверей в коридоре.
Но школа была пуста.
С этого вечера она начала видеть людей.
Старых. В серых костюмах. С брошками в виде нот.
Они стояли у школы. Под деревьями. За автобусной остановкой.
И все напевали. Беззвучно. Ртом.
Сема больше не приходил в школу.
Но по вечерам она слышала, как он поёт под её дверью.
А мелодия становилась всё сложнее.
И всё древнее.
***
В школе стали шептаться.
Сначала – что Сема уехал. Потом – что болеет. Потом – тишина.
Мария Львовна пыталась дозвониться матери. Но телефон не отвечал.
Адрес, указанный в документах, оказался закрыт – дверь забита досками.
Дом казался нежилым. Но на окне была надпись, выцарапанная чем-то острым:
«Песня звучит – значит, он жив.»
Каждую ночь мелодия возвращалась.
Мария Львовна больше не включала свет. Она просто сидела в тишине и слушала.
Но теперь в музыку вплетались другие звуки.
Слова. Шёпот на грани понимания. Словно радиопередача из иного времени.
«Помни нас. Спой нас.
Мы были. Мы остались.
Мы – в тебе.»
Она нашла старую запись – в архиве районной библиотеки.
Газета 1979 года.
«В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОПАЛ УЧЕНИК. Последнее, что он сказал матери: „Пой, мама. Пока помнишь мелодию, я ещё рядом.“»
Фамилия – не Кузьмин. Но глаза на фото были те же.
На следующем уроке в пустом классе она попробовала сыграть мелодию заново.
На этот раз – полностью.
Как будто руки сами знали, куда ложиться.
К стене подошёл мужчина. Серый, как грифель.
С морщинами в форме нотных знаков.
Он не дышал.
Он слушал.
За ним ещё один. И ещё.
И каждый – как будто был когда-то учеником. Или учителем.
И все – безголосые.
Слушатели.
Но Сема среди них не было.
Мария Львовна заперлась дома. Пианино заклеила скотчем.
На двери – соль, молитва, записка: «не трогай ноты, если не знаешь слов».
Но песня осталась.
Теперь её пели дети.
На переменах. На улице. В маршрутке.
Только мелодию.
Без слов.
Но глаза у них становились такими же, как у Сёмы. Смотрели вдаль. Или вглубь.
***
На школьном собрании родители просили уволить Марию Львовну.
– У детей тревожность! – кричала одна мать. – У моего сына сны про сцену и черную занавесь! Он говорит, что ему пора выходить!
Мария молчала.
Потом встала.
И тихо – впервые – спела.
Никто не смог её остановить.
Родители онемели.
Кто-то начал рыдать.
Кто-то – смеяться.
Один мужчина вышел в коридор и шепнул по телефону:
– Они поют снова. Как в 79-м. Только раньше были ученики. А теперь – учителя.
Сема появился в последний день весны.
Он стоял у крыльца школы. В старой рубашке, с партитурой в руках.
Мария подошла к нему.
– Ты знал?
Он кивнул.
– Песня старая. Как сама школа. Каждый, кто её споёт, становится частью хора.
Сначала ты поёшь её. А потом – она поёт через тебя.
– Ты можешь уйти?
Сема пожал плечами.
– Только если кто-то другой будет дирижёром.
Он протянул ей партитуру.
Мария посмотрела. Там были только три слова:
«Помни. Пой. Передай.»
***
Теперь школа снова открыта.
Всё кажется обычным.
Только учительница музыки – с серебристыми волосами и взглядом, полным эха.
И дети… всё чаще уходят с урока, напевая беззвучно.
Если услышите эту мелодию в коридоре – не подпевайте.
Если она сама зазвучала в голове – отнесите её кому-то, кто сможет удержать.
Потому что песня не хочет забываться.
Песня – это память.
Но не обязательно – ваша.
Девочка, которая любила Леху Шаньгина
«Герои не умирают. Они просто начинают звучать тише.»
– надпись на стене туалета клуба «Панцирь», Калуга, 2009
Её звали Света.
Светлана, 17 лет, город Мышиногорск, население – 18 000, плюс-минус три похмелья.
Она училась на повара, жила с мамой и мёртвой кошкой, которую до сих пор называла «солнышко» и не выносила с балкона, потому что «не смогла бы просто так».
Она слушала Шаньгу с восьмого класса.
А если быть честной – с той самой ночи, когда её отчим бросил в ванну её любимый плеер, а мама просто посмотрела сквозь неё.
Тогда она достала из шкафа старые кассеты и впервые услышала хриплый, безбашенный голос, который пел о смерти, склепах и королях проклятых тряпичных королевств.
И впервые почувствовала, что кто-то говорит с ней. По-настоящему.
Леха умер в 2013-м.
Умер красиво, громко и в одиночку – как и подобает панк-гитаристу.
На сцене, с гитарой в руках и криком на губах.
Света тогда кричала с ним – перед экраном, в наушниках, одна. А потом плакала неделю.
Она выучила все песни наизусть.
Все интервью.
Номер его паспорта, год рождения, названия всех собак, которые у него были.
Сделала татуировку с надписью: «Где гниёт король, там рождаются стихи» – у самой ключицы.
А в восемнадцать поехала в Питер. На кладбище.
Она стояла над могилой, заваленной письмами, банками из-под энергетиков и смятыми самодельными зинами.
На плите было выбито:
АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН
1974—2013
РОК – ЭТО СМЕРТЬ. А Я – РОК.
Она стояла и шептала:
– Возьми меня. Я – твоя. Всегда была. Я знаю твои слова лучше, чем свои мысли. Я не боюсь смерти. Я боюсь жить, не слыша тебя. Вернись. Или забери меня с собой.
И тогда…
что-то шевельнулось в земле.
***
Света вернулась из Питера другой.
Не сразу, не резко.
Но мама говорила, что она теперь стала «тише».
А подруги – что «от неё пахнет сырой подвалиной».
Света просто улыбалась. Та самая улыбка, которая раньше была для Лехи. Теперь – только для себя.
И для кого-то ещё.
Сначала в почтовом ящике появился листок – мятый, исписанный корявыми строчками:
«Привет, кукла.
А ты правда хочешь знать, каково это – гнить и петь одновременно?
Хочешь ко мне в подземное королевство?
Принеси мне голос.
Верни мой голос – и я вернусь к тебе.
А.Ш.»
Подпись была почти стёрта, но Света узнала. Стиль, орфографию, даже почерк – она изучала его автографы ночами напролёт.
На следующее утро она вытащила с антресолей старый микрофон, с которым отец когда-то объявлял дискотеки в ПТУ.
Собрала на него плату, припаяла провод к старому магнитофону и начала – записывать себя.
Каждую ночь она читала в микрофон слова Шаньги.
Сначала – тексты песен. Потом – свои стихи, стилизованные «под него».
А потом – вещи, которые снились ей после визита на кладбище.
«Гробы стоят, глядят из тьмы,
Их зубы – гвозди, сны – дымы.
В одном лежу я, в другом – ты.
А третий пуст. Ждёт.»
На девятую ночь микрофон стал фонить.
На десятую – зашипел.
На одиннадцатую – он ответил.
– Кукла. Ты отдала мне голос. Теперь я вернусь.
Света плакала и смеялась. Она обнимала колонку, как живого человека.
Голос хрипел, надрывался, кашлял кровью эфира – но был.
Леха вернулся. Или что-то, что было им. Когда-то.
Город заметил.
Кассирша из магазина «Магнолия» перестала здороваться – говорила, что от Светы идут «волны, как от радио, на котором по ночам чешутся мертвецы».
Соседка из квартиры напротив пожаловалась, что через стену слышит «концерты, которых не было».
А директор училища вызвал её к себе и сказал, что её курсовую работу невозможно прочитать без головной боли. Будто она написана чернилами, которые… живут.
