Большие дикари. 100 рассказов о дикой жизни
Размер шрифта: 13
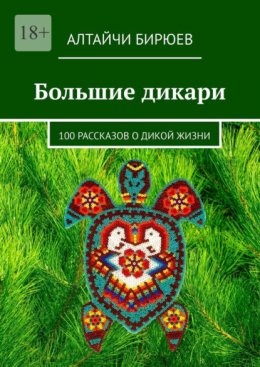
© Алтайчи Бирюев, 2025
ISBN 978-5-0065-9825-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.
От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнём, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой Путь отныне будет!»
(Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», 1855 г.)
Великая Папуасия
Продолжить чтение
