Избранное. Очерки Методологии. Том 2
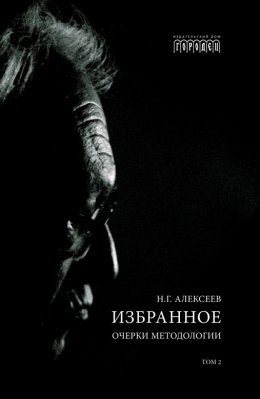
«Меня будоражила наивная мысль: мышление спасет человечество»*
Интервью с Н.Г. Алексеевым
Идя на поводу у своего любопытства, я включаю диктофон и задаю вопросы – на какие способен – всем активным участникам игротехнического и методологического движения. В этом моем (неуклонно растущем) списке достославных мужей Никита Глебович Алексеев занимает особое место. С одной стороны, он застал аж всех (!) отцов-основателей ММК (которые тогда и не подозревали о своей роли). С другой стороны, включившись (не сразу) в ОД-игры под руководством Георгия Петровича Щедровицкого, Никита Глебович достаточно быстро начал проводить свои игры, выращивая в «осваиваемых» городах новые игротехнические команды.
Наша беседа (фрагмент которой я предлагаю читателю) длилась часа три и была прервана только потому, что я опаздывал на метро… Итак, я включаю диктофон, который почему-то (?!) зафиксировал не мой первый вопрос (очевидно, развернутый), а его, Никиты, ответ:
Никита Глебович Алексеев (далее – Н.Г.): …Меня интересует мое собственное понимание, а не точное исследование в научном плане.
– И меня… Но давай начнем с начала. Из ныне действующих методологов-игротехников, не порвавших c ММК, ты сотрудничаешь с Георгием Петровичем дольше всех, а потому – когда и при каких условиях вы познакомились?
Н.Г.: Не помню, на первом или втором курсе МГУ я начал курсовую работу о «случайности и необходимости», после чего мне сказали, что меня разыскивает какой-то Щедровицкий. Ну, разыскивает и разыскивает… Наконец, он меня нашел, и у нас была очень интересная встреча, кажется, в тот же первый день. Мы гуляли – я жил у «Беговой», он у «Сокола» – и, по-моему, раза три-четыре прошли туда-сюда, расставшись очень поздно. Он тогда, если мне память не изменяет, заканчивал тот же философский факультет, только я учился на философском отделении, а он на логическом. Беседовали мы в основном о мышлении. Я чувствовал, что им надо заниматься; меня будоражили наивные, идиотические мысли – мышление спасет человечество, и потому категориями надо заниматься, процессами, механизмами. Это – как я сегодня понимаю – было мало дифференцированное, смутное ощущение, но сидящее как некоторая ценность.
– А почему выбрал философский факультет?
Н.Г.: А понимаешь, тоже забавная вещь… У меня ведь получилось таким образом: отец был расстрелян…класса до 9-го я учился так, что по всем гуманитарным предметам – литература, география, история – было «отлично», за счет очень большого чтения, а по естественным – математика, физика, химия – между «тройкой» и «четверкой». И вот в середине 9-го класса дядя мой спросил: «Куда ты пойдешь и как думаешь жить дальше?» Был он умный мужик, но работал слесарем, спился, поскольку во время войны семь раз бежал из плена, после очередного побега его подобрали американцы, а ты понимаешь, какая у нас послевоенная жизнь была: раз в неделю он должен был ходить регистрироваться… И вот подсунул он мне две мысли. Сказал, что я должен очень хорошо кончить школу, и когда узнал, что по математике и физике у меня не очень, спокойно заметил: «Ты же умный мужик, возьми задачку, разберись, решай, пойми». Я и взял одну задачку математическую, решал ее неделю, поначалу решил через полчаса, потом видоизменял, применял разные способы, исписал толстую тетрадь… После этого у меня по математике и физике, понимаешь, стали появляться одни «отлично», и я вообще задумал идти на математический факультет. Но тут пришла в школу интересная пионервожатая… А училась она на философском факультете!.. Я немножечко за ней приударил, и это предопределило выбор мой, как ни странно. Но не просто так: и гуманитарная наклонность была, и мысль сидела – вот жили люди, голодали, войну пережили, неужели потом не будут знать этого?!
Короче говоря, погуляли мы с Георгием и, думаю, прониклись определенной симпатией.
– А уже существовал ММК?
Н.Г.: Тут, понимаешь, непонятно. Существовал не ММК – в этом много рационализации и реконструкции исторического плана. Понимаешь, было четверо, схватывающих некоторое содержание, была видна группа, ты всех их знаешь, было видно распределение между ними. Как-то чувствовалось, что духовным лидером Саша Зиновьев был; какая-то организаторская функция – при том, что все были самостоятельными людьми, спорили друг с другом, – взята была Георгием, а Грушин и Мамардашвили выступали в каком-то смысле самодеятельными личностями. Было четверо молодых ребят, чуть постарше меня, и к ним сразу подключилась группа – думаю, это была сознательная акция со стороны четверки, – там были Костеловский, ваш покорный слуга, Садовский, Швырев, Финн и Лахути. Это из тех, кого я помню. В тот период мы довольно часто встречались, чаще у Мераба Мамардашвили на квартире, он жил у «Аэропорта», хотя я могу спутать, и у Юры Щедровицкого… Встречались для обсуждения. Помню, я какой-то доклад про операции делал, это заранее обговаривалось. Можно сказать, что так зарождался семинар.
– А помнишь первое впечатление от Георгия Петровича?
Н.Г.: Понимаешь, я через него вошел в группу, и во-вторых, как мне представляется, у нас просто были хорошие дружеские отношения, мы вместе за город ездили, жили сравнительно недалеко друг от друга, мне страшно нравились его родители, я приходил к ним, чай пил, они мне какие-то советы давали. И он ко мне приходил, очень нравился моей маме, и работал он в очень интересном для меня ключе.
– Судя по публикациям, вы довольно быстро стали работать вместе.
Н.Г.: Здесь тоже надо точность восстановить. Я лично эти публикации не писал, хотя обсуждал, а вот в «Педагогике и логике» – там самостоятельная статья[1]. Какие-то идейные вещи мне удалось (конечно, совместно) обозначить. Понимаешь, идея всегда рождается странно, распределенно.
– А почему четверка распалась?
Н.Г.: Об этом лучше у Георгия спросить. Но что, например, получилось с Сашей? Он ушел в логизированные формы, причем еще и формализуемые, начал эти логики обрабатывать, какой-то невероятный крен сделал – потому что мне-то представлялось, что мы во многом вышли из его диссертации, но потом он от этой ориентации – от генетически-содержательной логики – отошел.
– Откуда это утверждение?
Н.Г.: Я не могу восстановить впечатления, которые у меня тогда были. Мы отталкивались от тех, с кем шел спор, это важно понять. Как я могу сейчас восстановить, спорили с тремя оппонентами.
Одни – формальные логики типа Войшвилло. И содержательность была направлена против той формальности, против таких как бы «пустовсеобщих» форм. Предполагалось, что движение мысли имеет какие-то другие характеристики.
– Кем предполагалось?
Н.Г.: Мною, чего уж там. И отсюда возникли, у Саши, скажем, выведение, сведение, и все это понималось как захватывание содержания. В этом смысле такие силлогизмы, как «Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен» – представлялись как не захватывающие содержания, пустые в этом смысле, абсолютно безотносительные. А у нас предполагалось, что форма хотя и общая, но захватывает содержание и творит его. Тогда я этого не знал, но сегодня сказал бы, в аристотелевском духе, – форма, которая создает содержание.
– И потому каждая форма для своего содержания…
Н.Г.: Они могут быть сколь угодно общими. Идея состояла в том, чтобы эти формы найти. Такова была первая оппозиция, и отсюда – содержательность.
Вторая оппозиция, которая достаточно быстро проявилась – я говорю про себя, не могу за всех, – связана была с диалектикой и так называемой диалектической логикой. Через них всеобщность получалась какой-то словесной: первое через второе, второе через третье, и все взаимосвязано, все через противоречие. Вроде бы понимаешь, но с этим как бы делать нечего, не из материала как-то тащится, для этого вроде бы ничем не нужно владеть. Это та всеобщность, которая тоже выступила как пустая. Отсюда пошли споры – вторая линия, в оппозиции к Ильенкову с его компанией.
Здесь важен был момент генетический. Он уже тогда понимался таким образом, что мы должны «тащить» содержание из исторического материала. Пусть смутно, но стали мы догадываться, что надо анализировать тексты и в них находить закономерности. И здесь кто что начал захватывать, каждый свои куски. Я пытался работать с дифференциально-интегральным исчислением – не очень, но пытался. Георгий, помню, с Аристархом начал какой-то пример разбирать, физику Галилея. Два момента – содержательный и генетический – пошли рядом, содержательность «выползает» из истории, надо в историческом материале покопаться, найти, увидеть. Существенно, что та же диссертация Зиновьева опиралась на анализ «Капитала», Грушин работал над формами исторического мышления, вокруг этого шли разговоры.
Наконец, третья оппозиция, которая была весьма очевидной и заложена тогда же, по крайней мере, в моем понимании – это оппозиция к психологии, я сказал бы, к сенсуализму, материалистическому сенсуализму, к тому, что эти формы не присущи одному, индивидуальному, человеку, а есть логика, т. е. нечто надындивидуальное, и что индивидуальное должно через это получить свое объяснение. Примат логического!
Эти три оппозиции задавали ценностно существенные ориентиры. Я больше не буду оговариваться: все, что я говорю, отражает мое понимание.
– А если теперь перескочить через генерации, которые просачивались через семинар?
Н.Г.: Их было очень много. Но я должен сказать, что года на два выскочил, потому что интересовали другие вещи, приходил раз в полгода, мне люди эти были интересны, тогда начали появляться Розин, Генисаретский… Но семинарили они вечерами, а я работал, преподавал математику в «вечерке» Ленинградского района, пять лет отработал и даже похвалюсь, что дважды или трижды признавался лучшим учителем района. А еще новые друзья появились, интересные, богемные – из артистической сферы, я с ними много спорил… В шахматы играл…
С Георгием резких расхождений не было, хотя помню две встречи, после которых мне было неприятно. Как-то он мне сказал: «Вон, Вадим Розин развивается, а ты – стоишь!» А я думаю: «Ну и черт с ним, пусть развивается». Плохая, наверное, черта – честолюбия лишен… И еще случай был, его тоже надо вспомнить: в одном из заговоров я участвовал, не скрывал и ему про это сказал. При обсуждении его работы по Аристарху, «краевых процессов» и прочее я выступил на семинаре у, если не ошибаюсь, Петра Алексеевича Шеварева, пытался работу раздраконить. Сейчас понимаю, глупый был поступок.
– Но это был не личный, а содержательный конфликт?
Н.Г.: Понимаешь, это никогда не понятно, насколько он содержательный, все перепутывается, поскольку для содержательного, критического разбора необходимо личное отношение. По крайней мере, тогда мне так надо было, а сейчас, может быть, могу обойтись. А оказалось, что Георгий думал ту работу двигать на кандидатскую диссертацию. Если бы я это знал, ни за что бы не выступил. А может быть, это миф…
– Ладно, проскочим к играм. Почему участвовал или не участвовал в первых, почему на каком-то этапе включился? Я слышал, что «старая гвардия» не стала участвовать в играх, потому что кто-то якобы сказал: мне интересно было изучать мышление Канта, но не МарьИванны…
Н.Г.: У меня не было этого. Понимаешь, могу засветить тебе все точки, как я их помню. В первой игре я не участвовал, впервые пришел на обсуждение в Институт психологии, там обсуждалась И-3.
– Первые две прошли мимо?! При том, что И-2 длилась чуть ли не год?!
Н.Г.: Ну, не интересовала. Абсолютно! А когда пришел, стал спрашивать: что это такое? И никак не мог понять – не мог понять их заинтересованности, увлеченности. И домой пришел, все думал. Бросалась в глаза живость обсуждения. Ни слова не помню из него, кроме их увлеченности. Может быть, это моя характеристика, Георгий говорит: «Ты психологист», – но для меня существенно, как люди обсуждают… И все же потом вновь большой кусок пропустил, понимаешь, вел несколько методологических семинаров – помимо семинара по рефлексии, проблемы которой меня тогда очень интересовали, вел большой семинар во ВНИИТЭ, откуда потом многие работы вышли, Швырева в частности, Бориса Юдина, Мирского…
– Иными словами, живость обсуждения поразила, но в игру ты так и не вошел?
Н.Г.: Не вошел, хотя о них знал, иногда даже выступал на общих заседаниях. Знал, что такая действительность существует и что «деятели» появились. А первая игра, на которую я попал, была в МИНХиГП, в Москве, кажется, И-21, я Ладушку (Алексеева Лада Никитична, дочь – прим. ред. сборника) с собой брал. Эта игра произвела на меня очень сильное впечатление и в то же время оказалась для меня очень тормозной. Сразу два момента отмечаю, пост-рефлексивных. Георгию очень понравилась тогда моя рефлексия после игры. Он даже сказал: «Лично, Кит, ты меня обогнал!..» В чем я мог его обогнать? По какому-то вопросу – так я понял смысл. Я наглядно увидел, причем совершенно конкретно, что могу развить некоторые свои способности. До того я помнил 10–15 имен-отчеств, а за игру смог это число утроить! Я понял, что это возможно при определенном отношении к людям, когда человек этот становится для меня очень существенным. Затем добавляется небольшая техника, и тогда, буквально на автомате, захватывается… Меня этот факт просто поразил, потому что был очень принципиальным: в ходе игры я могу с собой нечто сделать! Или со мной может нечто сделаться! Я оба эти момента учитывал уже тогда. Поразительно – за короткий момент я могу себя переделать или меня переделает, я переделаюсь. Оба залога здесь есть.
Это первое. А второе – у меня была схемка рефлексии, предварительно несколько продуманная, и на игре я ее увидал!.. Еще раз, причем, увидел впервые сам, оформил ее. Известная схемка: остановка, фиксация и т. д. Помню свидетельство Громыко и Петра [Щедровицкого], они потом неделю пытались ее опровергнуть, но не смогли. Ну, понимаешь, хорошая схемка навязывается. И не важно, кто ее оформил, но если она связана с действительностью, с мыследеятельностью, то она садится, а уточнять ее можно потом.
И третий результат: во время игры, в рефлексии, я сразу сказал, что ОД-игра – это практика методологии. По-видимому, для Георгия эта было существенно. Не потому, что он этого не знал, а скорее потому, что это был взгляд авторитетный и со стороны. Обрати внимание: схема, которую я вчерне продумывал вне и не для игры, здесь заработала. Более того, ее можно запустить в действие и проверять, а затем с ее помощью нечто сделать. Вот что было неимоверно значимым: до игры я видел практику методологии поверхностно и узко – в научных исследованиях, в организациях. А здесь непосредственно в жизни!
И потом для меня чрезвычайно важно, как человек говорит. Он может сказать: «Волга впадает в Каспийское море» – и это будет открытием…
– Для него?
Н.Г.: Но в этом смысле и для меня… Он же это по-своему прожил, а когда человек выдает прожитое, он это говорит иначе. Вот на моих играх выходит человек, воспроизводит, скажем, простенькую схему доклада, но я-то чувствую, что он внутренне до нее долез, допер – сам! По глазам чувствую, по голосу, по строению речи. А тогда и то, что человек сказал, становится для меня значимым, возникает к нему определенный тип отношения, и не могу после сказать ему, что это уже лет 20 как известно. Понимаешь, я могу его проблематизировать, но и сама проблематизация резко меняется.
– Если он заново открыл закон Ньютона, ты перестаешь относиться к нему, как ИванИванычу, а начинаешь – как к Ньютону?
Н.Г.: Совершенно верно. Но я забыл сказать о тормозящем влиянии первой же игры. Мне ни в коем случае нельзя было идти исследователем, занимая внешнюю позицию. Мне следовало прожить игру, при случае выйти к доске, нечто сказать, а я постеснялся. В результате породил в себе мифы, преодолеть которые потом было очень трудно. Хотя я и общительный человек, легко вступаю в коммуникацию, но – плохо вижу, плохо слышу, а потому казалось, что вылезать на широкое поле деятельности – очень сомнительно, понимаешь… И это держалось очень долго. И еще была одна причина затыка: до последнего времени мне казалось, что для развития игры в нее требуется вкладывать только то, что работает на ее развитие. Идея идиотская, но – держала. Возникал план «постороннего», причем не Георгий держал, а что-то непонятное.
Один момент запомнился, когда я Георгия выгнал… Мы что-то обсуждали, оживились, а он заходит и сразу со своим типичным номером: «Что вы тут понимаете?» А я ему тут же: «А ты что понимаешь?» Он засмущался и выскочил… Я же тогда просто взбесился: тоже мне еще, не успел войти, а уже все схватил!
А другая игра, под Верхним Волочком, запомнилась мне крупной своей неудачей. Вывели группу на один очень хороший предметный проект, но не хватило у меня понимания – снять движение работы и выйти с чисто методологическим докладом. В каком-то смысле трагический для меня момент…
– Но почему, проведя мало игр с Г.П., ты пришел к осознанию необходимости проводить свои игры как разработчик и руководитель?
Н.Г.: Не торопись. До этого я сыграл еще несколько игр не своих, и они оказались для меня принципиально важными. Вначале меня пригласил Сазонов на игру в Ульяновск, там в методологической группе кроме меня работали Сева Авксентьев и Рифат Шайхутдинов. Там я очень активно выступал на оргрефлексии. И вторая с Сазоновым игра, на ЗИЛе – с «Карбюратором». Борис [Сазонов] уехал, что-то у него с матерью случилось, игру вел я и породил очень сильную, с моей точки зрения, схему стратегии, или, как я ее сейчас более точно определяю, норм стратегического мышления. Четыре нормы, очень простые, оргдеятельностные. Главное – с их помощью я могу и собой управлять, и другими, игру построить на них. Не знаю, есть ли оно у других, но я понятие стратегии имею. Эту схему я не только помню, но пару раз использовал, один раз даже услышал в ее адрес – гениальная! Когда она вовремя вброшена, с модификациями…
И очень большое значение имело одно замечание Бориса. Как-то я на его игре вел консультацию и, отвечая на вопрос: «Может ли культура быть товаром?», впал в некоторый пафос. Я же видел, что люди вокруг заворожены, абсолютно точно видел: вот скажу сейчас «Встали и пошли», – и все пойдут… Потом Борис мне сказал, что для него это было, как сошествие Иисуса Христа. Что я тогда говорил конкретно, не помню, но точно такого в игре со мной никогда не было. И это меня переориентировало: я впервые понял, что могу сам игру провести. Я понял, что все это – насчет слуха, зрения, отставания мышления – были мои домыслы…
Заметки к соотношению мыследеятельности и сознания*
Заметки эти дались автору с большим трудом; на нелюбовь к письму наложилась первоначально еще не осознаваемая установка сделать их методологически личными, сколь ни странным может показаться и прозвучать такое сочетание. То же самое, но в других словах: заметки эти субъективны, выражают личное видение и понимание обсуждаемого в них, не претендуя на некую общезначимость. Отсюда просьба к возможным читателям: учитывайте это.
1. Логически, а не по времени, первым встал вопрос о смысле обсуждения темы. Мне близко утверждение В. Франкла о том, что смысл не строится, а находится; в него, правда, следует внести поправку – прежде, чем найтись, смысл должен быть как-то, возможно и многими ходами, предзадан, в неявленной форме уже существовать. «Полная» цепочка становления смысла может быть представлена в последовательности уже трех «звеньев». Они суть предыстория, обнаружение и рефлексия с рационализацией. Как только мы лишаемся одного из них, так со смыслом происходит что-то не то. Без предыстории он не имеет своих собственных корней и как чуждый, чужой склонен и стремится, прежде всего, к формальному (вплоть до формалистического) разворачиванию и разработке. Вне нахождения или обнаружения он не имеет качества новизны, есть лишь продолжающийся старый смысл. Вне рефлексии с последующей ее рационалистической проработкой он не передаваем, не транслируется.
Когда в феврале прошлого года в Киеве на II съезде методологов была объявлена тематика следующего, III съезда, то первая моя реакция была достаточно сложной, в ней сошлись, по крайней мере, три версии:
воздействие доклада «индологов», в котором угадывалось нечто стоящее, ранее в нем не охваченное, что побуждало строить «объемлющую рамку»;
определенная неудовлетворенность завышенным удельным весом игр в методологическом движении;
смутное ощущение возможности прорыва – то, что коренится, на мой взгляд, в сути методологического подхода вообще.
Сказанное – было, но куда-то «нырнуло» и на время затаилось, его оказалось недостаточно. Необходим был еще некоторый, но вполне конкретный, рабочий контекст. Таковым оказался грант (от Института человека), замысленный его участниками как сведение счетов, даже расправа с тоталитарным мышлением и сознанием. Участники предстоящей работы были психологами, я же привлечен был ими в качестве методологической службы. Что меня поразило уже в тексте заявки на работу – это синонимия, полное неразличение мышления и сознания, которые выступали как одно и то же. Заработала старая традиция ММК: не различается – надо различать.
Немногое дало обращение к истории вопроса. Вроде бы достаточно отчетливым было различение мышления и сознания у Гегеля (различение логики и феноменологии); весьма вероятно, что глубокие соображения имелись у Фихте в развертывании форм сознания. Это и, бесспорно, еще многое другое требует тщательной и неторопливой проработки. Тем не менее, представление о том, что само различие мышления, мыслительной деятельности, мыследеятельности (порядок не случаен, он выстраивается для методологической постановки вопроса) и сознания не выступало как конструктивный принцип, осталось незыблемым. В этом просто не было необходимости; думаю, что сейчас такая необходимость начинает проявляться.
Обосновать ее обращением к «ситуативной предыстории», конечно, нельзя, это было бы смешной натяжкой. У одного одни ситуации, у другого другие, а представить надо нечто, могущее иметь общее значение, позволяющее осуществить переход от субъективного к объективному идеализму.
2. На семинаре по политологии в Калининграде обратил на себя внимание тезис П.Г. Щедровицкого о рамках. Если я правильно понял, то он – в следующем: рамка тогда и только тогда является действительно рамкой, если человек, строя (беря, видя) ее, помещает себя в нее и некоторым образом в ней действует, но – и это принципиально – находится и вне ее, действуя с помощью этой рамки для других (что определяется контекстом) целей и другим образом. Обрисовано это было двумя изображениями одного «человечка»; одно из них было в овале, т. е. внутри, а другое вовне, и между ними, разумеется, была связь. Упомянуть об этом представилось необходимым, ибо три подобных конструкции – три рамки – существенны для приобретения смысла в постановке проблемы соотношения мыследеятельности и сознания.
Первая из них – логика «изысканий» (здесь, к сожалению, очень трудно найти и адекватное, и единственное точное слово) по мышлению в ММК. На мой взгляд, применительно, и только, к общей цели ведущегося разбора эту логику изысканий можно представить так: исследование – проектирование – практика. Кратко поясню. Само исследование было предуготовляющим (что частично в те времена осознавалось, но в обобщенно-абстрактном виде) к последующему действию; важно было разобраться на выбранных образцах, как нечто может быть достигнуто в нормах. Сознание при этом (прошу прощения за невольную игру слов) сознательно игнорировалось, то есть особым образом учитывалось, отсюда тезис об антипсихологизме. Важна была жесткая демаркация. При этом – еще раз подчеркну, только в рассматриваемом ракурсе – началась теоретическая сборка ранее наработанного с введением одного нового, принципиально важного момента – типологически деятельностного, позволяющего конструировать целостности, собирать их в различные формы с учетом социокультурных особенностей, деятельностных позиций. Сознание при продолжающемся его «игнорировании» начало типологизироваться, расслаиваться на различные сознания сфер или сообществ, уже «внутрь» которых оказалась перенесенной исходная оппозиция мышления и сознания. Характерно (и очень интересно для изучения), что выходящие на этом рубеже из ММК начали делать ставку именно на сознание, его анализ и т. д. Практика организационно-деятельностных игр столкнула с сознанием напрямую – как с разнообразием индивидуальных сознаний, так и с их типологическими характеристиками. Как бы «незаконно» в наш обиход вошли совершенно новые слова: ценность, самоопределение и т. п. Уже десятилетие именно они начинают осмысляться в первую очередь, несут ключевую нагрузку.
Здесь, пожалуй, самая трудная для формулирования (возможно, и для понимания) резюмирующая часть: именно за счет резкости противопоставления, за счет его удержания само различение мыследеятельности (мышления) и сознания приобретает смысл. Более того, такое различение уже накопило, как я старался краткими штрихами показать, содержательный потенциал, требующий своего раскрытия. Трехчленка «исследование – проектирование – практика» изысканий по мышлению в ММК фиксирует завершение цикла; введение сознания «в работу» ММК может открыть новый цикл. Новый – но с учетом предыдущего, уже прошедшего. Мы имеем и гарантию, что не будет утеряно и прошлое, а переосмыслено в новых контекстах. Я имею в качестве таковой гарантии Г.П. Щедровицкого, организатора и мыслителя, владеющего редким даром: всякий раз обращаясь к истории, приумножать новое; согласно Конфуцию, это – дар учителя.
Внутренне противоречивой мне представляется вторая рамка – рамка той ситуации в стране, в которой мы сейчас находимся: по данному выше определению, мы должны быть также «вне ее». Вопрос: получается ли? держим ли и этот второй необходимый компонент рамки? Либо нас просто протаскивает через обстоятельства, и мы только это и осознаем? Как-то патетично получается, чего не хотелось бы. Складывается, тем не менее, впечатление некоторой потери в темпе. Трудно сказать, с чем это связано, феноменологически можно лишь констатировать по многим самым разнообразным фактам (приведу произвольно лишь два из них: наличие эффектно играющих команд, вообще отрицательно относящихся к методологическим «штудиям», и схоластическую вымученность некоторых компендиумов с попыткой «полно» изложить методологию как некоторую таким образом транслируемую систему) снижение – за некоторыми немногочисленными исключениями – уровня теоретико-методологических работ, прежде всего, в аспекте глубины и дальности их воздействия. Мне кажется, что ранее это имело место; мне также кажется, что в настоящее время, время наибольшей практичности, наиболее уместной может стать «спокойная», «непрямо» практическая теоретико-методологическая работа. Вполне возможно, что «выход» на сознание дает определенный шанс. Возможно. Или кажется, поскольку обосновать это с принудительной силой я не в состоянии.
О третьей рамке – культурно-исторической. Думается, что сейчас уже начался и начинает бурно нарастать второй фиксируемый в истории переворот в системе трансляции. Можно верить, можно не верить в закон отрицания отрицания, но глобальные процессы изменения в трансляции с помощью этой схемы могут быть описаны. Дописьменные формы передачи опыта и знаний строились на живой коммуникации. Появление письменности во многом ее трансформировало; возникновение и развитие современных технических средств знаменует введение специфических заместителей непосредственной коммуникации. Представляется, что трансляционные процессы далее будут строиться при помощи таких заместителей, т. е. опять приобретут преимущественно коммуникативную форму, снимающую – по закону отрицания отрицания – привычные нам формы, в каком-то смысле возвращающие уже на достигнутом техническом уровне «живую коммуникацию». На мой взгляд, если мы хотим заглянуть в будущее, простраивая идеальные объекты для завтрашнего дня, то не учитывать этого нельзя; по-иному, в частности, необходимо будет трактовать и соотношение мыследеятельности и сознания. Продвинутая компьютеризация, например, воздействует на индивидуальные сознания за счет возможности их подключения – и легкого подключения – по надобности к общему (общим) электронному «со-знанию», что не может не сказаться не только на их «наполнениях», но и на структурах и способах организации. Более того, думается, что мы находимся перед началом самых разнообразных (удачных и не очень) имитаций мыслительных (в узком смысле слова) и даже мыследеятельностных процессов. Ко всему этому необходимо отнестись. Если в шутку, то мне вспоминается трактат одного из первых наших кибернетиков, очень способного и одаренного воображением инженера А. Михневича. Весьма знаменателен финал текста: «Настанет время, когда последнего человека сдадут в музей Истории человечества»…
Выделение трех вышеуказанных рамок имело для меня две цели: обосновать, насколько я мог, необходимость самой постановки проблемы соотношения мыследеятельности и сознания, и как бы положить пути ее обсуждения. Важно, чтобы обе эти цели были; реализовываться другими они будут по-другому: иными будут рамки, иными их развороты, выживут же наиболее удачные.
Вернусь к самому началу данных заметок, к трехчленке разворачивания смысла «предыстория – обнаружение – рефлексия с рационализацией». Рамки задают, определяют предысторию как некоторую объективность, как то, в чем происходит наше движение; в ситуативной предыстории и в истории возникает обнаружение смысла. В цепи конкретных событий нечто вдруг становится принципиально важным; к рефлексии с рационализацией сейчас и предстоит перейти.
3. Соотношение мышления (мыследеятельности) и сознания можно проанализировать следующими тремя основными заходами: от мышления к сознанию; от сознания к мышлению; в объемлющем контексте. Первый ход опирается в основном на игровую практику; второй эксплицитно никогда не провозглашался, да и не мог провозглашаться, но богатейший материал для него накопился, на мой взгляд, в «проектировочном» периоде развития ММК; третий ход предполагает возвращение – конечно, с учетом всего накопленного – к теоретико-деятельностным разработкам первого периода, в том числе, необходимо подчеркнуть, к разработкам по семиотике.
Очевидно, что соответствующие разработки при принятии такого плана анализа могут быть весьма обширными, здесь же я в общем виде сделаю лишь два замечания.
Первое – «наблюдательское». Предполагаемая последовательность ходов рассмотрения противоположна, идет «с конца» действительной истории развития ММК. Мне это не представляется случайным, напротив, как уже ранее фиксировалось, связанным с завершением определенного цикла развития соответствующих идей, с доведением их в этом цикле до практической реализации. По «Книге перемен» («И цзин») творческий импульс истончается в месте (среде) собственного исполнения, что, конечно, не означает – а это уже по Шеллингу – его потенциального (идеального) исчерпывания. Ход «с конца» в этой связи, между прочим, означает последовательное снятие тех ограничений, что накладывались в техническом разворачивании – и это естественно, так должно быть – импульса, что хорошо схватывается в двух основных значениях слова «утончение» в русском языке.
Весьма интересна одна, получившая широкое хождение два-три года назад, констатация из практики игр – тезис об избыточности методологических средств. В ней, на мой взгляд, фактически содержится осознание одного из типов ограничений: ограничения, связанного с реализуемостью. Хочется добавить, что подобные ограничения настолько очевидны, «естественны», что именно в силу этого ускользают от внимания анализа; требуется особая культура – культура работы с очевидностью, с тем, что массовидно и повседневно по своему существу либо начинает становиться таковым. Представляется, что такая культура есть неотъемлемый компонент философского (и как продолжающего его – методологического) подхода. На этом, кстати говоря, базируется принудительность и «само-собой-разумеемость» на долгое время получаемых результатов, определенное время исправно работающих «мегамашин».
Второе замечание относится к дальнейшему изложению. В нем очень частично и лишь в первом приближении я постараюсь дать структуру первого захода «от мышления к сознанию», а также наметить – только наметить – планируемый выше второй, противоположный первому, ход. Выйти на более широкое целое (что связано с проработкой соотношения мыследеятельности и деятельности) мне пока не удалось.
4. Соотношение мышления, мыслительной деятельности, мыследеятельности и сознания, по-видимому, задает три разные проблемы, соответствующие, как уже указывалось, различным, и по этому аспекту выделенным, этапам истории ММК. Если брать последний, игровой период, то ведущей, или определяющей, является пятичленная схема коллективной мыследеятельности; собственно, эта схема и есть ее наиболее общее определение. И когда при анализе соотношения мы от нее «идем» к сознанию, то возникает вопрос, от чего конкретно отталкиваться: от схемы в целом (что мне не удалось) или от какого-нибудь ее компонента (была выбрана мыслекоммуникация)? К чему же «придти», представлялось интуитивно ясным: к рабочей характеристике сознания, наиболее часто используемой на играх же. Согласно такой характеристике, достаточно закономерно возникает образ сознания как некоторого «резервуара», своеобразного хранилища, а если с сарказмом и иронией – то кучи, мусорной корзины или свалки. Кстати сказать, именно последнее мы всегда подразумеваем и в обычном словоупотреблении, когда говорим о путаном сознании. Подтверждается это и в первом, приближенном, феноменологическом описании. Достаточно задаться вопросом, а в каких соотношениях друг к другу находятся различные организованности сознания, чтобы стал очевидным простой и в чем-то удивительный ответ: в самых разных! Организованности сознания в отношении друг к другу могут выступать и как противоречивые, и как взаимодополняющие, совместимые и несовместные, зависимые и независимые, в самых различных типах обуславливания и т. д. и т. п., – и все это в одном, произвольно взятом, индивидуальном сознании, нечто подобное «женской логике». Сие получило свое обоснование и в философии; представьте себе, что мы поверим и примем механизмы порождения идей во внешнем опыте, предложенные Локком: ассоциации (связи) по смежности, сходству и контрасту, и как только примем, сразу и с неизбежностью получим вышеописанную картину. Парадоксально, что она действительно есть, что сознание выступает как организованное и неорганизованное одновременно.
Возникает желание его «почистить», внести организованность. Я опущу здесь крайне животрепещущую сейчас этическую сторону подобного желания (это требует особого и не очень легкого разбора), подчеркну лишь, что в мировой культуре сложились две (опуская промежуточные, смешанные формы) традиции работы с сознанием. С первой из них связаны техники работы, направленные на очищение сознания посредством как бы его полного физического опустошения, приведения к своеобразному нулевому состоянию, где некий сохраняющийся «маяк» (он может быть самым различным, вплоть до аморфного, размытого фона) определяет возможность последующего упорядочивания сознания как бы заново. Таковы различные техники медитации, методы Р. Штейнера, «чистка сознания» по К. Кастанеде и др. Их все условно можно назвать «восточным подходом», естественно-искусственным способом. Возможна и принципиально иная ставка – ставка на борьбу через посредство логоса; здесь при воздействии на сознания (имеются в виду индивидуальные сознания) используются другие техники: проблематизация и распредмечивание, идеализация и схематизация, рефлексия и т. д. «Играющим людям» они хорошо знакомы; их, в свою очередь, можно обозначить «западным подходом», или искусственно-естественным способом. В плане своей практической реализации указанные техники наиболее полно разработаны в ОДИ.
Сказанное дает возможность перейти к соотношению, но предварительно еще следует выяснить, каким образом, через что его характеризовать. В общем-то, знать нечто – означает выразить его через другое. В нашем случае представляется уместным построить различение посредством категориальных связок, т. е. используя привычный для нашей традиции аппарат. Способ характеристики уточняется, в нем возникло несколько кандидатов (вполне возможны и другие) на проведение различения: внешнее и внутреннее, искусственное и естественное, процесс и результат. Выбор пал на последнее.
Существенным и принципиальным в игротехническом опыте является то, что «работаем» мы с материалом (вступаем в диалог, поддерживаем и т. д.): с отдельными субъектами, с игроками каждой данной ОДИ, любой из которых имеет свое и всегда конкретное индивидуальное сознание, а организуем и управляем – и это второй слой нашей «работы» – совместной, включающей и игроков, и организаторов игры, коллективной мыследеятельностью, текущей между всеми участниками игры.
И здесь проступает обозначенное выше различение, выражаемое в методологической рефлексии в категориальной связке «процесс – результат», переводящей снятый в ОДИ практический ракурс в теоретическое различение. Согласно ему мыследеятельность начинает трактоваться как процесс – процесс, заранее, в ходе подготовки игры, продумываемый, а следовательно (с корректировками), ее организующий и ею управляющий, и то, что откладывается, отпечатывается в сознании в ходе этого процесса, представляется его результатом.
В процессе мыследеятельности, коллективной мыследеятельности, первоосновой, тем, откуда все идет и, в конечном счете, за что все «цепляется», является ее коммуникативная составляющая. Если принять это за аксиому, то становится очевидной центральная роль анализа форм, или способов, организации коммуникации и выбора соответствующих средств ее проведения. Такой подход разворачивается в разработке открытой системы понятий; среди них можно указать, например, на такие, как позиция, самоопределение и т. д. Отметим, что через организацию значимого для участников диалога в ОДИ достигается подключение «субъективирующих процессов» мыследеятельности, понимания и рефлексии, служащих – что в данном рассмотрении принципиально важно – переходным мостиком от существующей вовне деятельности, актов деятельности, к их «овнутрению», к индивидуальным сознаниям участников игры.
Итак, процессы мыследеятельности отпечатываются на специфических живых субстратах, в индивидуальных сознаниях. Можно рискнуть сделать заявление, что это, с той или иной силой или глубиной «отпечатка», имеет место всегда, будь то ОДИ либо какая-нибудь значимая жизненная ситуация. Теперь предстоит выяснить: что отпечатывается? Иногда это выражается в иной форме: что снимается? В ответе целесообразнее всего прибегнуть к представлению о многослойности, делая тем самым – как бы это ни показалось завышенным – кардинальный шаг, уже переводящий нас к структурам сознания, а тем самым и к постулированному вначале «обратному ходу» – от сознания к мыследеятельности.
Приведем простое – насколько возможно простое – различение: одно дело, когда отпечатывается склеенное, сращенное с предметностью представление, и другое, когда отпечатывается сам путь движения, «взятие» данной предметности. Объективируясь в сознании, эти два отпечатка будут играть в нем весьма различные роли, обслуживать различные его функции. Описав их в логике, идеально, мы получим первую, пусть примитивную, структуру сознания, полученную – что представляется даже сверхважным – не через компилятивную обработку, а через общую игротехническую практику и собственный опыт в ней.
5. В данных заметках мне хотелось выстроить себе плацдарм для последующей работы, т. е. попытаться «подергать» проблему с разных, кажущихся значимыми, сторон. Многое потом может показаться и наивным, и просто неправильным, тем не менее, кое-что нащупано, почувствовалось и даже начало собираться, образовался материал для обдумывания и практики. Если изложенное хоть в чем-то поможет интересующимся данной проблематикой, то автор будет считать свою задачу выполненной.
Стратегия разработок по использованию оди в системе педагогического образования*
Уже с момента возникновения Московского методологического кружка (ММК) в конце 50-х годов, а особенно после появления в 1979 году ОДИ, развиваемые в нем идеи оказали и продолжают оказывать все более сильное влияние на отечественную (и не только) психолого-педагогическую мысль. Первоначально это влияние осуществлялось через различные формы непосредственных контактов. Сейчас, с появлением игр, в методологическое движение включились в той или иной форме тысячи, возможно, десятки тысяч людей. Думается, это имело и имеет как свои позитивные, так и негативные последствия. В любом случае вновь остро возникает вопрос (проблема) трансляции методологического движения в целом; вопрос о том, как должны развиваться игротехника и методология, избегая по возможности ловушек и провалов, связанных с процессами омассовления самой этой деятельности. Это относится и к методологическим разработкам, ориентированным на проблемы образования, обучения и воспитания. Указанная проблема, кроме социальной, связанной с омассовлением и, соответственно, «ремесленизацией» деятельности, имеет и свою внутреннюю, внутридеятельностную сторону: методология умирает в своем продукте, «продуктное» движение превращает методологию в научную дисциплину; суть дела не меняется от возможных приставок-прилагательных: комплексная, синтезирующая или даже управляющая научная дисциплина. Может быть, умирание – жизнь вспышками – вообще судьба методологий, но все-таки хотелось бы этого избежать, поскольку думается, что далеко не все ресурсы движения уже исчерпаны.
Все это имеет прямое отношение к замыслу нашей разработки. Проанализируем этапы ведущейся трехлетней работы. В 1991 году мы сосредоточили свои усилия на организации экспериментальных площадок исследования, т. е. на первичной выборке педагогов и других работников образования с целью их практического ознакомления с методами и приемами работы ОДИ. Ha втором этапе, охватывающем 1992 год, выделенные и получившие первичную практику в ОДИ педагоги под руководством и при консультации разработчиков должны (по плану) приложить усилия к переработке освоенных средств и представлений применительно к специфическим условиям своей деятельности, что предполагает в первую очередь их самостоятельную работу. Наконец, в 1993 году (третий планируемый этап) они уже (по замыслу) должны строить собственное окружение, т. е. научиться передавать (по-видимому, по типу ОДИ) свои собственные наработки. Разработчики проекта при этом выполняют функции экспертов и консультантов.
Нам думается, что в таком построении закладывается особый механизм трансляции, во многом альтернативный тем механизмам, которые пока еще преобладают в сфере образования. Этот альтернативный механизм мы пока условно назвали «коммуникативной трансляцией», подчеркивая особенно важное и большое место, отводимое в нем непосредственно живой коммуникации, позволяющей быстро и эффективно решать возникающие вопросы и затруднения. Неверно было бы утверждать, что подобные механизмы трансляции ранее не существовали в практике. Например, механизм такого рода заложен в трансляцию идей и методов научной школы классического образца XIX – начала ХХ вв.; думается, весьма сходные механизмы реализуются в религиозных организациях; вероятно их использование и в других случаях. Для нас же существенно апробировать данный механизм применительно к сфере образования.
В статье мы обсудим стратегию нашей работы в данном направлении, наши цели, те результаты, которые мы ожидаем от работы, а также возможные негативные последствия разработки. Но сначала мы введем общее представление о стратегии, дающее нам возможность в соответствии с ним строить нашу разработку.
Существует много самых разнообразных определений стратегии из военного искусства, из политики, да и из других сфер человеческой деятельности. Наша задача не состоит в том, чтобы поставить в их ряд еще одно; не состоит она и в попытке объединить их, выделяя нечто общее, присущее им всем. Смысл дела, если его кратко определить, – в разработке процессуального аспекта, можно даже сказать – процессуально-рабочего. Иными словами, смысл – в «стратегировании», т. е. в создании механизма или инструмента построения стратегии, выделении и фиксации норм, лежащих в основании стратегического подхода к выбранному для себя делу, к его мыслительному (идеальному) обдумыванию и предварительному проигрыванию. Будучи втянутым в реальный процесс, подобный инструмент выполняет две основные функции: отбор нужного материала и, частично (поскольку включаются и другие средства), его преобразование. Такой подход к построению представления (понятия) о чем-либо вообще свойственен методологическим разработкам, базирующимся на идеях ММК, в частности, на схеме двухплоскостного ортогонального строения любого действительно работающего мыслительного образования.
Впервые это представление возникло в непосредственной практической ситуации при проведении ОДИ с московским заводом «Карбюратор», входящим в объединение «ЗИЛ». В середине 1980-х годов несколько разных команд провели серию ОДИ на тему стратегии развития (перестройки) заводов, промышленных объединений, ИПК и других организаций. Само слово «стратегия» при этом выносилось в заглавие ОДИ, ее разработка являлась одним из ведущих стержней игрового действия. Организующая его методологическая группа с необходимостью должна была «по идее» иметь (выработать) соответствующее понятие. В случае ОДИ на заводе «Карбюратор» его необходимо было представить в виде последовательности тактов общего движения игры, когда каждый из тактов определяет игровой день. Отметим, что играющие должны были сначала в своем реальном действии последовательно прожить процесс «стратегирования» – разработки различных стратегий развития своего предприятия, понять и оценить их и лишь затем последовательно, шаг за шагом, отрефлектировать сам процесс создания собственных стратегий. Разработанное методологами представление о стратегии прошло при этом весьма жесткое апробирование, в чем-то весьма сходное с естественным процессом отбора и закрепления слов в разговорном языке: надуманное и усложненное, а главное, не дающее возможности строить действие и понимать действия других (организационно-деятельностная и онтологическая составляющие) сразу же отметается, не выдерживая практической проверки. Созданное на данной ОДИ представление о стратегии было задействовано и на ряде других игр. Нам представляется, что оно может эффективно использоваться и для продумывания и планирования самых различных научно-исследовательских разработок, в том числе и в сфере образования, особенно, если эти разработки рассчитаны на перспективу и планируются не как отдельные изолированные акции, а в качестве развертывающейся системы действий, в конечном счете определяемых ценностными установками ее проектантов.
Именно с ценностей и начинается приводимое ниже на схеме № 1 представление о стратегии. Сама схема, неся отпечаток способа своего возникновения, организована как последовательность четырех блоков (каждый из которых служил средством организации игрового дня), а их последовательность задает содержательно-предметное движение в соответствующих (посвященных стратегии) ОДИ.
Вкратце разберем смысл отдельных элементов схемы и некоторые ее общие характеристики. Это даст нам возможность понимать общую (методологическую) конструкцию стратегии развертывания разработок по нашему проекту «Использование ОДИ в системе педагогического образования».
Схема 1. Схема рефлексивной стратегии
Несколько общих замечаний по схеме в целом.
Во-первых, выделенные в ней функциональные этапы (1–4) задают логику стратегирования. Как уже указывалось, этот порядок отражает не только факт (тип) первоначального конструирования схемы в условиях подготовки и проведения ОДИ, но и необходимость систематического изложения. В реальной практике вполне возможны перестановки, возвращения от одного функционального этапа к предыдущему, своеобразные возвратные и кольцевые движения. Более того, подобные возвраты и перестановки являются эмпирической нормой конкретных разработок.
Во-вторых, функционально различную роль имеет каждый из двух элементов левого столбца схемы: первый как бы предзадан, уже очевиден либо из предшествующего опыта, либо непосредственно из предыдущих этапов разработки стратегии (с последним связан перенос правого элемента по схеме на ступень ниже в левую часть). Второй же элемент левого столбца выражает то, над чем в данный момент времени идет работа и поиск; в игровых ситуациях он всегда ситуативен (момент ситуативности сохраняется и при других формах использования схемы). Построение содержания правой части схемы – что является практической целью каждого этапа – складывается, таким образом, из связывания уже предзаданного и привносимого нового.
Вкратце поясним теперь части (блоки) схемы.
В первой части представлен один из возможных механизмов формирования и формулировки целей. Утверждается, что необходимо последовательно (а в какой-то мере и неуклонно) проводить соотнесение (связывание) ценностей строящего стратегию с его позицией (позициями). Важно подчеркнуть не единственность, а множественность существования и того, и другого. Предполагается, что ценности уже предзаданы, сложились в предшествующем опыте разработчика в качестве некоторых достаточно устойчивых (странно, если бы это было не так) образований, и задача состоит в их адекватном – в разбираемом отношении – выделении и кодификации. Под позицией прежде всего имеется в виду способ реализации ценности, включающий в себя место, с которого она реализуется, отношение (качество и степень) к другим ценностным установкам и т. п. Позиция, таким образом, выступает как активность, реализуемая в проведении ценности: в ней ценность не декларируется, не просто заявляется, а живет, реализует свой потенциал, либо – противоположный случай – уходит от самовыражения. Неопределенность позиции (для разбираемых случаев «стратегирования») связана с невключенностью в действие. Таким образом, сам процесс связывания ценности и позиции для получения цели есть процесс практический, существенным моментом которого (если он не имеет четко выраженного формалистического характера) является ответственность за то, что в выбранном деле может быть сделано.
Итак, суть первого блока стратегии – в полагании целей. Положенные цели доопределяются (частично изменяются) в последующих блоках.
Возможно, неожиданным (как было, по крайней мере, для нас), а также проблематичным и даже спорным является ход рассуждений по второму блоку, а именно: как получаются средства? Суть выдвигаемого утверждения в том, что они возникают в коммуникации при сопоставлении (согласовании либо противопоставлении) позиций или собственно целей. Мыслекоммуникация при этом может быть как реальной и состоять в фактическом и непосредственном диалоге заинтересованных лиц, так и протекать в режиме имитации. Сопоставление позиций по отношению к чему-либо образует проблемное поле, уяснение способа выхода из него (разрешения, углубления и т. п.) служит толчком, который при рефлексивном оформлении является ведущим в появлении или образовании новых средств для продолжения деятельности. Положение, имеющее, не побоимся сказать, колоссальное эвристическое значение.
Если следовать гегелевской традиции и терминологии, то во втором блоке происходит уже не полагание целей (целеполагание), а целеопределение.
Третий блок (единица) предлагаемого представления о стратегии (а значит, и стратегии нашей разработки) строится по тому же пути: для получения результатов средства полагаются уже заданными (что не противоречит возможности их дальнейшего уточнения и переопределения), вторым же «ситуативным» элементом берутся условия. Важно подчеркнуть, что условия – весьма активный элемент, они формируются и идут от разработчика. В этом смысле условия противоположны обстоятельствам, которые от деятеля не зависимы. Обстоятельства преобразуются в условия через наложение на первые ограничений. В том, какие ограничения окажутся наложенными, проявляется активная сторона деятеля, его цели, средства и т. д.
Полученные результаты (четвертый блок), включаясь в ткань деятельности и мыследеятельности, начинают в ней «жить» уже независимо от породивших их деятелей и иногда не совсем так, как им хотелось бы. Это факт, ставший в настоящее время хорошо известным и предполагающий еще до получения результатов предварительное обдумывание и просчет тех воздействий, положительных и отрицательных, которые полученные продукты (или результаты) могут оказать. Это не может не относиться и к педагогическим разработкам, хотя, насколько нам известно, этому – особенно негативным последствиям – практически не уделяется внимания, как будто бы само их появление просто невозможно. Учет последствий, на наш взгляд, связан с выходом в более широкое целое по сравнению с организованностями, в которых производится конкретная разработка. Одной из форм такого выхода является учет тенденций, через которые просчитываются ситуации будущего, куда вводятся результаты разработки, т. е. те места, где результаты будут «жить», играя ту или иную роль. Анализ последствий уже с иной точки зрения, но на основе заранее проделанной работы в предыдущих блоках стратегирования, выводит на первоначально сформулированные цели и на базовые ценности. Конец стратегического движения замыкается на его начало, образуя кольцевую структуру.
Описание предметизации схемы по замыслу нашего научно-исследовательского проекта составляет содержание следующих разделов статьи.
Общая цель нашей работы – распространение «идеологии» и методов ОДИ на сферу образования. Здесь мы дадим ее расшифровку. Как уже было установлено ранее, это предполагает особое связывание ценностей и позиций разработчиков, к чему теперь следует добавить: на особом типе действования – методолого-игровых методах, прикладываемых также к специфическим ситуациям образования (обучения). Это можно представить на схеме 2.
Как видно, связывание наших ценностей и наших позиций идет двумя основными путями: через принадлежность к одной культуре (ММК и ОДИ) и через обращение пусть и к предельно широкому, но мыслимому в качестве единого, материалу (образование и обучение). Этим определяется центральная ценность – ценность методологизации.
Схема 2. Предметизация схемы стратегирования на сфере образования
Ее можно определять по-разному, более того, разнообразие выступает не как недостаток, а как норма и достоинство. Наши представления о ценности методологизации мы развернем, обсудив, во-первых, соотношение общечеловеческих, культурных и деятельностных ценностей, а во-вторых, состав деятельностных ценностей методологизации.
Провести различение общечеловеческих, общекультурных и деятельностных ценностей необходимо, поскольку именно последние непосредственно влияют на построение и проведение стратегии нашей работы. Мы, конечно, понимаем, что и первое, и второе, и третье суть своего рода абстракции, в том числе – абстракции усреднения, когда речь идет не об отдельных индивидах, а о различных коллективах людей. Индивидуальные ценности уже по своему полаганию уникальны и во всех своих особенностях неповторимы, что проявляется и в деятельности индивида, обеспечивая ее разнообразие. Относится это в полной мере и к лицам, составляющим коллектив разработчиков. Вряд ли можно сказать, что по своим общечеловеческим ценностям они отличаются от других коллективов людей; единственное, что, пожалуй, следует отметить: это преобладание общечеловеческих ценностей активного порядка. Иное положение с общекультурными ценностями, что связано с прохождением всех участников работы (хотя и по разным траекториям) через ММК, который образует в отечественной современной поликультуре мощное и специфическое субобразование. Укажем на некоторые специфические для ММК ценности. Это, во-первых, осознанное или неосознанное (в данном случае это безразлично) стремление к групповой работе и ее приоритет, что выделяет ее из других форм творчества; во-вторых, стремление к межпрофессиональной деятельности с понижением значимости профессионализма и замыкания в нем; в-третьих, выделение методологизма (форма методологизма при этом может быть самой различной) и вера в него как в будущую культурную парадигму; далее, складывающаяся почти на автоматическом уровне привычка к анализу ситуации, какой бы характер последняя ни носила. Если попытаться построить обобщенный портрет методолога, то он напоминает пионера Америки конца XVIII – начала XIX вв., двигавшегося (и имевшего на то возможности) все дальше и дальше без освоения и тщательной проработки территории на уже освоенных рубежах. Методолог, как и американский пионер, стремится все сделать сам, ни от кого не завися. И, продолжая аналогию, как последний верил в свои силы, так и методолог верит в свою способность осмыслить ситуацию и построить средства выхода из нее. Его оружием является уже не винтовка, а рефлексивное снятие своего опыта. Этим сравнением нам хотелось не столько последовательно описать (а это крайне сложная задача) систему общекультурных норм ММК, сколько дать ее хотя бы по возможности почувствовать и представить, чтобы перейти к тому, как и во что они преобразуются в деятельностном залоге.
а) Ценность мыследеятельности. Вовлекая всю личностную структуру своих мыслекоммуникантов в мыследействие, методолог стремится реализовать именно его, разрушая – как препоны к мышлению – привычные формы и способы действия. У методолога это «в крови». Что бы ни утверждал тот или иной член ММК относительно своего отношения к мышлению, даже к методологии, указанное свойство как ценность является его отличающей и выделяющей – по его действиям – чертой. Применительно к нашим разработкам интересно сравнить в данном отношении научный и методологический подходы: первый, говоря о мышлении и ценности его развития у учащихся, разрабатывает методы, способы и приемы решения задач и проблем; методолог же видит свою цель в построении проблемности как таковой, полагая (во многом справедливо), что, в конце концов, дело учащихся справляться с ними. Справедливости же ради следует отметить, что методолог проблематизирует и себя наряду с остальными участниками коллективного действия. В мировой культуре (за исключением отдельных техник коанов в дзен-буддизме), пожалуй, нет направления, которое столько бы времени посвящало техникам проблематизации.
б) Ценность развития, которая полагается выше остальных, поскольку обеспечивает движение, процесс. Вполне возможно, что это отголосок неокантианства, повернутого в социально-психологический аспект; достаточно вспомнить «ревизиониста» с его «движение все, результат ничто». Впрочем, здесь происходит интересная сдвижка, даже аберрация – собственно движение и становится искомым и желательным результатом. Данная ценность – такова, думается, судьба любых реально работающих ценностей – существует не отдельно, как нечто изолированное и выделенное, а тесно коррелирует с другими, в частности, с ценностью мыследеятельности. Важно не просто строить мыследеятельность, а обеспечить ее развитие. По отношению к обучению (более широко – к образованию) это специфицируется в тезисе о развитии в первую очередь мыслительных способностей. Характерно отрицательное отношение, сложившееся в ММК к передаче «готовых форм» мыслительной деятельности, различных логических приемов и способов. Они должны быть построены в действии, порой мучительном и тяжелом. Их построение самим человеком, в его опыте, обеспечивает достижение, по крайней мере, двух вещей: а) уникальности, сращенности приобретаемой техники с личностью и, следовательно, б) актуальной возможности ее последующего развития как личного достояния, как своего.
в) Как же получается этот эффект своего? С этим связана третья работающая ценность – ценность рефлективного опыта оформления. Идея эта восходит в ее сущностном моменте к работам И.Г. Фихте, впервые тесно связавшего свободу и мышление через рефлексию: свобода появляется не просто в возможности произвольно совершить нечто (здесь свобода оказывается связанной материалом, над которым совершалось действие), а в идеальном оформлении совершенного (сиречь в рефлексии); последнее предполагает внутренние (по замыслу Фихте) средства, то есть свои, те, которые выбираются самим действующим, и мы имеем бытие несвязанной свободы. Возможно, данное рассуждение несколько сложно и требует перевода на более простой язык. Сделаем это: включенный в деятельность человек является одновременно и действующим, и испытывающим действие других (по крайней мере, последним он «связан»). В осмыслении, рефлексии прошедшего им избирается своя – подчеркнем, своя – точка зрения или угол зрения (он не связан); выделенное и оцененное им в прошедшем действовании и есть его опыт в его уникальных особенностях как деятеля. Общее для всех получает свое конкретное, специфическое выражение. Рефлексивное снятие, оформление опыта как ценность дает возможность по-особому взглянуть на игровые методы, а именно как на то, что обеспечивает возможность проживания нестандартного опыта (и его критики в проблематизации), причем – за счет имитации различных вариантов действия – в максимально полной по возможностям ситуации форме. Ценность игры и ценность рефлексивного снятия опыта оказываются неразрывными аспектами (фокусами) одного и того же.
Теперь мы остановимся (согласно введенной схеме стратегии) на общих способах реализации изложенных ценностей, то есть позициях.
В практической работе методолога, в частности на играх, огрубленно можно выделить следующие четыре основных позиции (места): проектировщика, конструктора, ОРУ (организация руководства и управления), исследователя. Опять же с огрублениями можно констатировать, что целостность работы методолога в каком-либо конкретном деле задается прохождением по всем указанным позициям относительно предмета его работы (что и реализует его ценности), предполагающим построение специфичного пространства для предмета разработки.
Итак, первоначальная цель (общая цель) нашей работы была определена как методологизация; сказанное дает возможность раскрыть, что это значит. Именно это означает экспансию собственной – методологической – деятельности. Экспансию в смысле расширения за счет привлечения к ней все новых и новых участников, экспансию за счет развития деятельности в сфере народного образования уже их усилиями.
Следовательно, основная цель и состоит в «заражении» (термин Л.Н. Толстого) вовлекаемых в орбиту деятелей народного образования и учеников ценностями методологии, в выработке у них способностей работать методологически (в частности, двигаться по вышеуказанным позициям), в формировании у них способности к коллективной мыследеятельности и т. д.
Не побоимся сказать, что такой подход несет в себе тенденцию к элитарности. Но вопрос заключается в том, как передать, прежде всего, не только эти способности, но все то перечисленное, что оправдывает их наличие. Как возможно добиться этого, какими путями? Фактически, это вопрос о средствах, к их описанию мы сейчас и перейдем.
Средства деятельности не предзаданы – по преимуществу – в самой деятельности, а вырабатываются в ее процессе, но особым образом организованном. Думается, что это специфическая черта методологического (в отличие, скажем, от научного) подхода вообще. О типе и характере такой организации следует рассказать. Фактически, мы приходим под этим углом зрения к квалификации ОДИ как пути получения новых средств деятельности.
В игре – относительно ее проблематики – сталкиваются (это организуется специальным подбором участников) разные позиции, взгляды, точки зрения и т. д.; каждая из них претендует не только на лидерство, но и на непогрешимость. Такова ситуация, выход из которой предполагает два последовательных организационных решения: создание предметного контура обсуждений и вывод его в чистую логику, в идеальный мыслительный план, по терминологии игр – в мыследействие (идеализацию, схематизацию и т. д.) в узком значении этого слова. Осуществляется это через организацию коммуникации участников. В первом случае, как правило, ситуация держится вокруг одного (во многом произвольно выбранного, но тематически важного) вопроса или конфликта, игротехнически это достигается двумя основными путями: отрезанием, блокированием всех остальных возможностей обсуждения (а они беспрерывно возникают как бы естественным путем) и углублением, проблематизацией по выбранному пути обсуждения, в первую очередь за счет показа иллюзорности предлагаемых решений. Во втором случае используется прием «поднимания вверх»: уже принятые коммуникантами положения, носящие предметный характер, как бы берутся за основу, и ставится вопрос, который в общем виде можно сформулировать так: «А как это получилось? Что было проделано нами, что привело к такому результату?» Собственно, этот момент в организации коммуникации уже специфичен для ОДИ. Он предполагает наличие методологических средств, поскольку речь идет не о решении того или иного вопроса или проблемы, сколь важными или существенными они бы ни представлялись, а о выработке способности к определенным видам мыследеятельности, о включении в нее.
Для кодификации «результативной части» удобно воспользоваться следующей позиционной разверткой, выделяющей группы коммуникантов:
школьники;
педагоги и воспитатели в школе;
руководители народного образования и методисты;
научные исследователи (психологи, педагоги, социологи), работающие в сфере народного образования.
Разберем «результаты» в их возможном (а частично уже и полученном) качественном содержании по каждой из этих групп.
Первые «взрослые» ОДИ, в которые были привлечены учащиеся (в самом широком диапазоне: от школьников 3-4-х классов до студентов), показали: во-первых, их можно вовлекать в ОДИ; во-вторых, они играют более продуктивно, чем взрослые. Так, на одной из игр, посвященных градоустройству и строительству, лучшие заключительные проекты были разработаны подростками. Получаемый результат в игре с учащимися лучше всего сравнить с детонатором интеллектуальной активности (направленность взрыва непредсказуема). Результаты есть, их даже много, но то, во что они воплотятся, лежит далеко за временными пределами игры. Несколько учащихся избрали для себя путь игротехники и методологии (ценность методологизации!).
Педагоги и воспитатели школы являются центральным «объектом» нашей работы. Они достаточно активно вовлекаются в игру, но по сравнению с представителями других специальностей они более «занормированы», их труднее вырвать из привычных и ставших удобными форм и средств реализации своей деятельности. Получаемые в ОДИ результаты зависят от типа педагога. Опытные и умелые учителя «обнаруживают», часто неожиданно для самих себя, что некоторые из приемов и техник прошедшей игры лежат где-то в центре их собственных умений. Это придает им уверенность в правильности собственного выбора и служит эффективным стимулятором интенсивного развития интуитивно «нащупанных» техник. Активная молодежь, педагоги прямо из вуза, как правило, безоговорочно принимают идеологию и методы ОДИ, их последующий путь полон как восторгов, так и неудач. Наиболее сложная ситуация у «середняков», значительную часть которых составляют люди, примирившиеся со своей судьбой и «тянущие лямку» своей работы. Они начинают резко осознавать и это, и возможности по-другому строить свою жизнь. В зависимости от индивидуального склада и особенностей реакции на игру ее воздействия могут приобретать самый разнообразный характер. Обобщенно же результатом работы мы считаем формирование нескольких экспериментальных площадок, педагогических групп, самостоятельно выбравших свой путь (начало его формирования происходит в ОДИ), в которых ценности методологизации продолжают жить в трансформированном виде.
Руководители народного образования, как нам представляется, рекрутируются в основном двумя путями: из людей, которым нечего делать в школе, и наоборот, из наиболее полезных для практического преподавания педагогов. Первых хотелось бы, по возможности, вовсе «не трогать», вторые являются кандидатами в организаторы и руководители экспериментальных площадок. Центральным для их развития – подчеркнем: самостоятельного – на игре является освоение демонстрируемых игротехниками и методологами техник организации, руководства и управления совместной коллективной деятельностью и мыследеятельностью. В этом и состоит их главный результат.
Для педагогических разработок характерно то, что их негативные последствия, как правило, замалчиваются. Попытаться же просчитать их – дело чрезвычайно существенное. Соратник Вольтера, французский философ и эссеист Л. Вовенарг во «Фрагментах» писал: «Следует так обдумать свои замыслы, чтобы даже неудача приносила нам известные выгоды, – гласит максима кардинала де Реца, – надо сказать, превосходная максима» [Вовенарг, 1988 [162]]. Нельзя не оценить совет де Реца-Вовенарга: неудачи, насколько это возможно, должны быть просчитаны и определены. Это достигается посредством соотнесения результатов с тенденциями, обнаруживающимися в текущем опыте.
Обращение к внешним причинам было бы поверхностным, да они и неуправляемы (это все равно, что разводить руками, ссылаясь на не зависящие от нас обстоятельства). Внутренние же причины коренятся в самом деле методологизации, в «природе» средств действования и в обосновывающей идеологии. В данном случае мы имеем в виду проблематизацию, направленную на распредмечивание привычных (традиционных, стереотипных и т. п.) приемов, средств и методов деятельности. Овладение соответствующими техниками («перпендикулярные» вопросы, демонстрация непонимания и т. п.) наряду с позитивной стороной проблематизации попутно порождает и негативные последствия, связанные с легко достигаемым «всемогуществом» или всесилием по отношению к любой предметной деятельности. Это поддерживается быстрой капитуляцией ее представителей перед игротехническим нажимом, что и порождает искус чисто технического игрового воздействия, ремесленного восприятия и овладения игрой.
Свое наиболее яркое положение эта тенденция получила в тезисе об игротехнологах. Казалось бы, небольшое изменение в слове, но оно фактически отражает примат технического аспекта, технологии над всем остальным. Это ведет к развитию (в конечном счете, к автоматизации) технических моментов в отрыве от породивших их ценностей, к ремеслу по любому заказу. Потеря культурных ценностей оборачивается люмпенизацией (факты подобного рода в игровом движении также есть). Игра без исходных ценностей развития превращается в игру только на разрушение. Не случайно таким командам не удается перепредметизация участников игры; собственно, их игры заканчиваются на третий-четвертый день, когда полное распредмечивание достигнуто, а обязательное в классике ОДИ движение вверх, к совместной выработке идеальных представлений, позволяющих участникам «собрать» себя по-новому, а следовательно, построить свою предметную, профессиональную деятельность на более эффективных основаниях, не только не строится, но и отрицается, по существу.
