Советская ведомственность
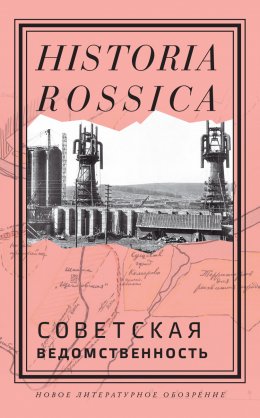
УДК 32(091)(470+571)«19»
ББК 63.3(2)6-33
С56
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман Редактор серии И. Мартынюк Работа выполнена в рамках реализации гранта Российского научного фонда, проект № 20-78-10010
Советская ведомственность: Коллективная монография под редакцией И. Н. Стася – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Historia Rossica»).
Что такое ведомственность? Что мы знаем об этом феномене, который был частью политической, социальной и экономической жизни в Советском Союзе? Дает ли нам знание о ведомственности возможность лучше понять советское государство? Данная коллективная монография впервые в российской историографии пытается комплексно посмотреть на явление советской ведомственности и интерпретировать институциональную историю СССР в новом ракурсе ведомственного подхода. Такая аналитическая позиция означает не просто рассмотрение ведомственности как объекта исследования, но настройку исследовательской оптики, где ведомственность выступает своеобразной призмой, позволяющей описывать и объяснять различные пространства советской истории. Эта теоретическая рамка раскрывает ведомственность через категории системы управления, материального воплощения, социальной практики и дискурса. Авторы книги показывают самые различные аспекты советской действительности, в которых определялись и отражались ведомственные отношения: использование риторики о государственных интересах, усиление директорского корпуса предприятий, формирование трудовых коллективов, становление территориально-производственных комплексов, капитальное городское строительство и жилищные условия, социальная политика и музеефикация индустриального наследия, публичная сатира и художественная литература.
В оформлении обложки использованы фрагменты фотографий: Новокузнецк. Строительство Кузнецкого металлургического комбината. Доменный цех (фрагмент). 15 сентября 1931 года. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 11. Л. 5 об. Фото 2; Кемерово. Пояснительная схема планировки города. Московское отделение Горстройпроекта, 1938 год. ГАРФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 7583. Л. 80.
ISBN 978-5-4448-2834-2 ISBN 978-5-4448-2834-3
© И. Н. Стась, состав, введение, 2025 © Авторы, 2025 © Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025 © ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Благодарности
Эта коллективная монография, которую читатель держит в руках, была подготовлена по итогам работы научной конференции «Ведомственность в истории СССР», прошедшей в стенах Тюменского государственного университета 15–16 апреля 2022 года. Организаторы получили пятьдесят четыре заявки, но в результате отобрали лишь семнадцать докладов, вокруг которых состоялись основные дискуссии конференции. Задача была не просто поговорить об институциональной истории Советского Союза, но рассмотреть конкретный феномен ведомственности и предложить исследовательскую рамку для его изучения. Участниками того двухдневного обсуждения стали М. Г. Агапов, С. А. Баканов, Н. С. Байкалов, К. Д. Бугров, С. И. Веселов, С. А. Власов, Р. Р. Гильминтинов, С. С. Духанов, А. В. Захарченко, А. С. Иванов, Д. В. Кирилюк, М. А. Клинова, Ф. С. Корандей, О. Ю. Никонова, М. О. Пискунов, М. В. Ромашова, А. В. Сметанин, И. Н. Стась, А. В. Трофимов, А. А. Фокин, Е. А. Чечкина. Затем последовала долгая и тяжелая работа по написанию текстов, редактированию и согласованию общей рукописи монографии. Не все участники той бурной дискуссии стали авторами этой книги, однако их советы, реплики и вопросы бесценно помогли в написании текстов и тем самым стали частью общего интеллектуального вклада.
Данная монография была подготовлена в рамках реализации исследовательского проекта Российского научного фонда № 20-78-10010 «Ведомственность как фактор в истории освоения Российского Севера (1930–1980‑е годы): регионализм, конфликты интересов, институциональные структуры и идентификационные стратегии». Команда ученых, которая работала над этим проектом в 2020–2023 годах, выступила основным костяком в организации конференции и составлении книги. В грантовом исследовательском коллективе в разное время состояли Н. В. Гонина, В. В. Зубов, А. С. Иванов, В. А. Книжников, Ф. С. Корандей, Н. А. Михалев, Е. В. Полянский, Н. Н. Рашевская, И. Н. Стась, Е. А. Чечкина. Введение, главы 1, 2 и 12 книги выполнены непосредственно при поддержке Российского научного фонда.
Подобный труд не мог бы состояться без общения с учеными, которые интересовались тематикой ведомственности и были сопричастны данному исследованию. Впервые о ведомственной оптике в изучении советской истории я услышал от своего научного руководителя Г. Ю. Колевой, которая в 2011 году предложила мне посмотреть на становление городов в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе через призму ведомственности. Собственно, с тех пор и зародилась идея показать советское прошлое посредством этого явления, за что я сердечно признателен Г. Ю. Колевой. Проблема ведомственности неоднократно обсуждалась на кафедре истории и культурологии Тюменского государственного нефтегазового университета, где я учился в аспирантуре и где тогда трудились историки Г. Ю. Колева, Н. Ю. Гаврилова, В. П. Карпов и М. В. Комгорт, принадлежавшие к тюменской школе изучения истории нефтегазового освоения Западной Сибири. Ведомственное освоение Крайнего Севера также было постоянной темой для разговоров в Сургутском государственном университете, в котором я работал в 2014–2020 годах среди замечательных исследователей и преподавателей М. А. Авимской, Д. В. Кирилюка, А. С. Иванова, В. И. Бобейко, А. И. Делицоя, О. А. Задорожней и А. И. Прищепы. Сегодня политика ведомственных организаций часто анализируется коллегами в Центре урбанистики ТюмГУ. Без содействия его руководителя С. А. Козлова было бы сложно осуществить этот исследовательский проект. И конечно, стоит сказать о молодых тюменских историках М. С. Мочалине и А. В. Михалишине, с которыми мы постоянно говорим о ведомственном факторе в советском городском развитии.
Авторский коллектив монографии также глубоко благодарит исследователей, с которыми удалось обсудить различные аспекты ведомственной истории России в период подготовки данной книги: редакторскую команду журнала Ab Imperio – И. В. Герасимова, А. М. Семенова, М. Б. Могильнер, С. В. Глебова; профессора Назарбаев Университета – М. Ю. Ломоносова; профессора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге – Н. В. Ссорина-Чайкова; профессора МГУ им. М. В. Ломоносова – А. Н. Пилясова; директора Института региональных исторических исследований НИУ ВШЭ – Е. М. Болтунову; главного научного сотрудника Института истории СО РАН – С. А. Красильникова; профессора НИУ ВШЭ – О. В. Хлевнюка.
Я хотел бы сказать отдельное спасибо редакторам «Нового литературного обозрения» А. Л. Куманькову и И. C. Мартынюку, поверившим в эту книгу, а также своей дорогой супруге Дарье Пядуховой, которая помогла в нелегком деле редактирования рукописи.
Игорь Стась, декабрь 2024 года
Игорь Стась
Введение. Советская ведомственность и ведомственный подход в изучении советской истории1
Эта книга посвящена феномену советской ведомственности. Кажется, что для российской историографии подобная работа должна была выйти лет на двадцать раньше, когда в историческую науку в России стали проникать идеи постревизионизма по отношению к советскому прошлому. Однако споры о модерности и субъективности в СССР, которые активно велись в зарубежной русистике, практически никак не преломились в новых версиях советской истории, написанных российскими авторами. Апологетика прогрессистского нарратива о развитии СССР зачастую редуцировала социальный и политический порядок Советского государства, описывая его в больших понятиях «цивилизации», «модернизации», «индустриализации», «мобилизационной экономики», «административно-командной системы» и т. д. Такая оптика выстраивала обобщающую и гомогенную историю Советского Союза, вытесняя из него самые разные контексты и дискурсы. Например, отечественные историки так и не включились в дискуссию о советской альтернативной модерности, и, вместо того чтобы показать разнообразие ее контекстов, они в основном сосредоточились на вульгарной генерализации советской истории в рамках процесса «модернизации» или «цивилизационного развития».
Попав в подобную интеллектуальную ловушку, российская историография в значительной степени отказалась от объяснительных теорий среднего уровня при описании истории СССР. Противоположная ситуация наблюдалась в сообществе зарубежных историков, которые предложили множество интерпретационных моделей для советского прошлого. Эти концепции вписывались в более широкие рамки дискуссий о субъективности, онтологическом повороте и материальности, постколониальной и феминистской критике, национализме и империи, экологической и глобальной истории. Плюрализм исторических направлений был частью общей антропологической парадигмы в изучении СССР, где фокус сместился от исследования систем, структур и процессов к анализу социальных практик и репрезентаций – отношений и идентичностей, перформансов и ритуалов, дискурсов и эпистемологий. В этом фокусе стали важны голоса самих современников, язык которых включал понятия и дефиниции, повсеместно использовавшиеся в коммуникациях и риторике, нередко объяснявших существующую действительность для самих участников событий. Вместе с тем историки не видели в понятийном аппарате современников возможность его преобразования в аналитические категории. Они предпочитали использовать современный терминологический инструментарий, не связанный с историческим контекстом.
Типичным примером такого парадокса можно назвать понятие «ведомственности». Авторы данной книги задумались над тем, а могут ли исследователи применить категорию «ведомственность» в качестве объяснительной формулы при описании и анализе самых разных сюжетов из советской истории. По сути, это означает предложить своеобразный ведомственный подход, который, вероятно, позволит сформулировать новые вопросы к советскому обществу и даже, возможно, отыскать нетривиальные ответы. Познание советского через понятие его собственного дискурса, частью которого, несомненно, была ведомственность, для кого-то может показаться слишком абсурдной задачей, поскольку этот термин сам по себе мало что дает исследователю. Однако в данной книге ведомственный подход – это не привязка к одному предикату, а интерпретационная оптика, способствующая через ведомственные контексты увидеть агентов самых различных отношений, практик, дискурсов и репрезентаций. С моей точки зрения, это означает не просто рассматривать ведомственность как объект исследования, который можно изучать посредством других концептуальных рамок, но наделить ее саму определенным операционализационным функционалом. То есть отказаться от эссенциализации этого понятия, а посмотреть на него как на инструмент анализа и схему интерпретации советского общества.
Эвристические возможности любой концепции определяются ее универсальностью, которую можно приложить в изучении явлений из разных контекстов. Понятное дело, что ведомственный подход не стоит рассматривать как метатеорию, объясняющую общества из разных культур и времен. Ведомственный подход – это теория среднего уровня, чье ключевое понятие «ведомственность» порождено советской эпохой и, соответственно, для советской эпохи в первую очередь применимо. Точнее, этот подход нужно использовать тогда, когда сама проблема ведомственных отношений артикулировалась современниками. В случае с советской эпохой это понятие определялось весьма универсально – как определенная первостепенность идентификации с предприятием или министерской вертикалью, проявляющейся в коммуникациях с другими субъектами. Такую идентичность с предприятием или министерством многие исследователи могут называть по-разному – корпоративизм, институционализм или камерализм, но авторы данной книги акцентируют внимание на том, что для советской истории это явление имело собственное имя.
Ведомственность – это отвлеченное или абстрактное существительное, образованное от прилагательного «ведомственный», которое, в свою очередь, соотносится с существительным «ведомство», то есть свойственный или принадлежащий ведомству. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона отмечает, что понятие «ведомство» происходит от слова «ведать» – знать, уметь управлять. Авторы словаря указывают, что «ведомство» лучше всего соответствует иностранному слову «компетенция» и представляет собой не столько само государственное учреждение, сколько область государственных задач, возложенных на учреждение. И эта компетенция определяется тремя вещами: «родом дел» (законодательным, судебным или административным), «пространством действия власти» (общегосударственным или местным), «взаимным отношением» (иерархией высших и низших учреждений одной и той же отрасли управления)2. В толковом словаре В. Даля глагол «ведать» не только означает «знать, иметь о чем сведение, весть, ведомость, знание», но и определяет состояние власти – «заведовать или править, управлять, распоряжаться по праву»3. Соответственно, ведомственность как предикат лексем «ведомственный/ведомство/ведать» можно описывать и объяснять главным образом как практику управления, которую осуществляли учреждения, получившие от государства определенные права «ведать» и «знать». Вероятно, так это явление воспринимали и сами советские граждане.
Такая интерпретация ведомственности идеально отражает фукианскую модель отношений власти, в которой власть реализуется через знание: ведомство – это тот, кто управляет, и тот, кто знает. Исследовательской задачей ведомственного подхода как раз является раскрытие форм и сути этих отношений власти в Советском Союзе. Результаты поиска в Национальном корпусе русского языка (ruscorpora.ru) свидетельствуют, что термин «ведомство» имел наибольшее распространение в XVIII веке и в начале XX века вплоть до нэпа. Однако понятие «ведомственность» стало широко использоваться исключительно в советское время. Несмотря на то что в Национальном корпусе русского языка оно представлено совсем бедно, тем не менее можно заметить, что артикуляция «ведомственности» была особо присуща в период хрущевской реформы и в 1980‑х годах. Поэтому предлагаемый в этой книге ведомственный подход представляет собой теорию среднего уровня, ориентируемую на научную трактовку истории Советского государства.
Итак, ведомственный подход – это теоретическая рамка, которая позволяет описать и раскрыть советские варианты отождествления человека с различными институциями, определявшими не только социальные коммуникации и практики, но и задававшими соответствующие паттерны отношений власти и знания, на основе которых Советское государство выстраивало политику и идеологию. При данном определении ведомственный подход кажется чем-то очень запутанным: включает самые различные элементы – от процесса идентификации и социальных практик до дискурсивной риторики и административных иерархий. Поэтому при работе с эмпирическим историческим материалом правильно конкретизировать ведомственный подход в четырех как минимум наборах операционализации, а именно в качестве категорий: 1) системы, 2) материальности, 3) практики и 4) дискурса. Это означает, что этот подход не сводится к простому использованию понятия «ведомственность» в исследовательском описании. Недостаточно обозначить объектом изучения ведомства и их взаимоотношения друг с другом, важнее настроить фокус, где историческая реальность будет реконструироваться через призму ведомственной проблематики. Вместе с тем такая призма обладает несколькими нюансами, при формулировании которых исследователь как бы занимает метапозицию по отношению к изучаемому явлению ведомственности.
Что значит ведомственность в конкретном исследовании? Это то, что объясняет суть анализируемого объекта? Этот термин обозначает специфику социальных и экономических конфликтов? Может быть, это следствие ресурсодобывающей политики и масштабного преобразования территорий? Или это маркер идентичности? Или же это дискурсивное поле для относительно свободных субъектов? Все эти вопросы применимы к каждому исследованию, в котором ведомственность выступает чем-то большим, чем обычным воспроизводством советского термина. Поэтому ведомственный подход означает, что исследователь способен не просто артикулировать само это понятие, но и объяснять эвристические контексты его использования. С одной стороны, это контексты операционализации ведомственности как теоретического понятия, а с другой – это условия, фиксирующие реальность данного явления в конкретно-исторический момент. Авторы этой книги считают, что о ведомственности можно говорить в четырех концептуальных оптиках – системы, материальности, практики и дискурса, которые непосредственно предполагают собственный язык описания и конструирования ведомственности как объекта исследования.
Реконструирование советской ведомственности как системы представляется возможным в том случае, когда исследователь применяет этот концепт в качестве объяснительной модели для тех или иных исторических процессов, явлений, политик, социальных или культурных взаимодействий. Здесь ведомственность – это определенная структура или модель, которая предопределяет политические, социальные или экономические отношения между государственными органами, организациями, агентами или различными типами управления. В такой интерпретации ведомственность должна, во-первых, что-то объяснять, например политические решения исполнительной вертикали, а во-вторых, раскрывать особенности и правила иерархической модели, в рамках которой действуют бюрократические и политические институты.
Нередко советская ведомственность проявлялась материально. Тысячи различных главков и предприятий, заводов и комбинатов осваивали территории, добывали ресурсы, создавали инфраструктуру или производили различную продукцию, тем самым воспроизводили онтологический мир ведомственности. Эта концептуальная оптика описывает ведомства как институты, обладающие материальным телом – зданиями и сооружениями, ландшафтом и техникой. Такая физическая сущность во многом предопределяла конфликтный потенциал ведомственности, когда ведомственные структуры оспаривали территории, промышленные и гражданские объекты друг у друга или у других субъектов. Ведомственная материальность воплощалась в пространстве, но она также имела темпоральную репрезентацию.
Понимание ведомственности как категории практики более всего обладает антропологической перспективой, что означает рассмотрение ее в виде конкретного исторического явления, воплощенного в человеческой деятельности и активности, в конкретном исполнении должностных статусов, инструкций и обязанностей, формальном и неформальном общении. В качестве практики ведомственность может приобретать разные формы: 1) горизонтальной или вертикальной взаимосвязи между различными организационными структурами, 2) конфликтных повседневных отношений между представителями различных ведомств, 3) институционального повседневного механизма государственного контроля, учета и формирования лояльных групп населения.
Значение ведомственности как дискурсивной категории также позволяет посмотреть на это явление антропологически – через призму языка самих современников и выявить смысл этого понятия в различных контекстах его употребления. Но в данном случае важно не только само воспроизводство термина, но и язык и риторика ведомственных организаций и структур. То есть дискурсивный анализ ведомственности подразумевает два варианта исследования: 1) при изучении использования и артикуляции понятий «ведомственность» и «ведомство» в публичной сфере в том или ином историческом контексте; 2) при анализе дискурса самих ведомств, то есть реконструкции мнений и нарративов, исходивших от агентов предприятий, организаций, министерств и т. д.
Соответственно, ведомственный подход – это умение применять эти категории в изучении истории различных институций и их агентов, позволяющее посмотреть на советский мир не просто в рамках большого теоретического нарратива, но крупным планом с учетом сложных контекстов отношений государства и человека, органов власти и предприятий, чиновников и работников, канцелярии и социальных сообществ. При этом ведомственный подход подразумевает акцент на эмическом взгляде, то есть признание мнения и точки зрения современников на эти сложные взаимоотношения, которые часто назывались «ведомственностью». Авторы данной книги надеются, что исследования, которые в ней представлены, способствуют открытию нового поля для интерпретации советской жизни и признанию ценности подобной аналитической оптики для историографии. Поэтому следует более детально описать суть ведомственного подхода через реализацию его в четырех категориях – системы, материальности, практики и дискурса и как авторы данной монографии применяют его в своих исследованиях.
Ведомственность выступает категорией системы тогда, когда исследователь с ее помощью пытается обосновать логику исторических событий и в идеале построить модель, разъясняющую иерархию ведомств, их функционал, зоны интересов и ответственности, а также типы их взаимодействия. В данной интерпретации ведомственность – это масштабная бюрократическая машина, в которую вплетены самые различные организации, действующие как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне. Главными вопросами в рамках такого анализа являются: Что такое Советское государство? В чем его структура и как оно реализовывало свои решения? В чем разница между государственными и частными интересами? Что такое советская модель управления? Какова ее бюрократическая иерархия?
В первой главе А. Иванов показывает, что именно эти вопросы были во многом ключевыми в попытках ученых выявить истинное положение дел в советских государственных институтах. Иначе вся историография о ведомственности – это историография о Советском государстве и механизмах его работы. Иванов пришел к выводу, что в научной литературе существуют семь исследовательских подходов, которые в разной степени значимости выделяли проблему ведомственности и видели в ней определенный структурный феномен: 1) бюрократизм, 2) группы интересов, 3) экономические подходы, 4) патрон-клиентизм, 5) неотрадиционализм, 6) ведомственное направление, 7) постревизионизм. Несмотря на различность позиций, ученый объединяет эти подходы в две основные традиции описания и интерпретации сути Советского государства и его административно-политического аппарата. Первая делала акцент на значимости формализованного бюрократизма, особенно в вертикальной иерархии исполнительной власти: к ней можно отнести подходы бюрократизма, группизма и взгляды экономистов-советологов. Вторая усматривала специфику советской системы в воспроизводстве неформальных отношений: такой интерпретации придерживались частично исследователи группизма, но в основном – патрон-клиентизма и неотрадиционализма. Обе традиции в большинстве случаев видели в ведомственности лишь очередной симптом болезни Советского государства и фактически не воспринимали ведомственность как особую административно-политическую структуру, определявшую исполнение государственных решений как в центре, так и на местах.
Однако исключение составляло ведомственное направление в историографии, которое смогло описать феномен ведомственности на стыке двух этих традиций. В середине 1990‑х годов название этого историографического – «ведомственное направление» – предложил историк О. Хлевнюк. В основе этой оптики было признание самодостаточности советских институтов и органов государственного управления в общей административной системе СССР, а сама ведомственность рассматривалась, по меткому определению Э. Риса, как идентичность и философия управленческих институтов. В рамках данного подхода первые работы сконцентрировались на анализе деятельности общесоюзных суперведомств, таких как Рабкрин, Госплан или Наркомат путей сообщения (авторы – Э. Рис, П. Грегори). Вскоре последовали работы, которые вообще описывали Советское государство как «ведомственное общество», где усиливающиеся ведомства получали все большую свободу от партийного надзора и других механизмов контроля (С. Фортескью, С. Уайтфилд), а вся бюрократическая структура была поражена «болезнью ведомственности» (М. Левин). Исследователи также указывали на лоббистские возможности промежуточных институтов в ведомственных иерархиях, в частности главков и региональных руководителей (П. Грегори, А. Маркевич, Д. Харрис). Однако во второй половине 1990‑х годов последовал интеллектуальный сдвиг в ведомственном направлении: историки стали все больше указывать на личностный фактор в политике ведомств (О. Хлевнюк, Э. Рис, Д. Уотсон, Ф. Бенвенути). Они объясняли институциональные отношения и конфликты через призму персонализации «героев ведомственности» (Орджоникидзе, Кагановича, Дзержинского и др.). Именно в этом персонифицированном фокусе ведомственное направление объединяло две тенденции – с одной стороны, признание значимости формализованной бюрократии, а с другой – существенную роль патрон-клиентских отношений. Тем не менее все эти работы отличал исследовательский взгляд на ведомственность как на отражение управленческой структуры в СССР. Хлевнюк назвал это «системой советской ведомственности», а сами советские бюрократы, как показал историк Н. Митрохин, предпочитали использовать термин «ведомственные системы».
Антрополог Дэвид Гребер считал, что слияние государственного и частного являлось определяющей тенденцией в процессе тотальной бюрократизации. По сути, государственные и частные интересы сплетались в единую самоподдерживающуюся сеть, что приводило к корпоративизации жизни4. Вероятно, в советских реалиях, в отсутствие рыночной экономики, подобный синтез был еще более заметным, а государственная система представляла собой бесконечную паутину ведомств и канцелярий. Учитывая такую исследовательскую оптику, ведомственность как категория системы означает эту разветвленную сеть государственных организаций, обладающих собственными институциональными интересами и образовывающих различные договоренности между собой, но и нередко переходящих в открытые конфликты. В таком случае ведомственность может рассматриваться как обширная административная иерархия институтов. В рамках вертикальных взаимоотношений исполнительной власти она структурировалась по линии правительство – министерство (наркомат) – главк – предприятие, а на уровне горизонтальных связей проявлялась на местах через более субъектные позиции из разных зон ответственности: партийные комитеты – советы – главки – предприятия – профсоюзы и т. д. Эта системная модель ведомственности поддерживалась множеством практик взаимодействия между ведомственными агентами.
В третьей главе А. Сметанин указывает на конкретизацию понятия «ведомственность» в хрущевское время, когда под ним стало пониматься нарушение связей между различными предприятиями, функционирующими в одном экономическом районе, но действующими исключительно по вертикальной линии, без оформления связанности с другими игроками на горизонтальном уровне. Таким образом, историк рассматривает ведомственность как вертикальную систему среднего звена, которую воспроизводили ведомства – министерства, главки и совнархозы, выступавшие учредителями промышленных предприятий, определявшие их ресурсы, плановые показатели и отчетность. Сметанин исключает из этой системы как высшие органы – Совет министров и Госплан, так и низовые организации – предприятия, тресты и заводы. Однако остается ключевым вопрос: а какова роль директоров предприятий в этой ведомственной системе? Сметанин выводит директорский корпус за пределы ведомственности, наделяя директоров 1950‑х годов субъектностью критиковать и осуждать это явление и одновременно показывая, что директора стремились договориться о границах своей и министерской ответственности. Для директоров ведомственность замыкалась чаще всего на бюрократии главка, и редко выше. В итоге мнение директоров совпадало с риторикой Хрущева, который также критиковал эту министерско-главкскую ведомственность, концентрирующую ресурсы на себе и выстраивающую административные барьеры для горизонтальных взаимодействий.
В четвертой главе М. Пискунов, также рассматривая ведомственность в качестве экономической вертикали советской производственной бюрократии, показал, что эта система вряд ли ограничивалась полем отношений от министра до руководителей главков или директоров предприятий. В позднесоветскую эпоху в эту иерархию полноценно встроился трудовой коллектив предприятия, агентами-медиаторами которого выступали цеховые руководители – мастера, начальники участков и цехов. Сначала воспроизводимый дискурсивно в социальной литературе, трудовой коллектив из концепта превращался в реальную социальную группу на заводах и предприятиях. По мнению Пискунова, трудовые коллективы и их моральная экономика стали во многом предопределять феномен советской ведомственности, или, точнее, ведомственность уже охватывала не только номенклатурные уровни, но и обычных рабочих. В данном случае явление цеховщины выступало как низовая форма ведомственности.
Таким образом, мы видим, что проблематика ведомственности как системного феномена в значительной степени связана с определением масштабов и границ самой системы и выявления конфигурации вертикально-горизонтальных отношений между ее субъектами. Были директора предприятий и трудовые коллективы частью ведомственности? Какая роль Госплана и Совета министров в воспроизводстве ведомственных барьеров? Могли ли региональные партийные и советские структуры противостоять этому явлению или они поддерживали сложившуюся модель ведомственных взаимоотношений? Как в этой системе действовали бесчисленные советские агентства, бюро, инспекции, комиссии, комитеты и управления? В чем разница между проявлениями ведомственности при отраслевом и территориальном управлении? Какая роль личности в ведомственной политике и лоббистском весе ведомств? Эти и другие вопросы относятся к научной проблеме обозначения, какие органы, отрасли, группы и должности были включены в эту систему и как она функционировала как по вертикальной иерархии, так и в горизонтальных отношениях. Такая исследовательская оптика позволяет раскрыть ведомственность в качестве особой советской административно-управленческой системы.
Ведомственность была заметна не только в вертикально-горизонтальных коммуникациях административно-политического аппарата, но, может быть, еще ярче проявлялась в реализации экономической политики, связанной с расширением производства и строительства, развитием территорий и эксплуатацией ресурсов, инфраструктурными проектами и социальными объектами. То есть ведомственность практически всегда имела материальную воплощенность в виде масштабных заводов и промышленных ландшафтов, жилых поселков и микрорайонов при производстве, архитектурных и дизайнерских решений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций, социальных институтов и культурных учреждений. Иными словами, ведомственная система не ограничивалась социальными и политическими корпоративными отношениями и иерархиями, но и реализовывалась в конкретных структурах, сооружениях, зданиях и машинах.
Этот эффект можно назвать онтологическим принципом ведомственности: ведомство всегда привязано к материальному телу. Из этого следует, что крах ведомственного тела (например, снос завода или социальной инфраструктуры предприятия) с большой долей вероятности вел к размыванию самого феномена ведомственности как системы отношений или социальной практики в каком-нибудь конкретном месте, где ведомственный ландшафт прежде располагался. Фокус на материальности расширяет самое понятие ведомственности. Так, выше было показано, что при интерпретации ее как системы возникают вопросы к тому, а включать ли конкретные предприятия, их трудовые коллективы и директоров в ее структуру. В случае же рассмотрения ведомственности через призму материальности не вызывает больших споров, что предприятие или завод непосредственно отражали всю ведомственную вертикальную систему на земле – через здания, ландшафт и инфраструктуру. Эти материальные объекты принадлежали и ассоциировались не только с конкретным предприятием, но и с определенным министерством и главком, кому также были подведомственны.
Более того, ведомственная материальность определяла для советского человека то, что А. Голубев назвал «стихийным материализмом»: постоянную способность вещей и физического пространства влиять на личность и повседневное производство смыслов5. Ведомства беспрерывно создавали новые формы материальности, которые в какой-то степени программировали обычную жизнь граждан в СССР. Вместе с тем материальная заданность все же создавала разные модели и практики формирования советской личности6. С моей точки зрения, каждое ведомство не просто организовывало инфраструктуру и ландшафт в рамках своей «вотчины», но фактически физически (но одновременно дискурсивно) конструировало поле возможностей для проявления советской субъективности. Границы реализации своего «Я» очерчивались в том числе материальным воплощением ведомственной политики. В итоге субъективностей могло быть столько, сколько это позволяли дискурсы и ландшафты ведомств. Соответственно, ведомственная материальность предопределяла социальные практики населения, проживающего в этом физическом пространстве (об этом в следующем разделе), и дискурсивные контексты, которые будто облагораживали материальный мир советского человека (об этом в последнем разделе).
Ведомственная материальность была наиболее отчетливо заметна в проблеме производства городского пространства. Советская индустриализация привела к развертыванию масштабных производств в пределах старых городов или в новых промышленных центрах. Грандиозное строительство комбинатов и заводов, рудников и шахт, электростанций и машин сопровождалось не менее грандиозным возведением социальной и жилищной инфраструктуры, которая реализовывалась в идеологии идеального и утопического поселения – соцгорода. Однако дискурс о соцгороде чаще всего слабо продуцировался в реальности: разрозненные промышленные стройки разрывали городскую ткань и не давали сформироваться единому городскому пространству. Каждый завод или предприятие имели свою собственную вотчину с жильем, социальными и культурными учреждениями, объектами торговли и быта. Тем самым многие города больше походили на архипелаги промышленных островов с поселками. Эта болезнь поразила практически все города Советского Союза, где велось активное промышленное строительство. Именно ее современники часто называли ведомственностью.
Однако селитебная политика ведомств основывалась на более сложных идеологических принципах, связанных с приходом модерности. В пятой главе К. Бугров вписывает жилищную стратегию советских промышленных предприятий в глобальную перспективу. По его мнению, в начале XX века сформировались две основные траектории, с помощью которых индустриальные корпорации решали жилищную проблему. В капиталистических странах преобладала идея company town – небольшого рационально организованного города с низкой плотностью застройки и малоэтажным жильем, но который вместе с тем создавал структуры неравенства. Вторая траектория ориентировалась на демократическое и дешевое социальное жилье, чьим главным отличием стала многоквартирная высотная застройка. Эта высотная идеология ведомств не только предопределила облик советских городов, но во многом сформировала отношение к такой высотной застройке как истинно «городской», несмотря на разрастание города в том числе за счет индивидуально-жилищного строительства. Высотность хоть и декларировала новую модерную жизнь и устройство города, она в то же время не смогла преодолеть анклавный характер жилищного строительства в промышленных центрах, где производство доминировало и определяло всю городскую социальность. С другой стороны, эти индустриально-ведомственные города воспроизводили посредством многоэтажной жилой застройки коллективистские и эгалитарные социальные отношения. Бугров отмечает, что советским планировщикам удалось экспортировать многоэтажную модель промышленных городов в другие социалистические страны. Там она получила местное своеобразие, но везде создавала некое корпоративистское единство, разрушающее структуры неравенства, характерные для индустриальных городов капиталистического типа.
Тем не менее материальное воплощение советской ведомственности в условиях интенсивной индустриализации также воспроизводило структурное неравенство, которое изначально предопределялось асинхронностью в финансировании и строительстве градообразующих предприятий и обслуживающих их поселений. Историк архитектуры С. Духанов в шестой главе показывает, что концепция соцгорода, разработанная в Госплане СССР, реализовывалась через неучтенный элемент – промышленное предприятие. То есть возведение городов в раннесоветский период финансировалось через сметы на стройку промышленных предприятий. В итоге формировалось только 10–30% города, в то время как остальная городская инфраструктура оставалась на бумаге. Так, новые социалистические центры на практике представляли собой недостроенные города, где застроенная часть полностью была чьим-то ведомственным фрагментом. Основная проблема была в том, что строительство города было намного дороже самих промышленных объектов в нем. По мнению Духанова, выход был в стратегии, основанной на принципе «агломерации», когда новые промышленно-селитебные районы привязывались к существующим городам. В итоге это вело к децентрализации городов и фактически невозможности объединить ведомственные фрагменты в единую городскую ткань. В такой ситуации нередко ведомства «достраивали» социально-культурную инфраструктуру в своих поселках при предприятиях, создавая тем самым как бы «город в городе».
Эта логика ведомственного финансирования и соответственно ведомственного расселения наиболее заметно проявилась в районах строительства БАМа. В седьмой главе Н. Байкалов раскрывает, как ведомственность была структурной основой не только самой железнодорожной стройки, но и вообще социальных отношений и культурного ландшафта населенных пунктов БАМа. Байкалов указывает, что базовые свойства ведомственных городов – неустроенность, разрозненность, дискретность и временность – не порождались ведомственностью через какое-то время, а изначально определялись на этапе проектирования. Вместе с тем историк показывает, что онтология ведомственности шире, чем просто ее материальное воплощение, поскольку включает еще и особый темпоральный режим. Временность – это качество присуще почти всем ведомственным поселениям. Оно выражалось через отношение к ведомственной материальности, в первую очередь к жилью, как к чему-то сменяемому и непостоянному, а сами жители таких поселений нередко ощущали себя «временщиками». В какой-то степени ведомственность была синонимом временности – воспринималась лишь как преходящее явление и вынужденная мера эпохи начального освоения. Для современников бамовской стройки, временные поселки («времянки») – это и есть ведомственные, в то время как инфраструктура в капитальном исполнении («постоянка») ассоциировалась с государством как чем-то вневедомственным. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное: нерентабельность БАМа в постсоциалистических реалиях привела к отказу от капитального жилищного строительства и консервации «времянок».
Таким образом, анализ ведомственности может подразумевать выявление онтологической сути этого явления. В основе такого понимания лежит реконструкция ведомственной политики через ее материальное измерение: пространства, здания, застройку, ландшафт, заводы, технику. При этом эта ведомственная материальность не была какой-то универсальной, скорее, наоборот, в зависимости от разных советских контекстов она отличалась вариативностью и множественностью. Так, с одной стороны, она могла быть капитальной высотной застройкой, а с другой – временным самостроем. Вместе с тем ведомственная инфраструктура всегда тяготела к промышленному предприятию, что создавало фрагментированную среду в советских индустриальных центрах. Еще одним важным онтологическим свойством ведомственности был особый темпоральный режим. Он выстраивался вокруг графика и процесса работы промышленного предприятия или этапов строительства производственной или социальной инфраструктуры, где обособленно выделялись проектный и пионерный периоды освоения территории, когда, собственно, и формировались основы не только ведомственной материальности, но и ведомственных отношений.
Советскую ведомственность можно определять как социальную практику. В социальных науках описание практики сводится к человеческой фоновой деятельности, из которой состоит мир повседневности людей7. Кажется, что в контексте ведомственности практику следует рассматривать несколько иначе – не просто как фон, но как действия и отношения, формирующие идентичность с конкретной институцией. В данном случае практика – это занятие и трудовой процесс, должностные инструкции и отношения с коллегами в рамках работы, осуществляемой для организации или предприятия. Феномен ведомственности представлен бесчисленным набором социальных практик, которые проявляются на двух уровнях. На первом они связаны с делопроизводственной и бюрократической конвенциональной работой внутри любого ведомства – заполнение рапортов, следование нормативам, совещания, заседания, протоколы, переписка, распоряжения и решения и т. д. На втором уровне они приобретают формы межведомственной деятельности – горизонтальных или вертикальных отношений и контактов между различными организациями, или ведомственных политик, нацеленных на конкретные социальные группы и институции. В советской истории этот уровень зачастую воспроизводился в конфликтной форме между представителями различных ведомств.
Соответственно, такие практики предполагали наличие ведомственного агента, то есть того, кто представлял ведомство посредством своей должности, действий и риторики. То, что агент отражал точку зрения ведомства, еще не значило, что он не обладал субъектностью в реализации своей работы. С одной стороны, он должен был руководствоваться инструкциями и положениями, но, как правило, реальная активность внутри и за пределами ведомства напрямую связывалась с личностью агента – его харизмой, опытом, образованием, убеждениями и социальным капиталом. Таким образом, он имел право на дискрецию, то есть мог интерпретировать предписания и инструкции и выбирать пути решения бюрократических и административных задач. Зачастую многие конфликты между разными историческими личностями объяснялись именно ведомственной идентификацией, как и наоборот – конфликты ведомств раскрывались в идентичностях ведомственных агентов. Тем самым функционеры и начальники от ведомств не являлись обычными винтиками институциональной системы. Точнее, через их субъектность происходило отстаивание ведомственных интересов, которые определялись и формулировались также этими агентами.
Проблема субъектности ведомственного агента непосредственно сопряжена с вопросом о формальных и неформальных отношениях в ведомственной структуре. Как соотносились предписанные формализованные практики и неформальные патрон-клиентские связи ведомственных работников и руководителей? Насколько нормированные действия и частные клиентские сети очерчивали границы субъектности ведомственных агентов и являлись ресурсом для ведомственной идентичности? Какую роль формальные и неформальные отношения играли в вертикальных и горизонтальных коммуникациях между ведомствами? Эти вопросы позволяют посмотреть на социальную практику в качестве значимого элемента иерархической системы ведомственности, описанной выше в разделе о ведомственности как системе. То есть эта система могла поддерживаться строго в формализированных и нормативных практиках бюрократов, как между институтами, так и между институтами и обычными гражданами. Но она также могла держаться на неформальных практиках, например на кумовстве, протежировании и клиентелизме внутри одной вертикальной исполнительной линии от министерства к конкретному предприятию либо же между разными управлениями и предприятиями, подчиненными различным исполнительным веткам.
Другим аспектом ведомственности являлась ведомственная политика, которая выражалась в виде практики управления и учета обширных групп населения, а также регулирования производственной и частной повседневности граждан – рабочих, служащих и их семей, которые находились под патерналистской опекой бюрократической структуры или промышленного предприятия. Реальное значение ведомств часто проистекало из возможностей осуществлять институциональный повседневный механизм контроля, учета и формирования лояльных групп населения. Так, промышленные предприятия выступали каналами интеграции «маргинализированных» групп (например, спецпереселенцев, индигенных и этнических групп, мигрантов-рабочих, вахтовиков и т. д.) в советское гражданское общество и обеспечивали формирование новых политических агентов и функционеров. В условиях крупных индустриальных преобразований на ведомства возлагались задачи по социально-культурному обеспечению граждан – жилищем, образованием, здравоохранением, общественным питанием, торговым и бытовым обслуживанием, культурным и спортивным досугом. Такая ведомственная социальная политика становилась второй важнейшей деятельностью предприятий и главков, после реализации своей основной производственной задачи. Эта социальная сфера ведомственности насчитывала множество социальных практик, таких как распределение квартир, шефство над школами, самодеятельность в Домах культуры, приписывание к поликлиникам, закрытость точек общепита, курирование спортивных обществ и т. д. Бесчисленное количество подобных ведомственных практик и поддерживающих их правил формировали на локальном уровне мир советского человека и особый социальный порядок.
Этот локальный социальный порядок в значительной степени был связан с жилищной политикой ведомств, через которую государство осуществляло в том числе контроль над большими массами населения и территориально перераспределяло его на новые индустриальные стройки. В восьмой главе С. Баканов и О. Никонова анализируют развитие ведомственного жилищного фонда в позднесоветский период и показывают, каким образом советский человек получал жилые метры от предприятий и главков. По мнению авторов главы, именно квартирный вопрос особенно отчетливо отражал сложившееся в Советском государстве переплетение модерной рациональности с архаичными неформальными практиками. Ведомства рассматривали жилищное строительство для своих рабочих и служащих как вторичную задачу, в силу чего они постоянно не могли освоить капиталовложения в эту сферу и срывали сроки ввода жилья в эксплуатацию. Тем не менее дефицит жилья побуждал ведомства к самым незаурядным, зачастую низовым практикам жилищного строительства. Первая была связана с разрешением самостроя, который реализовывался по большей части в индивидуальной деревянной застройке, но иногда встречался и в виде трущоб. Вторая практика обозначалась как строительство «хозспособом» или «методом народной стройки», когда рабочие предприятия непосредственно перекидывались на домостроительные работы вдобавок к или взамен своих основных трудовых обязанностей. Ведомственное жилье также возводилось за счет кооперативов и различных форм кредитования. Однако ведомства рассматривали такие низовые решения как временную меру: жилищная революция хрущевской эпохи все же означала массовое капитальное домостроение, которое делалось за счет строительных трестов, подчиненных самым разным ведомственным структурам. Следующим наиболее известным социальным проявлением ведомственности в жилищной сфере была практика непосредственного распределения жилья среди рабочих и их семей, обладавшая серьезным конфликтным потенциалом и различной палитрой формальных и неформальных отношений.
В девятой главе Д. Кирилюк описывает, как ведомственная система создавала образовательную инфраструктуру в СССР. Историк сосредоточился на школьных и дошкольных учебных заведениях Министерства путей сообщения, хотя собственные образовательные учреждения имели и иные советские министерства. Первые школы для детей железнодорожников стали появляться еще в дореволюционный период, а советское руководство лишь повторило эту практику. Автор считает это «вынужденной ведомственностью»: сам характер железнодорожной сети, распространявшейся на самые дальние расстояния и неосвоенные территории, изначально требовал создания собственной структуры социального обслуживания рабочих. Она функционировала на принципе целесообразности, то есть железнодорожники не организовывали школы там, где уже были сложившиеся учебные заведения Минпросвещения. Тем не менее Свердловской железной дороге удалось сформировать автономное образовательное пространство, которое находилось в полном подчинении железнодорожного ведомства, обеспечивавшего управление школами, решение кадровой проблемы, разработку и контроль учебно-методического комплекса, организацию внеучебной деятельности. Одновременно с этим педагогические коллективы на железной дороге обладали большей профессиональной автономностью в своей деятельности, чем их коллеги, работавшие в школах Минпросвещения. Они также пользовались различными льготами по ведомственной линии. Поэтому неудивительно, что в таких условиях нередко у педагогов на первый план выходила железнодорожная идентичность, а между железнодорожными и обычными школами очерчивалась условная ведомственная граница.
Социальная практика ведомственности порождала весьма разветвленную, но при этом институционализированную культурную жизнь в пространстве ведомственных поселков или микрорайонов – Дома культуры, клубы, кинотеатры, библиотеки, мемориальные и памятные места, парки культуры и отдыха, гостиницы, спортивные учреждения. В десятой главе М. Ромашова раскрывает этот феномен на примере ведомственных общественных музеев при промышленных предприятиях и заводах, а именно в центре ее внимания находится Музей истории Пермского машиностроительного завода им. В. И. Ленина. Это исследование дает понимание того, что подобные пространства и учреждения культуры балансировали между производственной сферой и общественной активностью. С одной стороны, этот музей был частью общего краеведческого движения позднесоветского периода, а с другой – он организовывался институционально, контролировался и управлялся непосредственно сотрудниками предприятия. Однако такие «культурные места» обеспечивали рецепцию общекультурных советских установок по формированию «нового человека» через конкретные маркеры ведомственной и заводской идентичности. То есть ведомственные культурные институции помогали взращивать общую советскую гражданственность. Музейная и коммеморативная работа, которая поддерживалась руководством и проводилась сотрудниками предприятия, усиливала корпоративную культуру, чувство общности работников и придавала ветеранскому делу смысл. В то же время в глазах других горожан именно культурные практики такого порядка могли выступать наиболее заметным проявлением ведомственности.
Сюжеты этих глав показывают ведомственность как социальную практику управления и контроля над обществом. Анализ жилищной, образовательной и музейной деятельности ведомств и предприятий приводит нас к мысли о том, что ведомственность – это социальность. Иначе говоря, это феномен, который глубоко погружен в будничные и частные отношения между людьми и во многом фреймирует их. Однако, как уже было сказано, ведомственность – это еще и практика бюрократических формальных и неформальных отношений внутри и за пределами административных и экономических институтов. В перспективе социальной антропологии особенно актуально объяснение того, как низовое чиновничество в лице уличных бюрократов непосредственно взаимодействовало с обычными гражданами в СССР8. Громоздкие советские ведомства не были просто институциональными абстракциями, а выражались в действиях и практиках своих низовых представителей, которых я называю ведомственными агентами. К сожалению, этот бюрократический фокус ведомственности не был достаточно представлен в данной монографии. Вместе с тем, кажется, авторам книги удалось обозначить направление исследований практик советских бюрократов, которые можно интерпретировать через призму ведомственного подхода.
Ведомственный подход как теория среднего уровня основывается на языке самих современников. Для советских администраторов и политиков ведомственность являлась важным понятием, которое ярко описывало институциональную действительность Советского государства. Но оно не было статичным и универсальным, скорее наоборот – оно менялось в зависимости от контекста его использования. Советская ведомственность хоть и имела разные формы своего воплощения – система, материальность, практика, но она всегда определялась дискурсивно. Поэтому в рамках ведомственного подхода я предлагаю рассматривать это явление и связанные с ним отношения прежде всего как дискурс. Причем эта дискурсивная категория может быть зафиксирована с двух точек зрения: с одной стороны, как дискурс о ведомственности, а с другой – как дискурс, порожденный ведомствами. В первом случае ведомственность проявлялась только там, где о ней говорили участники событий, а акцент делается на том, каким образом осмыслялось и означивалось понятие «ведомственность» в конкретно-историческом контексте. Во втором случае ведомственность становилась рецепцией риторики, мифов и нарративов, которые воспроизводили ведомственные институты и предприятия.
Во второй главе монографии я смотрю на дискурс ведомственности через фукианскую концепцию гувернаментальности, которая обозначала артикулированную рационализацию в публичном дискурсе самых разных практик (у)правления. В этой интерпретации ведомственность была элементом двух параллельных дискурсивных процессов в Советском Союзе – гувернаментализации государства и государственных интересов, то есть их дискурсивного осмысления, а также гувернаментализации советской бюрократии. В обоих контекстах ведомственность выступала в качестве отрицательной противоположности либо Советскому государству, либо его бюрократическому аппарату. Когда советские управленцы декларировали о проблеме ведомственности, то они всегда определяли и рационализировали сущность Советского государства. Таким образом, дискурс о ведомственности говорит не просто об истории отношения к своего рода паллиативам в решении политических, экономических, социальных и административных проблем, конфликтов или задач, он дает нам намного большую перспективу – антропологически замеряет, как разные социальные группы воспринимали и описывали Советское государство.
Материалы второй главы показывают, что советская риторика о ведомственности в 1920‑х – начале 1950‑х годов находилась в постоянном изменении. Сначала именно в период нэпа и режима экономии понятие «ведомственности» стало частью гувернаментализации государства, когда ведомственные интересы рассматривались как прямая оппозиция государственным интересам. В конце 1920‑х – середине 1930‑х годов использование этого понятия практически всегда было связано с административным бюрократическим контекстом или проявлялось в описаниях конфликтов в процессе коллективизации. Во второй половине 1930‑х – начале 1940‑х годов «ведомственность» превратилась в политическую категорию, часто артикулируемую в языке Большого террора и идеологии дисциплинарного общества. В период Великой Отечественной войны проблема ведомственности была как бы вымыта из публичного дискурса, поскольку существование подобных явлений не признавалось в условиях военного времени. В позднем сталинизме советские газеты активно возвращали понятие «ведомственности» в язык передовых и репортажей. Однако теперь оно серьезно поменяло свое основное означаемое – выступило главной оппозицией городской власти, а ведомства заняли в публичном дискурсе место противников горсоветов и их политики восстановления и развития городов после войны.
Монография не описывает перипетии феномена ведомственности в публичном дискурсе позднесоветской эпохи. Однако из глав А. Иванова и А. Сметанина видно, что в период хрущевской реформы ведомственность понималась как перманентный конфликт и несогласованность между различными институциями – совнархозами, министерствами, главками, предприятиями. Вероятно, такое отношение к этому явлению сохранялось во времена косыгинских реформ. В то же время очевидно, что в 1970–1980‑х годах публичный дискурс на первый план выдвигал формулирование социального аспекта в феномене ведомственности, следствием которой признавались проблемы в жилищном обеспечении, экологии, благоустройстве и строительстве учреждений соцкультбыта. Одновременно с этим на закате Советского Союза ведомственность нередко называлась вообще основной бедой советской экономической и административной системы, но, правда, и ее свойством, обеспечивающим устойчивость. Так, Е. Т. Гайдар писал в 1990 году, что формирование ведомственных систем было важнейшим стабилизирующим фактором в иерархической экономике, но вместе с тем вело к инерционности системы и ограничению возможности перераспределения ресурсов9. В целом, вероятно, в 1980‑х – начале 1990‑х годов, особенно в среде экономистов, доминирующей была антиведомственная риторика. В условиях перестройки ведомственность рассматривалась как «неприкрытый отраслевой монополизм» и бюрократизм, который перерос рамки канцелярии и получил «корпоративное сознание». Экономисты были склонны считать, что «ведомственность губительна для общества», когда «по ведомствам растаскивается экономическое, экологическое и, в конечном счете, моральное здоровье нации»10. Именно эволюция этой антиведомственной риторики в позднесоветский период остается наиболее перспективной для использования ведомственного подхода и требует отдельного исследования.
Дискурс о ведомственности мог фиксироваться не только в прямой вербальной артикуляции этого понятия и его всевозможных предикатов. Критика ведомственных отношений и советской бюрократической системы могла проявиться во всевозможных формах, в том числе в художественных образах кино, литературы, театра или изобразительного искусства. Так, в одиннадцатой главе М. Клинова и А. Трофимов анализируют карикатуру и сатирические представления о советских хозяйственных руководителях на материалах журнала «Крокодил» в период оттепели. Авторы приходят к выводу, что комический образ хозяйственника как очевидного ведомственного агента отражал контекст административно-управленческой реформы Хрущева. С одной стороны, этот образ обладал нормативными качествами эффективного советского управленца, но с другой – нередко изображался через гротескное искажение определенных черт. По мнению историков, рисунки «Крокодила» хорошо свидетельствуют о том, что во время хрущевской кампании против ведомственности вина за бюрократизацию административного аппарата и экономического сектора дискурсивно возлагалась преимущественно на местных хозяйственников, в то время как руководители центрального и даже регионального уровней оставались вне критики. При этом такое карикатурное обличение местных начальников также легко вписывалось в процесс гувернаментализации государства, поскольку основным объектом сатиры становились практики, наносившие ущерб государственным интересам, – бесхозяйственность, бюрократизм, очковтирательство.
Помимо дискурса о ведомственности, не менее значимой научной проблемой является осмысление феномена самого ведомственного дискурса, то есть позиций, мнений, риторики и нарративов, которые поддерживались и воспроизводились непосредственно ведомственными структурами. Министерства, главки и предприятия выпускали корпуса всякой разной информации и литературы о деятельности своих организаций – книги, воспоминания, газеты, брошюры, справочники. Ведомственные агенты – министры, начальники главков, руководители организаций разного уровня, инженеры, обычные рабочие и служащие предприятий, а иногда и нанятые писатели и журналисты – давали интервью, писали статьи, очерки или заметки, готовили репортажи о деятельности своих подразделений и предприятий. Как правило, эти тексты рассказывали о корпоративной истории, наполнялись сюжетами героического труда, отражали производственную идентичность, оправдывали решения ведомств по разным вопросам или защищали себя и обвиняли другие организации в провалах на производстве. Нередко эти агенты представляли и репрезентировали ведомственную точку зрения как позицию государственную, что часто приводило к риторической борьбе между ведомствами за право отражать государственные интересы. В этом контексте ведомственный дискурс не стоит рассматривать как что-то случайное и несистемное, наоборот, министерства и главки вели целенаправленную пропаганду своей деятельности, воплощенную в идеологии ведомственного бустеризма и лоббизма.
Бустеристский эффект ведомств прекрасно раскрыт в двенадцатой главе, в которой Е. Чечкина описывает соотношение ведомственного дискурса и артикуляции проблем ведомственности на страницах литературного журнала «Сибирские огни». С точки зрения исследовательницы, в художественной и публицистической периодике освоение Сибири в 1950–1970‑х годах сопровождалось устойчивой критикой ведомственности. Но в то же время Чечкина фиксирует в этой литературе наличие ведомственного текста, то есть произведений о ведомственности, но главное о ведомствах. В них ведомства, как правило, показывались положительно, а их авторами были не только непосредственные ведомственные агенты, но и, например, писатели, далекие от апологетической риторики ведомств. Однако такие очеркисты посредством своих репортажей с места событий – промышленных строек и общения с работниками предприятий все же транслировали в своих работах ведомственный нарратив. Тем не менее авторы, которые генерировали ведомственные тексты, не выдавали типичный литературный продукт, а по-разному погружались в ведомственный дискурс: кто-то работал более независимо и творчески, а кто-то прямолинейно выполнял заказ. Таким образом, феномен ведомственности в публичной художественной реальности существовал не только в негативных формах, но в значительной степени был частью позитивной идеологии о промышленном строительстве, поддерживающейся разветвленной писательской и журналистской индустрией.
Одной из важнейших исследовательских проблем в реконструкции ведомственного дискурса является выяснение его включенности в общий авторитетный дискурс Советского государства. Множественность и разнообразие ведомственных текстов скорее свидетельствует о широкой палитре государственной идеологии, которая преломлялась в риторике самых разных институтов, организаций или профессиональных сообществ. Антрополог А. Юрчак указывает, что в позднесоветский период происходил процесс стандартизации авторитетного дискурса, в ходе которого он утратил задачу верного описания реальности11. Ведомственный подход предлагает контекстуализировать этот феномен: советская идеология, какой бы клишированной ни была, не просто встраивалась в местные и институциональные нарративы, но в большей степени воспроизводилась через них. В этом отношении авторитетный дискурс был частью процесса гувернаментализации государства, в котором сталкивались разные ведомственные дискурсы и критические топосы о ведомственности, где ведомственные агенты формулировали собственный смысл государственной идеологии, государственных интересов и Советского государства в целом.
Таким образом, данная книга ставит вопрос о необходимости взглянуть на историю СССР через определенную институциональную проблематику, которая в той или иной степени осознавалась самими советскими гражданами и функционерами и которая получила собственное контекстуальное обозначение – ведомственность. Несмотря на разность тем и интерпретаций, представленные в монографии авторские тексты связаны друг с другом исследовательской оптикой, рассматривающей советское общество как сложную и запутанную иерархию отношений ведомственных структур. Я называю эту оптику ведомственным подходом. Его реализация требует от исследователя не просто пересказа истории предприятия или бюрократических перипетий, но и настройки определенного фокуса на историю ведомств и ведомственности, контекстуализирующего ее в аналитических категориях. В данной монографии авторы раскрывают феномен ведомственности в категориях системы, материальности, практики и дискурса. В этом введении было решено разделить исследовательскую оптику в изучении ведомственности, представить ее через эти четыре категории и таким же образом структурировать разделы монографии. Однако хорошее исследование не сводится к такому редуцированию: пожалуй, любой историк или антрополог, политолог или социолог, который соберется анализировать феномен советской ведомственности, вскоре осознает, насколько ведомственность имеет разные измерения: описывать ее как систему сложно без объяснения ее как практики, а видеть в ней материальность невозможно без ее дискурсивных топосов. Поэтому ведомственный подход подразумевает использование всех этих категорий и их переплетение. Без сомнения, это небесспорный взгляд на советскую действительность, однако он дает возможность описать и объяснить нетривиальность Советского государства, его разветвленный административный аппарат, институциональную сеть, инфраструктурное и пространственное воплощение, идеологию и ее корпоративную рецепцию, а также разнообразие социальных и культурных практик, воспроизводившихся бесчисленным количеством ведомственных агентов.
Раздел I. Что такое советская ведомственность?
Александр Иванов
Глава 1. Как историография описывает ведомственность в Советском Союзе?12
Советская ведомственность представляет собой явление всем известное, но трудно поддающееся комплексному исследовательскому описанию. Несмотря на многочисленные отсылки в статьях и монографиях к данной проблематике, сегодня в историографии отсутствуют работы, содержащие систематический разбор различных точек зрения на исторический феномен ведомственности. Более того, в англоязычной литературе артикуляция понятий vedomstvennost’ и vedomstvo не так очевидна по причине сложности перевода их с русского языка.
Ученые чаще используют вариант departmentalism, что в английском языке может отражать несколько иные, скорее юридические и бюрократические значения, как, например, чрезмерную приверженность правилам собственного подразделения, приоритизацию работы одного офиса над общей эффективностью предприятия, равные права учреждений при толковании законов или стремление к функциональному разделению отделов. Именно административное содержание вкладывали в этот термин исследователи, впервые разбиравшие данную проблему на страницах научных журналов 1930‑х годов13. В то время как в советском контексте понятие ведомственности в большинстве случаев фиксировало противопоставление ведомственных интересов государственным, главным образом в сфере экономики и производства. Хотя, как будет показано во второй главе, так было не всегда.
Этот перекос в сторону бюрократического прочтения в зарубежной историографии особенно заметен при переводе на английский язык предиката «ведомственный». Иногда исследователи его переводят просто как bureaucratic, что, конечно, не раскрывает всю семантику этого понятия. Такое во многом канцелярское понимание привело к рассмотрению «ведомственности» преимущественно с позиции бюрократической структуры, административного аппарата или официальных отношений. Одновременно с этим, как указывал политолог Карл Рявец, западная советология вообще мало интересовалась проблемами администрирования и бюрократизма в СССР14. По этой причине многие историки не обращали внимания на «ведомственность», а при анализе неформальных практик в советской политике она зачастую выпадала из поля зрения ученых. То есть эти трудности перевода в значительной степени предопределили историографические направления в смысловых трактовках и аналитическом использовании этого понятия.
В данной главе анализ отечественной и зарубежной историографии основывается на хронологическом нарративе, демонстрирующем эволюцию восприятия феномена ведомственности в исследовательских текстах. Мы выделяем семь подходов, которые либо прямо артикулировали явление ведомственности, либо посредством разной терминологии и концептуализации объясняли институциональные и административные процессы в советской истории: 1) бюрократизм, 2) группы интересов, 3) экономические подходы, 4) патрон-клиентизм, 5) неотрадиционализм, 6) ведомственное направление, 7) постревизионизм. Как правило, эти интеллектуальные направления развивались в конкретные исторические периоды. Но не стоит рассматривать их как замкнутые. Они были генетически связанными, вытекали одно из другого, полемизировали и нередко соединялись в своих тезисах и интерпретациях.
За исключением экономистов и ведомственного направления в историографии, ученые никогда не рассматривали вопрос о ведомственности как ключевой в изучении советской истории. Вместе с тем подробный разбор исследований, проблематизирующих это явление, показывает, что объяснение ведомственности через различные концепты играло серьезную роль в представлениях ученых о советской экономике и политической системе в целом. По большому счету изменения в интерпретации и описании советской ведомственности были индикаторами трансформации основных историографических нарративов об экономическом и политическом развитии СССР.
Историография проблемы советской ведомственности уходит корнями во времена противостояния концепций «общественных сил» (сторонники взглядов Троцкого) и «одностороннего организационного подхода» (тоталитарная школа) в конце 1940‑х – начале 1950‑х годов. В основе концепции Троцкого и его приверженцев лежал тезис о том, что именно партаппарат искусственно на волне термидорианской бюрократизации привел Сталина к власти. Еще в начале 1920‑х годов Троцкий напрямую увязывал проблему ведомственности с неизбежной специализацией и бюрократическим перерождением партии15. Эта модель отражала движение общественных (партийно-советских) сил снизу вверх и проповедовала восхождение Сталина благодаря действиям окружавших его переродившихся элит16. Тоталитарная школа, наоборот, оценивала становление советской государственной системы сверху вниз. В основе этого «одностороннего организационного подхода» была идея полной зависимости бюрократических элит от воли поставивших их вождя.
Одной из ключевых работ тоталитарной школы стала монография Баррингтона Мура-младшего. По его мнению, несмотря на большевистскую идею уничтожения бюрократии, именно деятельность централизованного бюрократического аппарата была залогом существования нового государства17. Посредством веберовской идеальной модели бюрократии Мур-младший выстраивал простые линейные top-down схемы экономической (главк/министерство – фабрика, директор – рабочий), партийной (ЦК – региональные комитеты партии) и советской (ВЦИК/Верховный Совет – региональные исполкомы) иерархий управления. Следуя веберовской модели, Мур-младший наделял каждый субъект статусом и рациональностью в этих иерархиях18. При этом он исходил из монолитности правящих кругов и не видел внутренних противоречий элит. Впоследствии в ходе многолетней дискуссии о функционале правящего класса на эти тезисы Мура-младшего о вертикальных рациональных взаимоотношениях будут ссылаться советологи, напрямую интересовавшиеся дисфункциями в управлении СССР.
Вместе с тем как раз в полемике между сторонниками концепции «общественных сил» и представителями тоталитарной школы впервые последовала проблематизация роли конкретных предприятий в экономической системе. Ученые усматривали ее при анализе советской бюрократии и связывали с низовой инициативой. Так на эту задачу посмотрел экономист Дэвид Граник, который изучал имплементацию решений центра на уровне отдельных организаций. Он считал, что во многом рациональная «инициатива персонала предприятий», несмотря на нарушения закона и давление сверху, в реальности определяла силу советской экономической модели19. Хоть данная инициатива и не описывалась Граником как ведомственность, выводы экономиста заложили фундамент для понимания масштабов влияния партикулярных интересов в Советском Союзе.
В дальнейшем этот вопрос был разработан Джозефом Берлинером. На основе интервью с советскими эмигрантами-управленцами Берлинер выявил существование в СССР трех неформальных режимов поведения руководителей предприятий (фактора безопасности/страховки; симуляции/очковтирательства; блата/знакомства и связей), идущих вразрез с «государственными интересами». В отличие от Граника Берлинер негативно оценивал эти явления. Они свидетельствовали о «значительной степени рыхлости и немонолитной гибкости» советской экономики. Для Берлинера они означали симуляцию производительного труда, в то время как Граник видел в них «переговоры» и «рационализацию»20. Тем не менее оба исследователя сходились во мнении, что неформальные связи распространялись повсеместно и обуславливались самой советской системой.
Работы Граника и Берлинера еще напрямую не артикулировали понятие ведомственности в СССР. Первым это сделал американский историк Александр Блок в статье о жилищном строительстве в СССР, опубликованной в 1951 году на страницах журнала Soviet Studies21. Согласно Блоку, основной причиной хаотичной застройки советских городов было отсутствие координации между различными отраслями промышленности, строившими дома для своих ведомственных нужд (departmental needs). Спустя несколько лет редакторы Soviet Studies определили текст Блока как основное исследование, раскрывающее понятие «departmentalism (vedomstvennost’)» в Советском Союзе. Тогда же редакция журнала отнесла ведомственность к проблемам исключительно советской истории22.
Однако эта работа Блока не вписалась в общую дискуссию о лимитах тоталитарной модели, которая развернулась среди советологов в 1950‑х годах. Осознание важности управленцев и структур среднего звена в функционировании советской системы превращало их в очень популярный предмет для изучения. Например, Мур-младший, помимо абстрактных Сталина и Политбюро, ввел в свою исследовательскую пирамиду власти фигуру министра, который обеспечивал «свободу маневра» для «своего» министерства и добивался наилучшего снабжения сырьем «своих» предприятий23. Против веберовской модели Мура-младшего выступал Граник. Анализируя отдельное предприятие тяжелой промышленности, он выделил категории «независимости» и «автономии» управленцев, «мощной инициативы» снизу, «нарушения правил» сверхцентрализованной системы, «вспомогательных функций» и даже «вынужденности»24. По его мнению, директора были обязаны принимать на себя несвойственный им функционал под страхом ухода рабочей силы и невыполнения плана. Таким образом, советские управленцы не действовали как веберовские бюрократы. Инициатива управленца относилась к «полезным элементам», служа одним из условий гибкости и жизнеспособности советской экономической системы25.
Этот спор продолжал Берлинер, который в 1957 году выпустил монографию «Фабрика и управляющий в СССР». Задействовав материалы интервью более тридцати советских граждан, имевших отношение к управленческой деятельности в советской промышленности, ученый представил полноценный взгляд «снизу» на формальные и неформальные отношения между работниками предприятий и министерствами. Берлинер не проговаривал понятие «ведомственность», но использовал предикат «ведомственные» (departmentalistic)26, помещая его, а также описываемые и соотносимые с ним явления («ведомственные стандарты», «блат», «нарушение ассортиментного плана») в разряд неформальных отношений27. Берлинер определял данные явления как способствующие падению производительности труда и замедлению экономики. «Вспомогательные функции» директора на благо плана у Граника оборачивались «получением материалов, противоречащих замыслу плана» в работе Берлинера28.
В 1957 году исследователи впервые артикулировали понятие ведомственности в этом споре о советских практиках управления. Причиной послужило открытое обсуждение экономической реформы 1957 года на страницах центральной советской прессы. В июле 1957 года в журнале Soviet Studies были опубликованы важные документы: пересказы постановления пленумов ЦК КПСС, январская записка Хрущева с выдержками из материалов газеты «Правда» о публичной дискуссии по поводу реформы29. Комментатор документов Джон Миллер был поражен фактом признания советскими властями трудностей в управлении промышленностью. Он отдельно отмечал, что в постановлении от 14 февраля «главным злом нынешней системы назван „департаментализм“ (vedomstvennost’)»30.
Через несколько месяцев историк экономики Алек Ноув посвятил анализу этого феномена целый параграф «Департаментализм – фундаментальный дефект» в своей статье в журнале Problems of Communism. Ученый указывал, что ведомственность являлась пороком централизации и несбалансированности системы, «доставшейся от Сталина»31. В плановой системе министерства, находящиеся под «различными видами давления», начинали «по понятным причинам» «заботиться о своих предприятиях», а «разумное сотрудничество между предприятиями, принадлежащими разным министерствам, было затруднено». Тем не менее, по словам автора, «грехи ведомственности» были преувеличены советской прессой в целях подготовки к реформе управления промышленностью32.
Однако признание ведомственности в качестве порока советской системы не привело к быстрому укоренению понятия в лексиконе историков или развитию представлений о нем как самодостаточном явлении. Олег Хоффдинг высказывал сомнения, можно ли вообще говорить о влиянии «промышленного департаментализма», когда так мало известно о процессе принятия решений в Совете министров33. Роберт Дэвис соглашался с выводами Ноува, но называл реализуемую реформу «бюрократической хрущевщиной», игнорируя понятие «ведомственность»34. Полемика о рациональном характере советских управленцев только набирала обороты. Казалось, исследователям был нужен новый подход, который смог бы описать эту вдруг публично признанную советской властью проблему.
Американский историк и политолог Мерл Файнсод во введении к своей известной книге «Смоленск при Советской власти» (1958) рассматривал ведомственность лишь как термин официального советского языка. По его мнению, реальные проблемы лежали в неформальных отношениях в региональных организациях, квинтэссенцией которых были понятия «семейный круг» и «семейная порука». Путем частой ротации кадров центральная власть стремилась разбить поруку, создаваемую семейными узами и местными кликами. Руководство областной/районной парторганизации, напротив, пыталось уйти из-под эффективного контроля Москвы/Смоленска, то есть «замкнуть круг» путем включения в него только доверенных людей35. Файнсод заявлял, что система «патронажа и руководства» со стороны областного Бюро и первого секретаря обкома ВКП(б) пронизывала все уровни. Но он же уточнил, что с этим было покончено в 1937 году36.
Работа Файнсода впервые четко разграничила элементы нормированных иерархий, к которым он приписывал ведомственность, и неформальные отношения, выстраивавшие группы интересов в советской бюрократической элите. Групповой подход, или теория групп интересов, набирал популярность в политической науке в 1950‑х годах и первоначально применялся исключительно к капиталистическому опыту. Ситуация стала меняться к концу десятилетия, когда группизм был апробирован в изучении некапиталистической страны – Югославии37. На советских материалах идея группности начинала пробивать себе путь в работах, написанных в рамках веберовской модели бюрократии. Примером служила монография Джона Армстронга «Советская бюрократическая элита: кейс украинского партийного аппарата»38. Следуя по стопам Б. Мура-младшего, Армстронг исследовал советскую элиту «среднего уровня» и раскрыл формирование отдельных групп интересов в монолитной структуре партии. Согласно его выводам, Хрущев распространил на весь Советский Союз «украинскую модель» олигархического контроля, в которой обкомовские отделы кадров являлись не оплотом власти секретариата ЦК, а были послушным инструментом в руках местных партийных боссов39. В этой модели личные связи, а не официальный статус определяли положение в партаппарате. В результате власть создавала «автономные центры власти», где региональные руководители «могли рассматривать область как свою собственность»40.
Исследования советской бюрократической системы пошатнули позиции тоталитарной школы. Это стало очевидным во время дискуссии в журнале Slavic Review между Збигневом Бжезинским, известным адептом тоталитарной школы, и историком Альфредом Меером, выступавшим с позиций группового подхода. В интерпретации Бжезинского эксперты в лице технократов, госплановцев или управленцев-бюрократов были безвольными лоялистами, подчиненными «генерализаторам» (аппаратчикам, определяющим генеральную линию партии). В итоге контроль над центральным партаппаратом предопределял исход любой межведомственной битвы41. Неформальные связи на уровне ведомств или регионов не играли существенной роли в функционировании Советского государства.
Меер же предлагал выйти за пределы элитологии. Он описывал все советское общество как «гигантскую промышленную бюрократию», связанную вместе «принципом карьеризма», пронизывающим общественную ткань насквозь. Это общество делилось на два уровня. На первом находились верхние эшелоны власти, где советское руководство сохраняло баланс между группами интересов (экспертами и идеологическими догматиками). Во втором общегражданском уровне действовали «люди организации» (the organization men), то есть большая часть советских людей, которые обладали «другой» – организационной – лояльностью, поддерживаемой множеством организаций и бюрократических структур. Советские граждане были вынуждены работать в рамках общесоюзной инфраструктуры одной корпорации, так как «нет никакой возможности избежать самой системы. Вы не бросаете свою работу в „СССР Инкорпорейтед“»42. Таким образом, модель А. Меера презентовала «другую» внепартийную лояльность, предвосхитившую артикуляцию тотальной «ведомственной идентичности» в будущих постревизионистских исследованиях.
В первой половине 1960‑х годов историография усиливала интерес к изучению неформальных связей в советской системе. Мерл Файнсод точно так же видел в департаментализме одно из многочисленных проявлений проблемы формально-бюрократического контроля43. Он обозначал ее как «реальную линию власти», которая последовательно отделялась от неформальных «автономных узлов власти», создаваемых «семейными кругами». После реформы 1957 года ученые также связывали эту тему с вопросом о пределах авторитарной власти Кремля и лично Хрущева. Карл Линден указывал на слабую позицию партийного лидера, который сталкивался с консервативными «конфликтующими элементами внутри партии»44. Историк Томас Ригби, наоборот, считал Хрущева сильным лидером с неоспоримой властью, в сравнении даже со Сталиным до 1937 года45.
Одновременно с этим Ригби выделял противоречивую природу постсталинского общества, где существовало двенадцать видов конфликтов. Среди них были не только столкновения между крупными подразделениями советской бюрократии (партией, государственным управлением, армией и т. д.), но и отдельными учреждениями (units) (в том числе Госпланом и совнархозами), которые действовали согласно «ведомственному подходу» (vedomstvennyi podkhod), и регионами (местничество). Вдобавок историк выделял разногласия неформальных групп, завязанных на взаимодействии патрона и клиента. В этой типологии конфликтов Ригби четко отнес ведомственность к формализованным структурам бюрократии. В неформальных патрон-клиентских отношениях эти формальные подразделения и иерархии не играли существенной роли, а выступали лишь местом концентрации патрон-клиентских связей, которые могли эти формальные структуры легко пересекать46.
Взгляды сторонников группового подхода существенно повлияли на точку зрения представителей тоталитарной школы. Так, Бжезинский и Сэмюэл Хантингтон отказались от использования термина «тоталитаризм». Они также признали существование в советском обществе трех групп интересов: 1) «аморфные социальные силы» – рабочие, крестьяне, белые воротнички; 2) «особые группы интересов» – интеллектуалы, ученые, этнические меньшинства; 3) «группы политики» (the policy groups) – военные, управленцы промышленными предприятиями и сельским хозяйством, государственные бюрократы. Эти силы отстаивали свои интересы, доводя их до руководства страны. Однако партаппарат сохранял всю полноту власти, а эксперты были только подносчиками снарядов47.
С точки зрения первых теоретиков группизма, советский государственный аппарат был более разветвленной совокупностью групповых интересов, основанных на неформальных связях. Меер описывал советскую политическую систему как «сложную структуру, состоящую из множества различных властных иерархий»48. Разноголосица команд, раздаваемая подчиненным ведомствам (agencies), исходила из одного бюрократического источника – Коммунистической партии, обладающей абсолютным суверенитетом. Но именно партия вызывала к жизни «семейственность» (family relations, semeistvennost), то есть «чрезмерно тесные отношения с бюрократами, которых они должны были контролировать и консультировать». По словам автора, данное явление являлось «защитным союзом» между территориальными органами партии и ведомствами. Тем самым «семейственность» превращалась в «сильные и жизнеспособные модели неформальной организации, которые пересекали хорошо выстроенные схемы управления и контроля советской бюрократической структуры», позволяющие нарушать правила, законы и не подчиняться директивам49.
Меер также заявил о существовании в СССР «народного бюрократизма» (people’s bureaucratism), когда советское общество само являлось «бюрократической системой», сочетающей командный принцип единоначалия с максимальным участием всех граждан в управлении предприятиями и организациями в качестве активистов. Рост числа наркоматов с конца 1930‑х годов приводил к превращению каждого бюрократического агентства (bureaucratic agency) в самодостаточную группу интересов. Такая агентность была «группой давления, занимающейся бюрократическим империализмом, рассматривающей другие министерства как своих соперников и во многом работающей против общего для всех интереса, общественного интереса, определяемого партией». Конкуренция между людьми всегда означала конкуренцию между группами50. Советское государство боролось с этой ситуацией путем создания суперкабинетов (inner cabinet or supercabinet), таких как ГКО или Президиум Совета министров, либо путем сокращения числа министерств или в ходе реформы 1957 года.
Итак, работы середины 1960‑х годов рассматривали ведомственность как часть процесса группирования элит, формирования и отстаивания их автономии. Групповой подход более обстоятельно выделял значимость советских бюрократических институтов, поскольку советская система представляла собой олигархический «плюрализм элит», где партия была более могущественная, чем все остальные, но не всемогущей51. Группы, которые были институционализированы и являлись частью административного механизма (министры, плановики, руководители промышленных предприятий), имели реальное влияние на советскую политику. Во времена Хрущева эти элиты получили возможность доносить свою волю до руководства и влиять на процесс принятия решений52. Советская власть позволяла существовать формам «подчиненной автаркии»53 – бюрократические институты и организации могли быть в той или иной степени автономными и самодостаточными в процессе администрирования.
Милтон Лодж обозначил это явление термином «групповщина» (gruppovshchina)54. Ученый считал, что различные группы (экономические бюрократы, военные, интеллигенция, юристы) обладали отличными от партийных аппаратчиков самосознанием, заданным групповым статусом и общими ценностями. В таком случае партия выступала политической ареной для конкуренции между разными группами55. Вместе с тем партийное руководство противодействовало автаркическим процессам. Джерри Хаф выдвинул оригинальную гипотезу происхождения партийных управленцев регионального уровня (секретарей обкомов и райкомов). По его мнению, они являлись фигурами, чьи должности были «сознательно учреждены, чтобы пересекать ведомственные линии подчинения»56. Региональные партийные органы выступали своеобразным «министерством координации». Они устанавливали «общие правила» для разрешения межведомственных споров (inter-departmental disputes)57. Одновременно с этим партийный комитет был «сторожевым псом региональных интересов», готовым указать высшим должностным лицам, «когда совокупность ведомственных решений приведет в их регионе к ситуации, наносящей ущерб экономике»58.
В начале 1970‑х годов вышла в свет коллективная монография «Группы интересов в советской политике», которая подводила итоги дискуссии о групповых элитах и предлагала свой перечень политических коллективных субъектов. К ним относились партийные аппаратчики, военные, сотрудники госбезопасности, промышленные управленцы, экономисты, юристы и писатели. Редактор книги Гордон Скиллинг подчеркивал, что это были скорее неструктурированные группы, но они могли быть описаны через поведенческие практики и модели действий, характерные для целой профессиональной группы или группы мнений в какой-то профессиональной отрасли59. Так, анализируя партийных аппаратчиков, Хаф показал медиационную функцию этой группы через понятие «локализма» (местничества), впервые обозначенную экономистами в работах 1960‑х годов. Локальные альянсы, создаваемые таким стилем управления, ученый назвал «впрягаться в одну команду» (harnessing in one team)60. В первую очередь они формировались в процессе распределения ассигнований из центра. Способность «проталкивания» конкретных проектов с мест определяла реальную роль аппаратчиков в принятии политических решений61. В такой интерпретации партия занимала положение арбитра в межведомственных спорах и обеспечивала плюрализацию советской системы.
Таким образом, проблематизация советской ведомственности в научной литературе последовала в начале 1950‑х годов. В историографии наиболее отчетливо рецепция этого понятия из советского дискурса проявилась в период обсуждения реформы 1957 года, когда советское правительство открыто признало трудности в экономическом развитии. Однако если в 1950‑х годах советологи описывали единую советскую бюрократическую элиту и спор ученых касался вопроса о ее рациональном поведении, то последующие исследования стремились показать децентрализацию советского управления и организацию групповых элит, которая в некоторых интерпретациях охватывала все советское общество. Часть исследователей отнесли феномен ведомственных интересов к категории менее значимых формальных отношений. Во второй половине 1960‑х годов большинство специалистов уже оценивало ведомственность в качестве признака групповой идентификации советских элит.
Между тем групповой подход оставлял открытым вопрос о причинах неудачи советских экономических реформ. Оценка эффективности централизованного планирования, которое напрямую связывалось с внедрением инноваций в экономическую систему и производство, заставляла экономистов задуматься о препятствиях такой технологической интеграции. Как было сказано, в конце 1950‑х годов экономист Алек Ноув одним из первых определил департаментализм в качестве источника, тормозящего реализацию реформ. Вскоре исследователи плановой экономики попытались детализировать этот феномен через территоризацию советского управления.
В начале 1960‑х годов Ноув определил ведомственность с помощью понятия «локализм» (mestnichestvo), обозначающего приоритет потребностей региона над внешними нуждами62. Экономист и политолог Георгий Гроссман помещал «местничество и ведомственность» (localism and departmentalism) в седьмую группу выделенных им проблем советской экономики. Для него эти явления стояли в одном ряду с пренебрежением и хищением социалистической собственности, корыстными действиями и повсеместным обманом начальства63. Они зависели от «различной степени» просвещенности (то есть уровня квалификации) и эгоизма64, а также препятствовали мобильности ресурсов, что служило рациональным основанием для централизации процесса принятия экономических решений65. Например, реформа 1957 года была направлена именно «на ликвидацию министерской автаркии („департаментализма“)», а также на «приближение администраторов среднего звена к предприятиям и рациональную организацию производства и снабжения на региональной основе»66.
К середине 1960‑х годов экономисты были солидарны в том, что ведомственность была причиной неудач экономических реформ. Морис Добб отмечал, что с 1920‑х годов ведомственный сепаратизм препятствовал обновлению системы планирования и разработке единого хозяйственного плана67. Согласно экономисту Мечковскому, возобладание «ведомственных соображений» вело к проблемам в экономическом и политическом районировании страны68. Мечковский совершенно по-новому посмотрел на реформу 1957 года. В отличие от Гроссмана, который акцентировал внимание на антиведомственном характере реформы, Мечковский заявил, что реформа дала противоположный эффект: «автаркия министерств („ведомственности“)» переросла в «региональную автаркию („местничество“)». Прежде министерства руководствовались исключительно собственными интересами, игнорируя интересы других отраслей хозяйства. Теперь же созданные совнархозы, под предлогом комплексного развития экономических районов, начали формировать самодостаточные «империи» не только в ущерб «чужакам», но и экономике страны в целом. Мечковский рассматривал местничество как худшую версию ведомственности69.
Реагируя на концепцию групп интересов, экономисты также признали зависимость научно-технологического потенциала СССР от формирования элиты советских специалистов. Эти группы ученых, экспертов и технократов могли бы стать проводниками демократических преобразований70. Джереми Азраил указывал, что с периода нэпа Советское государство шло на поощрение специализации и группирования, то есть объединения в профессиональные ассоциации71. По его мнению, в позднем сталинизме управленческая элита уже разделялась на «иерархические, ведомственные и фракционные линии». При этом она состояла не из «красных директоров», а из специалистов. Однако эти специалисты были несамостоятельными, поскольку являлись участниками межведомственных конфликтов и как клиенты-управленцы искали патрона и были ему верны за пределами родного ведомства72.
Точно так же экономист Рональд Аманн увидел в «ведомственных барьерах» и «раздробленной ведомственной структуре» исследовательских учреждений основной фактор, препятствующий внедрению инноваций в советскую экономику. Эти структурные барьеры, ограничивавшие свободный обмен информацией, приводили к разрывам между научными исследованиями и производством73. С этим соглашался экономист Дэвид Граник, который раньше писал о значимости низовой инициативы предприятий74. Похожие мысли развивал историк экономики Джордж Фейвел. Он определял департаментализм как тенденцию различных министерств к самодостаточности и следованию собственным интересам. Чтобы достичь желаемой самообеспеченности, предприятия производили дорогостоящие «вспомогательные операции», которые не давали необходимый результат75. С точки зрения Фейвела, реформа 1957 года усугубила проблемы министерской системы, так как не вела к децентрализации, а лишь создавала параллельные структуры с неясной субординацией76.
Таким образом, в начале 1970‑х годов экономисты все больше склонялись к мнению, что ведомственность была порождением советского бюрократизма. В частности, Алек Ноув, изучая возможности построения социалистической рыночной экономики, указывал на бюрократическое поведение и бюрократический субъективизм, мешавшие формированию рынка при социализме77. Экономист Элис Горлин в равной степени отмечала, что неудачи обновления советской экономики были связаны с нараставшей бюрократией. «Узкая ведомственность» была частным проявлением процесса бюрократизации министерств и главков в форме избыточного вмешательства в дела хозрасчетных объединений78.
Несколько иную точку зрения имел историк советской экономики Моше Левин. В своей монографии 1974 года он высказался о позитивной роли партии в преодолении проблемы ведомственности. Согласно Левину, партийные структуры выступали «особой администрацией», созданной для координации различных бюрократий. Партия противостояла бюрократической рутине и ориентации на «узкие личные интересы (ведомственность)» [narrow self-interest orientation (vedomstvennost’)]79. Историк указывал, что департаментализм – это «тенденция чиновников бороться за интересы своего ведомства [department] в ущерб более общим интересам»80. В его понимании она не была системной проблемой. Так, Левин не включал ее в перечень симптомов, указывающих на кризисные явления в партии. С другой стороны, он признавал, что государственная система в СССР состояла из разрозненных бюрократических аппаратов, лишь верхние слои которых составляли класс начальства (nachal’stvo). Эти начальники имели скрытые привилегии, но из‑за сталинского террора так и не смогли кристаллизоваться в «правящий класс»81. Тем не менее сталинская «бюрократизация» обеспечивала полную зависимость различных социальных групп в СССР от административного аппарата82.
Итак, экономисты описывали феномен ведомственности преимущественно через терминологию локализма и бюрократизма. Например, Джоэл Моузес укоренял ведомственность в понятии регионализма, то есть тенденции провинциальных лидеров формулировать политику автономно от предписаний Москвы83. Горлин продолжала писать о департаментализме с точки зрения нарастающей бюрократизации системы84. Наиболее четко взгляд экономистов на проблему ведомственности отражали новые работы Ноува. В отличие от Левина он диагностировал «болезни локализма (mestnichestvo)» как системного явления. Так, боязнь локализма в формате сговора местных партийных работников побудила Хрущева провести реорганизацию партии по производственно-отраслевому признаку в 1962 году85. Неэффективное использование ресурсов, порожденное департаментализмом, вело в конечном итоге к серьезному замедлению промышленного роста86. Ноув предсказывал скорый «кардинальный пересмотр» всей экономической системы в СССР. Неизбежность реформы определялась необходимостью решения фундаментальных проблем, таких как «ведомственное разделение контроля» и межведомственное соперничество за ресурсы, приводящие к широкому распространению дефицита87.
В середине 1980‑х годов стало очевидным еще одно поле советской экономики, где весьма широко проявлялась ведомственность. Чарльз Зиглер актуализировал значение экологии в социалистической системе: партия «сваливала экологические катастрофы» на «бюрократический феномен „департаментализма“»88. В его трактовке ведомственность означала «узкие, сегментарные интересы, преследуемые различными министерствами и институтами в Советском Союзе в ущерб общему благосостоянию». Зиглер указывал, что наличие собственных организационных норм и приоритетов у отдельных министерств объясняло их нежелание учитывать эффект экстерналий, то есть внешних по отношению к их основой деятельности экологических факторов. Именно проблема экстерналий, описанная Зиглером в международном масштабе, была еще одним экономическим следствием ведомственности. Зиглер выделил две парадигмы в ведомственной политике по отношению к окружающей среде в СССР. «Доминирующая» парадигма сохраняла иерархическую структуру министерств и ведомств, но стремилась нивелировать фактор департаментализма, приводивший к экологическим кризисам. «Экологическая» парадигма выражалась в создании централизованного агентства по охране окружающей среды для уменьшения негативных последствий департаментализма. Ученый критиковал «экологическую» парадигму за риторику прогрессистского дискурса, абсолютизировавшего экономический рост, а не защиту окружающей среды. Зиглер считал, что хоть обе парадигмы осмысливали проблему ведомственности, но в то же время они были частью официального дискурса и не могли предложить действенные пути выхода из назревшего кризиса89.
К 1980‑м годам ученые, изучавшие советское экономическое планирование, сделали ведомственность одной из базовых категорий, описывающих неудачи системного реформирования, и по большому счету поставили ее в ряд с ключевыми проблемами социалистической экономики. С точки зрения некоторых экономистов, хрущевские преобразования усугубили ведомственную проблему явлениями локализма. В то же время, придерживаясь общих тезисов развивавшейся ревизионистской историографии, экономические историки также определили департаментализм как формализованное следствие бюрократизации, которое создавало издержки не только в сфере автономного регионализма, но и в практиках внедрения технологических инноваций, допустимого социалистического рынка и защиты окружающей среды. Эти экономические исследования, артикулировавшие понятие ведомственности, во многом стали предпосылкой для появления историков, которые попытались разобраться в этом феномене на материалах сталинизма.
В начале 1970‑х годов в изучении советской бюрократии наметился поворот от концепции группизма к анализу поведенческих практик чиновников. Еще в 1960‑х годах часть исследователей (Файнсод, Армстронг, Ригби, Азраил) оценивали деятельность бюрократов в СССР в том числе через призму неформальных отношений. Наиболее полно эту точку зрения отражали работы Томаса Ригби, который заявил, что «даже наилучшим образом организованная бюрократия не полностью свободна от патронажа»90.
Согласно Ригби, бюрократические отношения между патроном и клиентом являлись определяющими для советской политии91. Одновременно с этим патронаж обозначал инструмент неограниченного правления и аккумуляции власти диктатора. Так, Сталин и Хрущев выступали патронами, подавляющими олигархическую систему. Они наполняли собственными клиентами ключевые государственные структуры92. При этом внутри ЦК создавались неформальные объединения на основе принципов местничества и трайбализма93.
Рассуждения Ригби выглядели по-настоящему дерзко, поскольку прежде система патронажа связывалась преимущественно с домодерными обществами. Большую роль в апроприации патронажа к советским реалиям сыграла статья политологов Кейт Легг и Рене Лемаршан, указавшая на возможность использования всего инструментария патрон-клиентской модели к недемократическим индустриальным системам94. Следующей значимой работой в этом фокусе стал текст Джеймса Оливера, который развивал концепт «семейных кругов» М. Файнсода. Он выдвинул гипотезу о «неразрушительной текучести кадров». По его мнению, созданные на основе семейных кругов клики патронов и протеже могли разрушить только географические и/или отраслевые перемещения партийно-советских чиновников за пределы их «родной» территории/отрасли. Это означало, что клиентела была глубоко укоренена в партийно-советских органах среднего и низового уровня95. К похожим выводам пришел Грей Ходнетт. Он считал, что в патронаже был залог стабилизации системы, строившейся вокруг «отношений обмена» между покровителем и подопечными. За счет этого осуществлялось продвижение интересов по секторальной (партия, правительство), организационной (департамент, министерство) или географической (провинция, республика, регион) линиям96.
Основная исследовательская задача в новой концепции как раз состояла в том, чтобы определить масштаб патрон-клиентских отношений в СССР. Под влиянием работ А. Меера Ригби задался вопросом: «Не могли ли все советские учреждения рассматриваться как различные линейные и штатные подразделения единой иерархической пирамидальной структуры?» Он отвечал, что в СССР существовал «органический» тип бюрократии, который, в отличие от «классического механистического» (веберовского), формировался не в нормальных, а в экстраординарных условиях «на ходу» или даже «по ходу». В стабильный период, пока достаточно было механистических процессов, государственный аппарат мог быть в значительной степени «предоставлен самому себе», а партия выходила на первый план тогда, когда обстоятельства требовали «действовать более органично». Ригби называл эту систему «криптополитикой», которая означала скрытую деятельность, маскирующую добросовестное выполнение назначенных организационных ролей. Она включала в себя нелегальные взаимодействия и скрытую конкуренцию между организациями, неформальные сети или клики, злоупотребление служебным положением97.
Во второй половине 1970‑х годов среди сторонников концепта патрон-клиентизма стали раздаваться голоса об ограниченности этого подхода98. Своеобразным ответом на эту критику была публикация летом 1979 года материалов симпозиума по проблемам сравнительного анализа коммунистических обществ. Одно из направлений данного мероприятия концентрировалось на теме патронажа в обществах стран реального социализма (СССР и Китай). На этом форуме Ригби приветствовал достижения выработанной политическими антропологами сетевой теории, акцентировавшей внимание на проблемах горизонтального взаимодействия и координации99. В центре обсуждения находилась статья Джона Виллертона-младшего «Клиентизм в Советском Союзе: первичный анализ». На основе количественных методов Виллертон-младший показал важность патронажа в мобильности советской партийной элиты 1960–1970‑х годов. Исследователь говорил о личном характере и реципрокности патрон-клиентских отношений в СССР. Каждый участник таких связей получал выгоду от действий другого посредством определенных сделок, в которых все являлись соучастниками, в то время как влияние и власть каждого в некотором роде зависели от влияния другого100.
Ряд ученых представили комментарии к этой статье и свое видение тематики клиентизма в целом. В данной дискуссии оставался ключевым вопрос о тотальном проникновении патронажа вовнутрь советского общества. Социолог Зигмунт Бауман, указав на традиционные корни советского клиентизма, назвал любое коммунистическое общество, возникшее на основе общества крестьянского, «обществом клиентов в поисках патрона». Согласно социологу, патрон-клиентский паттерн охватывал все советское общество, «доминировал во всех человеческих отношениях, кроме чисто личных, интимных»101. В свою очередь, Кейт Легг находила корни клиентизма в бюрократизации, приводящей к несоответствию формальных и неформальных ролей. Одни приписывались организацией, а другие реально исполнялись индивидами102. Ригби еще раз указывал, что устойчивость к драматическим событиям советской истории доказывала прочность неформальных клиентских связей, распространенных в местных партийных организациях103. При этом представители ревизионистского направления понимали патронаж достаточно узко – как средство защиты, недоступное простым советским людям.
Патрон-клиентская концептуализация упускала из анализа формальные явления, которые в теории групповых интересов и экономистами-советологами описывались понятиями «департаментализм» и «локализм». Патронаж вроде бы пронизывал всю советскую систему, но при этом не замечал различные нормативные детали или контексты в неформальных отношениях. Соединить два подхода попытались Джерри Хаф и Мерл Файнсод в совместной монографии «Как управляется Советский Союз». Размышляя над ролью институциональных акторов (министерств и ведомств) в советской политике, авторы отметили хронический характер конфликтов на почве отстаивания «ведомственных интересов» (departmental interests) в брежневском СССР104. В этой работе Файнсод поменял концепт «семейных кругов» на понятие «патронаж». В интерпретации исследователей патронаж был «помощью» (assistance), за которой местные учреждения обращались к крупным министерствам. Либо он мог проявляться в виде продвижений или «ухода со сцены» местного начальства вслед за патроном105. Ученые ассоциировали явление ведомственности с отстаиванием интересов и конфликтом между равными институциональными акторами всесоюзного уровня, в то время как патронаж был региональным фасадом этого институционального плюрализма.
Однако корифеи патрон-клиентской теории отказывались вводить ведомственную переменную в свой аналитический инструментарий. Последовательно расширяя проблематику патронажа в изучении сталинской диктатуры, Ригби описывал эти аспекты через понятия «бюрократической политики»106 и «бюрократизации» партаппарата107. В обновленном подходе ученого политический клиентизм уже был больше, чем неформальным взаимодействием, и становился «функциональной» частью советской системы. Теперь эта система соединяла «первую» и «вторую» экономики, формальные и неформальные стороны номенклатуры, а также обеспечивала взращивание региональных элит108. Сторонники патрон-клиентской теории лишь косвенно затрагивали ведомственную проблему при упоминании формализованных процессов бюрократизации109 или карьерной специализации110. В частности, теория патронажа позволяла переосмыслить процесс разрастания советского правительства. Прежде это расширение связывалось с превращением бюрократических структур в группы интересов. Но историк Джеффри Хоскинг взглянул на рост наркоматов как на возможность расширения клиентелы, особенно среди новых «красных специалистов». То есть номенклатурные назначения представляли собой мощный механизм патронажа111. Подход Хоскинга нашел свое развитие в известной статье Ригби «Был ли Сталин нелояльным патроном?». Ригби приходил к выводу, что Сталин проявлял высокий уровень «объективной лояльности» по отношению к своим подчиненным и «ближайшим товарищам по оружию», поскольку вел себя как босс мафии, предлагавший своему окружению постоянную благосклонность и защиту в обмен на верную службу112.
В 1980‑х годах появилось несколько исследований, которые все же попытались вписать феномены департаментализма и локализма в патрон-клиентскую теорию. В первую очередь стоит сказать о статье Джона Миллера «Номенклатура: проверка на локализм?». Если четверть века назад ученый описал ведомственность языком советского официального дискурса, то в начале 1980‑х годов он попытался ответить на вызовы концепции патронажа. При этом он следовал работам Ноува, Гроссмана и Мечковского, которые описывали ведомственность в значительной степени как проблему локализма. Базовым тезисом Миллера было утверждение, что «у всесоюзного центра нет стратегии борьбы с регионализмом путем максимального рассредоточения персонала по всему Союзу»113. Он интерпретировал борьбу центра с регионализмом/локализмом как отношения недоверия. Для успеха реализации своих программ центр вынужден был опираться на местный доверенный персонал («региональные лобби»), обладающий соответствующим уровнем экспертизы и информацией, необходимой для реализации проектов в конкретных условиях. По этой причине возможности ротации региональных кадров («номенклатурного процесса») со стороны Москвы были ограниченны, и она вряд ли могла бы добиться победы над регионализмом114.
Оригинально к этому вопросу подошел Майкл Урбан, который скрестил патрон-клиентскую модель с теорией двойного сигнала Грегори Бейтсона. Он отмечал, что советская власть стремилась максимизировать эффективный контроль над подчиненными, посылая им двойной коммуникативный сигнал (double bind)115. С одной стороны, они должны были достигать плановых показателей, но, с другой, эти задания изначально устанавливались как невыполнимые. Сигнал власти встраивался в логику патрон-клиентских сетей, «упорядоченных, многосторонних (multi-party) систем вертикального и горизонтального обмена»116. Люди и организации, попадавшие в подобную ситуацию «двойной зависимости», пытались выбраться из нее через межличностные узы (interpersonal bond) и неформальные паттерны взаимопомощи, существовавшие в условиях слабых формальных структур117. Ответами на двойной сигнал также выступали явления формализма, локализма и департаментализма. Формализм был способом вовлечения других в принятие решений с целью распыления собственной ответственности. Локализм и департаментализм наблюдались в нижних уровнях общественной иерархии, где был силен эффект сообщества (the communal effect). В таком случае локализм – это горизонтальные обмены взаимопомощи и защиты местных элит, а департаментализм проявлялся при вертикальном обмене в различных иерархиях118. В интерпретации Урбана ведомственность была ограниченной, так как исходила не от элит, а от нижних уровней номенклатуры. В целом эффект этих паттернов заключался в том, чтобы оградить субъекты, присваивающие как можно больше государственной собственности для реализации конкретных проектов, от невыполнимых требований центральных властей.
Таким образом, лишь к середине 1980‑х годов проблематика ведомственности нашла отражение в патрон-клиентской теории. Она понималась в первую очередь как проблема вертикального (департаментализм и локализм) бюрократического взаимодействия и обмена (Д. Миллер, М. Урбан). Либо же она могла описываться через конфликт между всесоюзными акторами (Д. Хаф и М. Файнсод). Но во всех случаях эта артикуляция осуществлялась авторами, которые прежде работали в рамках концептуализации бюрократической элиты или группы интересов. Сторонники же патронажа вряд ли видели в ведомственности что-то большее, чем просто незначительный элемент формальной бюрократизации. Они трактовали клиентизм гораздо шире, вписывая в него не только вертикальные транзакции различных типов, но и все разнообразие горизонтальных взаимодействий, направленных на появление неформальных «региональных когорт», «клик», «альянсов» и «связок»119. Бауман усматривал основание клиентизма в «крестьянских корнях», превращавших патронаж в механизм регулирования коммунистического общества120. В силу такой тотализации патронажа, объясняющего преимущественно неформальные отношения, проговаривание ведомственных интересов в этой концепции было затруднительно.
Патрон-клиентская теория хоть и попыталась проблематизировать феномен ведомственности, тем не менее не придавала ему особого значения в функционировании советской системы. Вместе с тем в середине 1980‑х годов в исследованиях клиентизма фокус постепенно смещался на описание советской модернизации через терминологию «архаизации» и укоренения «неформальных практик». Все больше ученых оценивали сталинскую политику как модерное обращение к традиции121. В итоге концептуализация патронажа стала основой для новой интеллектуальной траектории в историографии сталинизма. К 1990‑м годам этот подход репрезентировал советскую историю как серию сменяющих друг друга неотрадиционалистских правлений122. Историки-неотрадиционалисты оценивали Советское государство как альтернативную модерность с множеством практик из традиционных обществ123. Чтобы доказать это утверждение, сторонники данной интерпретации, в отличие от патрон-клиентской концепции, больше уделяли внимание соотношению неформальных практик с нормативными бюрократизированными структурами, которые как раз определялись как типичные свойства модерности.
Ключевой задачей этого направления было выявление роли харизматической власти в институциональном развитии в СССР. Так, Кен Джовитт считал, что советская хозяйственная модель находилась в подчиненном положении по отношению к «харизматически-традиционным чертам ленинистских институтов»124. По мнению ученого, организация и этос советских учреждений отражали тип харизматического лидерства. Больше всего он проявлялся в блате – реципрокных неформальных социальных транзакциях по линии «советские кадры / советские граждане»125. Ватро Мурвар, напротив, полагал, что в Советском Союзе сложился псевдохаризматический образ правителя, сформированный многочисленными контролирующими организациями и средствами коммуникации126. Ученый назвал этот тип правления модерным патримониализмом (modern patrimonialism). С этой точки зрения большевистские вожди не отвечали требованиям харизматического лидерства, а пропаганда и институты искусственно создавали вокруг них культы, служившие выражением «патримониального правления в модерном облачении»127.
Наиболее глубоко эту проблему обозначил историк Джереми Джилл, который утверждал, что партия и советская политическая система являлись патримонией (вотчиной) Сталина. Это сказывалось на слабости организационных/институциональных норм и правил партийной жизни. В теоретической схеме Джилла Сталин исполнял роль политического ментора, выделявшего бенефиции представителям советско-партийных элит/групп взамен на их лояльность и поддержку128. Реальные акторы политического процесса на всех уровнях (партаппаратчики и «семейные группы») использовали формальные институты лишь как инструмент для прикрытия и достижения своих целей. Джилл уделял серьезное значение фактору идеологии культа, который как раз и связывал всю эту властную структуру и позволял преодолеть формальные «бюрократические барьеры»129.
Таким образом, неотрадиционалисты поставили под сомнение значимость советских формальных институтов в политических отношениях. В новой книге корифей патрон-клиентской теории Джон Виллертон указывал, что патронаж процветал на всех уровнях и неформальные механизмы, а не идеология помогали лидеру реализовывать политическую программу. По его мнению, именно «карьерные связи, а не принадлежность к организации» определяли положение человека в обществе130. Однако система действовала «более эффективно», когда неформальные сети «объединяли интересы отдельных лиц, групп, учреждений и секторов»131. В то же время большинство исследователей не считали институты серьезными механизмами в функционировании Советского государства. Ученица Ригби, известный историк Шейла Фицпатрик указывала на то, что даже «бюрократические одолжения» (bureaucratic favors) давались по линии межличностных отношений и частных обязательств132. Йорам Горлицкий приходил к выводу, что в основе сталинской патримониальной системы лежал принцип «строгой личной преданности: представление о том, что чиновник предан правителю, а не своей должности»133. То есть официальные лица просто обходили формальные иерархии путем прямого обращения к вождю.
Следовательно, точно так же, как и в патрон-клиентской модели, неотрадиционалисты не придавали значимости явлениям советской экономики, относившимся к административным отношениям. Этим можно объяснить практически полное игнорирование ими понятий «ведомственность» и «местничество», воспринимавшихся как очевидные формальные бюрократические практики. Основным объектом исследования выступал блат, который рассматривался в качестве определяющего в формировании политического и экономического устройства. На первое место выходили феномены, находившиеся за пределами институциональных рамок, например такие, как «толкачи»134. Джилл давал следующую характеристику патримониализма: «система, в которой исчезает различие между частной собственностью и государственной собственностью, когда лица, занимающие руководящие должности, используют общественные ресурсы, как если бы они были их собственными, и где власть и идентичность учреждения определяются с точки зрения власти и идентичности их руководителя»135. Осознавая необходимость соотношения неформальных и формальных структур, таким определением Джилл полностью нивелировал институциональный фактор в советской системе, заменяя его принципом персонализма.
Однако историки-неотрадиционалисты хоть серьезно упрощали властные отношения в Советском государстве до неформальных связей и практик, тем не менее пытались прояснить взаимосвязанности патронажа и административно-бюрократических иерархий в СССР. Они также обратили внимание на социальные ограничения блата. Так, Мэтью Лено указывал, что обмен взятками и одолжениями имел значение только на уровне особой статусной группы – советской общественности, которая включала бюрократов, активистов, научную и техническую элиту136. Согласно Джеральду Истеру, неформальные личные сетевые связи в сталинском государстве пересекались с «формальными бюрократическими линиями командования»137. Чтобы построить «бюрократическое абсолютистское государство», Сталин должен был через процесс «регионализации» сделать «бюрократической» уже сложившуюся патримониальную «инфраструктурную власть»138. В недавней работе Джилл также признавал, что советские олигархи укоренялись в различные бюрократические иерархии, поскольку это давало им институциональную базу и через нее, собственно, набор интересов139.
То есть для неотрадиционалистов советская политическая система представляла собой неопатримониальный режим с домодерными чертами. Он состоял из ведомственных кланов и клик, отчужденных от масс и воспроизводивших квазирыночные отношения. Верховная политическая власть подчиняла все эти клики, сохраняя за ними лишь право зависимой собственности140. Ярким примером такой неотрадиционалистской собственности выступал ГУЛАГ. Согласно историку Уилсону Беллу, с одной стороны, ГУЛАГ был частью стремления Советского государства к модернизации, но во многих отношениях он укреплял традиционные практики управления. На бумаге ГУЛАГ казался «модерной», высокобюрократизированной организацией, но в реальности в силу нехватки кадров, коррупции и проблем со снабжением администрация и заключенные подстраивали под себя действовавшие нормированные правила. Гулаговская модель воспроизводила спектр домодерных властных отношений: черный рынок, фальсификацию данных, «обмен услугами» (exchanging favours), патронаж и прошения. Ученый считал, что только опора на неформальные сети и личные связи позволяла ГУЛАГу функционировать на низовом уровне день за днем141.
Контекст институциональных изменений в анализе неформальных отношений был особенно учтен в совместных исследованиях Йорама Горлицкого и Олега Хлевнюка. В книге «Холодный мир» авторы также определяли сталинизм как неопатримониальный режим, который воспроизводился в качестве «надведомственной системы принятия решений» (system of supraministerial decision making)142. В недавней своей работе Й. Горлицкий и О. Хлевнюк выявили практики осознанного и вынужденного делегирования власти центром на региональный уровень. Анализируя клиентские политические сети, историки также касались сюжета о ведомствах, которые благодаря хозяйственному значению своих предприятий в выполнении плановых заданий и/или «прямой линии» со Сталиным или Берией становились «хозяевами» отдельных городов и регионов. Такие влиятельные ведомства могли эффективно оспаривать власть «слабых» секретарей (contested autocrat) партийных комитетов в регионах. С одной стороны, в исследовании Горлицкого и Хлевнюка политическая система в СССР была совокупностью сетевых структур. Но, с другой стороны, ученые показали прямую зависимость сетевых взаимодействий партийной элиты от институциональных изменений и союзов – партии, прокуратуры, советских органов власти, силовых и производственных ведомств143.
Таким образом, концептуализация советской политической системы через модель патрон-клиентизма и неотрадиционалистскую интерпретацию реконструировала сплошную архаичную иерархию неформальных отношений. Как правило, анализ практик блата, взяток, кумовства, связей и личной преданности не оставлял места институциональным факторам. В 2000‑х годах такое редуцирование Советского государства к разным вариантам патримониализма начало прерываться попытками исследователей выделить формальные институты в качестве условий и ограничений патрон-клиентских отношений (Джилл, Лено, Истер, Горлицкий, Хлевнюк, Белл). Однако эта группа исследователей в своей аналитике не выходила за пределы архаических черт советской элиты, продолжая смотреть на институциональные механизмы и идентификации как на вторичные и фиктивные элементы советской бюрократии. Исключение составил историк О. Хлевнюк, который еще в середине 1990‑х годов отметил формирование еще одного нового направления в историографии сталинизма.
Исследовательская позиция, относившая бюрократизм и его аспекты к формальным структурам, имела следствием достаточно долгое восприятие историками-ревизионистами ведомственных отношений в общей рамке вертикальной бюрократизации. Как выше было описано, ситуация стала меняться только к середине 1980‑х годов, когда некоторые ученые посмотрели на советскую систему через призму институционализма. Показательной в этом отношении была статья Шейлы Фицпатрик, проанализировавшая отношение Сталина и Политбюро к советской бюрократии. Доработав концепт своего учителя Ригби о «бюрократической политике», она указывала, что сталинская «система также породила могущественные бюрократические институты с определенным видом корпоративной идентичности и/или уверенного руководства». «Партийные бароны» были аффилированы с государственно-бюрократическими структурами и часто защищали свои «институциональные интересы». Правда, сам «Сталин от них ждал именно этого», поощряя бюрократические конфликты и действуя как арбитр. Тем не менее «коммунистические руководители всегда подвергались жесткой критике за защиту своих „бюрократических интересов“ (vedomstvennye interesy) вместо того, чтобы ставить универсальные интересы партии на первое место»144.
Работа Фицпатрик отразила важный поворот в изучении советского режима. Проблематизируя «корпоративную идентичность», она уловила смещение интереса ряда ученых от больших моделей бюрократизма, групп интересов или патронажа к конкретным связям и отношениям между отдельными институциями и высшими органами государственного управления / вождем / коллективным руководством. Наркомат/ведомство могли рассматриваться как самодостаточные институты, действующие в реалиях советской «бюрократической политики». Этот институционализирующий подход обуславливал прямую артикуляцию феномена ведомственности. С одной стороны, он осмысливал, придерживаясь рамок бюрократизма, советскую историю с позиций отдельных ведомств, а с другой – описывал этот феномен в максимально широкой трактовке. В данной интерпретации департаментализм включал весь спектр горизонтальных и вертикальных взаимодействий партийно-советских и хозяйственно-производственных акторов145.
В 1987 году вышла в свет книга британского историка Эдварда Риса, в которой с позиции такого институционального взгляда разбиралась деятельность Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ, Рабкрин) в 1920–1930‑х годах. Рис писал, что Рабкрин превратился в ключевое надзорное ведомство, выступающее «единственным органом государственного контроля» и созданное как раз с целью преодоления «ужасной ведомственности» (awful departmentalism)146. Для Риса ведомства – это властные ресурсы, а департаментализм в таком случае являлся способностью отдельных наркоматов устанавливать и отстаивать свои собственные внутренние правила в обход государственного контроля в лице Рабкрина. Историк также противопоставлял государственный контроль и противоположный ему внутриведомственный контроль, позволявший реализовывать ведомственные интересы147. С точки зрения Риса, в этой конкретно-исторической реальности государственный интерес приравнивался к интересу одного контрольного ведомства.
Аналогичную аналитику советской ведомственной системы предложил экономический историк Пол Грегори. Опираясь на данные опросов полусотни советских эмигрантов – работников советских министерств, ведомств и производственных предприятий предперестроечного десятилетия, он показал, что бюрократы от экономики не составляли единую группу интересов. По его мнению, советская экономическая бюрократия могла сводиться к обобщенной категории «единоначальники» (edinonachal’niki). Однако она делилась на два типа. Хозяйственники (khozyaistvenniki) распределяли ресурсы и несли ответственность за достижение плановых показателей. К ним относились сотрудники «линейных» министерств и ведомств – директора предприятий и главков, руководители промышленных министерств и их заместители. Аппаратчики (apparatchiki) издавали инструкции и правила для хозяйственников. Это были работники «функциональных» министерств и ведомств – Госплана, Госснаба, Минфина и др., но они всегда находились в слабой позиции, поскольку создаваемые ими нормы не несли высоких транзакционных рисков для бюрократов от производства. То есть, в отличие от патрон-клиентской теории, Грегори наделял хозяйственника большей агентностью в организации неформальных сетей. Хороший гибкий хозяйственник добивался результатов путем нарушения правил и законов, но одновременно избегал разоблачения. В интерпретации Грегори он не был связан с линией партии. Он искал ресурсы, предлагал инновационные решения, обладал связями и проникал за пределы профильного министерства, «заручаясь поддержкой могущественных патронов». Однако такая активность вела к «транзакционным издержкам» в форме «автаркических тенденций предприятий и министерств», например при организации самоснабжения148.
Тем не менее, развивая свою теорию, вскоре Грегори пришел к выводу, что в советской экономической системе все же существовало главное ведомство – Госплан, который «сверху» определял реструктурирование и контроль советской бюрократии. Перед плановиками стояли задачи примирения интересов аппаратчиков и хозяйственников и превращения «функциональных» ведомств в сильные институты. Таким образом, Госплан должен был бороться с ведомственностью как «местническими тенденциями»149. Ведомственность проявлялась в двух измерениях: 1) партикуляризме министерств, то есть нежелании работать с другими министерствами и игнорировании региональных потребностей в пользу профильных предприятий; 2) чрезмерной интеграции промышленных министерств, что означало автономную организацию производства, транспорта, добычи сырья, ремонта и строительства150. В работах Пола Грегори был впервые представлен комплексный взгляд на феномен ведомственности: «сверху» – со стороны планового суперведомства и «снизу» – через агентность отдельных хозяйственников.
Австралийский политолог Стивен Фортескью предложил оригинальный подход к изучению ведомственности. Объясняя это явление, ученый выдвинул понятие «секционализма» (sectionalism (vedomstvennost)). По его мнению, советские руководители (начиная с Ленина) были привязаны к «секционным интересам» (sectional interests), которые легитимизировались и сохранялись за счет административных механизмов согласования (soglasovanie/vizirovanie). На практике это приводило к доминированию ведомственных (секционных) интересов над региональными, что позволило Фортескью говорить о советской системе как модели «секционного общества» (the sectional society). Однако без «руководящей роли» партаппарата «секционное общество» было не способно к выживанию, поскольку не имело связующих сил, таких как рынок и верховенство права. Вместе с тем тотальная национализация в экономике способствовала очень высокому контролю со стороны «советских бюрократических структур» (soviet bureaucratic agencies) над промышленностью и их узкой специализации151. Важным фактором таких управленческих взаимоотношений политолог считал «подмену» (podmena), означающую привычку советских учреждений, особенно партийных организаций, чрезмерно вовлекаться в оперативную деятельность других структур. Но при этом региональные парторганы «оказывались на побегушках у министерств и предприятий», принимали роль толкачей, помогая производственным акторам в обеспечении снабжения и сокращении плановых заданий152.
Итак, согласно Фортескью, ведомственность породила «общество», где «не имеющая выбора» слабеющая партия продолжала играть роль арбитра, которому министерские бюрократии навязывали свои правила153. «Ведомственное общество» сочеталось с «руководящей ролью партии» и «командной экономикой». В этой ситуации именно «секционная», а не территориальная дезинтеграция являлась главной угрозой для СССР эпохи Горбачева. Если прежние исследования Д. Хафа и Т. Ригби подчеркивали «ограничение политической деятельности бюрократических учреждений, получавших „лицензию“ от политического руководства», то работа Фортескью показала, что для центральных министерств эта «лицензия» также «включала определенную степень свободы от контроля со стороны регионального партаппарата». По мнению Фортескью, «секционное общество» не было случайным феноменом, а скорее явлением, сознательно лежащим в основе механизмов политического, экономического и социального контроля, безжалостно управляемых политическим руководством154. Вскоре Мэри МакАули подтвердила «находки» Фортескью, заявив о проблеме контроля над полномочиями министерств как главном факторе партийной реформы времен перестройки155.
Актуализация институционального подхода в работах ученых 1980‑х годов, вероятно, подтолкнула известного историка Моше Левина отнестись серьезнее к проблеме департаментализма. Изучая команду реформаторов в книге «Феномен Горбачева» Левин назвал «ловушку ведомственности», в которую попала партия, главным вызовом для нового руководителя страны. Он определил ее как «болезнь департаментализма», лежавшую в основе сбоев экономики и политики и поразившую механизм управления в национальном масштабе156. Детализируя поломки системы, ученый во многом повторял оценки советских газет. Например, Левин фиксировал пагубное воздействие ведомственности в городах, расположенных на территориях нового промышленного освоения (таких, как Братск). В этих районах деятельность различных ведомств вела к разделению населенных пунктов на «разобщенные и плохо управляемые „микрогорода“» (microcities). Журналисты называли их «производственными поселками» (manufacturing villages), в то время как научная литература именовала «ведомственными пятнами» (departmental blurs). В ответ на такую «рассогласованность» (rassoglasovannost’) советские граждане голосовали ногами и уезжали из новых промышленных районов157. Одновременно с этим историк видел в ведомственности причину экологических проблем и катастроф. В конечном итоге он давал неутешительные рекомендации: «Весь механизм экономического надзора неисправен и должен быть заменен», поскольку «проблема не ограничивается экономической системой»158.
После распада Советского Союза многим исследователям стало очевидно, что система советских индустриальных ведомств пережила крах государства и его командной экономики. Этот факт еще больше актуализировал проблематику ведомственности в советской истории. В 1993 году в свет вышла монография английского политолога Стивена Уайтфилда «Промышленная власть и Советское государство», в которой было показано, что Фортескью и другие ученые недооценили силу промышленных министерств в национальном масштабе159. В этой книге Уайтфилд превратил «ведомственность» в полноценную аналитическую категорию. При этом исследователь описывал vedomstvennost’ как сложное явление, которое артикулировалось через понятия департаментализма, министериализма, технократизма и локализма (местничества). Сама ведомственность представляла собой «реальное поведение министерств» и их способность (используя систему госконтроля) переступать через государственные интересы в ходе преследования «реальных» интенций «своего» министерства. Так, ведомственность превращалась в действительную власть / инструмент доминирования ведомств в советской системе160.
Уайтфилд выделил четыре разновидности ведомственности. Организационная (organizational) ведомственность означала полномочия министерств в определении юрисдикции своих собственных предприятий, приводившей к доминированию организационных критериев над рационально-экономическими (экономические реформы 1965 и 1973 годов). Производительная (productive) ведомственность интегрировала сложный комплекс отношений при разделении административных функций министерств и реальных производств. В таком случае она была стремлением к расширению непрофильных производств, монополии на знания о фактической работе филиалов и обретению собственной сети поставок (автаркические тенденции). Технологическая (technological) ведомственность являлась попыткой справиться с усложнением научно-технических процессов путем создания новых министерств, а также противодействием инновациям, ввиду дороговизны внедрения новых технологий. Межминистерская (inter-ministerial) ведомственность проявлялась в условиях неспособности профильного министерства обеспечить контроль за формально подведомственными ему ресурсами и продукцией другого ведомства161. Все это ведомственное разнообразие позволяло министерствам максимизировать свои преимущества, минимизировав возможность доминирования иных (в том числе государственных) интересов. Промышленные субъекты контролировали ключевые ресурсы, а министериализм как практика отстаивания «реальных интересов» ведомств укоренился «в сердце» советской системы162.
Таким образом, в схеме Уайтфилда советские промышленные министерства представляли собой самостоятельные политические институты / акторов-гегемонов (hegemonic actors), определявшие лицо советской политики. По его мнению, доминирование в советской политической «игре» определялось возможностью контроля над министерским аппаратом на уровне министров и их заместителей. При этом критерием их успеха выступала степень реализации ведомственных интересов. В результате была сформирована амбивалентная ситуация. С одной стороны, министерская власть была главным источником стабильности государства, поскольку предоставляла механизм инкорпорации общественных элементов в советскую систему, но с другой – перманентный конфликт министерств со «слабыми» политиками, сдерживающими их деятельность, вел к неустойчивости163.
Уайтфилд описал историю этого противостояния в Советском Союзе. Изначально промышленные министерства были созданы «политиками» как агентства, которые действовали в качестве их инструментов. Однако в ходе «переходного периода» 1921–1938 годов министерства приобрели полномочия самостоятельных политических субъектов. Советские руководители от Сталина до Горбачева организовывали антиминистерские кампании (anti-ministerialism), но последовательно терпели неудачи в своих усилиях подавить ведомственность. Примечательно, что первым поражение в этой борьбе потерпел Сталин, который не смог искоренить ее даже посредством Большого террора и в итоге увеличил число министерств к концу 1930‑х годов. Поражение Сталина привело к установлению «министерского социализма» (ministerial socialism), или «министерского режима» (ministerial regime), существовавшего до конца истории СССР164. В позднесоветский период партийные руководители выработали три основные стратегии в противостоянии власти министерств. Во-первых, упразднение ограничивавших действия политиков институтов в целях получения прямого экономического контроля (Хрущев). Во-вторых, расширение регулятивных полномочий в рамках «игры „принципал-агент“» (Брежнев). В-третьих, поиск новых форм легитимации и новых институтов (Горбачев)165. Таким образом, роль патрон-клиентизма в концепции «министерского режима» была сведена к одной из защитных стратегий находящейся в «слабой» позиции политической элиты. Напротив, Уайтфилд показал феномен ведомственности как фундаментальный фактор создания и распада советской государственности: «Однако, как министериализм скреплял старую политическую и социальную систему, так и следующий виток антиминистериализма разделил перестройку и Советский Союз на части»166.
Наиболее последовательная критика подхода Уайтфилда была высказана английским историком Йорамом Горлицким. Он считал, что практика делегирования власти министерствам не была ключевым основанием системы, а скорее выступала одним из «источников слабости» политической элиты, наряду с отсутствием «общественного пространства». Горлицкий разглядел в «антиминистериализме» комплексную единую стратегию политиков «по решению повторяющейся проблемы узурпации власти министрами»167. Принципиальная разница позиций ученых заключалась в дескрипции истоков этой ведомственной «узурпации». По мнению Горлицкого, подобная активность исходила не от глав ведомств и их заместителей, а от «низших партийных и министерских чиновников, которые считали, что министерская система стала безнадежно сверхцентрализованной при позднем сталинизме»168. В реалиях реформы 1957 года бюрократы среднего и низшего звена представляли самостоятельную самоорганизующуюся силу, обеспечивавшую поддержку политикам (Хрущеву), неспособным найти ее в «общественном пространстве». Трактовка Й. Горлицкого продолжала давний советологический поиск «реальных линий» власти в советской политико-экономической реальности, последовательно уводя его от надзорных суперведомств (Э. Рис, П. Грегори) и массы «индустриальных министерств» (С. Уайтфилд) в недра отдельных ведомственных субъектов. Побочным эффектом такой критики выступало падение роли ведомственности как институционализированного «сверху» явления/инструмента власти в пользу инициатив «снизу» – со стороны «маленьких» бюрократов отдельных ведомств.
Однако в середине 1990‑х годов ведомственное направление получило наибольшее распространение и влияние в историографии. Одним из главных авторов, изучающих советскую историю через ведомственный фокус, оставался Эдвард Рис. В 1995 году ученый опубликовал монографию «Сталинизм и советский железнодорожный транспорт», в которой представил новый институциональный кейс. В этот раз на примере Народного комиссариата путей сообщения (НКПС СССР) историк продолжил анализировать развитие ведомств в разветвленной структуре советской бюрократии. Он указывал, что после 1928 года в СССР сложилась политическая система из «множества внутриведомственных и надведомственных (intra-departmental and extra-departmental) контрольных органов для надзора за государственной бюрократией и обеспечения реализации политики»169. То есть Рис считал, что именно ведомства осуществляли контроль над советскими бюрократами, а не наоборот, следствием чего был повышенный бюрократизм. Тем не менее, по сравнению с прошлым анализом Рабоче-крестьянской инспекции, в новой книге Рис уже не распознавал в ведомствах самодостаточных игроков, хотя у них и сложилась «особая организационная идентичность» (distinct organisational identity).
Теперь историку казалось, что ведомства обладали только некоторой «институциональной автономией», ограниченной государственными задачами в экономической и оборонной сфере. Например, статус НКПС зависел от текущего положения наркома в Политбюро. Это проявилось в Большом терроре, направленном в первую очередь против ведомственного своеволия (так же, как у Уайтфилда), а не на кланы, как считала прежде ревизионистская историография. В такой конфигурации репрессивной машины успешность наркома определялась способностью подавлять существовавшее внутри ведомств противодействие воле Сталина, ограничивавшего «автономию» ведомств, а не умением отстаивать свои ведомственные интересы170. Ведомственность, как способность отдельных хозяйственно-производственных субъектов придерживаться собственных внутренних правил и норм в обход государственному давлению сверху, превращалась в обоснованную «автономию» ведомств, подпитывающую организационную идентичность. В обновленном подходе Риса такая «автономия» инициировала расширение горизонтальных связей. В формате top-down иерархии и отношений клиентелы ведомства взаимодействовали и конфликтовали на равных, чаще всего посредством «межведомственных комиссий». Таким образом, Рис показал, что ведомства выступали организаторами патрон-клиентских сетей, обеспечивая их бюрократической инфраструктурой.
В 1997 году под редакцией Риса вышла коллективная монография «Принятие решений в сталинской командной экономике». Эта книга лучше всего отражала сложившийся институциональный подход ведомственного направления в историографии, поскольку каждая статья в ней была посвящена основным комиссариатам, Политбюро, Совнаркому и Госплану в период второй пятилетки. Авторами книги выступили Роберт Дэвис, Олег Хлевнюк, Винсент Барнетт, Марк Таугер, Дерек Уотсон и Сергей Цакунов, которые в своих работах показали значительную роль ведомственных интересов в определении экономической политики. Во введении книги Рис специально выделил небольшой раздел о феномене ведомственности, обозначая его как идентичность и философию управленческих структур (Departmentalism: agency identity and agency philosophy)171. Эта идентичность и философия ведомств зависели от функций, организации, личного состава и отношений друг с другом, а также с партией и правительством. По мнению ученого, департаментализм был следствием централизованного планирования, установившегося с эпохи сталинской индустриализации. В итоге комиссариаты, отвечавшие за свой сектор экономики, превращались «в крупные централизованные бюрократические учреждения со своими собственными корыстными интересами». Они постоянно спорили между собой за ресурсы и политическое влияние. Однако укоренение департаментализма происходило в условиях стабильности. Но всегда власть стремилась обуздать независимость ведомств посредством проведения чисток, осуществления контрольного надзора, проведения мобилизационных мероприятий и назначения партийных людей на руководство этими органами. В условиях непрерывного давления, «слабости профессиональной этики среди чиновников» и малочисленности «слоя специалистов» внутри ведомств получили «широкое развитие механизмы самозащиты, семейных кругов и клиентских сетей»172. Именно к этому времени можно отнести пик интереса к «ведомственному подходу» в историографии.
Выводы Риса были, правда, впечатляющими. Известный российский историк Олег Хлевнюк определил исследования Риса как пример «перспективности „ведомственного“ направления изучения советской истории»173. Для Хлевнюка принципиальное значение имели описание влияния и контроля вождя и его соратников за деятельностью ведомств и идентификация Рисом их «главной проблемы» – степени участия в разделе «государственного пирога» капиталовложений174. По мнению ученого, вклад Риса в историографию сталинизма заключался в определении понятных критериев оценки автономии ведомств и, следовательно, возможности определения «веса» их руководителей в ближнем кругу Сталина. Таким образом, Хлевнюк точно выделил еще один аспект в «ведомственном направлении» историографии – интерес к личностному фактору в феномене ведомственности. Ярким примером такого фактора была деятельность Орджоникидзе, демонстрировавшего прямо противоположные модели поведения в зависимости от занимаемых им ведомственных руководящих должностей175. В середине 1990‑х годов из-под пера О. Хлевнюка, Ф. Бенвенути и Д. Уотсона вышла серия таких «биографических» работ о ведомственной активности Орджоникидзе, Кагановича и Молотова176. Эти труды показали, что Сталину приходилось считаться с наличием «вотчин», а члены Политбюро настойчиво отстаивали интересы своих ведомств. Развивая идеи Риса про ведомства как властный ресурс и тезисы Фицпатрик о Сталине как арбитре, историки раскрывали конкретные сюжеты поощрения вождем соперничества между ведомствами и учета интересов друг друга177. Это был иной вариант «ведомственного» анализа, который сосредоточивался преимущественно на выявлении персонального фактора в ближнем круге вождя и роли самого Сталина.
Несмотря на дрейф ведомственного направления в сторону просопографического метода, интерес этих историков оставался в реконструкции вертикальных связей и конфликтов. Ученые понимали ведомственность как иерархическую систему, которая пронизывала все уровни экономики и политики. Например, такая аналитика top-down отношений была характерна для работ Пола Грегори и Андрея Маркевича. Они высказали тезис о «гнездовой диктатуре» (nested dictatorship), в которой акторы административно-хозяйственной вертикали всех уровней воспроизводили вышестоящие структуры. В этой системе департаментализм представлял собой «отраслевой патриотизм», подталкивающий межведомственные (между наркоматами) и внутриведомственные (между главками) конфликты. Однако система тактически поощряла горизонтальные неформальные сделки наркоматов и главков, обозначаемые авторами как «оппортунизм» и «игра» ведомств178. В такой конфликтной среде Сталин и Политбюро опасались появления влиятельного суперведомства. Поэтому власть инициировала дробление наркоматов, которые затем испытывали проблемы со снабжением, и ведомствам не оставалось ничего иного, как стремиться к автаркии и к независимости от других ведомств179.
Эта трактовка выделяла особое лоббистское положение промежуточных структур, таких как главки или регионы. По мнению Маркевича, руководители наркоматов всегда считались с позицией главков, поскольку именно от них зависело выполнение плановых показателей всей отраслевой вертикали180. Исследования Грегори и Маркевича заполняли «недостающее звено» в дискуссии о «реальных линиях» власти в СССР. Во главу ведомственной административно-командной цепи были поставлены не надзорные суперведомства (Э. Рис), руководство министерств (С. Уайтфилд) или отдельные предприятия (Д. Граник), а советские главки. С точки зрения Джеймса Харриса, такими лоббистскими возможностями обладали регионы. В союзе с бюрократическими институтами, которые имели глубокое чувство идентичности и собственные интересы, они создавали влиятельный советский регионализм, противопоставлявший себя центральному бюрократическому аппарату. По его мнению, теория патрон-клиентизма преувеличивала потребность региональных лидеров иметь покровителя в центре. Коалиции руководителей регионального уровня как от промышленности, так и от партийно-советских органов играли решающую роль в балансе политических сил между центром и периферией181. Траектория исследовательского поиска демонстрировала волатильность позиций в рамках ведомственного подхода. В то же время в начале 2000‑х годов этот взгляд, раскрывающий потенциал региональных и промышленных институтов, оставался вторичным в исследованиях сталинизма, которые попали под возрастающее влияние неотрадиционалистских трактовок.
Вскоре Эдвард Рис также скорректировал исследовательский фокус, обратив внимание на ведомственных руководителей, которые окружали Сталина. С точки зрения историка, ведомственные начальники обладали существенной властью в пределах своих вотчин, но при этом они все же находились под постоянным контролем Сталина182. Вероятно, именно эти выводы о высокой контролирующей роли вождя привели к смене исследовательского ракурса у историков, которые прежде смотрели на советскую экономику через призму институционального подхода. Хотя они и продолжали считать, что разногласия на основе ведомственных интересов приводили к различиям в политике, а не наоборот183, ведомственный фактор уже не казался им определяющим в анализе экономической системы. Историки видели в Сталине арбитра, но уже не столько между ведомствами, сколько среди конкретных соратников, обладающих министерскими портфелями184. Диктатор нуждался в помощниках, которые управляли бы огромными институтами185. Итак, произошло смещение фокуса с ведомства как института на руководителей ведомств и их роли в ближнем кругу Сталина.
Этот новый исследовательский подход к Сталину и конкретным ведомственным управленцам ярко проявился в работах Олега Хлевнюка. По сравнению с другими учеными историк наиболее продуктивно использовал «ведомственность» в качестве аналитического понятия, под которым понимал централизованную и иерархичную систему управления в СССР. Высшие партийные руководители одновременно управляли государственными и хозяйственными структурами, получая тем самым рычаги политико-административного влияния186. По мнению Хлевнюка, Сталин в значительной мере был составной частью этой «системы советской ведомственности». Однако ведомственность советской властной иерархии позволяла сохранить остатки коллективного руководства при диктатуре. Как писал историк: «Ведомственность, опиравшаяся на позиции членов Политбюро – руководителей ведомств, оставалась последним препятствием на пути единоличной диктатуры»187. В этой системе Сталин являлся особым центром власти, ответственным за соблюдение «общегосударственных интересов» и сдерживание ведомственных влияний. Но вождь не был ярым противником ведомственности, скорее для него было главное, чтобы все решения согласовывались с ним. Поэтому, с точки зрения Хлевнюка, феномен ведомственности правильнее рассматривать как инструмент обеспечения безоговорочной власти вождя. Как отмечал историк: «Борьба с бюрократизмом и ведомственностью оказалась для Сталина удобным методом воздействия на членов Политбюро»188.
В 2011 году вышло серьезно переработанное русское издание книги «Холодный мир», написанной совместно с Йорамом Горлицким. В новой версии монографии Хлевнюк также добавил ведомственную переменную в анализ неопатримониального режима Сталина. Теперь в основе сталинизма лежали «олигархические» тенденции189. Согласно историкам, «ведомственный эгоизм» (ministerial egoism) и нежелание следовать «государственному интересу» со стороны соратников Сталина становились поводами в послевоенных репрессивных кампаниях. Однако относительная стабильность в верхах в этот период вела к «олигархизации» и обеспечивала возвращение к практикам «коллективного руководства». Соратники вождя хоть и утратили политическую самостоятельность, но в то же время наращивали определенную ведомственную автономность при решении оперативных вопросов190. Эта автономность порождала формирование клиентских сетей членов высшего руководства191. После смерти Сталина режим трансформировался, и ведомственное влияние членов Политбюро переросло в политическое, поскольку олигархическая система могла спокойно функционировать без диктаторской составляющей192.
Сегодня в историографии фактически отсутствуют исследования, которые можно отнести к ведомственному направлению. Хлевнюк переключился на изучение неформальных практик преодоления забюрократизированных институциональных ограничений в реалиях теневой экономики193. Редкие исключения составляют исследования «ведомственного лоббизма». Так, А. В. Захарченко показал, что для помощи своим предприятиям министерства требовали получения дополнительного финансирования, перераспределения бюджетов, пересмотра плановых обязательств и давления на другие ведомства. Это вертикальное лоббирование играло существенную роль в функционировании советской экономики и являлось обязательным инструментом корректировки правительственных директив194. Историки В. Л. Некрасов и А. А. Хромов описали противостояние «традиционных» и «новых» отраслевых лобби в эпоху Хрущева195. Согласно Некрасову, противодействуя «ведомственному эгоизму и местничеству», центральные партийные, правительственные и плановые органы власти так и не смогли предложить новую модель развития советской экономики196. Раскрывая конфликтную природу советской ведомственной экономики, тем не менее такие исследования не шли дальше самой советской (само)критики управления и нередко просто копировали государственную риторику середины XX века.
Наиболее заметной в этой области можно считать фундаментальную работу Н. Митрохина. Он также указывал на значительное давление на систему советского планирования со стороны регионов и ведомств. Однако эти группы влияния были производными от ключевых политических фигур Политбюро197. Как показало исследование, советские бюрократы использовали понятие «ведомственные „системы“», обозначавшее «корпоративные структуры, распространяющие свое влияние на значительную часть территории страны (если не на всю страну)». Они были готовы обеспечить пожизненную занятость, постоянный рост статуса и доходов, обладали корпоративной моралью, символами успеха и культурными приоритетами. Партийно-государственные чиновники шли на «взлом» этих структур методами административного «волюнтаризма», в частности наделяли «системы» несвойственными им функциями. Тем не менее этим «системам» удавалось обзаводиться лоббистами и накапливать ресурсы. Митрохин оценивал ведомственные «системы» позитивно, поскольку, превращаясь в многофункциональные корпорации и обеспечивая «широкий спектр услуг», они придавали «гибкость советской системе»198.
Таким образом, в 1990–2000‑х годах в историографии сформировалось ведомственное направление, которое выделило проблематику ведомственности как самодостаточную в изучении советской экономики и политики. Этот новый фокус объединил в первую очередь представителей исторической науки, которые изучали эпоху сталинизма. Исследовательская оптика этих ученых включала выделение институциональной самоорганизации и идентификации в условиях диктатуры. Ведомства обладали значительной автаркией в принятии административных решений и определении тактических действий. Одновременно историки понимали ведомственность как устоявшуюся иерархическую систему. Поэтому при институциональном анализе ученые обращали внимание преимущественно на вертикальные взаимодействия, в то время как горизонтальные неформальные связи оценивались исключительно в качестве механизмов поддержки своего субординационного положения. Однако выводы о том, что Сталин был арбитром в бесчисленных ведомственных конфликтах и таким образом сам являлся частью этой системной ведомственности, привели к серьезному смещению исследовательского фокуса в сторону учета персонального фактора. Историки стали концентрироваться на изучении, как метко выразился Николя Верт, «героев ведомственности»199. Изменчивость исследовательских практик в рамках ведомственного направления приводила к смещению фокуса научного поиска. Исследователи начали предполагать, что ведомственность и связанные с ней административные взаимоотношения напрямую зависели не от экономических и бюрократических институтов, а от возглавлявших их личностей. Прежние исследовательские сценарии об институциональных идентификациях конца 1980‑х – 1990‑х годов оказались под влиянием смежных концепций, актуализировавших неформальные личные связи, а ведомственное направление несколько затерялось в историографии.
Масштабное фукианское наследие кардинально изменило образ социальных и гуманитарных наук. В середине 1990‑х годов русистика также начала переосмысливать языки описания истории Советского государства и населяющих его людей. Новый подход основывался на смещении фокуса от истории политики конкретных личностей, групп или институтов к изучению отношений власти/знания и практик управления. Этот постревизионистский взгляд сосредоточился на проблематизации нового человека и советских дискурсов, которые воспроизводились не столько через пропаганду и идеологию, сколько посредством политики экспертного знания, индивидуальной адаптации к социальной реальности и дозволенных субъективностей. Одновременно с этим такая постановка вопроса выводила на размышления о государственных практиках насилия, контроля и надзора над разнообразным населением СССР. Сравнивая по этим параметрам Советский Союз и европейские страны, историки однозначно относили социалистическую систему к явлению модерности, хоть и отмечая ее экстремальный вариант.
В знаменитой книге «Магнитная гора» Стивен Коткин раскрыл, что основу советской политической системы составляли многочисленные дискурсивные практики говорения «по-большевистски». В этой теоретической модели политические и экономические институты выступали инструментами «практического колониального управления», которые поддерживали дискурсивную репрезентацию Советского государства. Пример «сталинской цивилизации» – города Магнитогорска – показал, что в новых индустриальных центрах Советы и партия делегировали свои властные функции ведомствам (commissariats), которые от имени государства «владели и управляли» и осуществляли «колониальное господство»200. Тем самым отраслевые ведомства в первую очередь являлись структурами, определяющими границы проявления советских субъектов и обеспечивающими сталинский дискурсивный порядок.
Однако эти тезисы Коткина о советском дискурсе нашли развитие в иной теоретической траектории. Продолжая работать с дискурсивным анализом, часть историков проявили больший интерес к артикуляции советскими гражданами своей субъектности в условиях тотальной большевистской идеологии. Как и в случае с другими историографическими направлениями, ученые дрейфовали в сторону изучения индивидуальных практик и персоналий, что, соответственно, приводило к недооценке значимости институциональных или бюрократических рамок. Однако исследователи советской субъективности подчеркивали, что граждане выступали агентами и продуктами постоянно меняющегося официального дискурса. Наряду с этим правовые и административные нормы отходили на второй план при соперничестве между разными моральными «я» советского гражданина201. Этот эффект стал еще более заметен в послесталинскую эпоху, когда усиливающееся давление государственных институтов на население одновременно сопровождалось расширением дискурсивного поля советской субъективности202.
Согласно постревизионистам, конструирование нового социального порядка в СССР обеспечивалось за счет научной экспертизы, которая становилась инструментом социалистической рационализации и унификации разнообразных культур и сообществ. Опираясь на труды социолога Зигмунта Баумана, историк Питер Холквист описывал такую советскую модерную систему насилия, учета и контроля с помощью концепта «политика населения». Используя науку, Советское государство осуществляло статистико-бюрократическую репрезентацию населения и делало его лояльным с целью построения социалистического общества203. Подобная исследовательская модель выстраивала тотальное институциональное поле советской политической системы, которое поддерживалось дискурсивно государственными агентами. Так, в своей ключевой монографии историк указывал на вызванное Первой мировой войной укрепление духа «государственной сознательности» (state consciousness), то есть стремления объединить под эгидой государства всех граждан путем преодоления партикуляристских интересов (particular interests)204.
Такого рода политика населения в значительной степени реализовывалась по ведомственным линиям. В частности, Даниэл Орловски описал становление советской традиционной бюрократии через профессиональный корпоративизм. По его мнению, даже демократические возможности, которые открывались перед российским населением в эпоху революции 1917 года, были ограничены исполнительной бюрократией и ее потенциалом создавать культы. Он считал, что ведомственность была порождением Первой мировой войны, когда были созданы новые институциональные механизмы и осуществилось перераспределение власти в пользу модерных корпоративных форм управления населением. В нестабильных условиях войны и революции новые экономические и общественные институты, профессиональные ассоциации и социальные группы вели торг за власть и скудные ресурсы внутри традиционной российской министерской бюрократии и за ее пределами. Появление корпоративизма было продиктовано этими новыми профессиональными и экономическими интересами, как правило связанными с низшими средними слоями и бюрократией в областях здравоохранения, науки, инженерного дела и образования. Со временем они рассматривали большевиков как своих покровителей, и административное влияние профессионалов сопровождало упадок демократии. Эти тенденции определяли политику Временного правительства, а после октября 1917 года корпоративизм окончательно стал основой постреволюционной и поствоенной власти большевиков205.
Эту мысль подробно развил Дэвид Хоффманн. Он указал, что если после 1918 года воевавшие державы отказались от методов управления в эпоху тотальной войны, то советское правительство, наоборот, через сохранение различных государственных ведомств – от здравоохранения до госбезопасности – положило их в основу государственной системы. Процесс бюрократической консолидации в новых «социальных» наркоматах преследовал цель укрепить советскую власть. Усиление Советов основывалось на типичном для модерных государств союзе со специалистами и профессионалами, которые в этих государственных ведомствах занимали посты чиновников206. Однако Хоффманн отдельно не выделял значимость советских институтов и корпораций. Он считал, что советская идеология технократизма воспроизводилась не институтами, администраторами и бюрократами, а группами специалистов – экономистами, инженерами, статистиками, врачами и т. д.207
Итак, подход постревизионистов фокусировался преимущественно на управленческих практиках насилия, учета и надзора, которые осуществлялись с помощью специалистов. Поэтому историки придавали существенное значение советским ведомствам, в которых работали такие профессионалы, обеспечивавшие функционирование практик управления населением. Если Холквист сосредоточился на изучении статистиков военного ведомства, то исследование Алена Блюма и Марианы Меспуле было посвящено «главному ведомству, где осуществлялись подсчеты» – Центральному статистическому управлению СССР208. Одновременно с этим авторы отмечали, что статистика различных ведомств была наиболее действенным средством государственных интервенций в социальную среду. Так, Дэвид Ширер доказал, что статистическое описание советских граждан «носило ведомственный характер» и осуществлялось в первую очередь разными структурами госбезопасности. В результате этой «ведомственности и компанейского стиля» в полицейской системе издавались противоречащие друг другу отчеты о преступности, основанные на разных узковедомственных статистиках209. На материалах ведомственной милиции (ведмилиции) (vedmilitsiia or enterprise police) Ширер раскрыл иерархическую основу политики населения, в которой головное ведомство опасалось роста собственных периферийных структур, осуществляющих контроль над населением210.
Помимо статистического учета особое место в анализе практик управления занимало градостроительство. Историк архитектуры Марк Меерович, будучи никак не связанным с постревизионистским направлением, тем не менее описывал Советский Союз как государство, формирующее лояльное общество посредством жилищной политики ведомств. По его мнению, центральным инструментом в управлении населением и принуждении его к труду было «ведомственное жилище» и «государственно-ведомственная» форма владения и распоряжения жильем211. С конца 1920‑х годов в основе государственной градостроительной политики лежала доктрина «ведомственного рабочего поселка». Поселение представляло собой «самостоятельный жилищно-производственный комплекс», структура которого должна была обеспечить формирование территориально-административной организации, способствовать управлению населением как в трудовом, так и в бытовом отношении. Таким образом, ведомственный рабочий поселок осуществлял социальную фильтрацию и трудовую мобилизацию населения212.
Антрополог Стивен Колье переработал идеи Мееровича в контексте биополитики Мишеля Фуко. Описывая историю металлургического завода в городе Белая Калитва, автор выделил явление «предприятие-центризма» (enterprise-centrism) в послевоенные годы213. Ученый обозначал ведомственность понятием «министериализм» (ministerialism), при котором отраслевые министерства через свои местные филиалы становились центральными игроками в городском развитии. По мнению Колье, главным негативным следствием ведомственности был уход градостроительной политики из-под контроля экспертного сообщества. Антрополог указывал, что к 1970‑м годам в СССР сформировались «промышленные сюзеренитеты» (industrial suzerainties), замещавшие безличную бюрократическую систему и определявшие нормы и формы городского строительства. Ведомства превращались в «хозяев городов», чья деятельность разрушала модерные практики управления посредством градостроительного планирования214.
Социальный аспект в изучении ведомственности был особенно характерен для российской историографии, которая преимущественно связывала его со становлением территориально-производственных комплексов в Сибири. В новых промышленных районах всесильные главки и комбинаты проводили политику территориального освоения – не только определяли хозяйственную жизнь в регионе, добывая природные ресурсы и организовывая новые обрабатывающие производства, но и создавали системы расселения, города, социальную и культурную инфраструктуру. По большей части российские ученые не концептуализировали эти факты в постревизионистской терминологии. Однако они реконструировали социальные процессы, определяемые ведомственностью, – урбанизацию215, принудительные миграции216, формирование культурного ландшафта217, повседневные практики рабочих218 и патернализм крупного предприятия219. Либо историки изучали различные модели ведомственного управления: «мобилизационно-гуманитарный тип» в закрытых городах220 и «командно-ведомственную систему» в районах ТПК221. Во всех этих случаях региональная историография видела в ведомствах регулятора формирования и движения населения на сибирских стройках.
Таким образом, постревизионизм предложил совершенно новую интерпретацию политической деятельности советских ведомственных институций. Ученые рассматривали ведомственность как механизм утверждения дискурсивного порядка и определения рамок советской субъективности. Основной функцией ведомств было установление учета и контроля над населением и формирование лояльных советской власти групп и сообществ. Советское государство осуществляло эту организационную деятельность в союзе со специалистами, которые получили влиятельные полномочия в государственных ведомствах, образованных в результате эпохи тотальной войны 1914–1918 годов. В первую очередь исследователи раскрыли эту политику населения через историю статистических служб и градостроительства. Однако российская региональная историография показала, что ведомственные практики управления имели более широкое распространение, оказывая преобладающее влияние на население в новых промышленных районах, определяя его идентификацию и повседневность.
Историография советской ведомственности – это в первую очередь интеллектуальная история изучения СССР как административного и политического режима. Рассказ об артикуляции «ведомственности» и постепенном превращении ее в аналитическую категорию раскрывает всю сложность схватывания, казалось бы, всем известного советского феномена исследовательскими подходами. Это показывает наши лакуны в знании о дискурсивных практиках в СССР и нередко простое воспроизводство в научных штудиях официальных топосов, конвенционально наследуемых из советской риторики. В таком случае авторы воспринимают ведомственность как бюрократический порок системы, с которым боролось партийное и советское руководство.
Выходя за пределы советской элитологии, эта интерпретация усложнялась: единая бюрократическая модель перестраивалась в вертикальную и формализованную иерархию групповых интересов, которая посредством ведомственности постоянно подрывала многие сферы реформируемой экономики – от внедрения технологий до экологической безопасности. Такое видение позволило снять проблему «руководящей роли» партии, погрузиться в мир неформальных взаимодействий. Вместе с тем значительная часть исследователей, работавшая в рамках патрон-клиентской и неотрадиционалистской парадигмы, не определяла формальные ведомственные структуры как существенный фактор в функционировании советской системы. Исключение составили историки, которые пришли к выводу о зависимости советской административной элиты от ведомственной идентификации и корпоративного лоббизма. В то же время, вероятно под влиянием патрон-клиентизма и общего поиска изъянов в объяснениях через советские институты, это ведомственное направление вскоре стало объяснять институциональные отношения и конфликты через призму персонализации «героев ведомственности». Из этой редукционной ловушки удалось выйти постревизионистам, которые сместили исследовательский фокус в сторону изучения ведомственных ограничений дискурсивной субъективности и модерных практик управления.
Ведомственное направление принципиально по-новому подошло к решению ряда научных проблем описания советской социально-политической и экономической реальности. Излет советской эпохи и время становления новой российской государственности были отмечены постановкой в центр внимания отдельных суперведомств (Рабкрин, Госплан), осуществлявших контрольно-ревизионные функции в отношении партийно-советского и административно-хозяйственного аппарата, фиксацией роли самодостаточных и влиятельных ведомственных акторов различных уровней (Э. Рис, П. Грегори). Подобное прочтение переворачивало представление о советской системе, превращая ведомства в важнейших игроков-доминантов на поле политического плюрализма советского типа. Теперь ведомственность не только рассматривалась как тяжелейший изъян (М. Левин), но выступала ключевым принципом работы государственного механизма, условием его существования и одновременно «болезнью», погубившей СССР (С. Фортескью, С. Уайтфилд).
Раскрытие исследовательских опытов позволяет уловить ряд важнейших паттернов, свойственных в той или иной степени всей историографии о советской ведомственности. В первую очередь следует обозначить три конкретно-исторических и темпоральных контекста, наиболее значимых для интерпретации ведомственности: 1) рост системы наркоматов в конце 1930‑х годов, 2) хрущевские реформы, 3) перестройка. Изменив советскую действительность, эти события переформатировали «ведомственный мир», придав ему принципиально новые импульсы, траектории и функции. Во-вторых, все исследователи описывали ведомственные практики как нечто противостоящее «общему» и национально-государственному интересу. В-третьих, большинство ученых фокусировались на изучении феномена ведомственности в рамках вертикально интегрированных отношений, находящихся в формальном/публичном поле. За исключением авторов ведомственного направления, многие исследователи анализировали полузаконные и неформальные действия бюрократических акторов, что связывалось со «слабостью» институтов. В-четвертых, в изучении феномена ведомственности ученые нередко следовали за официальным советским дискурсом и политической конъюнктурой. В таком случае ведомственность могла восприниматься как негативное (при опоре на «антиведомственный дискурс»), так и позитивное (при опоре на статистику роста или положительное социальное воздействие) порождение централизации советской административно-командной системы.
Итак, в научной литературе о советской ведомственности существуют семь исследовательских подходов, которые не привязывались строго к хронологии: 1) бюрократизм, 2) группы интересов, 3) экономические подходы, 4) патрон-клиентизм, 5) неотрадиционализм, 6) ведомственное направление, 7) постревизионизм. Несмотря на различия, тем не менее эти концептуализации использовали преимущественно две объяснительные модели, перетекали одно из другого и тем самым определили два интерпретационных направления в историографии. Первое акцентировало внимание на роли бюрократизма, вертикальных связей и формальных отношений в советской системе: от бюрократизма к групповому подходу и экономическим трактовкам, а затем переход к ведомственному направлению. Второе концентрировалось на неформальных связях и сетях: от группового подхода к патрон-клиентизму, затем к неотрадиционализму, а в конце влияние на ведомственное направление через персонализацию данного подхода. Для развития историографии по этой проблематике также были характерны общие парадигмальные сдвиги в русистике: переход от классической советологии к ревизионизму и постревизионизму. Впрочем, выделение этих направлений и сдвигов не снимает факт того, что изучению советской ведомственности были присущи раздробленность исследовательского поля, дифференциация подходов и концептов, отсутствие единой историографической традиции и, соответственно, идентификации ученых с корпусом научной литературы по этой проблеме. Историография о ведомственности состоит из множества пересекающихся и повторяющих друг друга форм артикуляции данного феномена, в том числе в виде наличия «своих» департаментализмов применительно к различным периодам советской истории.
Игорь Стась
Глава 2. Ведомственность в советской истории
История ведомственности – это история рационализации. На первый взгляд это кажется весьма спорным утверждением. Что рационального может быть в борьбе интересов между различными предприятиями, министерствами или учреждениями? Такие конфликты скорее отсылают к архаичным формам редистрибуции, в которых происходили отклонения в нормированных взаимодействиях экономических агентов. Можно предположить, что ведомственность в Советском Союзе была еще одним феноменом упорядочивания и минимизации издержек и рисков планового распределения экономических ресурсов. Соответственно, с точки зрения сути вещей она являлась следствием социалистической версии рыночных отношений. Если использовать подобное экономико-антропологическое описание, история ведомственности предстанет необъятным нарративом о непрерывной войне экономических субъектов и поиске рыночных механизмов в советских реалиях. Даже если это именно так, то непременно возникает вопрос о восприятии ведомственности самими современниками, которые регулярно использовали этот термин, но, очевидно, не интерпретировали его указанным выше способом. Как мне кажется, без понимания того, как именно советские граждане, функционеры и политики артикулировали феномен ведомственности в социалистической системе, вряд ли возможен ответ на вопрос: что такое ведомственность в СССР?
Основная гипотеза этой главы строится на исходном соображении, что в советском публичном дискурсе современники использовали термин «ведомственность» и предикат «ведомственное» для рационального объяснения различных административных, экономических, социальных или политических конфликтных взаимоотношений. «Ведомственность» фиксировала несоответствие декларативной норме интеракций между различными государственными агентами. По крайней мере, в публичном дискурсе современники отчетливо видели в ведомственности негативный эффект и нередко рассматривали ее как оппозицию государственным интересам. Проговаривание и осуждение ведомственности должно было искоренить конфликты в административной или экономической системе и привести их к разумному виду, то есть одобряемым отношениям, которые не вредят государству. Учитывая, насколько часто в публичном дискурсе «ведомственность» употреблялась в контексте противопоставления государству, вопрос о ее рационализации неизбежно становился проблемой рационализации государства. Исследуя то, как современники объясняли «ведомственность», мы непременно приходим к тому, как они определяли государство, поскольку для многих из них «ведомственность» наступала там, где правили бюрократы и не учитывались государственные интересы.
Обозначение государственных интересов не менее сложная проблема, но именно она позволяет сформировать теоретическую рамку в исследовании советской ведомственности. Чтобы понять ведомственность, нам нужно сначала разобраться с тем, что такое государственные интересы. Здесь логично сослаться на концептуализацию Мишеля Фуко, которую он разработал при анализе отношений власти и эволюции представлений о государстве в европейской мысли Нового времени. Фуко детально описал свое видение «государственных интересов» (Raison d’État, Ratio Status, Reason of State) в лекции в Коллеж де Франс 8 марта 1978 года. Он указывал, что оно – Ragion di stato – впервые сложилось у итальянцев. В конце XVI века Джованни Ботеро определял государство не через территориальное измерение, но в качестве господства над людьми/населением. В этом смысле государственный интерес был для него знанием о средствах, которые создавали, сохраняли и расширяли это господство. Фуко предлагал следовать интерпретации Ботеро и рассматривать государственный интерес исключительно как тип рациональности, который поддерживал и сохранял государство в повседневном функционировании и управлении населением223.
Ключом к пониманию этой рациональности являлись два исследовательских понятия, которые Фуко использовал при анализе представлений о государстве и государственном интересе в Новое время. Первое понятие – это искусство или практика (у)правления (gouvernement, L’art de gouverner, art of government)224. Оно означает способ руководства поведением, разновидность социального взаимодействия, когда действия одного направлены на действия другого или самого себя. Практики (у)правления не являются специфической формой поведения правителя, руководителя или государственного служащего, а выступают реляционными связями внутри самых разных человеческих групп. Как указывает В. Каплун, в основе базового методологического принципа в фукианском анализе отношений власти лежит отказ мыслить «власть» через «государство»225. Поэтому практики (у)правления – это отношения власти, которые существуют в самых различных ячейках общества: в семье (отношения родители – дети), в медицинских учреждениях (врачи – пациенты), в образовательных учреждениях (учителя – ученики), на заводах (начальники цехов – рабочие) и т. д.226 Государство было всего лишь частным случаем таких практик (у)правления227, они не являлись его неотъемлемым инструментом228.
Второе фукианское понятие – это гувернаментальность (gouvernementalité, governmentality)229, которое означает концептуализацию и рационализацию, то есть осмысление, объяснение и представление этих практик (у)правления другими и самим собой в публичном дискурсе230. Под гувернаментальностью Фуко понимал совокупность институтов, процедур, анализов, рефлексий, расчетов и тактик, посредством которых власть дискурсивно реализовывалась231. В своих лекциях Фуко показал становление гувернаментальности на примере рационализации пастырства, государственного интереса, полиции и либерализма. В этом анализе государство являлось примером гувернаментальности как артикуляции специфической практики (у)правления над населением, сложившейся в период Нового времени. В каждом конкретно-историческом случае гувернаментальность определяла сферы и границы государственного, что являлось его частью, а что государственным быть не могло232. Таким образом, государство выступало мифологизированной абстракцией233, а точнее одной из множества практик (у)правления, но рационализированной в виде целостной системы управления, которая осуществляла централизованное распределение власти. Говорение и рассуждение о государстве формировали и рациональный язык его описания. Государство появилось тогда, когда его начали осмыслять. Этот процесс Фуко назвал гувернаментализацией государства234.
Современная наука пока мало знает о типах рационализации практик (у)правления в Советском Союзе. Ученые, которые пытались применить оптику гувернаментальности к социалистическим обществам, находились в заложниках сложившегося в первой волне Governmentality Studies определения гувернаментальности как формы либеральной и неолиберальной власти235. Тем не менее ученым удалось показать, что неолиберальные практики государственного управления сформировались в социалистических странах независимо от капиталистической системы236. В их видении гувернаментальность была не типом рациональности, а некой политико-управленческой «структурой», для которой был характерен «уход от чрезмерности контроля и избыточности „ручного“ управления»237. В этой интерпретации гувернаментализация государства – это исторический феномен, когда центральное государственное управление делегировало регулятивные полномочия негосударственным организациям238. Поэтому ученые находили советскую версию гувернаментальности исключительно в послесталинской эпохе, привязывая ее к практикам либерализации239.
Эти исследования определяли гувернаментальность не в качестве дискурсивной аналитической категории – тип рациональности о самых разнообразных искусствах (у)правления, – но политической практики. Этот взгляд на гувернаментальность нашел отражение в анализе советской системы управления: 1) системно-кибернетического подхода240; 2) деятельностно-игровой, оргуправленческой и мыследеятельностной методологии241; 3) решений проблем глобальной земной системы242; 4) поддержки неформальных отношений и институтов государственной собственности через внутрипартийную дисциплину243; 5) техники интеграции социалистического государства и гражданского общества, противопоставленной насилию, суверенной власти и дисциплинарным режимам244. Наиболее продвинутыми представителями советского гражданства были журналисты, которые выступали социалистическими управленцами (governors) и создали гувернаментальную систему прессы245. Из дискурсивных практик рационализации в СССР вышла постсоветская неолиберальная гувернаментальность, связанная с пространственными и материальными измерениями, артикуляцией или дегувернаментализацией городского хозяйства, предпринимательской деятельностью246. В этой историографии первостепенным казался гувернаментальный послесталинский сдвиг в советской истории, которая, с точки зрения И. Кобылина, циклично развивалась от революционной суверенности к экономической гувернаментальности247.
В результате историография концентрировалась на либеральных формах гувернаментальности в СССР. Ученые, как правило, не разделяли уровень практической деятельности в (у)правлении и ее дискурсивную рационализацию. Исследовательский фокус также нередко искажал фукианскую «антигосударственную» модель отношений власти. Она рассматривалась через призму государства, якобы стремившегося сформировать политически лояльные сообщества, а «государственные интересы» наделялись реальной сущностью. Так, А. Т. Бикбов обозначил население позднего СССР носителями государственного интереса, которые в допустимых формах контрвласти могли критиковать государственных чиновников и производственных управленцев248. Вместо деконструкции государственных интересов как типа рационализации, подобный анализ объективизировал их в советской версии либеральной гувернаментальности.
Следует указать и на другую проблему анализа гувернаментальности в советской истории. Исследователи рассматривали сталинскую эпоху исключительно как время суверенитета – правовой модели власти одного правителя, противоположенной парадигме гувернаментальности. Сам Фуко понятию «суверенитет» противопоставлял понятие «практики (у)правления», а не гувернаментальность249. В то же время необходимо отметить, что некоторые современные авторы выдвигают гипотезу о советском гувернаментальном насилии и его синтезе с моделью суверенитета при реализации биополитики в эпоху Ленина и Сталина250. По моему мнению, под сталинизмом мы должны понимать не только режим «суверенитета», но сложную эпоху разных типов рациональности отношений власти. Фуко предлагал примерять к СССР как минимум четыре такие рациональности – пасторальную, бюрократическую, полицейскую и Raison d’État251. В этой оптике сталинский дискурс исключал публичную репрезентацию инструментов насилия и скорее лавировал между разными гувернаментальностями, предпочитая формировать реципрокную связь государства и населения.
В данной главе я исхожу из того, что гувернаментальная практика не являлась практикой (у)правления, а была тем, что обычно называют дискурсивной практикой, конституировавшей эти (у)правленческие техники. Гувернаментальность – это аналитический термин и методологический инструмент дискурсивного анализа. Нет каких-то уникальных типов гувернаментальности, они все воспроизводились через дискурсивную рационализацию практик (у)правления, которые при этом могли быть совершенно различными. Соответственно, исследователи должны говорить о множестве гувернаментальностей, отражающих множество практик (у)правления252, являвшихся при этом типичными для различных экономических и политических систем. Как прекрасно показал Д. Кола, для Фуко отношения власти в Советском Союзе не отличались от отношений власти в капиталистических странах253.
Поэтому Фуко скептически относился к существованию гувернаментальности, которая бы «строго, внутренне и автономно» была рождена самими социалистическими текстами254. То есть он не верил в социалистов как сообщество, воспроизводящее собственную гувернаментальность, то есть по-социалистически рационализирующее различные практики (у)правления. Фуко не исключал, что они были группой, способной думать только об одной такой практике – государстве255. По его мнению, социализм создал экономический, исторический и административный типы рациональности, но вряд ли сформировал социалистический тип рационализации практик (у)правления: «Но я не думаю, что существует автономная социалистическая гувернаментальность. Не существует гувернаментальной рациональности социализма. На самом деле, и история показала это, социализм может быть реализован только в сочетании с разнообразными типами гувернаментальности»256. Таким образом, Фуко не только ставил под вопрос чисто социалистический тип гувернаментальности, но обращал внимание на множественность гувернаментальностей в Советском Союзе. И в целом он считал, что предстоит еще выяснить, с какими гувернаментальностями был связан социализм257.
Фуко перечислил несколько форм рационализации, которые формировали гувернаментальность в социалистических странах. Все были связаны с европейским опытом258. Фуко действительно настаивал, что социализм использовал либеральную гувернаментальность Нового времени259. Он также использовал применительно к СССР другие типы рационализации отношений власти: «бюрократизация партии» и «пасторализация власти»260. Например, он объяснял на примере диссидентов, что их отказ быть ведомыми (being conducted) означал осознанный уход от пастырской гувернаментальности, установившейся в СССР261. Фуко также говорил, что социализм функционировал в рамках гувернаментальностей, сложившихся в полицейском или сверхадминистративном государстве, в которых слились гувернаментальность и администрация262. По его мнению, формы рациональности в социализме воспроизводились как противовесы, как корректирующие и как паллиативы для его внутренних опасностей. Это была скорее административная рациональность, иначе – рациональные техники административного вмешательства в социальные сферы государства263. Таким образом, Фуко сомневался в чисто социалистической гувернаментальности, поскольку в системе социализма она формировалась исключительно как административная рациональность: «В этом моменте, в гувернаментальности полицейского государства, социализм функционирует как внутренняя логика административного аппарата»264. При этом, согласно Фуко, в социализме отношение соответствия тексту заменило отсутствие внутренней гувернаментальной рациональности. Тексты социализма определяли его ограничения и возможности265. Как следствие, советское общество было обществом тотальной текстуальности266, созданной административными институтами и отношениями.
Итак, фукианский подход выстраивал весьма интересную схему интерпретации гувернаментальностей в Советском Союзе. Рационализация практик (у)правления в социалистических режимах сращивалась с рациональностью административного аппарата. Это выражалось в преобладающей роли двух типов рациональности: 1) гувернаментализации государства, когда постижение государственных интересов было первостепенной задачей дискурсивной рационализации; 2) гувернаментализации бюрократизма или административной рациональности, когда советский дискурс конструировал новый эффективный административный аппарат. Две базовые тенденции также согласуются с тезисом Пьера Бурдьё, что бюрократы создали государство и государственные интересы267. Советские администраторы последовательно выстраивали дискурс о Советском государстве.
Однако эти рациональности не исключали и другие модели. В некоторых случаях можно говорить о суверенитете в СССР, при котором рационализировались интересы суверена и его юридическая власть. В то же время в советской системе сложно разделить суверенитет и пасторализацию власти, выводившей на первый план руководителя-пастыря, владевшего истиной, делившегося ею с народом и ведущего его за собой к коммунизму. Наряду с этим советский дискурс воспроизводил полицейскую гувернаментальность, которая напрямую шла от суверенитета, регламентировала повседневные, преимущественно городские практики и устанавливала дисциплину. И наконец, Советскому Союзу была присуща экономическая гувернаментальность, соответствовавшая советскому гражданству и легитимирующая его практики (у)правления как естественность (naturalness) жизни людей сообща. В основном все эти формы рационализации сопротивлялись или обходили друг друга. Как подметил И. Кобылин, в послесталинском СССР было противостояние между подключениями к двум типам гувернаментальности – полицейского административного рационализма и консервативными экономическими практиками, когда вопрос о государстве занимал центральное место в управленческих проектах268. Гувернаментализация Советского государства и рационализация его административного аппарата оставались основными процессами осмысления практик (у)правления в публичном дискурсе.
В этой связи административный аппарат, навязывавший разговор о государстве, пронизывал фактически все отношения власти в советском обществе и формировал тотальное дискурсивное поле, которое воспроизводило типы паллиативов для административных проблем и конфликтов. Следовательно, интерпретация дискурсивных текстов является ключом к пониманию гувернаментальностей в СССР. Публичное дискурсивное производство осуществляли представители административного аппарата, в первую очередь функционеры и партийцы разного уровня и из различных сфер советской общественно-политической жизни. Они делали государство именуемым и осуществляли его прозопопею269. Это могли быть не только политики, чиновники, наркомы, министры, начальники управлений и трестов, но и активисты, служащие, рабочие, инженеры, интеллигенция, деятели искусства, литераторы, корреспонденты и редакторы газет. Применяя определение Фуко, их можно назвать советским «гражданским обществом» или «гувернаментализирующим обществом» (governmentalized society), которое организовывало социалистическое государство270.
Как эта фукианская гувернаментальная концептуализация помогает проанализировать феномен ведомственности в истории СССР? В советском публичном дискурсе артикуляция ведомственности всегда была частью административной рациональности. Осмысление, осуждение или критика этого явления в различных дискурсах выступали таким паллиативом, временным решением или полумерой в урегулировании самых разнообразных конфликтов в практиках (у)правления. При этом, как и указывал Фуко, в советском контексте практики (у)правления и процесс администрирования были фактически неразделимы. Административный аппарат проникал во все сферы общества. Ведомственность рационализировалась во множественных формах отношений власти внутри многообразных сфер и институтов: советских органов, партии, наркоматов, трестов и главков, заводов и предприятий, колхозов и совхозов, санаториев и курортов, статистик и переписей, образования, литературы, прессы, театра, кино. Поэтому трудно уловить дискурсивные пространства социальности, где практики (у)правления были независимы от советского и партийного администрирования.
В этой главе выдвигается тезис, что обсуждение и определение ведомственности было важнейшим сегментом гувернаментализации Советского государства. Дискурсивный анализ показывает, что Фуко был прав в том, что большевики рассуждали о практиках (у)правления преимущественно в рамках проблематизации государственности. В советском публичном дискурсе ведомственность как понятие практически всегда противопоставлялась государству. С начала 1920‑х годов рефлексия о ведомственности сопутствовала интенции, ведущей к познанию государственности и государственных интересов в СССР. Этот тип рационализации был изначально интегрирован в государственные институты, особенно в органы контроля, но к предвоенному времени эта «ведомственная» форма гувернаментализации Советского государства была усилена. Таким образом, если одни отношения власти подчинялись дискурсивной норме, то есть соответствовали государственным интересам, то другие, нарушавшие ее, определялись как ведомственность. Ведомственность – это такой же тип рациональности практик (у)правления и одновременно административного аппарата, как государство и государственные интересы, но только оцениваемый как их антипод.
Соответственно, понятие «ведомственность» использовалось в процессе дискурсивной рационализации административных/(у)правленческих практик конфликтного взаимодействия между работниками и служащими в различных учреждениях, институтах, предприятиях и организациях, между работниками этих организаций и обычным населением, а также в сфере междуорганизационных и междуинституциональных связей. Определяя ведомственность, советские администраторы рационализировали процессы бюрократизации и гувернаментализировали советское государство. Я не утверждаю, что ведомственность была практикой (у)правления, а указываю, что существовали такие проблемные практики (у)правления, или, если угодно, отношения власти, спаянные с администрированием, которые пронизывали все публичное советское общество и которые в советском дискурсе назывались ведомственностью.
Таким образом, данная глава посвящена не просто истории артикуляции ведомственности как рационализации административного аппарата и практик (у)правления, но и истории гувернаментализации Советского государства. Эволюция этих двух – административного (бюрократического) и государственного – типов рациональности реконструируется посредством анализа обширного корпуса публичных текстов. Насыщенное описание гувернаментальности подразумевает выяснение того, как о ведомственности говорили современники, как осмысляли ее и как опознавали. Моя интерпретация основана на герменевтике текстов центральных советских газет «Правды» и «Известий», материалов партийных съездов, пленумов ЦК и заседаний Верховного Совета. Я не стремлюсь охватить все случаи говорения о ведомственности, но пытаюсь показать, как о ней высказывалось советское гувернаментализирующее общество, то есть те публичные граждане, которые формировали и наполняли советский дискурс. В каждом конкретном случае эти акторы дискурсивной рационализации определяли, какая практика администрирования/(у)правления являлась ведомственностью, а какая ею не была.
Что в контексте советского публичного дискурса обозначало «ведомственное»? Базовые варианты использования этого предиката получили распространение в центральных газетах с установления советской власти. При любой прагматике означаемое этого прилагательного всегда оставалось устойчивым – принадлежность к ведомству как административному органу. В раннесоветскую эпоху таким административным органом, чьи явления, элементы или агенты наименовались ведомственными, могло быть любое учреждение – Советы, партия, наркоматы, предприятия, газеты и т. д. То есть вне языкового и дискурсивного поля у понятия встречались самые разнообразные референты. Тем не менее «ведомственное», оставаясь устойчивым означаемым, обладало близкими, но все же разными социальными контекстуальными смыслами. Их можно выделить три.
С началом советской власти авторы самых различных текстов на страницах центральных газет использовали «ведомственное» в качестве предиката, указывающего на административную подчиненность и связанность с каким-то ведомством. Десятки тысяч отделов, учреждений и лиц были «подведомственными» тем или иным вышестоящим управленческим структурам и начальникам. Чаще всего этим прилагательным наделялись различные аппараты, учреждения и организации и их внутренние отделы, канцелярии, институты, советы, союзы и комитеты. Иногда они противопоставлялись «общественным» организациям. Некоторые создававшиеся органы, как правило комиссии и совещания, которые занимались особо важными вопросами, могли быть не только ведомственными, но и междуведомственными. Когда появлялась необходимость сделать акцент на делопроизводственной деятельности, свойственной учреждению, ведомственными становились контроль, отчетность, учет, перепись, расчеты, акты, распоряжения, задания, бумаги, работа. В большинстве случаев такой контекст «ведомственных» определений был нейтральным.
Однако в тех моментах, когда газетчики описывали не просто административное дело, но примеры чиновничьего произвола, «ведомственное» переставало быть безобидным предикатом. В решении самых разнообразных экономических и организационных задач тысячи служащих и партийцев, руководителей и обычных граждан сталкивались с ведомственными рутиной и бюрократизмом, преодолевали ведомственные трения и претензии, запутывались в ведомственных взаимоотношениях. Одной из самых страшных бед становилась ведомственная волокита. Утверждение бюджетов или выработка других решений осуществлялись по «ведомственной линии» и в «ведомственном порядке», то есть без какого-либо широкого общественного контроля, внешнего участия, инициативы или взаимодействия. «Ведомственная волокита» и «близорукость некоторых руководителей» иногда становились «возмутительной ведомственностью», когда бесконечная переписка вела к гибели начатых дел в народном хозяйстве271. Прагматика такого употребления всегда отсылала к самым всевозможным проявлениям бюрократизма и «канцелярщины». В таких случаях нейтральный смысл часто сменялся неодобрительным и негативным.
Вместе с тем уже тогда этот предикат оформлялся в яркое обозначение доминирования интересов органов, учреждений или иных управленческих структур над государственными интересами. В этом контексте административная лексема «ведомственное» обретала четкую критическую коннотацию. Когда большевикам казалось, что дело государственной важности было под угрозой из‑за агентности организаций и учреждений, они легко категоризировали их действия как ведомственные. При этом контексты такого значения были самые разнообразные. Так возникали «ведомственные забастовки», которые вели «государственную машину» к полной негодности272. Нередко объектом критики могли выступать сами большевистские и советские структуры. Например, московские большевики ругали народные комиссариаты, которые в условиях Гражданской войны осуществляли «свою, особую, ведомственную политику, не всегда совпадающую с линией ВЦИК», и предлагали вообще ликвидировать Совнарком273. Распространены были призывы подходить к решению экономических вопросов с точки зрения общегосударственного плана, а не «ведомственных задач». Показательна здесь история о том, как разработка проекта о землеустройстве из «ведомственного вопроса» Наркомзема должна была стать государственной проблемой274.
Таким образом, в первые годы советской власти «ведомственное» как предикат было лексемой, применяющейся в трех ситуациях организационного и социального взаимодействия: 1) административной подчиненности; 2) бюрократической исполнительности; 3) государственно-ведомственных конфликтных отношений. При этом эмоциональный спектр ведомственного обозначения соответственно нарастал от нейтрального к негативному и критическому. Если в первом случае контекст означаемого фиксировал только оттенок административной субординации или специфического делопроизводства, то во втором и третьем значениях авторы использовали его в осмыслении «бюрократических» и «государственных» практик (у)правления. «Ведомственное» становилось важным маркером гувернаментализации бюрократии и государства.
В 1920‑х годах впервые понятие «ведомственность» получило употребление в контексте рационализации государственных интересов, которые противостояли ведомственной точке зрения. На страницах центральных газет количество упоминаний о таких конфликтах нарастало в условиях становления новой экономической политики. В эмоциональных текстах многие советские аппаратчики взвешивали между «ведомственностью» и «государственностью» иногда собственные, а чаще чужие (коллег из других организаций) решения в сфере экономики. Одновременно с этим оценочное разграничение на правильное «государственное» и ошибочное «ведомственное» зависело от субъекта высказывания, который мог быть любым – от советского аппаратчика до деятеля искусства.
Государственные интересы определяли норму экономических интеракций, но вместе с тем они всегда оставались абстрактным образцом, который каждый руководитель воображал по-своему. Сложно было уловить это государство с его интересами в конкретных органах власти. Чем было государство – Советами, партией, наркоматами? Какая из этих структур формулировала и определяла государственные интересы? Где заканчивался интерес государства и начиналась заинтересованность ведомства? Вряд ли кто-то мог дать четкий ответ на эти вопросы. Ведомственной могла стать любая операция, будь то исходящая из кабинетов партии либо прописанная в циркулярах наркоматов. В период нэпа обвинение в отступлении от государственных позиций было излюбленным риторическим приемом в борьбе между экономическими субъектами. Вместе с тем в новой социалистической реальности этими субъектами с двух противоборствующих сторон выступали институты одного и того же государства. Раннесоветская эпоха – это время рационализации нового государства, в которой артикуляция «ведомственности» позволяла обозначить его границы.
В начале нэпа одним из наиболее ярких примеров такой рационализации был спор об интеграции управления снабжением и торговли солью после отмены на нее государственной монополии. Руководитель Государственного соляного синдиката, известный большевик М. И. Лацис предлагал передать отдел Солеторговли Наркомпрода в структуру своего объединения и создать «мощный торговый аппарат». Он считал, что тем самым «пострадает ведомственный интерес, но выиграет государство»275. Естественно, в этой связи не имело значения, что и Солесиндикат, и отдел Солеторговли являлись государственными структурами. В условиях отмены госмонополии и введения сбора соленого налога взамен нее централизация власти становилась принципиальным выбором между «ведомственностью» и «государственностью»: «Это еще было бы понятно, если бы это не были госучреждения и если бы государство не вынуждено было брать акциз с соли. Но сейчас это убийственно для государства. Ведомства стали бороться за первенство и в этой борьбе общегосударственные интересы забывают»276.
Ответ от представителей Наркомпрода не заставил себя долго ждать: «<…> тов. Лацис делает вид, что он открыл Америку, хотя сам целых полгода имел с ней теснейшие сношения и содействовал увеличению той самой антигосударственной ведомственности, в развитии которой он успел обвинить Компрод. Но мы не пугаемся страшных слов, посмотрим в „корень“ вещей и расшифруем, в чем же дело, где истинное проявление „ведомственности“»277. По мнению уполномоченного Соколова, комиссариат мог ликвидировать операции с солью тогда, когда «сочтет это наиболее соответствующим государственным (а не ведомственным) интересам». Он считал возможным объединить производство Солесиндиката и Солеторговлю только на базе Наркомпрода, поскольку комиссионеры от синдиката «Соль» были не кем иным, как «частными дельцами», отпускавшими товар «спекулянтам»278. По его мнению, когда соль «втридорога доставлялась частным перекупщиком» крестьянину, заканчивалась государственность и наступала ведомственность, но: «На языке тов. Лациса это и называется „государственная“ точка зрения»279.
Нэп порождал множество таких конфликтов, в которых действующие лица пытались дать определения истинных государственных интересов. Экономист В. Н. Сарабьянов, штатный работник «Правды», обвинял ВСНХ в «узковедомственной политике», в отсутствие «государственной точки зрения». Тот «в пучине нэповского хаоса» думал о «расширении своих функций», а не о контроле, планировании и регулировании в подчиненных трестах, защищал «шоколадное» производство, а не поддерживал тяжелую индустрию280. Ведомственная точка зрения могла присутствовать и в вопросах внешней торговли, хотя торгпреды СССР старались не ставить их выше «интересов русской промышленности»281. Многие тресты имели у себя «предрассудок», что «оздоровление бюджета и упрочение денежной реформы – сами по себе, а они тоже сами по себе». Они были не готовы платить штрафы, а только могли запрашивать дополнительное финансирование: «Нужно решительно изжить бюрократическую ведомственность, „точку зрения“ своей колокольни, нужно понять, что интересы государственной казны и интересы промышленности – это единое неразрывное целое»282.
На сессии ВЦИК при обсуждении проекта лесного кодекса, разработанного Наркомземом, большевик Ю. М. Ларин возмущался: «Основная черта этого проекта <…> это – избыток ведомственности. Когда ставится вопрос о том, как организовать лесное хозяйство, то интересы близорукой ведомственности оттесняют иногда на задний план те более общие интересы народного хозяйства, которые всегда должны служить руководящим маяком для всякого отдельного наркомата»283. Недовольство вызывало отсутствие комбинатов – крупных промышленных предприятий – в разных отраслях, таких как бумажное, спичечное и лесопильное производство, за исключением деревообрабатывающей промышленности. Ларин пояснял: «<О>сновная черта – это ведомственность, ведомственная постановка относительно промышленности, где плановая постановка хозяйства, где государственные предприятия смешиваются в одно целое с частными подрядчиками»284. Вдобавок Ларин считал, что уравнивание в проекте кооперации с «буржуазными скупщиками» также было проявлением ведомственности со стороны Наркомзема285. В этой логике государственный интерес представляла целостность, которая охватывала все отрасли, предприятия и даже кооперации разного уровня, а ведомственность, как и связь с частными предпринимателями, была угрозой государству.
Эти истории показывают, что оперирование категориями ведомственности становилось важным инструментом как в конфликте интересов, так и в гувернаментализации государства. Как никто не обладал исключительным правом говорить от лица государства, так никто не имел исключительного права обвинить кого-то в ведомственности и никто не был застрахован от таких нападок. Хотя попытки найти идеальную государственную структуру, которая бы работала и выражала исключительно государственные интересы и сохраняла целостность государства, предпринимались неоднократно. Таким особенным органом мог стать Госплан. Как говорил Л. Троцкий, Госплан был «учреждением, свободным от ведомственной заинтересованности и имеющим постоянную возможность сшибить ведомства в очной ставке»286. По мнению Троцкого, именно Госплан использовал единственно правильный хозяйственный язык – «язык цифр» экономистов, статистиков и техников. И вроде бы такому языку были чужды ведомственные распри.
Для современников вневедомственными центрами, которые также разрешали все конфликтные ситуации и выстраивали политику в угоду государственным интересам, могли стать Высший совет народного хозяйства, Совет народных комиссаров или Совет труда и обороны. Созданные как многоотраслевые органы управления, в самом начале они были на положении учреждений, способных победить ведомственную точку зрения. Большевик Я. А. Яковлев писал:
Недопустимая волокита, ведомственно-бюрократический подход, отсутствие гибкости, прямое нарушение ведомствами постановлений высших органов, ложные (не в смысле обмана, а в смысле незнания своего дела) ссылки на интересы экспорта и наряду с этим <…> политический ущерб для советской власти. И вместе с тем не найти виноватых, ибо у каждого ведомства найдутся десятки формальных отписок, ссылок, доводов, достаточных для формального оправдания, но недостаточных для партийного оправдания. Остается неясно, почему такие вопросы не могут быть решены прямым, твердым, окончательным постановлением Совета народных комиссаров или СТО, для которых не обязательно ведь всеобщее согласие всех ведомств, почему, наконец, в течение всей зимы СТО не был информирован соответствующими ведомствами?287
Большевик В. Д. Виленский-Сибиряков поддерживал слияние ВСНХ, Внешторга и Комвнуторга в единый Наркомат торговли и промышленности:
Дальнейшее раздельное существования трех наркоматов приведет <…> к тому, что может потеряться всякая возможность ответственного правления нашей государственной промышленностью и торговлей. «Управлять – это предвидеть». Эта истина высказана давно. Наши администраторы-хозяйственники только сейчас пришли к выводу, что при существующей ведомственности, дроблении функций и общей громоздкости нашего аппарата они не могут видеть всего того, что нужно для того, чтобы можно было с чистой совестью сказать, что они чем-то «управляют» и что-то «предвидят»288.
Здесь мы наблюдаем прямую отсылку к нововременному типу гувернаментальности. Виленский-Сибиряков использовал известное высказывание Екатерины II о том, что управление зависело от прогнозирования последствий принятых решений. Однако ведомственность мешала этой проницательности, нарушала естественные практики (у)правления. В приведенных цитатах проявлялось два типа рациональности в формирующейся Советской стране – административная и государственная. С одной стороны, большевики искали оптимальный формат для упорядочивания отношений власти в системе разрастающегося государственного аппарата и производственных структур, которые более правильно назвать администрированием. С другой – управлять и предвидеть значило следовать государственному интересу. Несоблюдение этого принципа нарекалось ведомственностью. Несмотря на то что каждый был готов пояснить, что такое ведомственность, постоянной оставалась содержательная интерпретация понятия – жертвование государством в угоду институциональным предпочтениям.
Чем же в таком случае было государство? Фуко говорил, что одной из редуцированных форм представления о государстве является сведение его функций к развитию производительных сил и воспроизводству производственных отношений289. Публичный дискурс в СССР не был исключением, и в репрезентациях социалистического строительства он описывал государство как совокупность всей советской промышленности. Гувернаментализация государства осуществлялась через принцип большевистского холизма: защищать государственные интересы, то есть бороться за государство как целостность и народное хозяйство как всецелое промышленное производство. Внимание только к своему ведомству подрывало этот принцип. В публичном дискурсе ни одно ведомство не отождествлялось с государством. Ведомства были лишь частью большого производственного организма, в котором взаимодействовали разнообразные руководители, плановики, инженеры, статистики, служащие и рабочие. Они должны были осознавать и показывать, что трудятся на хозяйство всей страны, а не только маленькой его части в виде своего предприятия или учреждения. Современники нарекали «ведомственностью» любое явление, в котором просматривалась хоть какая-то оппозиция этому большевистскому промышленному холизму.
Гувернаментализирующее общество было разнообразным, и государственные интересы находили множество своих глашатаев. Но главным из них стал Ф. Э. Дзержинский, председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Тема ведомственности, подрывающей государственную целостность, заняла центральное место в его выступлениях. В феврале 1924 года, уже в первый месяц своей работы в качестве председателя, он выступил на пленуме членов всероссийских съездов промышленности и торговли, где заявил:
<…> мы далеко еще не выполнили завета Ильича о смычке города с деревней. Одной из причин этого является то, что так называемые местничество и ведомственность проявлялись слишком резко и хозяйственники не старались найти пути для преодоления создавшихся жизнью противоречий между интересами отдельных трестов, между трестами и транспортом и т. д. В результате мы имели неслыханно тяжелые моменты для отдельных отраслей хозяйства, которые потом тяжело сказывались и на остальных отраслях. Такому положению должен быть положен конец290.
В этом выступлении он определил противостояние ведомств между собой в качестве основных факторов нарушения принципа большевистского холизма. Конфликты различных трестов подрывали народное хозяйство и государство как таковое. Это он особо отмечал, когда говорил о необходимости достижения «бездефицитности в народном и государственном хозяйстве»: «Это значит, что не надо доходы одной отрасли хозяйства рассматривать, как доходы только ее, а как общегосударственные. Нужно выработать особую психологию распределения всех тех средств, которые добываются всей нашей промышленностью»291. Эта «особая психология распределения» от одной отрасли к целостной и единой системе государственной промышленной экономики была для большевиков не просто мироощущением, но типом рациональности практик (у)правления в различных институтах нового государства. В июне 1924 года на заседании ЦК металлистов Дзержинский описал большевистский холизм на примере тяжелой индустрии:
Чтобы получить средства и обеспечить металлопромышленность заказами, надо прежде всего изжить ведомственные неурядицы, эти тенденции думать и болеть только своими ведомственными интересами. Надо заставить все ведомства понять, что они составляют часть целого, надо изжить это забвение взаимных связей и всем сообща, думая об интересах всей промышленности в целом, построить такой план, чтобы обеспечить металлопромышленности дальнейшее развитие292.
Для Дзержинского угрозу большевистскому холизму составляли не только борьба между трестами, но и конфликты промышленных предприятий с транспортными учреждениями: «Не надо забывать, что существует тесная зависимость всех отраслей нашего хозяйства. Громадную роль для всех отраслей хозяйства играет транспорт, и он должен быть втянут в нашу хозяйственную общественность. Соединение транспорта с промышленностью нужно поставить на первое место. Ведомственная политика, которая наблюдалась в деятельности наших хозяйственных органов, должна быть изжита»293. Он особенно акцентировал внимание на вагонном вопросе, который тесно связывал металлопромышленность и Наркомат путей сообщения. Именно по линии этих взаимоотношений «эта ведомственность дает о себе больно знать прежде всего». Суть проблемы заключалась в том, что интенсивная деятельность металлургов по производству паровозов и вагонов в итоге приводила к их избытку. Железнодорожники отказывались от новых заказов, что ставило заводы металлистов на грань закрытия294. Следуя принципу большевистского холизма, в котором тяжелая промышленность выступала мерилом государственных интересов, для решения ведомственной проблемы Дзержинский предлагал всем отраслям ориентироваться на металлистов: «Нужна взаимная спайка профессионалов и хозяйственников для проведения намеченной партией линии. Когда мы изживем ведомственность и все осознаем значение, которое имеет для всей страны металлопромышленность, и поставим ее во главу внимания всех ведомств, – успехи будут обеспечены»295.
Общим механизмом достижения поставленной цели становилась централизация. Так, Дзержинский настаивал на создании единого промышленного бюджета ВСНХ, который входил бы в общегосударственный бюджет. ВСНХ тогда смог бы направлять средства «туда, куда будут требовать общие интересы и состояние промышленности». В управлении металлопромышленностью он считал важным сохранить Главметалл: «Когда перед металлопромышленностью стоят такие большие и тяжелые задачи, их разрешить можно только в том случае, когда все будет сосредоточено в одном центре. Это не должен быть бюрократический главк. Сила его должна быть в учете опыта и связи с местами. Принцип централизации должен сочетаться с принципом децентрализации путем доверия местам, путем установления взаимного доверия между местами и центром»296.
То есть централизация сама по себе не была панацеей. Дзержинский прекрасно осознавал проблему «архицентрализованности» и «излишнего сверхцентрализма» бюрократического аппарата в СССР297. Он считал, что в целом советский аппарат не отвечал задачам индустриализации страны и страдал «большой ведомственной и междуведомственной путаницей, образующей весьма хитростные переплетения, перебок, параллелизмы в работе»298. Поэтому он призывал к совершенно иному ценностному и моральному порядку, основанному на реципрокном взаимодействии советских хозяйственных агентов и государства. Союзы профессионалов и хозяйственников, равновесие между центром и регионами должны были выстраиваться на взаимном доверии. По его мнению, проблема доверия между рабочими и руководителями предприятий нередко была подорвана. Как, например, на Донбассе, где «хозяйственникам верить на слово опасно: ведомственность еще очень сильна»299. Однако для Дзержинского восстанавливать доверие к хозяйственникам нужно было не только снизу, со стороны рабочих, но и сверху, между государством и его экономическими агентами. Он писал: «В основе такой системы хозяйственных взаимоотношений лежит пережиток прежнего недоверия к местам, к возможности подбора руководителей, которым можно было бы вручить дело без излишней опеки в мелочах»300.
Реформаторский запал Дзержинского требовал воспитания таких агентов, которые принадлежали разным ведомствам, но обладали общей солидарностью. Новая когорта этих хозяйственных агентов не могла себе позволить бояться нести ответственность за принимаемые решения: «Переход на систему ответственности и доверия вместо повседневного дергания и опеки тесно связан, конечно, с необходимостью особо тщательного подбора хоз. руководителей»301. Дзержинский считал необходимым отказаться от созыва комиссий, совещаний и заседаний для решения всяких вопросов, где «больше чем где-либо живая работа подменяется бюрократической волокитой» и «очень удобно уйти от прямой ответственности за принимаемое решение»302. Вместо них он призывал к тому, что можно назвать реципрокностью между агентами государства: быстрому и четкому разрешению вопросов, деловому согласованию между руководителями, вполне осуществимому посредством переговоров по телефону. Он ставил задачу «перехода на самостоятельное решение, на ответственность» каждому советскому руководителю303.
Таким образом, Дзержинский придерживался двух линий осмысления ведомственности – государственной и административной. Большевистский холизм как тип рациональности государства совмещался с рационализацией административного аппарата. Администратор и хозяйственник должны были следовать государственным интересам, учитывать нужды всей промышленности страны. Одновременно важным шагом в развитии народного хозяйства было восстановление реципрокного доверия между хозяйственниками и администраторами. Ведомственность нарушала эти базовые правила, и поэтому Дзержинский объявил ее главным врагом в строительстве социалистического государства.
Итак, уже в ранние годы советской власти происходила гувернаментализация государства – многие большевики выдвигали идеи пересборки практик (у)правления и выстраивания новой социальной коммуникации между различными экономическими субъектами. С другой стороны, появился и тип административной рациональности, в котором государственное управление обретало пороки «ведомственного самолюбия» и «ведомственной узколобости»304. Новые отношения власти были не способны организоваться сами по себе, не так просто построить в советской промышленности новую моральную экономику, в которой все друг другу доверяют и делегируют ответственность и функционал. Как указывал Дзержинский, нужно было сформировать «особую психологию распределения», а этого можно было достигнуть вполне механически. В итоге он стал одним из главных лоббистов кампании внедрения «режима экономии», при котором образовалась бы реципрокная связь хозяйственников и администраторов. Еще до Постановления ЦИК и СНК от 11 июня 1926 года, официально установившего этот режим в стране, Дзержинский говорил: «Режим экономии должен быть проведен во всех областях работы госпромышленности не только сверху, но и низовыми органами, как регулирующими органами, так и оперативными, трестами, синдикатами, фабриками и торговыми предприятиями. <…> Это вопрос не ведомственный, а общеполитический и общехозяйственный»305.
Согласно постановлению, основным направлением режима экономии стало «упрощение и рационализация структуры учреждений и предприятий, в частности упрощение взаимоотношений частей их между собой, сокращение числа инстанций при прохождении дел и устранение параллелизма в работе; упразднение всякого рода излишних учреждений, предприятий, отделов, комиссий, совещаний, филиалов, представительств, агентств и т. п.»306. Экономия включала в себя множество других более мелких решений – от отмены празднования юбилеев до установления времени рассмотрения вопросов. Несмотря на то что в постановлении ни разу не упоминались термины «ведомственность» и «бюрократизм», фактически это был закон против этих явлений в советском государственном аппарате.
Введение режима экономии в 1926 году являлось первой попыткой советской власти определить правила (у)правления в социалистическом государстве и административный контроль над чинами в самых различных учреждениях, которые что-то решают, делают, согласовывают и исполняют. Контроль объявлялся инструментом борьбы с ведомственностью как феноменом бюрократизма. Еще Л. Троцкий указывал на это:
<О>чень важным и наиболее неотложным средством является усиление и улучшение партийного контроля не только в партийной, но и в советской работе. Ведомственность, бюрократизм, рыночная перелицовка человеческих отношений – все это развивает очень большую силу втягивания, обволакивания, разложения. Наша партия знает это гораздо лучше, чем ее критики со стороны. Но она не пасует перед этими тенденциями, а сознательно, планомерно, бдительно и непримиримо противодействует им. И не только своей общей работой, но и через специальные органы контроля, приноровленные к конкретным формам нынешней партийной и советской работы. Члену партии, который так «специализировался» на своей ведомственной работе, что утратил нравственную связь с партией, незачем оставаться в партии. Он может быть полезным советским работником, но ему нельзя давать голоса в определении общей политики партии. Коммуниста, которому грозит такое перерождение, должно вовремя остановить307.
В период режима экономии вовремя останавливать таких коммунистов и советских работников было поручено Наркомату рабоче-крестьянской инспекции СССР (НК РКИ). С этого времени РКИ выступила поставщиком новостей о самых различных вариантах проявления ведомственной волокиты. До начала 1927 года дискурс о ведомственности был под полным контролем центральных и местных подразделений РКИ. Однако подход РКИ к ведомственности отличался от того, как смотрел на эти вещи Дзержинский. Представители РКИ слабо размышляли над той проблематикой, которую им приходилось решать. Они не измеряли ведомственность с точки зрения большевистского холизма, не сопоставляли ее с государственными интересами или с суммой всей советской промышленности, как это делал Дзержинский. Инспекторов в первую очередь интересовала ведомственность в контексте бюрократической исполнительности.
Чиновники РКИ определили ведомственность как ведомственную волокиту. Уже в мае 1926 года зав. сектором контроля и проверки НК РКИ В. М. Косарев отмечал: «Во многих случаях <…> наши обследования сталкиваются с ведомственной волокитой. Трудности борьбы с этой волокитой чрезвычайно велики. Когда мы предлагаем применить дисциплинарное взыскание, вместо того, чтобы встретить помощь, мы подчас получаем отпор»308. Показательной была история проверки причин задержки рассмотрения изменений в законе о подоходном налоге в Наркомфине и Госплане. Она выявила, что во всем виновата «бумажная волокита»: «<…> у Наркомфина и Госплана не оказалось надлежащей согласованности; обоими учреждениями была проявлена ведомственность»309. Другое заметное дело РКИ против ведомственных органов страхования при Народном комиссариате внутренней и внешней торговли СССР (НКВТ) и Госторге продолжалось два года. Страховые и учетные отделы, которые ведали страхованием товаров путем отчислений с их стоимости по установленным нормам в специальный фонд, кочевали по разным управлениям НКВТ, пока не были ликвидированы под нажимом КН РКИ в июне 1926 года310. На страницах «Правды» эта история была названа «апофеозом ведомственности»311.
В контексте борьбы с ведомственностью РКИ также инициировала обсуждение вопроса о соотношении контрольных функций инспекции и контрольных органов при ведомствах. Они были созданы после реорганизации РКИ в 1923 году. Тогда рабоче-крестьянская инспекция была сохранена, но на основе принципа самоконтроля наркоматы получили право создавать ведомственные контроли в госучреждениях и хозяйственных объединениях (трестах и синдикатах). Повышенный статус РКИ в период режима экономии позволял пересмотреть такое положение дел. Инспекторы отмечали, что между РКИ и контрольными аппаратами в ведомствах так и не появилась организационная связь, что вело к распыленности, параллелизму и разобщенности. При отсутствии самостоятельности у ведомственных контрольных органов практически невозможно было устранить выявленные дефекты и применять взыскания: «Они бессильны осуществить какую бы то ни было, хотя бы самую очевидную и бесспорную, меру без согласия на нее администрации» и «в результате обычно получается волокита и запоздалость»312. Решение проблемы предлагалось за счет объединения всей контрольной работы на базе контрольно-поверочного сектора наркомата РКИ313.
В контексте режима экономии Тамбовский губисполком инициировал регулирование и сокращение междуведомственных и ведомственных комиссий и совещаний, которые создавались на местах по решению самых разнообразных проблем. Кому-то было необходимо провести совещание для определения видов на урожай, кому-то для проведения ударных кампаний314. Рационализация госаппарата в период режима экономии означала в том числе сокращение ведомственных комиссий и перевод их в категорию производственных совещаний315. Одновременно, по поручению Совнаркома с целью снижения расходов, НК РКИ СССР начал обследование проводимых в стране ведомственных съездов и конференций. В 1925–1926 годах только в десяти учреждениях было проведено восемьдесят пять многолюдных (пятьсот и более делегатов) мероприятий всесоюзного масштаба316.
Таким образом, административная рациональность описывала ведомственность в первую очередь в категориях бюрократизма и волокиты. Это было существенное изменение по сравнению с тем, как ведомственность воспринималась Дзержинским и как воспроизводилась в публичном дискурсе эпохи начала нэпа. Дзержинский видел в ней не только административную проблему, но и нарушение государственных интересов. Контрольные органы не думали над тем, исполнялся или нет принцип большевистского холизма. Они интересовались, как работают советские органы власти, как они управляют, каким образом они согласовывают решения, не мешают ли они развитию промышленности и не затягивают ли с резолюциями. Все это привело к масштабной ликвидации комиссий, съездов, конференций, совещаний, ставило под удар Советы и их исполнительные институты, которые не поспевали согласовывать деятельность хозяйственников. Инспекторы пытались построить такие административные органы, в которых отсутствовали чинопочитание и «рутинерство»317. Однако они все чаще приходили к выводу, что руководители, занятые непосредственной оперативной работой, страдали «куриной слепотой», попадали в плен аппарата и не видели, что творится в их учреждении318. В дискурсе рабоче-крестьянской инспекции артикуляция ведомственности была не инструментом гувернаментализации государства, но механизмом рационализации государственного аппарата.
Режим экономии стал режимом контроля над советским администрированием. Управленцы и служащие, порождавшие волокиту, объявлялись выразителями ведомственной идентичности и притеснителями государственных интересов. Теперь ведомственность выявлялась только в аппарате, становилась слабостью служащих, но не хозяйственников. Она уже не понималась как разобщенность, а промышленные тресты не рассматривались как источники, порождавшие ее. Если Дзержинский говорил о ведомственности в промышленности, межведомственной борьбе промышленных предприятий друг с другом, конфликте с транспортными институтами, наносившем вред государственным интересам и всему народному хозяйству, то в дискурсе, который воспроизводил РКИ, ведомственность была пороком многочисленных советских органов власти. Гувернаментализация аппарата становилась главным типом рациональности практик (у)правления. Так, в феврале 1927 года на V пленуме Центральной контрольной комиссии ВКП(б) нарком рабоче-крестьянской инспекции СССР Серго Орджоникидзе призвал к решительному пересмотру сложившейся системы госаппарата в соответствии с задачами социалистического строительства, уничтожению «бюрократических извращений» и борьбе с волокитой319.
Прямым следствием реализации принципа большевистского холизма было отрицание ведомственности в промышленном народном хозяйстве. Вначале большевики защищали совокупную государственную промышленность, но в итоге такая их позиция привела к непогрешимости самих промышленных трестов, которые и составляли суть этой промышленности. Промышленность страдала не от ведомственности в хозяйственных отношениях, но в кабинетах и коридорах согласующих законодательных учреждений. Пример тому – очерк о недействующем химзаводе в Забайкалье, павшем «жертвой плохой бухгалтерии и узких ведомственных соображений» и попытках местной газеты «Забайкальский рабочий» вернуть его к жизни, которые столкнулись с чередой согласований «ведомственными Отелло»320. Промышленные тресты являлись образцом выстраивания работы без бюрократизма. Не исключались варианты расширения компетенций наркоматов при решении самых разнообразных вопросов без согласования с советскими органами. В частности, профессор А. Елистратов предложил внедрять «практику функциональной системы» по тейлоризму, которая «даст возможность перестроить госаппарат по типу индустриальных предприятий и широко применить к рационализации государственного управления могучий по скрытым в нем возможностям метод производственной трактовки»321. Таким образом, инспекторы и контролеры совершили важный поворот в осмыслении ведомственности, они освободили производственников от порока и наградили им советских аппаратчиков и служащих.
В 1928–1929 годах на страницах центральной прессы ведомственные топосы были существенно свернуты. Они полностью пропали в контексте активности промышленных трестов и предприятий. Не исключено, что дискурс был очищен в связи с Шахтинским делом. Разгром «контрреволюционного экономического заговора» должен был «перестроить работу так, чтобы больше внимания обращалось на живого человека, работника, чем на бумажку, инструкцию. До сих пор по ведомственным линиям как делалось наоборот»322. В этом контексте Шахтинское дело являлось показательным процессом, защищающим принцип большевистского холизма, делом против вредителей в промышленности, подрывающих государственные интересы. Не исключено, что именно это дело дискурсивно очистило народное хозяйство СССР от ведомственности. В первую пятилетку хозяйственные организации становились непогрешимыми в социалистическом строительстве.
Однако критика ведомственности сохранялась по отношению к административному аппарату. Советские и партийные учреждения постепенно должны были стать свободными от ведомственности. Борьба с ведомственностью была борьбой исключительно с аппаратной бюрократией. В мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде Советов председатель СНК СССР А. И. Рыков прямо заявил о монополистических тенденциях некоторых советских органов, в первую очередь губсовнархозов, которые действовали «исходя из узкой ведомственной точки зрения, из стремления сосредоточить у себя монополию всей промышленности»323. В том же месяце на Всесоюзном съезде Советов он связал эти тенденции с бюрократизмом: «Ведомственность и ведомственное буквоедство есть одно из выражений многообразного лика бюрократа и общая платформа для всех бюрократов, а в настоящее время эта платформа особенно опасна, как опасен именно теперь и административный произвол»324.
В условиях первой пятилетки планировалось, что «основательная чистка аппарата» избавит советские органы и наркоматы от ведомственных пороков. Так, Наркомфин был в плену «бюрократической закостенелости» и «ведомственного „патриотизма“»325, а Наркомтруд страдал от «ведомственного благодушия»326. Партия также была затронута перестройкой аппаратной структуры. Окончательное очищение советского и партийного аппарата от ведомственных проблем в публичном дискурсе произошло не просто в период великого перелома, но фактически в июньские и июльские дни 1930 года, когда состоялся XVI съезд партии. Как сообщала на съезде Центральная ревизионная комиссия ВКП(б), благодаря функциональному построению аппарата она устранила в работе ЦК ВКП(б) «ведомственность отделов». Председатель комиссии М. Ф. Владимирский констатировал следующее:
Поскольку при функциональном построении одна и та же организация является объектом руководства со стороны отдельных частей аппарата, то предполагается необходимость предварительной увязки между отделами. Этим устраняется та ведомственность, которая наблюдается, например, в каком-нибудь плохо сколоченном советском учреждении. В работе ЦК, например, на каждом заседании секретариата можно видеть, как при постановке того или иного вопроса председательствующий секретарь ЦК предварительно перед заслушиванием вопроса ставит вопрос заведующему тем или иным отделом: а вы рассматривали этот вопрос, положим, с таким-то отделом вместе или нет? Что это значит? Это значит: подошли ли вы к этому вопросу с общепартийной точки зрения или вы подходите с ведомственной точки зрения своего отдела. Вот это новое построение аппарата и дало возможность сейчас ЦК в своей работе иметь аппарат, в котором ведомственность все больше и больше исчезает и каждый отдел начинает рассматривать всякий вопрос с точки зрения всей партии, как одного целого. <…> Аппарат нашей партии никогда не был отделен от нашей партии327.
Таким образом, в период великого перелома гувернаментализация государства и бюрократии была завершена окончательно. Сталинская индустриализация превратила государство и его социалистический промышленный проект в непогрешимый акт. То, что составляло суть государственных интересов в Советском Союзе, – производственные отношения, производственные силы и средства производства, то есть то, что формировало народное хозяйство, было освобождено от ведомственности. Одновременно с этим публичный дискурс 1920‑х годов воспроизводил административный тип рациональности. Поле употребления «ведомственных» лексем ограничивалось субординационными нейтральными коннотациями или заметной критикой советской бюрократии. Но в наступающей эпохе сталинизма даже в этом гувернаментальном контексте – борьбе с бюрократизмом – понятие «ведомственность» становилось лишним. Вместе с завершением рационализации государства был рационализирован и его аппарат.
Летом 1930 года на XVI съезде партии Сталин объявил борьбу с бюрократизмом одной из главных задач развития партии. Однако при всех проблемах, которые порождали старые и новые советские бюрократы, Сталин не указал на ведомственность. Не говорил он о ведомственности ни до этого съезда, ни после. При этом он неоднократно высказывался о бюрократической канцелярщине в государственном аппарате, но никогда публично не соотносил бюрократизм и ведомственность. Мне кажется это очень важным наблюдением, показывающим, что в отсутствие сталинского канонического определения в дискурсивном поле партийные и советские функционеры и активисты обладали определенной свободой выбора в интерпретации и использовании предиката ведомственное и ведомственности как понятия. Вместе с тем после XVI съезда, где Владимирский объявил победу над ведомственностью в партийном аппарате, ее артикуляция пропала на несколько лет. Первая пятилетка завершилась без каких-то серьезных ведомственных проблем, которые государство могло или хотело бы признать публично.
Не изменилась ситуация и в ноябре 1932 года, когда вышло Постановление СНК СССР «О сокращении аппаратов и ликвидации объединений». Вроде бы последовала очередная антибюрократическая кампания с целью экономии значительных средств, перенаправлявшихся для нужд индустриализации. Проводил масштабное мероприятие объединенный орган – Центральная контрольная комиссия и Рабоче-крестьянская инспекция (ЦКК-РКИ), – который риторически обыгрывал ее как борьбу с бюрократическими наростами, лишними звеньями, параллелизмом, вредной сутолокой, неразберихой, как усиление ответственности каждого работника328. Однако, в отличие от прошлых больших контрольных проверок 1926 года, этой кампании оказалась чужда антиведомственная риторика. Ведомственность практически исчезла из большевистского языка в конце первой пятилетки.
Изменения последовали лишь в период второй пятилетки, когда «узковедомственные интересы» или «узковедомственные дела» иногда фигурировали на страницах печати в контексте борьбы с бюрократизмом или для преодоления ограниченности институционального взгляда329. Все примеры критики и самокритики были связаны с работой государственного аппарата. Так, молдавские чиновники подменяли и компрометировали «своим ведомственным бредом советские законы»330. Профсоюзы по социальному страхованию работали «бюрократическими, ведомственными методами»331. Райкомы заседали не на активах, а на «своей ведомственной колокольне»332. Члены Смоленского партактива во время собраний предоставили слово по ведомственному признаку и вели разговоры только о «ведомственных делах»333. Ярославский горком партии не занимался воспитанием масс, а в «ведомственном угаре» обсуждал, «где открыть ресторан, где в городе расставить тумбочки»334. Промышленно-транспортные отделы некоторых обкомов превратились в «толкачей» и «плохо работающие главки», а сельскохозяйственные отделы, в свою очередь, стали похожи на земельные управления335. Работа актива Госплана СССР свелась к «мелкой ведомственной перебранке отраслевых секторов» и носила «архиделяческий характер»336. Единственным исключением была критика в адрес Наркомата путей сообщений, в котором из‑за «ведомственных соображений» происходил простой вагонного парка при особой важности заготовки зерна337.
В 1934 году на «Съезде победителей» Сталин продолжал называть источником трудностей большевиков «наше плохое организационное руководство» и «бюрократизм и канцелярщину аппаратов управления». В какой-то степени, говоря, что имеет место «болтовня о „руководстве вообще“ вместо живого и конкретного руководства»338, Сталин гувернаментализировал (у)правленческие практики. Желание вождя было дискурсивно успешно подхвачено, поскольку вплоть до принятия Конституции 1936 года в советской прессе можно наблюдать всевозможные разоблачения бюрократизма. На этом съезде он также не говорил о ведомственности. Вместе с тем он связывал недостатки работы с «функциональным построением организаций и отсутствием личной ответственности». Вероятно, поэтому в середине 1930‑х годов обвинения в ведомственной точке зрения часто переходили на уровень отдельного человека, а не всего аппарата исполкомов, партийных комитетов, ведомств, наркоматов или предприятий. Обвинялись не институты, а личности. Так, например, в колхозной системе под ударом всегда были председатели риков339.
Главным оружием против ведомственных конфликтов оставался контроль, а органы, его осуществляющие, тем самым были основным риторическим производителем дискурса о ведомственности. Единственным партийцем, кто на XVII съезде оценивал ведомственные конфликты как проблему, был Л. М. Каганович, который по итогам съезда занял пост председателя Комиссии партийного контроля ВКП(б). Он с гордостью рассказывал, что ЦК партии в порядке проверки исполнения по конкретным постановлениям вмешивался и прекращал «ведомственные поединки» и «в результате оперативной мобилизации всех сил» промышленность подтягивалась и бралась за заказы «по-государственному»340. Он призывал не обижаться на критику: «Нужно отбросить ведомственное самолюбие, так как дело идет об интересах рабочего класса, о лучшем использовании наших ресурсов»341. Эти высказывания показывают, что Кагановичу не был чужд большевистский холизм. Однако канон задавал Сталин, а для него Советское государство было лишено каких-либо конфликтов, только утопало в канцелярщине.
Все представленные нарративы указывают, что внутридискурсивная деривация «ведомственного» трансформировалась исключительно в бюрократическом контексте. Субординационная подчиненность и все разнообразие документооборота стали наиболее распространенным референтом «ведомственных» или «подведомственных» определений. «Ведомственное» нагружалось вариантами бюрократизма. В центральной прессе редкий бюрократ не обвинялся в «узковедомственной точке зрения», а «ведомственные споры» выступали типичным канцелярским проявлением практик (у)правления, которые было невозможно отделить от администрирования, между функционерами от разных инстанций. Другим важным моментом дискурсивной рационализации ведомственного в период первой и второй пятилеток стал отказ от большевистского холизма. Теперь не государственные интересы декларировались в качестве пострадавшего от ведомственных споров, не абстрактная совокупность советской промышленности, а конкретные люди, трудящиеся, представители «народа», рабочие или колхозники. Крупная индустриальная промышленность в Стране Советов не могла страдать ведомственностью, поэтому многочисленные корреспонденты газет не использовали это понятие при описании проблем народного хозяйства. Лишь мелкие хозяйственные предприятия попадались на «ведомственных точках зрения». Однако запрет критиковать промышленные наркоматы и тресты давал свободу для разоблачений бюрократических слабостей в административных аппаратах, а также выводил эту критику в новое дискурсивное поле, которое сформировалось в процессе коллективизации деревни.
Вычеркивание ведомственных лексем из промышленного контекста и воспроизводство бюрократических пороков административного аппарата не исчерпывали все возможные формы репрезентации ведомственности в публичном дискурсе. Дистрибуция употребления этого понятия при описании сельскохозяйственных отношений усиливалась настолько, насколько большевики устремлялись в деревню. Государственное вмешательство в сельскую местность определялось коллективизацией, в процессе которой экономическая жизнь в деревне становилась частью большевистского холизма и все больше соотносилась с государственными интересами. Расширение государства за счет новых дискурсивных полей одновременно, в соответствии с холистической установкой, распространяло категорию ведомственности на эти новые дискурсивные описания аграрной реконструкции.
Чем глубже государственные агенты проникали в деревню, тем больше они наблюдали явления, обозначаемые ими как ведомственные. На XV съезде ВКП(б), который утвердил план коллективизации, В. М. Молотов подробно описал, что такое ведомственность в условиях кооперации деревни:
К сожалению, наши кооперативные организации даже между собой в мире жить никак не могут. Если вы возьмете нашу потребительскую и с.-х. кооперацию, то мы имеем в настоящее время, в особенности в центре, такое положение: это непримиримые враги, это ведомственные «супостаты» в отношениях друг к другу. Драчка между собой здесь идет вовсю. Обслуживают одного и того же мужика, работают для одной и той же деревни, охватывают уже весьма значительную часть в основном одной и той же массы бедняков и середняков, но в их отношениях порой столько ведомственной непримиримости, ведомственной узости, совсем не похожей на коммунистическое отношение к своей работе, которое делает их из друзей по работе ведомственными врагами друг другу, чем, между прочим, доказывают недостаточно активное участие масс в кооперативном строительстве. А посмотрите на отношение кооперативных органов к государственным органам, например, на отношения с.-х. кооперации к с.-х. кредиту, – тут вы увидите буквально примеры военных сражений, постоянные взаимные атаки и нападения, хотя эти организации делают одно и то же дело342.
Молотов отчетливо фиксировал важность большевистского холизма, нарушение которого, в данном случае посредством «сражения» с государственными органами, являлось извращением коммунистической позиции, то есть отношения к труду. Однако молотовские высказывания в конце 1927 года не были еще устоявшейся нормой в изображении аграрных преобразований.
Ситуация в корне поменялась в 1930 году, когда громкие реляции о трудовых подвигах в колхозах и о перевыполнении планов коллективизации дополнились сообщениями о трудностях ведомственных взаимоотношений. Вероятно, сталинское обличение «головокружений от успехов» и подготовка к XVI съезду партии задавали контекст вестей о ведомственных спорах в деревне. С другой стороны, эти сигналы с мест разворачивались на фоне административных преобразований, а именно ликвидации системы округов. Критике подвергались окружные земельные управления, которые превратились в «сугубо-ведомственный передатчик, в канцелярского посредника между республикой и районами»343. После ликвидации окружной системы район стал рассматриваться основной административно-территориальной единицей, способствующей социалистической перестройке села. Нарком РКИ УССР В. П. Затонский считал, что укрепление района было направлено против «старых традиций и затхлой ведомственности, циркулярщины, чиновной безответственности»: «Районные работники должны быть не только и не столько агентами тех или иных ведомств, а организаторами, руководителями местных органов советской власти»344. Рецепция «ведомственного» в описаниях колхозного строительства в большинстве случаев указывала на состояние бюрократического порядка/беспорядка. На страницах центральных газет описывались самые различные виды административных конфликтов между колхозсоюзами и земельными управлениями, МТС и колхозами. Это были яркие примеры «ведомственных споров».
В условиях ведомственной волокиты агрономы земельных органов становились не иначе как «кулацкими идеологами», отождествляющими колхозы с «помещичьими хозяйствами»345. Во время путины Союзрыба, Всекопромрыбаксоюз и колхозы толкали рыболовство в «ведомственную грызню, путаницу, рутину»346. «Ведомственная неповоротливость», суетня и взаимные обвинения являлись обычным делом при составлении планов контрактации347. На юге Крайзу, Крайтрактор и Крайколхозсоюз затягивали решение по питанию обычного тракториста в своих административных корреспонденциях348. Реальная перестройка работы сберегательных касс на селе подменялась «ведомственной шумихой»349. Колхозцентр, Садоогородцентр и Союзтабак, которые были не способны помочь «колхозной системе», приводили к аналогичным спорам и грызне во время урезания утвержденных центром сумм на строительство плантационно-технических сооружений для табаководства350. Бакинская кооперация при передаче ряда закрытых рабочих кооперативов предприятию Азнефть соблюдала «свои узковедомственные интересы в ущерб рабочему снабжению» и пыталась не передать животноводческие и молочные фермы351. В особых случаях «ведомственные интересы» устанавливали в колхозах новые социальные порядки. Так, Башкирский союз потребительских обществ использовал реализацию товаров для взыскания паевой задолженности. Такое административное взыскание сочеталось с «открытым товарообменом»: колхозник должен был сдать на пять рублей продуктов и уплатить членские взносы, прежде чем на такую же сумму купить товаров352. Строительство в колхозах нередко было жертвой «кабинетно-ведомственного творчества наркомземовских проектировочных организаций», которые не обладали навыками квалифицированных специалистов в области сельской архитектуры353. Или того хуже, в некоторых белорусских колхозах руководители МТС и машинно-тракторных мастерских (МТМ) вели самые настоящие «ведомственные войны»354.
«Ведомственной» оценке оказалась наиболее подвержена деятельность Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ), которое в 1934 году провалило учет поголовья скота. Все беды советского животноводства связывались с этим «ложным учетом»355. В риторике разоблачения газетчики объявляли перепись скота не ведомственным делом, а ответственной и политической кампанией, в том числе местных организаций356. Одновременно с этим в прессе никто не скрывал, что сама структура племенного животноводства была сильно раздроблена и разбросана по отдельным ведомствам, наркоматам и хозорганам. Не было согласованности по породному районированию между Наркомземом и Наркомсовхозов («Необходимо этот ведомственный спор прекратить»). Породное районирование сравнивалось с каучуковой формулой, куда «каждой организацией и ведомством вносятся поправки и поправочки»357, а использование племенных производителей – как узковедомственный и антигосударственный подход358.
Похожее состояние дел было в районировании посевов зерновых культур359. Работники Всесоюзного института растениеводства жаловались, что Наркомзем, Наркомсовхозов и Наркомснаб имели свои «собственные» селекционные станции, сортосеменные и товарно-сортовые посевы. В итоге эти наркоматы осуществляли районирование на основании «ведомственных хозяйственных соображений»360. Корреспонденты «Правды» разоблачали ведомственную волокиту Наркомзема, Наркомфина, Наркомлеса и Наркомсовхозов, которые не могли передать колхозам остающиеся неиспользованными пастбища и сенокосные угодья361. В Сибири Наркомсовхозов оставлял «беспризорными» многие зерновые предприятия, а местные совхозные управления испытывали по этому поводу неоправданный «ведомственный оптимизм»362.
Итак, ведомственные лексемы были органичной частью языка, описывающего проблемы становления советской аграрной экономики. При этом сам ведомственный дискурс в периодике и литературе рассматривался опасным врагом нового сельского мироустройства. Всероссийское общество крестьянских писателей ставило задачи преодоления тенденции «ведомственной» критики. Для крестьянских авторов успехи коллективизации означали расширение рамок своей общественной организации, в то время как «тенденции „ведомственности“» являлись худшим проявлением «обывательской ограниченности». «Главными жизненными центрами» такой организации выступали совхозы и колхозы, а крестьянский писатель превращался в писателя совхозно-колхозного363. Также драматург должен был обладать знаниями колхозно-совхозной действительности и разорвать связь с традицией «ведомственных» пьес, когда за один присест сочинялись водевили на тему различных обществ, ревизионных комиссий или потребкооперации364.
Воспроизводство ведомственных топосов в колхозном дискурсе резко сократилось во второй половине 1930‑х годов. Сталинская Конституция, утвердившая кооперативно-колхозную собственность, вероятно, положила конец всем ведомственным проявлениям в аграрном секторе и установила на деревне новый дискурсивный порядок, где не было места конфликтам. Таким образом, рационализация ведомственных взаимоотношений в публичном дискурсе была риторической частью процесса коллективизации. Советское государство строило новую экономику в деревне, в том числе путем обнаружения ведомственных противоречий и организации «идеального» социалистического управления колхозами и совхозами. Однако гувернаментальность (у)правленческих практик в сельской местности почти всегда выстраивалась вокруг административно-бюрократических отношений, и они, за исключением проблем учета скота и зернового районирования, не были референтны государственным интересам. Колхозная ведомственность чаще была канцелярской борьбой местных чиновников и колхозников за условия и средства локальных сельскохозяйственных работ.
Большевистский холизм проявлялся только в момент больших конфликтов, связанных с промышленным производством. Конечно, я не утверждаю, что прекращение текстуализации «ведомственности» в контексте народного хозяйства означало преспокойное существование для советской промышленности. Очевидно, что эпоха сталинской индустриализации породила массу реальных ведомственных антагонизмов на гигантских стройках. Не исключено, что на местах, где сталинский дискурс мог обладать различными локальными девиациями, газетчики, наоборот, легко артикулировали ведомственность и апеллировали к большевистскому холизму при открытых конфликтах производственников, что не фиксировалось в центральной прессе. Однако, как уже было описано, центральные издания не использовали в таких описаниях «ведомственный» словарь. Ситуация изменилась, когда страна готовилась жить по заветам «Конституции победившего социализма».
Первой полемикой, в которую вновь вернулись государственные интересы, стало обсуждение вопроса о делении ресурсов между республиканскими наркоматами, которые были созданы по конституции, и союзным правительством. Как писали свидетели прений, «надо отбросить узковедомственную линию в разрешении этих вопросов и по-государственному подойти к делу». Эта критика была обращена к Наркомату легкой и местной промышленности, прикидывавшему, «что кому отдать», «нужно или не нужно „уступить“» республиканским наркоматам какое-нибудь предприятие или отрасль производства365. Либо, наоборот, большинство предложений о создании новых наркоматов исходили из «узких ведомственных нужд»366.
В 1936 году не только всенародное обсуждение конституции предопределило возвращение риторики защиты государственных интересов. Международный контекст Гражданской войны в Испании и нарастающее идеологическое противостояние с фашизмом возвращали интересы государства в круг мотивационных клише для советских функционеров. Московские показательные судебные процессы также предопределили дискурсивный поворот, в котором сталинский лингвистический терроризм атаковал «германо-японо-троцкистских агентов» на заводах и в трестах. Ведомственность была объявлена оружием врагов. Другим символическим поводом вспомнить о принципах большевистского холизма оказалось празднование десятилетия со дня смерти главного идеолога государственных интересов в социалистической промышленности и основного противника ведомственности – Дзержинского. Председатель Госплана СССР В. И. Межлаук в «юбилейном» некрологе особо подчеркивал большевистский холизм Железного Феликса:
Не было ни одного вопроса, к которому он не подходил бы с общегосударственной точки зрения. И как народный комиссар путей сообщения, и как председатель Высшего Совета Народного Хозяйства, он подчинял каждый вопрос своего ведомства интересам народного хозяйства, интересам пролетарского государства в целом. Именно поэтому мероприятиям, которые проводил Феликс Эдмундович, всегда была обеспечена широчайшая поддержка партии и ее Центрального Комитета. Ведомственность была совершенно чужда Дзержинскому367.
Как только государственным интересам возвращался дискурсивный голос, ведомственность как понятие также подключалась к текстуальной реальности. Для тысячи производственных руководителей Дзержинский превращался в пример идеального «большевика-хозяйственника», который боролся с ведомственностью.
Закручивающийся комок репрессий постепенно вводил «ведомственность» в качестве одной из ключевых лексем сталинского языка Большого террора. Дискурсивный поворот состоялся на печально известном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, на котором произошел очередной пересмотр означаемого «ведомственности». Если в период первых пятилеток «ведомственность» определяла в первую очередь частный случай бюрократизма, неуместных и затянувшихся споров и волокиты, то пленум сформулировал новую дефиницию этого понятия, которое теперь было наполнено не только большевистским холизмом и противопоставлением императивам государственных интересов, но трактовалось через чуждую темпоральность и превратилось в категорию политического и социального исключения.
В первом случае идеологи соотносили ведомственность с явлениями иной экономической формации, средневековых отношений, то есть социально-экономическими практиками, которые сохранялись в Советском государстве как пережитки феодальной эпохи. На пленуме один из главных организаторов массовых репрессий Н. И. Ежов, когда говорил о том, почему в докладах представителей ведомств не был дан анализ недостатков своей работы и ничего не было сказано о тех уроках, что они усвоили, красноречиво объяснял, как нужно по-новому понимать ведомственность:
