Всему своё время
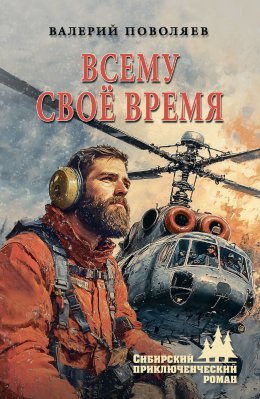
© Поволяев В.Д., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Глава первая
Не рассудок управляет любовью…
Мольер
Старательно тайны свои береги.
Саади
Издали казалось, что вертолет горит – ластается по небу дымящаяся страшная головешка, оставляя за собой длинный сизый хвост, – еще немного, еще самая малость, и головешка клюнет носом, с визгом, с воем, вышибающим сыпь на коже, с треском пойдет к земле, задевая макушки деревьев, сбивая сучья и тяжелые сосновые лапы.
Но вертолет не горел, нет, он уверенно и спокойно шел дальше.
Когда на здешнюю землю наваливается холод, сдавливая все вокруг, превращая снег в жмых, заставляя ежиться сугробы – а сугробы в сильные морозы, сжимаясь, шевелятся как живые, – он рвет ноздри, рот, затыкает горло твердыми непроглатываемыми пробками, выдавливает глаза. Воздух становится сухим и горьким, в нем не остается ни капли влаги, почти ни грамма кислорода, и потому вертолет на ходу дымит, судорожно перебрасывая свое грузное тело по воздуху, рубит с отчаянным хрипом небесное сухотье, перхает мощным движком, задыхается, пуская из выхлопных патрубков длинные струи, оставляет позади дымные следы. На целые сто-полтораста метров тянется за машиной сизый шлейф.
Люди, когда видят в такую пору вертолет, невольно останавливаются, задирают головы и, ловя громкий надсаженный стук его, следят за полетом чадящей диковинной машины, чутко прислушиваются к хлопанью лопастей – нет ли в них какого сбоя?
Надо заметить, что вертолеты тогда, в начале шестидесятых годов, были большой редкостью – не то что сейчас, использовали их при самой крайней необходимости, когда беда брала за горло: погибали люди или еще какая напасть сваливалась на них, кончалась еда, горючее, запчасти – то, без чего прожить было нельзя.
Вертолет вел Константин Николаевич Корнеев, безотказный летчик, готовый подниматься в воздух даже в пургу, когда на улице пальцев на руке не разглядеть – метет густо, дома жалобно скрипят бревенчатыми толстыми стенами – их допекает ветер, птицы, попрятавшись в снег, мерзнут, коротая худое время, и вся жизнь на земле вообще сходит на нет. Никто не летает в такую погоду, а Корнеев летает. Конечно, такие полеты не могли продолжаться до бесконечности – где-нибудь да должна была ветка надломиться, но пока: тьфу, тьфу! Корнеев, когда думал об этом, весь мрачнел, на переносице собирались ломкие глубокие складки, в глазах застывала то ли усмешка, то ли печаль, не поймешь поначалу, что…
Приглядевшись, можно было понять: все же усмешка. Ну а если уж случится худое, то больше всего Корнееву будет жаль экипаж – двух хороших людей, летавших с ним. Наземный контроль часто перестраховывается и, учуяв легкую прозрачную поземку или слабый ветерок, на полеты накладывает запрет, никого не выпускает в воздух. Но что делать, если где-то человек богу душу отдает?
Был Корнеев высок ростом. У них в роду все высокие: и отец, и дед, и братья. У таких людей плечи очень часто бывают узкими – опять-таки согласно конституции человеческого тела: каждому ведь отводится одинаковое количество «глины», одних природа лепит, вытягивая вверх, других, наоборот, старается слепить круглыми, плотными, мячикоподобными, а Корнеев и его братья – нет, они широки в плечах, пригожи, каждый – настоящий Добрыня, только вот Костя телом не так гибок, не так ловок, как ловок был тот былинный деятель. У Кости тело негнущееся, одеревеневшее – и фронтовые ранения сказываются, и полеты. Летать приходится, часами ие поднимаясь с тесного пилотского креслица, надо окостенеть и, вглядываясь вперед и вниз, стараться зацепить глазом все приметное, что попадается в белой стылой мути, в мятущихся космах пурги, в отвалах снегов. Лицо у Кости загорелое, будто он месяцами не вылезает с южных пляжей, на самом деле это мороз и ветры так продубили кожу, лик у северянина все время подкопченным бывает, подбородок твердый, тяжелый, с шрамом наискосок (старый след уличной драки), волос короткий, густой, глаза – упрямые.
Два брата у Кости, оба моложе его, – Сергей и Владимир. Сергей искал сейчас нефть недалеко от Малыгина – родной, можно сказать, деревни; Володька же, этот черт, хоть и младший в семье, самым головастым оказался – в науку ударился. Вспоминая его, Костя всегда улыбался – он любил младшего брата.
У всех троих были квартиры в областном центре – у Кости как семейного человека побольше, двухкомнатная, у холостяка Володи тоже двухкомнатная, ему как ученому мужу, кандидату наук была положена дополнительная площадь, но менее роскошная, менее просторная, чем у Кости. Неустроеннее всех жил Сергей, средний брат. Человеком он был бродячим: сегодня здесь, завтра там, и как Володька, не обременен узами Гименея – не до женитьбы ему, раз все время мотается по тайге и болотам, – привык больше обитать в землянках, балках, засыпушках, дощаниках, спать на земле и в снегу, подстелив под себя охапку еловых лап, – словом, где и как придется, и на собственное жилье ему было пока наплевать. Сергею Корнееву выделили комнату в старом бревенчатом доме, сложенном прочно и по-сибирски старательно, будто средневековая крепость. Улица, где он жил, была глухой, сплошь в заборах, с темными промороженными домами, охраняемыми чуткими псами, которые, если что, шагу не дадут ступить, раздерут в клочья.
Костина жена, Валентина, работала на телевидении редактором, но часто вела и передачи, поэтому ее считали диктором. Она и выступала, кстати, лучше многих профессиональных дикторов – раскованно, с той непринужденностью, даже небрежностью, которая отличает талант от бездари. Любо-дорого смотреть, когда Валентина выступает по «ящику», как нынешняя молодежь зовет телевизор.
Идет вертолет вперед, одолевает километры. Только вот неспокойно что-то Корнееву на душе. Отвлекшись от своих мыслей, Костя прислушался к хлопкам лопастей, посмотрел на термометр. Минус тридцать. Для глубокой зимы мороз подходящий, в самый раз, а для ноября – крутоват. Но ничего, все равно природа равновесие удерживает: закручивая гайки в одном месте, отпускает в другом, вполне возможно, что у Сереги на буровой сейчас оттепель.
Покосился на второго пилота. Колесничук – небольшой, шустрый, как колобок, подвижный, румянощекий человек, почувствовав на себе взгляд командира, скосил глаза в его сторону.
– Раскочегаривает свой холодильник старик, уже тридцать за бортом, – проговорил Корнеев в черный пластмассовый пятачок ларингофона – бортовой переговорки.
Второй пилот в ответ улыбнулся широко, лицо его еще более округлилось, стало как пшеничный каравай. Он ткнул большим пальцем правой руки вниз. Есть общепринятая сигнализация: если дела идут хорошо, палец вздергивается вверх – известный жест, если средне, «ни туда ни сюда», – он ставится горизонтально, в положение часовой стрелки на тройке или на девятке, если же плохо – палец поворачивается вниз, к земле.
Колесничук уже больше двух лет работал с Корнеевым, они в геологических партиях, на буровых всегда появлялись вместе, в их адрес даже смешки отпускали: шерочка с машерочкой. Где шерочка, там и машерочка, где иголка, там и нитка. Колесничук, проворный колобок, всегда катился впереди, сияя, как красное солнышко, одаряя улыбкою встречных; Корнеев, сдержанный, спокойный, неспешно двигался сзади. Был Колесничук родом из Луцка, любил свою Волынь, каждый год ездил в отпуск только туда – подышать воздухом, понежиться на украинском солнышке, послушать местных птиц и неспешное журчанье речной воды. Но вот какая вещь: когда он был в Сибири, то скучал по Волыни, стоило ему прикатить на Волынь, как наваливалась тоска – ему остро начинало не хватать Сибири. И тогда Колесничук начинал терять вес и свою округлость, щеки у него опадали, взгляд тускнел. Поэтому часто он возвращался назад, не догуляв отпуск до конца.
– Давай-ка мы с тобою, Колесничук, погреемся, а? – предложил Корнеев.
– Это как? – полюбопытствовал в бортовую переговорку механик Петуня Бобыкин.
Они шли на высоте метров в двести – низко очень, чувствовалось даже, как снег снизу «припекает», – и Корнеев начал поднимать вертолет. Знал он: на высоте примерно полутора километров проходит теплый инверсионный слой – воздушный Гольфстрим, – в него-то Костя и целил. Угодил точно, хотя Гольфстрим был узким и плоским и попасть в него было трудно. Прошло буквально минут пять, и градусник за бортом начал показывать уже не тридцать, а минус двадцать три, потом двадцать и наконец застыл на отметке – минус восемнадцать. В вертолете действительно сделалось теплее.
В морозы перепады температуры, даже ничтожные – любая малость, – ощущаются остро, и люди реагируют на них однозначно. Бывает, вызвездится пятидесятипятиградусный трескотун, сдавит землю, народ в полушубки и в дохи по самую макушку закутает – идет человек, живого места не видно, одни только глаза в притеми одежды поблескивают; а спадает мороз до минус сорока – и мужики уже полушубки до рубашек распахивают, пальцами затылки чешут, ухмыляются: «Что-то жарко сегодня…»
Сдала температура, и Костя шлем с себя стянул, расстегнул одежду, расслабился. Внизу один и тот же пейзаж – скучная равнина, болота, покрытые снегом. На редких твердых пятаках земли, отделяющих одно болото от другого, растут хилые кривоствольные сосенки. Если свернуть с курса немного на север, в сторону Малыгина – Костя летел сейчас в «Три единицы», в Ныйву, «Три единицы» были позывными Ныйвы, – то через некоторое время покажется река с одним крутым берегом, на берегу настоящая тайга, а тут сплошная ровнота, где и глазу-то зацепиться не за что.
– Давай веди машину, – сказал Корнеев Колесничуку.
Второй пилот кивнул. Он, помыкивая про себя бессловесную песенку, глядел сощуренными глазами перед собой, остановив взор на масляной грохотной капельке, прилипшей к горизонту, – солнце в эту пору тут совсем в небеса не поднимается, нехотя выползет из-за земного края, покажет народу свой заспанный унылый лик, повисит немного над горизонтом и вновь уползет назад – даже не уползет, а рухнет в свою привычную колыбель. Дорогу в «Три единицы» Колесничук знал хорошо: добрую сотню раз, если не больше, летал туда вместе с Корнеевым.
Если бы у Корнеева спросили, что или кого он хочет увидеть больше всего, ответ был бы в любую пору – сейчас, вчера, сегодня, завтра – одинаков: жену.
Счастлив тот человек, кому встречается одна-единственная женщина из всех женщин, обитающих на свете, – тогда жизнь его бывает не такой, как у других. Пасмурный туманный день становится радостным, солнечным и прозрачным, затхлый воздух старого неубранного дощаника – летнего дома в Ныйве, в котором им отводят место на ночевку в одной и той же комнате, начинает пахнуть лесными цветами, кукушкиными слезами, медуницей и кипреем, суровая свинцовая вода недалекой реки превращается в нежные прохладные струи какого-то райского водоема, настырное чириканье вечно голодных воробьев – в соловьиные завораживающие переборы. Валентина была для Кости Корнеева именно такой женщиной: в болезнь – лекарством, в жару – прохладой, в холод – теплом, в печаль – радостным промельком.
Была Валентина красивой, повезло Косте, ничего не скажешь: чалдонская добрая порода, с нежным чистым лицом, на котором как-то беззащитно и одиноко темнели глаза, то ли темно-синие, то ли темно-зеленые – не сразу разберешь, какого они цвета, лесные или речные, хитрые, безмятежно-чистые, невинные одновременно, светлые волосы гладко и плотно облегали голову и, прихваченные у затылка пластмассовой заколкой, растекались, словно дождь, по спине.
Колесничук тем временем перестал помыкивать песенку, всмотрелся в затуманенную морозную даль.
– Пора снижаться, Николаич. Минут через десять – «Три единицы». Уже видно.
Поселок Ныйва возник на месте старого остяцкого становища – шесть надежно укрытых снегом засыпушек, дощаник да три баркаса, вытащенные из реки на берег. В каютах баркасов также жили люди.
– Снижаемся!
Через десять минут – тютелька в тютельку, Колесничук знал, что говорил, – приземлились в Ныйве. Лопасти вертолета выдули на площадке снег до «дна» – обнажились промороженные твердые маты, постеленные летом, чтобы вертолет не утопал в вязком болотистом грунте.
Второй пилот и бортмеханик остались в машине – движок посмотреть, бензин залить, а Костя пошел к засыпушкам, в летную комнатенку, где была рация, куда стекались все новости. Диспетчер дядя Володя Карташов, седоусый морщинистый старик с коричневым печеным лицом, встретил Корнеева хмуро. Пробасил, кивнув на табуретку:
– Садись.
Корнеев сел, уперся руками в колени.
– Какие новости?
– Лучшая новость – отсутствие всяких новостей. Так, кажется, умные люди говорят?
– Раз умные, то стало быть так.
– Сергей тебя разыскивал. Хочешь с ним по рации потолковать? – Карташов покосился на свою громоздкую угловатую аппаратуру – целый шкаф «говорящего металла», мешавший тут не то чтобы сидеть, даже дышать.
– И без того, наверное, эфир замусорен. – Корнеев тоже посмотрел на старую тяжелую рацию, отметил: военного еще образца. – Случилось у него что-нибудь?
– У него? Насчет «него» не знаю, не докладывал. По части засорения эфира не бойся, – Карташов отогнул рукав куртки, взглянул на циферблат плоскобокой, с оранжевым веселым циферблатом «молнии» – старых карманных часов, к которым были приварены ушки, а в ушки продет ремешок: получился вполне сносный ручной будильник, – время сейчас такое, что рано еще мешать. – Карташов неожиданно горько поморщился, тронул пальцами затылок, уши. Вздохнул: – Беда, Костя, случилась, – и выждав немного, одолевая в себе сопротивление: было слышно, как дышит тяжело Карташов, что-то внутри у него скрипит и повизгивает, больно Карташову, – не хочет он говорить, а говорить надо, произнес: – От тебя ушла жена, Костя.
Корнеев не сразу понял, что на самом деле означают эти слова. Они как-то прошли мимо него, ни за что не зацепившись, – просвистели, словно ветер. Потом он почувствовал резкий укол в затылке – будто иглу туда вогнали, голове сделалось горячо.
– Ты что, дядя Володя, смеешься? – сохраняя прежний ровный тон, произнес Костя. – Шутки у тебя что-то плохие.
– Какие тут шутки. Эхма, – Карташов сморщился, поболтал в воздухе рукой. – Какие тут шутки, Кость? Разве такими вещами шутят? Она, эта твоя Валентина… актерка! – Карташов горько сжал рот. – Актерка! – Сочувствуя, он положил руку на Костино плечо.
– Ошибка какая-то, дядя Володь. Не верю. – Корнеев поднялся, с тоской посмотрел в исчерканное морозом оконце, в которое тихо вливался скудный ноябрьский свет. Карташов, старый человек, ругал сейчас самого себя – зачем он впутался в это дело?
Эх, знать бы, где упадешь – обязательно соломы подстелил бы. Молчал старик Карташов, немо коря себя, молчал и Корнеев, всем брат и выручальщик.
Наконец Корнеев оторвался от разрисованного оконца, вздохнул. В нем будто сразу вымерзло что-то. Лицо было спокойным – не лицо, а маска из папье-маше или из гипса.
– Дядя Володя, мне куда лететь?
Карташов помедлил немного:
– В Малыгино, Костя. К Сергею давай. И его повидаешь, переговоришь с ним, и парня одного подбитого – драка, похоже, у Сереги на буровой имела место – возьмешь. В больницу доставишь. Затем снова в Малыгино возвертывайся, ночевать будешь там.
Не говоря ни слова, Корнеев хлопнул кожаным шлемом по колену, вышел из летной комнатенки.
Глава вторая
Итак, начинается песня о ветре…
Владимир Луговской
Слова, как и монеты, бывают разной ценности.
Антуан Ривароль
У Корнеевых было заведено доброе правило: на праздники собираться вместе. Где бы ты ни находился, что бы ни делал – должен все бросить, освободиться и хотя бы на несколько часов прилететь домой.
Собирались обычно у Кости с Валентиной: у них и квартира просторная, и быт налаженный, можно и отдохнуть, и повеселиться-подурачиться, и погрустить, уединившись, нырнув с головой в самого себя.
Собрались и в этот раз. На Первое мая. Погода была не ахти какая, промозглая, дырявая – кажется, из каждой небесной прорехи текли тонкие холодные струи.
– В общем, так, – объявил Костя, он был старшим в семье, ему надлежало принимать решения, пасти младших, – на улицу сегодня не пойдем, в дожде купаться не будем, будем веселиться дома… Как?
– Не быть там, где сегодня все, по-моему, нескромно, – сделал замечание представитель науки, серьезный человек Володя.
– Ты у нас, Володька, правильный, как штатив, – улыбнулся Костя.
– При чем тут штатив?
– А он никогда не отклоняется и не ошибается, ему всегда ценную аппаратуру доверяют.
– Нашел сравнение!
– Не обижайся, – назидательно произнес Костя. – Обижаться – удел слабых. Ты же у нас не слабак… Нет?
– Нет.
– Люблю искренних людей, – входя в роль, рассмеялся Костя. – Всегда ребята прямы и откровенны, никогда не кривят душой – открытая душа, – он пробежался пальцами по собственной груди, словно играя на баяне. Поинтересовался неожиданно: – Ну что там наша наука говорит насчет нефти? Будет нефть, или как? А? В газетах пишут: если в Сибири найдут нефть, то это станет открытием века.
– Но при этом добавляют, что нефть по прогнозам не у нас находится, а восточнее, в Минусинской впадине. Мнение профессора Татищева, к сведению, – Володя сделался еще серьезнее, – очень весомое мнение.
– Бурить сейчас надо осторожно, – подал голос Сергей, – я бы сказал, подробно. Нужно пробиваться на глубину и подробно пытать каждую скважину. Что она скажет на одной глубине, на второй, на третьей… Коли ничего нет – пробурить опять немного и опять испытать. А вдруг пласт? И так до самой преисподней. Я сейчас так собираюсь бурить. Если ничего не найдем – все очки в пользу Татищева.
– С покойным академиком Губкиным Татищеву-то драться легко, дать по мозгам некому, – произнес Володя.
– А ты? – Костя тронул беловатый шрам на подбородке, сощурился, лицо его стало твердым, беспощадным. – Чего не даешь-то?
– Я не академик. Буду академиком – можешь поручить подобную миссию. – Володя хлопнул ладонью по колену.
– Но тем не менее ты… – Костя поднял вверх палец (указующий жест, от кого его только Костя унаследовал?), – представитель науки, фигура.
– Каждая фигура собственное «я» должна иметь. «Я» – это авторитет.
– Не прибедняйся!
– Эх, мужики, – по-сиротски тихо, совсем неожиданно для всех, произнес Володя, – если будет найдена нефть, то черт возьми… Утрутся многие!
Костя вскинул голову, будто охотник, услышавший звук недалекого выстрела, хотел что-то сказать, но лишь выкрикнул зычно:
– Ма-ать!
– Да? – отозвалась из кухни Валентина.
– Поскольку ты у нас одна-единственная, любого из нас можешь выбирать в помощники. Хочешь меня, хочешь Володьку, хочешь Серегу. Выбирай! Выбранный будет исполнять у тебя роль кулинарки.
– Не кулинарки, а подсобного рабочего, – рассмеялась Валентина.
– Уточнения вредны для здоровья.
– Ошибочная теория, Корнеев! Присылай на кухню Володю, он ученее всех вас, толку от него больше.
– Давай топай, избранник, – Костя подтолкнул Володю к небольшому узенькому коридорчику, ведущему на кухню. Коридорчик был обит деревянной вагонкой – узкими гладкими рейками, ладно подогнанными друг к другу, обработанными морилкой и лаком, – сделан со вкусом, как, собственно, и вся эта квартира.
В кухне тоже много дерева – тонко распиленных горбылей, опаленных огнем паяльной лампы, покрытых бесцветным лаком. Кое-где из горбылей торчали черные кованые гвозди, на которых Валентина развесила разные украшения и утварь: маски, ложки да поварешки, «шанцевый инструмент» – щетки, половник, решетчатые подставки для посуды. Соединившись вместе, эти вроде бы совсем не соединяемые предметы – маска и поварешка – делали кухню уютной, теплой, обжитой.
У Володи Корнеева, едва он вошел в кухню, почему-то онемели губы – бывает такое состояние, немеют губы, ни раздвинуть их в улыбке, ни сжать, вялыми делаются, непослушными.
– Чего такой потерянный? – спросила Валентина.
В ответ тот лишь плечи приподнял. Валентина улыбнулась одними только глазами; свет их сделался ярким, резким, насмешливым – насмешливость всегда отрезвляет людей, как стылая колодезная вода, – спросила и будто гвоздь в стену вбила, попала в самую точку:
– Уж не влюбился ли? Может, помощь нужна? Либо совет, как лучше девушку окрутить, а? Ты не стесняйся, говори…
От этих вопросов у него даже испарина на ладонях появилась. Не знала, не ведала Валентина ничего, иначе не стала бы задавать такие вопросы.
– А ведь действительно влюбился!
Молчал Корнеев: не мог он говорить на эту тему, никак не мог. Хотя тайну, говорят, можно выдать не только словом, а и молчанием.
– Когда человек влюблен – в душе соловей поет, – покачала головой Валентина, улыбнулась чему-то своему, далекому, ведомому только ей одной – наверное, в прошлое свое возвратилась, – весна в душе, цветы цветут…
Задумалась на мгновение, тряхнула головой, светлые тяжелые волосы поползли у нее по плечам вниз, будто живые. Володя закусил губу, чуть не охнул от боли, поймал ее взгляд, отвел глаза – боялся, что Валентина все поймет. Женская душа – проницательный, чуткий механизм, реагирует на все – на чужую боль, тайну, приязнь или неприязнь, женщина всегда докапывается до истины, узнаёт в чем дело, где тайна, как эту тайну ни скрывай.
– Ладно, шутки в сторону, – Валентина окинула взглядом столы, заставленные едой. Всюду блюда, блюда, блюда…
– Скоро вы там? – послышался из комнаты Костин голос.
– Начинаем носить, – отозвалась Валентина, – готовь стол, Корнеев!
Стол был давно уже готов, не за этим задержка.
Володя бросил на Валентину быстрый взгляд. Хотелось ему одного лишь: почувствовать на своем лице теплую жалеющую руку этой женщины, хотелось подставить под эти гибкие пальцы лоб и щеки, закрыть глаза и забыться. Что же это делается с ним?
Когда стол был уже полностью заставлен, осталось только сесть, раздался звонок в дверь: пришла «обещанная» средним братом Сергеем дама – рослая и быстроглазая, по-праздничному шумная, с мокрыми от дождя щеками.
…Если сейчас восстановить по деталям это майское застолье, то каждый из собравшихся, наверное, вспомнит что-то свое, эпизод, засевший в памяти, клочок праздника, «свою» часть и, может быть, и весь праздник. Володя Корнеев позже просыпался иногда ночью от одного, лишь одного ощущения: он танцует с Валентиной, несется, несется по кругу, сбиваясь с ритма, чуть не падая.
Он видел совсем рядом лицо Валентины, ее глаза, блестящие, с ошеломляюще глубокими зрачками, своим особым светом, видел тонкий точеный нос, отмечал белизну гладкой кожи, тяжесть волос, крупными прядями опускавшихся на плечи, наползавших на шею, покрывавших грудь и руки. И тогда пробивала его боль.
– Володя, ты что так плохо танцуешь? – время от времени покрикивала на него Валентина, и пол комнаты невольно кренился, дрожал. – Чего ноги заплетаются?
– Просто я на практике познаю, что для танцев нужны не только хорошие ботинки, – пробормотал Володя, испытывая неловкость и еще что-то сложное, чему, пожалуй, и названия не было, – он стыдился своей неловкости, Костиных насмешливых взглядов и, конечно, Валентины. Он бросал ответные взгляды – невидящие, грустные. Костя, который в танцах участия не принимал, лишь щурился, гудел басом, словно майский шмель:
– Володька-то, Володька, а… По танцам он кандидат наук, а не по нефти. Во дорвался! Как бы плохо не стало.
А тому действительно было плохо. Еще как плохо – и об этом никто не догадывался. Он умоляюще смотрел на Валентину, будто хотел что-то спросить, но никак не решался, и Валентина, умный человек, всегда все понимающий, ничего, решительно ничего в данном случае не могла или не хотела понять.
Она, наверное, даже представить не могла, о чем думал сейчас, чего стыдился младший Корнеев.
В какой-то миг в нем обломилась некая защелка и он, ощущая пропасть, в которую в любую минуту можно сорваться, прошептал, еле двигая вялыми чужими губами:
– Валя… я тебя… Я тебя люблю.
Но Валентина и этого не расслышала, не поняла ничего – мешали музыка, шарканье подошв, горячее дыхание, быстрота танца. Лишь взглянула на него немо, но даже не поинтересовалась, что именно прошептал Корнеев. Володе стало обидно. Но обида скоро прошла и, как всегда бывает в таких случаях, появилась смелость, решимость, желание совершить нечто ошеломляющее, громкое, и Володя, перебарывая себя, притянул к себе Валентину, почувствовал, как напружинилась ее легкая спина, прикоснулся губами к ее волосам, проговорил внятно:
– Я тебя люблю.
Она будто споткнулась, откинулась, повисла у него на руках, словно птица, по неопытности попавшая в силок, поглядела испуганно. Но тут же Володя уловил любопытство, пробившееся сквозь испуг, что-то жадное, жаркое, и комната, в которой они танцевали, для него словно бы озарилась новым светом.
– Ты что сказал? – на лбу Валентины в недоумении собрались морщинки.
– Я тебя люблю, – повторил он, глядя не в глаза ей, а на эти морщинки.
– Перестань, Володя, что ты, что ты, – рассыпчато зачастила Валентина, – что ты, что ты…
Внешне ничего не изменилось: по-прежнему призывно гремела музыка, горели, беззвучно потрескивая в саксофонных взвизгах и гитарных переборах, свечи – в этом доме любили, чтобы горели свечи, – кружились Володя Корнеев с Валентиной, Сергей со своей рослой девушкой, по-прежнему насмешливо щурил глаза Костя. А внутренний психологический сдвиг уже произошел, готовилось стихийное бедствие: маленький катыш снега, брошенный с вершины вниз, покатился, набирая скорость, грозя за собою поволочь куски льда, валуны, щебень, этот поток начал выдирать из земли пни, деревца и деревья, цепкие, ни за что не желающие расставаться с жизнью низкорослые колючие кусты. Такова сила страсти: проходит всего несколько мгновений – впрочем, эти мгновения могут растянуться на годы, – и загрохочет, понесется вниз лавина, сметающая все на своей дороге.
В этом доме становилось особенно уютно, когда выключали электрический свет и зажигали свечи. Валентина обожала свечи и из каждой командировки – в Москву ли, в Ленинград ли – обязательно привозила их. Свечи были самых разных форм и калибров: квадратные, круглые, витые, треугольные, похожие на пирамиды Хеопса, пахнущие ландышем, хвоей, фиалками, медом, смолой и воском, были они разных цветов – красные, янтарно-желтые, слепяще-белые, словно вырезанные из дорогой слоновой кости, голубые, даже пепельно-черные, едва приметно отдающие синевой, с весенним жасминовым духом и те были – разные редкие штуки умудрялась доставать Валентина.
Когда в квартире зажигались свечи, устанавливалась какая-то особая прозрачная тишина, в которой человек слышал самого себя, ловил собственное дыхание, радовался тому, что живет на белом свете.
Человек всегда любил, любит и будет любить живой огонь, подрагиванье светлого пламени, тихий треск горящего фитиля, запах дыма – все это находит отзвук в каждом сердце.
Были в этом доме свечи совсем уж чудные, немалых денег стоившие, настоящие архитектурные сооружения – такие свечи даже жалко сжигать. Но Валентина не жалела дорогих свечей. Костя одобрительно хмыкал: правильно, Валька, нечего быть рабою вещей! Пусть живой огонь горит, пусть доставляет людям радость, И оплавлялись, кривились, сгорая в пламени, искусно сработанные из парафина церковные маковки; кованные из непрочной восковой бронзы массивные кружки с крученым фитилем, торчащим из углубления вверху, рождающие высокий розовый огонь, пахнущие ладаном; отлитые из прозрачной горючей массы боевые слоны Гамилькара с любопытно-черными точечками глаз и роскошными ездовыми корзинами, установленными на спине; свечи в виде александрийского столпа, гордые и высокие, словно они были сработаны из мрамора; свечи-птицы, свечи-звери, свечи-корабли и свечи, отлитые в виде старинных автомобилей и колясок.
Человек любит смотреть на огонь. Спокойным и умиротворенным становится его лицо, во взгляде рождается мечта, по щекам пробегают светлые тени. Огонь заставляет человека думать – думать! – такова внутренняя сущность этой таинственной силы, огня. Огонь позволяет человеку не только жить, не только кормить себя и обогревать, а и исполнять высочайшее предназначение, отведенное венцу природы, – рождать мысли. А впрочем, что ж тут удивительного: венец есть венец, он должен мыслить. В нем есть все: злость и веселье, удаль и трусость, порок и добродетель, он способен умирать и возникать из пепла, все в этом мире подчинено ему, в том числе и огонь.
Всхлипнул и угас последний гитарный аккорд, музыка кончилась. Володя опустил руки, Валентина вырвалась из силка и тут же унеслась на кухню: гости, они ведь кофе потребуют, а к кофе и сладости, и все это надо подать. Володя с колотящимся и будто раскаленным сердцем прошел на свое место. Он вдруг заметил стоявшую на столике в углу фотографию. Снимок был наклеен на плотный картон-прессшпан, сзади к нему неизвестный мастер – может быть, даже сам Костя – прикрепил ножку, чтоб снимок не падал. Он был сделан вскоре после войны, когда Костя демобилизовался и вернулся домой в ладной летной форме с золотыми капитанскими погонами. В погоны для особого шика были вставлены фибровые пластинки, и погоны, ровнехонько-прямые, гладкие, тугие, плотно прилегали к литым Костиным плечам.
Старший Корнеев, хороший летчик, не боялся лезть в драку и был не раз награжден. Жизнь после фронта казалось ему безмятежной, она должна была состоять сплошь из розовых зорь, из одних только улыбок. Долгие лишения на войне должны были окупиться удачами мирной поры, и в глазах у Кости буквально жило некое предчувствие побед на всех фронтах мирной жизни, побед без пулеметного треска, без задыхающегося моторного клекота, без зенитных хлопков, без стонов и без крови, без дыма, без вздрагивающей земли, что как живая стонет и плачет, когда в нее врезается грудью поверженный самолет, без могил друзей, оставленных на обочинах пыльных дорог, – туго оббитых лопатами земляных холмиков, поднявшихся посреди пожухлой травы; побед без страхов и бессонных ночей. Но мирные победы давались непросто. Легкие горькие складки, что протянулись от крыльев носа к губам, говорили, что не так много розовых зорь выпало пока на Костину долю.
На карточке он сидел в самой середине собравшихся – герою почет, место в центре, – слева находился Сергей, он стоял, положив руку на плечо брата, прямой и сосредоточенный, с настороженным взглядом, справа – Володя, крутолобый, ловкий.
Фотограф, снимавший братьев, сделал три отпечатка – каждому, но потом Костя, перед самой свадьбой, потерял свой, пришел к Володе как-то, попросил:
– Дай мне фотокарточку нашу. Переснять надо. Понимаешь… потерял. Говорят, потерянная фотография – к раздору.
– Ты что, веришь в приметы?
– Я – летчик.
Володя вытащил из-под настольного стекла свой снимок, отдал Косте. Тот вручил его какому-то заезжему умельцу – большому мастеру по части увеличения старых снимков, и умелец постарался – видать, ему понравился молодцеватый летчик, из простенькой небольшой фотографии сделал целую картину, которую можно было вставить в раму и повесить на стену либо, наклеив на картон и приделав сзади ножку, водрузить на стол. Костя так и поступил.
Сергей тоже хранил фотографию, возвращающую их в прошлое, то славное, ставшее уже недосягаемым время, которое каждый вспоминает с какой-то сладкой грустью. И это не сентиментальность, нет – просто все мы связаны прочной нитью со своим прошлым. Разорвись она – и в нас умрет память. А человек, лишенный памяти, – это уже не человек. Без этой связи, без памяти то есть, человек теряет не только разум и облик – теряет свою чистоту, внутреннюю силу, мужество, способность сопротивляться и грести навстречу течению. Воспоминания о детстве часто поддерживают в трудную минуту, дают возможность дохнуть свежим воздухом, прийти в себя, перемочь слабость.
Несколько минут Володя невидяще глядел на фотоснимок, потом провел рукою по лицу – пришел в себя, отвернулся, стал гадать: что же будет дальше? В нем поднялась тревога за себя, за брата, за Валентину. Ушел он с праздника первым.
На следующий день Костя и Сергей одним самолетом – заиндевелым полярным «илом» – отбыли в тайгу, на север. Каждого ждало его дело: Сергея – буровая, Костю – старый вертолет, ставший для него самым настоящим живым существом, чем-то вроде домашнего животного, члена семьи. Володя Корнеев вернулся в свой НИИ, к спорам о сибирской нефти, к бородачам-коллегам, никак не расстававшимся со своим детством и продолжавшим играть в романтиков, ловцов тумана, любителей тихого зимнего снега, заметающего брезентовые бока палатки.
У Володи была самая интеллигентная в семье Корнеевых профессия – наука, двигал вперед науку, но случилось, сил двигать ее не хватало, слишком много было проблем, решение которых требовало мужества. У многих так и не хватило его – бросали НИИ, уезжали туда, где ждала другая жизнь, спокойная.
Например, Сомов, нескладный краснолицый малый, с которым Володя Корнеев никак не мог найти общего языка. А ведь их родные – солдат Сомов и малыгинский комсомолец Серега Корнеев – похоронены вместе. В начале двадцатых годов они погибли от рук белых. И так приглядывался к Сомову Володя и этак, и так подлаживался и сяк – ничего у него не получалось, Сомов был прямолинеен, как доска, однозначен в суждениях, на компромиссы не шел – попробуй уживись с таким.
Ушли и другие. А Корнеев проявлял завидное постоянство, он все работал и работал, НИИ не бросал: верил в дело, знал, что здесь он – не последняя спица в колеснице.
Летом в городе пахло гарью – от крутого солнечного жара полыхали торфяники, горели леса, дым стискивал горло, слезились глаза, кровь колоколом бухала в ушах. На перекрестках стояли бочки с квасом и пивом, неуклюжие тележки с водолазными баллонами и длинными, гибкими макаронинами шлангов – продавали газированную воду. Выйдя как-то вечером из института, потный, полуослепший от дыма Корнеев остановился у одной из тележек, заказал два стакана «газировки» с сиропом. Стоял, смаковал холодную пузырчатую воду, болтал ее во рту, остужая зубы, небо, язык. Детское занятие. Детское-то детское, а приятное.
– Вот где, оказывается, можно встретить родственника, – вдруг услышал он и, почувствовав, что щеки ему будто огнем прижгли, медленно повернулся. Улыбнулся. Улыбка вышла настороженной.
– Это ты? – пробормотал он, узнавая и одновременно не узнавая женщину, которая его окликнула. – Валя, ты? Сколько лет, сколько зим!
С того первомайского праздника они так и не виделись, хотя Володя хорошо знал все о жизни братьев и Валентины. Знал, где летает, куда возит грузы и людей Костя, с какого квадрата в какой передвигается со своей бурильной установкой Сергей, Валентину он часто видел на экране телевизора, и тоска по ней, смешанная с обидой за тот вечер, поднималась в Корнееве. Но каким-то особым «шестым» чувством понимал: не надо пока появляться. Почему? – сам не мог этого объяснить.
– А я-то думаю-гадаю, куда же это ты задевался, ну куда? Не звонишь, не заходишь… Оказывается, вот он. Ученый, обремененный великими делами, – Валентина бросила взгляд на его портфель. – Полно идей, полно мыслей… По глазам вижу – винова-ат. Здорово виноват.
– Гм, глаза, – приходя в себя, пробормотал Володя и, преодолевая скованность, подобрался, поставил портфель на размякший теплый асфальт. – Конечно, глаза корнеевские, а в корнеевских глазах все видно. Будешь что утаивать – глаза выдадут.
– Превосходно!
– Один мудрец сказал, что глаза – это окна, сквозь которые видна душа.
– Исключительно новая мысль.
– И если это так, то самым богатым человеком в мире должен стать плотник, сколачивающий ставни для этих окон и продающий их.
– Толстой называл глаза зеркалом души. Зеркала ставнями не принято заколачивать.
– Тоже исключительно новая мысль, – парировал Володя. Переводя разговор, спросил: – Как Костя?
– Давно не видела, – ответила Валентина. Немного помедлив, добавила: – Твой Костя жену на небо поменял.
– Во имя земли, – Володя ткнул носком ботинка в асфальт около портфеля. – Все на ней стоим.
– И хоть бы дело было видно, когда «берешь в руки – маешь вещь», а то… Ищете, ищете свою таинственную нефть, найти ничего не можете. Долго так будет?
– На Востоке говорят, что нет ничего труднее, чем поймать черного кота в темной комнате. Особенно когда его там нет.
– На телестудии один мудрец тоже придумал хорошее выражение: «Не теши глыбу бритвой». Предупреждает всех, кто бывает занят безнадежным делом: не теши…
– Но кот-то есть! И мы его поймаем.
Он даже не заметил, как проглотил свою воду. Поднял тяжелый, оттягивающий руку портфель, двинулся с Валентиной по тротуару, на ходу пикируясь, вспоминая смешные реальные истории, просто анекдоты.
– Что, кот действительно будет пойман? Или это только ради красного словца?
– Никто не может ответить на этот вопрос. У нас, к сожалению, слабо разработана такая область науки, как нефтяная геология. У нее пока есть, пожалуй, только одно название. Все остальное – впереди. Рост, как любое движение, всегда предполагает, что человек должен заглядывать за горизонт, туда, где другому, может быть, ничего и не видно. Ученый должен уметь многое: предсказать, рассчитать и обосновать – словом, сделать так, чтобы человечество оказалось рано или поздно в подготовленном, оборудованном наукой и теоретически обжитом месте. А у нас в институте каждый смотрит не вдаль, не за горизонт – смотрят себе под ноги. Вот ничего и не получается. Рост предполагает, что в любом НИИ начальник лаборатории должен мыслить категориями начальника отдела, начальник отдела – категориями заместителя директора, замдиректора – категориями самого директора, иначе говоря – крупного руководителя и ученого. Сам же директор обязан мыслить уже категориями государственными, высокими. На уровне члена правительства. Вот тогда и проклевывается перспектива. Раз есть перспектива – значит, человек уже заглядывает за горизонт. Взгляд за горизонт всегда приносит открытия. А у нас… – он сделал безнадежный жест рукой.
– Тешут глыбу бритвой?
– Директор мыслит категориями зама, зам – категориями начальника отдела. Все остальные – на несколько категорий ниже. А потом, слишком уж большое количество противников у здешней нефти. Перебор. Поэтому я совсем не удивлюсь, если ее вообще не откроют.
– Зачем же тогда работать?
– Для зарплаты, – усмехнувшись, ответил Корнеев.
– Резко. И желчно.
– Очень важно, чтобы противников – как, собственно, и единомышленников – было разумное количество. Хотя бы равное, что ли. Перебора ни в коем разе нельзя допускать. Если будет перебор противников, можно просто-напросто свернуть себе шею.
– «Во цвете лет он умер…»
– Во цвете лет, да. Так ничего и не добившись. Надо обязательно знать, что тебя ждет. В общем, не ругай мужика, когда он не бывает дома.
За разговором они и не заметили, как добрались до Костиного дома. Володя остановился в нерешительности.
– Не хочешь разве зайти? – спросила Валентина, и у Володи от страха сжалось горло. Покрутил головой, чтобы освободиться от спазма, покраснел.
– Нет, отчего же? – пробормотал.
На скамеечке у подъезда сидела бабка, из тех, которые знают все и вся о своем доме.
– Здравствуйте, бабушка, – поздоровалась Валентина.
– Здравствуй, милая, – в тон ей отозвалась та и растянула плоский, гибкий рот в ехидной улыбке. – Здравствуй, здравствуй, коли не шутишь, – покивала головой, проворно выхватила из кармашка сатиновой жакетки горсть семечек и, будто голубь, заработала ртом, перетирая деснами семечки.
– Это брат моего мужа, – как бы отчитываясь, сказала Валентина, добавила: – Родной брат. – Потом, заискивая, спросила: – Как это по семейной иерархии будет? Свояк? Деверь? Нет, пожалуй, все-таки свояк. – Корнеев опять покраснел и подумал: интересно, а кем же тогда доводится ему Валентина: свояченицей, снохой, золовкой? Если он свояк, то Валя – свояченица. – Владимиром Николаевичем его зовут, – уточнила зачем-то Валентина.
Когда они входили в подъезд, бабуля бросила им вслед недобрый взгляд: сомневалась, видать, Костин брат этот малый или ее обманули?
В подъезде Валентина остановилась, прижала руку к груди:
– Фу-у. Сердце как бьется!
Отдышавшись, они стали медленно подниматься по лестнице.
В квартире было прохладно: солнце находилось с другой стороны дома, но воздух и здесь был прогорклым. Леса горели не так далеко.
– Чем тебя угостить? – поинтересовалась Валентина, ловко сбросила с ног ладные туфли на узком точеном каблуке, надела пляжные резиновые шлепанцы – в такой обуви летом удобно ходить по квартире, прохладно и легко.
Это обычное домашнее переоблачение почему-то ошеломило его, он опустил глаза, будто школьник, не выучивший урока, и не отрываясь смотрел на ее туфли.
Любая, даже самая неженственная, корявая нога становится женственной, обольстительной, когда ее украшают туфли на высоком каблуке. Женщина делается много стройнее, красивее, наряднее в такой обуви, и вообще – ох, этот точеный тонкий каблук! – он как нельзя лучше отражает суть женщины: неустойчивость, игривость, кокетство, желание быть другой – кем-то, но не самою собой…
Скоро запах пожарища был перебит терпким кофейным духом. В мозгу шевельнулась мучительная, колючая, причинявшая неудобство мысль: помнит ли все-таки Валентина то неуклюжее, детское, скомканное объяснение в любви? Если не помнит, то слава богу, ему должно полегчать – ведь тогда он был форменным дураком, мальчишкой, ошалевшим от близости красивой женщины.
Пытливо взглянул в ее лицо, когда Валентина шла из кухни в комнату, несла на подносе чашки с кофе, коньячные стопки, мелкое печенье, горкой насыпанное в плоскую хрустальную вазочку, постарался разобрать хотя бы что-нибудь, поймать тень или досаду, уловить насмешку в безмятежных ее глазах, но ничего не уловил. Хоть и считал, что умеет разгадывать человека и его мысли по жестам, движениям, взглядам, манере держать в руках хлеб, вилку, нож. Может, тогда, в мае, ничего и не было, может, это приснилось? Или, как говорят сибиряки, приблазнилось?
Взяв коньячную бутылку, Валентина плеснула немного себе в стопку, потом Володе, а когда тот отрицательно мотнул головой, пошевелила пальцами в воздухе:
– Можешь не пить, но пусть стопка будет наполнена. Так мне удобнее, – она специально подчеркнула слово «мне». – Извини. Или открыть шампанское?
– Не надо, я буду пить вот это, – Володя взял кофейную чашку, вдохнул сухой горьковатый аромат. Подумал: «Эх, сгрести бы эту женщину в охапку да на самолет в Сочи. Или в Сухуми. Искупаться в море, поесть шашлыков на жарком воздухе, сходить в горы, где камни горячи, а речки холодны, понежить душу и тело. Сон это, сон, а не явь. И явью ему стать не суждено». Корнеев тут же выругал себя: это же жена родного брата, как можно думать о таком?
Но верно ведь считают, что в каждом из нас живет по меньшей мере два человека: один говорит, другой возражает, один спешит, другой медлит, один принимает решение, другой отменяет его. В Корнееве шевельнулось что-то несогласное, сопротивляющееся – он волен жить, как ему надобно, а не брату, у него есть свой котелок на плечах, свой характер, свои деньги, свои желания, свои капризы, в конце концов, он волен сам принимать решения. Независимо ни от кого, ни от чьих суждений. Или осуждений… Он любит Валентину, понимаете?! Увидел ее сейчас, и вот уже исчез горький дым лесных палов, наполнивший город, он чувствует себя легко, горький дым превратился для него в дух цветущих вишен, шум города – в весеннюю тишь.
– О чем ты думаешь? – спросила Валентина тихо.
– Ты помнишь Первое мая, – начал он медленно, затих, не решаясь произнести фразу дальше, потом одолел самого себя, заговорил вновь, – я, когда танцевали, ведь правду тебе сказал… Помнишь?
Нельзя сказать, чтобы Валино лицо изменилось, но крылья носа сделались узкими, белыми, точеными, щеки побледнели.
– Не помню, – она покачала головой.
Великолепную, добрую тишину нарушили совсем не нужные сейчас звуки: недалеко, вызывая ломоту в зубах, загрохотал отбойный молоток, заскрежетал тормозами старый автобус, одолевающий очередной поворот, – его было видно в окно, взревели моторами вылетевшие из-за домов два мотоцикла – повальное увлечение молодежи.
– Нет, – повторила Валентина, и ее голос утонул в уличном грохоте, в лязге металла и человеческих голосах. – Нет!
Было непонятно, услышал это повторное «нет» Корнеев или не услышал.
– Нет, – еще раз тихо проговорила Валентина, помотала головой как заведенная. Было в этом движении что-то такое, что Володя связал с тем днем. Ему послышалась жалостная интонация в ее голосе, и снова будто кто-то захлопнул квартиру, запер ее на ключ, отделяя от уличных шумов. Опять наступила тишина. Тишина и весна.
Но вновь в Корнееве вспыхнул стыд. В голову невольно полезли сцены из его прошлого: вот Костя защитил его в уличной драке, вот взял с собой в Москву, показал стольный град и даже – такое, как ни странно, надолго запоминается – дал ключи от квартиры, когда Володька почувствовал себя мужчиной и у него завелась первая в жизни женщина. «A-а, плевать!» – разозлился он, выругал себя последними словами.
– Нет, – опять, словно механическая игрушка, повторила Валентина.
Он дотронулся рукою до ее плеча, обжигаясь сквозь ткань блузки о кожу, чуть не застонал от близости этой женщины и одновременно от своей беспомощности.
– Да, – произнес он.
– Нет! – отозвалась она.
Валентина подняла голову, ресницы были слипшимися от слез. «Кто-то из великих – кажется, Лермонтов – сказал, что слезы женщины – не что иное, как соленая вода. Зло сказано, очень зло, а ведь как точно», – мелькнуло у Володи в голове. И тут же он поморщился – ведь понятно, что это пошлость, приписанная великому человеку. И чего это пошлость разная, досадные мелочи лезут в голову? Почему не находятся – никак не могут отыскаться, хоть с огнем их ищи, выскребай из закоулков, из сусеков памяти – точные мысли, единственно верные и нужные слова, почему он никак не может найти психологическую сцепку, формулу, которая бы поставила его на одну ступень с Валентиной, на один уровень, и они сделались бы равными? Почему она не верит ему, просто не хочет поверить, а он трясется, бормочет что-то невразумительное и никак не может убедить ее в искренности своего признания? Где оставил он свое красноречие, гибкость ума, жизненную хватку, умение быть сильным человеком?
Подавленный, чувствуя и стыд, и жалость к самому себе, поднялся, пробормотал:
– Прости меня…
Повернулся. Ощущая на себе ее взгляд, шагнул к двери, зная, что этим шагом, шагами последующими навсегда проведет черту между собою и Валентиной и окончательно отторгнет себя от нее, – с этого шага, как с некоторой поворотной точки, разойдутся линии двух судеб и никогда не соединятся. Он никогда больше не придет в этот дом, – зачем трепать нервы себе и другим? – никогда не увидит Валентину. И правильно, ибо не надо ворошить прошлое, искать встречи с ним, надо сжаться, в себе самом перемочь беду, боль, слабость, восстановить нормальное дыхание, прежний ход сердца, ясность мысли… Сделал еще один шаг к двери.
Медленно, устало, будто шел откуда-то издалека, в квартиру опять вполз шум города – снова загрохотали мотоциклы. Пахло торфяной гарью и лесным травянистым дымом.
Но, уходя, Корнеев обязательно должен что-то сказать. То ли нежное, то ли резкое, то ли ничего не значащее, но обязательно должен произнести какие-то слова, он просто не знает их, чтобы поставить точку на всей этой истории, чтобы не осталось недоговоренности. Какие должны быть слова, какие?..
Повернул голову, поймал взгляд Валентины – растерянный, едва пробивающийся сквозь слипшиеся от слез ресницы, и ему показалось, что еще немного, еще секунда – и рухнет он на пол, тяжело распластается среди всего этого стерильного уюта, наведенного хозяйкой, сдохнет от жалости к самому себе, от печали и грохота сердца, доламывающего грудную клетку, от стыда и вины перед старшим братом, который всегда делал, старался делать ему только добро, от дыма, в котором, наверное, умирают сердечники, от весенней свежести, пробивающейся сквозь этот дым, от вони сгоревшего сырого мха и свежего духа лесных цветов, окропленных утренним потом.
Он – верно ведь? – умрет от любви к этой женщине.
И тем не менее, преодолевая самого себя, он сделал еще один шаг к двери, и ничего не случилось. Он не умер, наоборот, ему стало легче.
Корнеев вспомнил о портфеле, оставленном там, где он сидел. Добротный, кожаный, с двумя тяжелыми латунными замками, портфель уютно чувствовал себя, приткнувшись к лакированной гнутой ножке стула. У Корнеева была привычка, выработанная годами: никогда не оставлять портфель в прихожей, на кухне, он всегда держал его около себя.
Возвращаться за портфелем – значит все начинать заново, не возвращаться нельзя: там документы.
– Прости меня, – повернув назад, пробормотал он почти машинально, будто в бреду.
Но двинулся не к портфелю, а к Валентине…
Он проклинал сегодняшний день, неожиданную встречу у тележки с газированной водой, женщину, перед которой уже опустился на колени, – ведь это была жена его брата! – проклинал себя, ее, Костю, мир весь, проклинал и одновременно пел в душе…
Глава третья
Наконец пробило двенадцать.
Половина дня прошла…
Джек Лондон
Они пробирались по вязким, опасно живым, громко плюющимся вонючими пузырями болотам на север, ориентируясь по карте, сверяя ее с компасом, делая топором на стволах затеей. Им надо было найти место, где можно поставить буровую вышку. Но мало найти надежную песчаную куртину, способную удержать тяжесть механизма, важно еще отыскать, нащупать безопасные подходы к этой куртине, чтобы при передвижке не утопить буровую, не погубить технику и не утонуть самим.
Днем здорово припекало. Солнце тут в летнюю пору бывает огромным, жарким, висит отвесно над головой, одежду раскаляет так, что к ней больно прикасаться. Человек задыхается в одежде, а снимать ее нельзя – загрызут комары. Они тут здоровенные, как бомбардировщики, кличут их «четырехмоторными».
Сказывают, шел как-то над тайгой Ан‐2, безобидный мирный самолет, который то «прялкой» зовут, то «кукурузником», каждый на свой манер, а навстречу самолету – комар. Никто сворачивать не захотел – ни самолет, ни комар. Произошло ЧП – столкнулись лоб в лоб. В результате самолет совершил вынужденную посадку, а комар как ни в чем не бывало проследовал дальше.
Вообще тут такие особи водятся – о-о-о – бравые ребята-архаровцы, кровососы с большой буквы. Случается, сядет иной комар на лопасть вертолета, так лопасть либо до земли прогнется, либо обломится под корешок. Средств борьбы с комарьем – почти никаких. «Репудином» если намажешься – есть такая ядовитая жидкость, – так комары еще больше тебя облепят, они эту отраву любят, как сладкоежка пирожные с заварным кремом, хлебом не корми – дай только «репудина» отведать.
Но комар еще полбеды, ерунда. Хуже, когда на человека наваливается мошка, мокрец – черная, мелкая, злая, питающаяся живым мясом, – эта до костей обглодать может.
Болота, болота, болота… Все это так называемая Малыгинская площадь, а по старинке – Воропаева топь, бездонная, недобрая. Одно болото отделено от другого узким земляным гребнем, раскисшим, непрочным, готовым поползти в разные стороны; бывает, что этот гребень съеден ядовитой вонючей жижкой, и тогда одно болото свободно смыкается с другим. Кое-где попадаются песчаные куртины – гривы, на которых можно ставить вышку и бурить, но грив этих немного, да и маленькие они. На гривах, несмотря на их невеликость, растет лес – по окоему чахлый, сохлый, «туберкулезный», в центре – высокий, настоящий, с тяжелыми шапками, ровными длинными стволами и здоровой янтарно-прозрачной кожурой, с прочной и звонкой древесиной. Из такой древесины можно стругать скрипки.
– Привал бы сделать, а, Николаич, – просящим тоном проговорил Синюхин, шедший следом за Сергеем Корнеевым. Был он человеком не бог весть каких физических возможностей, характер имел, по мнению Корнеева, неверный, но считался тем, про кого уважительно говорят: «головастый» – без таких людей ни один поиск не обходится. И правда, у него была крупная лысеющая голова. Глаза у Синюхина были большими, внимательными, покалывали из-за очков голубоватыми острыми лучиками.
Может, и не надо было брать Синюхина в этот поход, но Корнееву нужен был советчик. Ведь это будет, вероятно, последняя скважина, которую ему разрешат бурить. Все! Ученые решили: нефти в здешней земле нет. Расформировано несколько геологических партий, оборудование их перебрасывают на восток. Ученые пришли к выводу, что запасы «черного золота» сосредоточены именно там, на востоке.
– Подожди, Кириллыч, немного, – попросил он Синюхина, – сейчас на сухую гриву выберемся, там отдохнем. Обсушимся, перекусим, – Корнеев сделал шаг вперед, ступая на траву, нежную и мягкую, как молодой мох, и в ту же минуту провалился чуть ли не по пояс в черную вонючую жидкость. Под веселой безмятежно-мягкой травкой таился гибельный болотный бочаг. – Ч-черт!
Вмиг выбросил перед собою слегу, кладя ее поперек бочага, и, кряхтя, ощериваясь грязным, залитым потом ртом, завалился набок, стараясь освободить застрявшую ногу. Куда там! Ногу плотно обжала холодная, вязкая, сосущая требуха, начала жевать, мять, давить ее своей плотью, сдирать сапог. Физическая сила была у требухи большая – Корнеев почувствовал, как его начало тянуть вниз…
Незащищенное его лицо густо облепили комары.
– Осторожно, мужики, – прохрипел Корнеев, изворачиваясь телом, хватая ртом воздух. – Не подходи пока ко мне… Мужики, провалитесь! Осторожнее!
В больших рассудительно-умных глазах Синюхина мелькнул испуг, второй ходок, рабочий Воронков, длинный и черный, похожий на грача, сохранял спокойствие. Корнеев с трудом пошевелил ногою в сапоге, воткнул конец слеги в какую-то сохлую, но, похоже, крепкую кочку, растущую из болота, будто пень, уперся в нее – результата никакого: трясина продолжала засасывать его. Нет, одному не справиться.
– Давай, Воронков, потихоньку ко мне, – Корнеев вместе с хрипом выплюнул болотную грязь, – рюкзак только сними! А ты, Кириллыч, откатись чуть назад, на страховке побудь.
– Понял, понял, – пробормотал Синюхин, «откатился назад», проверил почву под ногами – не гиблая ли? Страховка была нужна, с этими болотами ухо надо держать востро, у здешней бездони характер подлый.
Воронков сдернул с себя рюкзак, отбросил его к Синюхину, лег на живот, подполз к Корнееву, засипел, хватая его под мышки:
– Ну, давай, Сергей Николаич, давай, родной!
Корнеев уперся слегой в кочку, завозил в болотном чреве ногой, раздирая сапогом вязкую гнилую плоть. Из-под веселого зеленого покрывала, резко приподняв его, вылетел вонючий пузырь и, хлопнув, обдал Корнеева коричневыми брызгами. Корнеев сплюнул, закряхтел натужно, продолжая упираться слегой в кочку, ощеривая белые чистые зубы. Он замычал, наливаясь кровью. Услышал, как рядом сипит Воронков. Болотная плоть зашевелилась, забурчала недовольно, из-под кочек, из-под травяных шапок и лохмотьев стали выпрастываться вонючие громкие пузыри. Лопались они гулко, пугали людей.
– Вот с-сука, прочно прихватила, – ругался Корнеев, снова напрягся, освобождая ногу, наконец-то выбрался, отполз следом за Воронковым назад. – Как в разведке, – прохрипел он, – не знаешь, где кто тебя подстерегает, ё-моё!
– Действительно, как в разведке, – согласился Воронков. – В разведке иль в пехоте, там тоже ведь так бывало: утром встаешь и не знаешь, ляжешь вечером спать или нет. И мы вот не знаем, ляжем спать или будем киснуть где-нибудь в болоте.
Корнеев быстро переоделся в сухое.
– Может, отдохнем? – опять попросил Синюхин.
– Я же тебе сказал – погоди. – Корнеев, давя комаров, стер с лица грязь. – Двинулись! – скомандовал он, поднялся. Взял вправо, обходя болотный бочаг и разгребая рукою прозрачно-темное комариное облако. Снова немного скривил дорогу, взял еще правее.
На том берегу реки, чуть дальше, находилось село Малыгино, в котором жили корнеевские предки. Берег там высокий, сухой, на нем деревья шапками в облака залезают, хлеб растет, а этот берег низкий, дряблый, в болотных окнах, опасный. Стоит только отойти от речной веды – и можно в топь ухнуть, хотя вплоть до болот мужики в прошлые времена обкашивали его литовками, брали доброе сорное[1] сено, на болотах отоваривались янтарной сахарной морошкой и клюквой, бочками возили ягоду в Малыгино. В последнее время тут почти никто не бывал, забыли чалдоны здешние болота.
Минут через двадцать выбрались на длинную сухую гриву, прошли немного, оставляя на белом прокаленном песке грязные следы, и, уже не сговариваясь, дружно рухнули на землю. Корнеев лежал, распластавшись, выкинув руки в обе стороны, словно раненый, щекой он прижался к траве.
Подумал, что здесь можно ставить буровую. Перевернувшись, выудил из-за пазухи карту, развернул, подержал ее на вытянутых руках перед собой.
Поставить недолго, место тут приметное и выгодное. А если и тут пусто и скважина ничего не даст? Тогда все – выбирай якорь и… на поезд. Дорога одна – на восток. Провел рукою по лицу, сдирая пальцами высохшие нашлепки болотной гнили, морщась от тупого жжения – гниль плотно прикипела к коже, собрала ее в морщины, въелась в поры. Вытянул голову, прислушиваясь: показалось, что рядом зашебаршились, завозились какие-то птицы. Точно. Только не таежные птицы это, а около человека живущие – село-то близко, – воробьи. На болотах воробьи не селятся, даже не останавливаются, – как и люди, они не любят гнили, – а здесь, на гриве, водятся. Значит, земля тут хорошая, надежная.
У Корнеева вызвали искреннюю нежность, симпатию эти маленькие шустрые существа, дотошные, хитрые, смышленые. У воробья характер, как у дворняги, преданной хозяину и дому, – доверчивый, веселый и открытый. Нигде, ни в каких странах, ни на каких землях – ни в холодных, нив жарких – воробьи не меняют своей внешности, продолжают оставаться такими же крапчатыми, глинисто-серыми, компанейскими, везде льнут к человеку. Меняют свою внешность скворцы, сороки – в Африке, например, есть яркие зеленогрудые скворцы с малиновыми и голубыми крыльями, в Южной Америке сороки заменили свой пестрый наряд и сделались черными, как уголь, их там зовут «негритос» – «черные», а вот воробьи – нет. Как были птицами земли – чернозема, глины, камня, – так птицами земли и остались.
Когда Корнеев служил в армии, ему выдалась командировка на Камчатку. Красную рыбу для своей части заготавливать ездил. Там ему рассказали историю по-настоящему трогательную, диковинную, какую, пожалуй, в других местах не дано услышать. На Камчатке нет злаков, хотя, говорят, раньше росла прекрасная рожь, собирали многопудовые урожаи, но потом что-то стряслось и на полуострове перестали сеять хлеб. Воробьи исчезли. Все взаимосвязано, воробьи имеют прямое отношение к злакам – ведь питаться им чем-то надо.
То ли завелся на Камчатке какой-то червячок-жучок, которого надо было уничтожить, то ли еще какая вредная козявка, то ли просто без воробьев стало скучно жить – в общем, решили завезти на полуостров горластых городских летунов. Наловили на континенте, где-то под Владивостоком, тысяч восемь воробьев, поместили в клети, сшитые из мелкой проволочной сетки, поставили на открытую палубу судна и повезли на Камчатку. В море прихватила непогода, шел дождь, сильно штормило. В общем, натерпелись воробьи страху, наглотались соленой воды. На Камчатке, когда приплыли, погода была превосходной – середина августа, самая славная пора, серебряная паутина летает – примета близкой осени, небо высокое, чистое, совсем южное, ни одного облачка, лишь вулканы алмазно светятся.
Выпустили воробьев. Полетали они над землей обетованной, поглядели, где что растет, какова пища здесь и каковы красоты, и поступили так, от чего даже у людей бывалых сжимало горло и стало им неловко перед этими крохотными неказистыми существами, городскими и полевыми жителями. Воробьи ватагами – именно ватагами, как всякая коллективная птица, – стали возвращаться в порт, там они бесстрашно усаживались на мачты судов, уходящих на Большую землю, – откуда они только узнавали, какое судно пойдет на Большую землю, во Владивосток или Находку, а какое, напротив, на север, в бухту Провидения или в Певек, – и отплывали с Камчатки обратно. Все до единого уплыли. Ну как тут не уважать скромного российского воробья? И вообще любого другого воробья, независимо от его прописки, а?
Может быть, буровую поставить здесь? Воробьи, как и люди, землю добрую не хуже определить могут. Корнеев покосился на Синюхина – тот лежал не двигаясь. Лишь по-детски беспомощно – совсем не таежник – накрыл лоб ладонью. Тут и комаров было поменьше – грива продувалась, и их ветром сносило к реке.
– Кириллыч! – позвал Корнеев и, видя, что тот не шевелится, повысил голос: – А, Кириллыч!
– Ну? – недовольно буркнул Синюхин.
– Как считаешь, можно тут вышку поставить?
– Не можно, а нужно.
– А аргументы какие?
– Испробуй фокус: прислонись к земле ухом, замри, послушай ее…
– Ну и что?
– Не надо меня по-одесски брать на абордаж – вопросом на вопрос.
– Все же?
– Вот оно, начальство, – проворчал Синюхин, глядя мимо Корнеева и обращаясь к Воронкову, – спасу от него даже во время отдыха не бывает. Что-то тут на глубине есть. Хорошо слышу, – Синюхин шмыгнул носом и отвернулся; ничего он в земле, конечно, услышать не мог.
– Точка, близкая к расчетной, я посмотрел по карте.
– Можно смело ставить вышку.
– Учти, Кириллыч, это будет последняя наша попытка. Если грива окажется пустой, нам придется собирать манатки. Уже навсегда, понял?
Синюхин на это ничем не отозвался, ни словом, ни вздохом. Все правильно, Корнеев был командиром, и ему предстояло принимать решение – ставить тут вышку или нет, Синюхин же мог только советовать, и все. Но похоже, место это выгодное. Во-первых, тут твердая земля, сорокатонная буровая не провалится в болотную преисподнюю, во-вторых, близко к селу – зимой можно пробить тропку по льду, накатать дорогу, по ней людей удобно сюда забрасывать, инструмент, еду. В-третьих, грива находится в контуре предполагаемого месторождения – хотя и очень близко к границе, к выходу, но все-таки в контуре.
– Кириллыч, ты когда-нибудь слышал про боевой устав мзитарикарюпской армии? – спросил Корнеев.
– Не знаю такую…
– Боевой устав мзитарикарюпской армии гласит следующее. Пункт первый: во время военных действий не заводить торговых сделок с противником. Пункт второй: находясь в окопах, не разговаривать друг с другом. Иначе руки прострелить может.
– Почему? – поинтересовался Синюхин.
– А мзитарикарюпанцы, когда разговаривают, любят руками размахивать. Пункт третий: во время атаки не ползти назад. Пункт четвертый: во время боя не давать руководящих указаний генералу. Пункт пятый: когда беседуешь с начальством, не откручивай у него пуговицы и не клади к себе в карман. Пункт шестой, последний: на парад следует являться без родственников.
– Хорошо живут… как их там?.. – вздохнул Воронков.
– Когда поставим здесь буровую, соблюдай, Кириллыч, пункт третий вышеупомянутого устава. Чтобы я не остался один на поле боя.
Синюхин не отозвался, как лежал, прикрывшись ладонью от солнца и «четырехмоторных», в детской позе, вызывающей жалость, так и продолжал лежать.
– Воронков, откупоривай вещмешок, час настал, – Корнеев рывком поднялся, на полусогнутых ногах подобрался к термосу, отвинтил крышку, плеснул в ладонь воды, обтер лицо, глаза. Можно было поднатужиться, собрать в себе остатки силенок, добрести до реки, там искупаться, но если Корнеев еще мог собрать свои силы, как и жилистый, выносливый Воронков, то Синюхин уже не мог сделать ничего.
На четвереньках Воронков подполз к вещмешку, достал оттуда серую льняную холстину, похожую на сдернутую с раненой, поломанной руки бинтовую скрутку, развернул ее. Из холстины пахнуло вареным мясом, колбасой, хлебом, чесноком – обычная пища геолога-полевика. Воронков похмыкал довольно.
– Чувствую, дымом пахнет, – подал голос Синюхин. – Пожар где-то.
– На юге леса горят, – тихо сказал Корнеев. – Это оттуда.
– Далеко. А раз далеко, значит, успеем удрать, – сказал Синюхин, поднялся, подсел к холстине. – Потом река рядом, будет чем огонь залить.
Корнеев, прикрываясь от солнца ладонью, смотрел на обрезь сизой чаши – болота, из которого вышли, за которым горел лес.
Нет ничего опаснее в тайге, чем пожар. Тайга горит стремительно, страшно, с тяжелым утробным гудом, пламя налетает внезапно, взрывается в зеленых иглистых макушках, будто порох, ревет, взметывается вверх, брызгает углями, срубает макушки деревьев, ветки, потом ныряет вниз, и горе, если оно найдет там что-нибудь живое. С козлиным блеянием удирают от пожара медведи, вытирая на ходу лапами слезящиеся, обваренные огнем глаза; заживо, будто свечки, сгорают белки, зайцы, лисицы; лоси, круша все вокруг, мечутся в поисках воды. И случается, путают речной тек с болотными бочагами, с колодцами, со стоном уходят в черную душную пучину. Горят птенцы в гнездах, горят матери-птицы, до последнего момента не решающиеся оставить детей, горят волчата и барсуки, горит рано созревающий в этих краях голубичник. Корнеев как-то уходил от огня по голубичнику и, заливаясь потом, слезами, сдыхая на бегу, все оглядывался на тонкие вскрики, буквально бьющие по вискам, врезающиеся в душу. Ему казалось, что бежит он по земле, устланной птичьими гнездами, и гнезда эти не пустые, вот ведь как, – с птенцами.
Тогда он даже остановился, пригибаясь от ложившегося на него тяжелого верхового пламени, ощущая, как шевелятся, встают дыбом волосы на затылке, и поискал глазами: где же это птенцы пищат? Откуда несутся лезвисто-тонкие крики?
Оказалось, не птенцы это кричали, совсем другое было. Огонь пластался по голубичнику, обжигал ягоды, и каждая набухшая соком горошина сжималась, морщилась, в кожице образовывалась язвочка, и дымчато-голубая ягода с пронзительным птичьим криком лопалась, вышибала слезы, больной озноб, заставляла шевелиться волосы. Страшно это было, очень страшно.
Поели быстро.
– Ну что, подъем? А, мужики? – Корнеев поглядел, как Воронков засовывает в рюкзак холстину, хлеб и мясо, солдатскую флягу и, чтобы цело было добро, не вываливалось при ходьбе из мешка, быстро и ловко накидывает на шею рюкзака веревочную петлю.
– Э-эх, отдохнуть бы еще минуток двести костям моим грешным, – Синюхин, принуждая себя, поднялся, но в следующий миг невольно присел: недалеко, судя по всему, здесь же, на гриве, негромко, от жары приглушенно, хлопнул выстрел. Били в другую сторону. Если бы в их – геологи услышали бы свист дроби, обрывающей на лету ветки и листья.
– Охотятся? – Корнеев вгляделся в окружавшие их белесые стволы деревьев.
Конечно, может, какой-нибудь браконьер и охотится в эту пору в тайге, несмотря на то что не сезон, ведь мамаши сейчас птенцов на выгулку выводят, прививают им таежные навыки, лосята, оленята, медвежата еще сиську сосут, и бить в эту пору и зверя и птицу запрещено. Штраф положен или еще что-нибудь строже, но…
– Конечно, охотится, – хмыкнул Синюхин, – а ты как думаешь?
Выстроившись цепочкой, втянулись в притихший, пахнущий топленой смолой сосняк. Были тут редкие куртины, а точнее, пятаки, на которых рос татарник – совсем редкая для сосняка вещь, колючеголовый, костлявый, с нежными прядями фиолетовых волос, зажатых жесткой кожистой скруткой. Порыжеют волосы, ссохнутся, скрючатся, и из скрутки полезет семя, упадет в молчаливую скупую землю либо, подхваченное рукастым здешним ветром или мохнатой лосиной ногой, переместится в сторону, чтобы и там росток дать, заявить о новой жизни, потом утихнуть до весны и проклюнуться вновь, ожить, потянуться к солнышку.
«И откуда он только здесь, татарник? – думал Корнеев, стараясь идти так, чтобы иглистые ростки не попадали под ноги. – В тайге любое свободное место занимает иван-чай, цветок, похожий на сплошной сиреневый дым, растет он только на кладбищах да пожарищах и здесь, в тайге, где часто бывают палы, никому проходу-продыха не дает… Даже репей, на что уж неприхотлив, и тот от пожара сломя голову бежит, и пырей бежит, и бзюка, и хвощ, и медвежьи дудки, и любительница сырой болотной земли резика, а татарник стоит. Откуда он тут, почему удержался, а?»
Синюхин шел последним в цепочке, то ворчал, жалуясь на что-то, то утихал, будто в нем, как в костре, догорали последние угли, но потом в прозрачный, совсем дотлевший костерок, которому уже и не суждено было выжить, кто-то бросал горючее смолье, и Синюхин снова принимался бормотать.
«Все мы часто боимся сказать человеку, кто он есть на самом деле, – думал Корнеев, – сокрыта в нас некая боязнь – не самое доброе из того, что заложено в человеке. Боязно бывает сказать ворчуну что-либо резкое, больно бьющее его – это признак не слабости, нет, душевная квелость тут ни при чем, это свидетельство силы. Именно сильные часто боятся обидеть других, и если уж выбирают объект для обиды, для скрещивания шпаг, то, как правило, – человека такого же сильного, себе подобного. Так было всегда. И всегда эта черта характера считалась благородной, всегда была признаком подлинности, надежности, заложенной в человеке. Но оказывается, что чаще всего все-таки обижают слабые. Слабые слабых, вот ведь». Ничего не стоит сейчас Корнееву накричать на Синюхина, при случае лишить его какой-нибудь премии, прибавки к зарплате, полевого доппайка – в наказание за нудность, за бухтение, за промахи, но будет ли этот ход верным?
– Сворачиваем к реке. – Обрывая собственные мысли и синюхинское бормотанье, Корнеев сшиб с нежных мягких игл – сосенки-то молодые, – пушистую зеленую мошкару, прозрачную, как воздух, двинулся к реке.
До воды тут было недалеко. Сквозь жаркий застойный воздух иногда просачивалась ниточка прохлады. Тело эту ниточку сразу почувствовало. Земля под ногами пружинила. Едва приметно пахло прелью. Осенью в этом сосняке, наверное, много грибов бывает.
Вдруг за спиной Корнеева раздался крик. Корнеев резко обернулся.
Заваливаясь всем телом назад, ощеривая редкие зубы и высовывая изо рта вздувшийся от напряжения, обложенный по бокам черными жилами язык, кричал Синюхин. Но на спину он все-таки не рухнул, подломился в коленях и опрокинулся набок.
– Н-нога, ох, н-нога, – протиснул Синюхин сквозь зубы сплющенные слова, когда Корнеев подскочил к нему.
Синюхин был обут не в кирзовые сапоги, как Корнеев и Воронков, а в резиновые бродни, более легкие, чем кирзачи, и потому более удобные в ходьбе.
Корнеев освободил правую, подвернутую ногу Синюхина, увидел, что она прокушена широкой стальной скобой. Волчий капкан.
– Н-нога! – снова выдохнул, кривясь, Синюхин.
Угораздило же его – двое нормально прошли, не зацепили за капкан, а он ногу точнехонько в скобу сунул. В лесу да в болотах надо след в след ходить, шаг в шаг – только так. Все таежники этого порядка придерживаются.
– Н-нога! – простонал Синюхин.
– Вижу, что нога, не стони, – произнес Корнеев грубовато – жалости тут не место, напрягся, сбивая стальную скобу с синюхинского бродня. Но скоба своими застарелыми, наполовину съеденными зубцами прочно впилась в сапог, пробила жидкую резину бродня и всадилась в ногу чуть выше пальцев.
Двумя руками Корнеев раздвинул челюсти капкана, отшвырнул грозную охотничью снасть в сторону. Синюхин откатился от капкана, вцепился руками в бродень, застонал.
– Осторожно! – крикнул Корнеев. – Вдруг еще капкан!
Синюхин проворно подобрал руки, поднял голову, огляделся. Взгляд под очками у него был уже осмысленным.
– Ну-ка, Кириллыч, – Корнеев сдернул с его ноги сапог и, не обращая внимания на жалобные вскрики – кричи, Синюхин, кричи, вопли помогают, испытанное народное средство, – развернул испятнанную жидкой розовой сукровицей портянку, обнажил белую, с вялой кожей, отекшую от резиновой сырости ногу. Провел ладонью по верху пальцев. – Больно?
В ответ Синюхин пробормотал что-то невнятное. Лицо его снова сморщилось, будто нога продолжала оставаться зажатой капканом. И вдруг, словно ощутив некую легкость, осознав, что все не так страшно, как чудилось три минуты назад, помотал головою: нет, не очень.
Словно заправский лекарь Корнеев ощупал ступню там, где ребрины твердых жил устремлялись вверх, к лодыжке.
– Больно?
Тут было больно, тут зубы капкана впились в ногу. Корнеев подумал, что хваткие зубья могли перекусить одну из жил, но пронесло – капкан искромсал резину, бродни уже не починишь, а жилы не тронул. Корнеев подержал ладонь над «укусами», совсем не прикасаясь к ступне, прислушиваясь к чему-то потайному, внутреннему, будто бы только что открывающемуся в нем, зашевелил губами, запришептывал что-то про себя.
– Чего колдуешь? – не выдержав, всхлипнул Синюхин.
– Боль заговариваю. Кержаки когда-то учили. Вон, видишь, ты уже о боли забыл. Забыл ведь?
Великая вещь – внушение и самовнушение: запросто можно убедить человека в том, чего нет, излечить больного, принести облегчение испепеленному человеку, спасти от жажды погибающего в безводье путника.
Пока Корнеев колдовал над синюхинской ногой, сзади послышались мягкие, едва приметные шаги – ясно было, что к ним шел охотник. Среди сосен появился высокий осанисто-прямой человек, одетый в простую льняную рубаху, к воротнику которой были пришиты крупные, белые – похоже, бельевые – пуговицы. Волосы на голове были ладно, хотя и неровно – домашняя работа, – острижены, посередке разделены аккуратным пробором, взгляд спокоен и холоден, таилась в нем отрешенность и студеная полярная глубь. Человек был один. И без оружия.
– Не вы это стреляли недавно? – вспомнив про выстрел, вспоровший жаркую дневную тишь, спросил Корнеев.
Пришелец – его фамилия была Рогозов – отрицательно качнул головой:
– Я законов не нарушаю.
– Чей капкан, не знаете?
– Мой, – Рогозов жестко взглянул на лежащего Синюхина, сжал глаза в морщинистые щелочки. Чего ж угодил в зубья-то? Мудрено ведь угодить, а угодил. Канкан на виду поставлен, на волчат. Весь снаружи, заметить можно было. Как угодил?
– Как зверь, только с благим матом: «А-а-а», – усмехнулся Корнеев.
– Это я слышал. Когда ходишь по лесу, под ноги смотреть надо. Не учили разве вас, молодой человек?
– Капканы почему в тайге ставите? – спросил Корнеев Рогозова.
– Разве это запрещено? Я промысловик.
– Не сезон.
– Не-ет, позвольте великодушно вам возразить… Именно сейчас, именно сегодня самый сезон. Вот когда волчата вызверятся, заматереют, станут ловкими, злыми – тогда уже будет не сезон. Тогда поздно за капканы браться – волк в Малыгино скот резать пойдет, ко мне на заимку пожалует, глядишь, зимою с голодухи и на старика нападет. Не-ет уж, простите великодушно. Лучше я сейчас волка возьму, чем потом.
Верно говорит охотник: по волчатам нечего слезы лить, на них никакого охотничьего запрета не было и не будет. Волку – волчье.
– А в том, что он в капкан попал, – Рогозов повел головой в сторону Синюхина, в зрачках у него сверкнула холодом бездна, – не моя вина. Его. Если б знал, что нетаежник по тайге пойдет, повременил бы капкан ладить. Подождал, когда он проследует, тропу освободит, – Рогозов, усмехнувшись, обошел Корнеева сзади, с хрустом сложил, потом поднял капкан с земли. – А швыряться имуществом не надо, не ваше, – в его голосе зазвучали дребезжащие скрипучие нотки.
И тут человек в холщовой рубахе с белыми пуговицами был прав.
Синюхин, кряхтя, поднялся, попробовал ступить на ногу, заикнулся было: может, отказаться от дальнейшего движения, но Корнеев приструнил его – надо выходить к реке.
Рогозов долго стоял недвижно, смотрел им вслед. Прежде чем скрыться в сосняке, Корнеев оглянулся. Отодвинул в сторону мешавшую ветку.
– Мы скоро сюда вернемся, – сказал на прощание, – работать здесь будем.
Рогозов в ответ не шевельнулся. Хотя ясно было: все услышал, на ус все намотал. Охоту он здесь свернет.
Кое-кого из геологов Рогозов знал, встречал дотоле, звал их про себя «кыргызы» – упрямы ребята, быстры и легки на подъем, головы на плечах имеют, раз земные богатства ищут. Теперь вот в охотничьи угодья забрались.
Наладив снова капкан на тропе, он вернулся кружным путем к шалашу, что был у него сложен из лапника на гриве, и, прислушиваясь к жаркой, хотя и угасающей тишине, ловя ноздрями запах далекого дыма, корья, разогретой прели, плавленой смолы, освежевал убитого лосенка – стрелял-таки он, – разрубил, упрятал в два непромокаемых брезентовых мешка.
Один потащил с собою на заимку, другой, не боясь, оставил в шалаше, поскольку знал: «кыргызы» все равно не найдут.
Глава четвертая
– Где нам столковаться!
Вы – другой народ!
Эдуард Багрицкий
Сергей Корнеев знал, что много лет назад, а теперь уже, пожалуй, не просто лет, а десятилетий, в этих местах произошло следующее.
Река здесь делает огромную петлю-излучину, крутую и длинную, – настоящий «тещин язык». Конец петли, как ни смотри вдаль, все равно не увидишь, скрывается в сизом пространстве, – вода, ловко обходя болотные бездони, которых здесь полным-полно, тоже опасаясь утонуть, затеряться, уйти в болотную преисподнюю, похоже, специально сделала затяжной крюк. Рыбы тут было полно – случалось даже, по весне, когда бабы ходили на реку за водой, то зачерпывали рыбу ведрами. Глянет молодайка в темную дымную воду, а оттуда таращится сонными равнодушными глазками щекур или сырок – рыба, чье мясо слаще куриного, – рот разевает, будто поговорить приглашает. А может, недоумевает или злится, что в бабье ведро угодила.
Когда Корнеев думал о прошлом, то всегда себя неловко, виновато чувствовал, ощущая свою зависимость, долг свой перед предками, жившими здесь многие десятилетия назад. Хотя в чем конретно заключалась его вина, не знал. Может, в том, что жизнь у него более долгая, чем у тех, кто обитал здесь раньше? Что жизнь его легче, чем у них?
Края здешние глухие, жили тут и живут кержаки, чалдоны-таежники, умельцы добывать дикого зверя и птицу, намывать золотишко, которого сейчас уже почти и нет, все выбрали, оружие было у всех – и не по одному стволу, и огневой припас был в достатке. Поэтому Советская власть устанавливалась здесь трудно, с боями, мятежами, ночной стрельбой – и не из домодельных бандитских обрезов, а из переносных английских пулеметов «льюис», схватки здесь случались жестокие, затяжные.
Почти все предки братьев Корнеевых погибли здесь. Первым – дед, опытный подпольщик, революционер, обаятельный, умный человек, широкая душа, его до сих пор помнят в чалдонских селах – случается, какая-нибудь древняя старушка неожиданно заведет речь о том, какой он «баский и светлый был, соболь, а не человек»… Дед был выслан сюда из Москвы под жандармским конвоем за участие в пресненских боях девятьсот пятого года. Он учил остяков, вогулоз, кержаков, чалдонов грамоте, за семь лет до революции организовал в деревне коммуну; выращивал хлеб, добывал мед, соболей и лисицу, рыбу. Сам был весельчаком, умел играть на шуйской гармонике, плясал; вел дневник, собирал местный фольклор, сочинял агитки – словом, жил настоящей жизнью.
Когда сюда нагрянули колчаковцы, то Николай Петрович Корнеев не успел уйти с партизанским отрядом в тайгу, он лежал без сил после приступа цинги – летом она почти никогда не прихватывает, милует человека, обычно зимой дает о себе знать, а тут неожиданно взяла в оборот, рок и только, – его арестовали, подержали немного в тюрьме, потом на «барже смерти» с четырьмя сотнями других – почти все были большевиками – отправили по Оби вниз, к Северному Ледовитому океану. Там буксир, правя на восток, проволок баржу вдоль всего побережья, вошел в полноводную, едва державшуюся в берегах реку и потащил помятую, расклеившуюся, полную воды, «блондинок», как называли заключенные вшей, посудину в глубь континента. Вскоре все, кто был заточен в вонючем мокром трюме баржи, пошли под пулеметные и винтовочные дула. Среди расстрелянных был и Николай Петрович Корнеев. Никто, ни один человек не знает, где находится могила этих людей – может быть, где-нибудь в скалах их камнями завалили, может, на речное дно пустили, может, просто закопали или сожгли.
Имя свое Сергей Николаевич Корнеев получил в честь родного дяди – младшего брата отца, тоже Сергея Николаевича.
Зимой двадцатого и двадцать первого года в Сибири было неспокойно – то там то тут взлетало пламя над крышами сельсоветов, слышался истошный бабий вой по убитым, на деревьях раскачивались изуродованные тела сельсоветчиков. Зажиточные чалдоны, офицеры, скрывшиеся до поры до времени на заимках, носились на откормленных конях из деревни в деревню, измывались над кержаками, смолокурами, бабами-солдатками, детишками, рушили избы, ломали ребра и крошили прикладами зубы – искали коммунистов, комсомольцев, тех, кто поднимал флаги над сельсоветами, агитировал за новую власть, призывал делиться хлебом с голодающими.
Сельсоветы и стали создавать революционные отряды. В один из них и вступил Серега Корнеев – невысокий, но крепко сколоченный парень со светлыми, похожими на спелую облепиху глазами – завистью всех девок, каждая предлагала с ним глазами поменяться, – с пшенично-бронзовой челкой, спадающей на лоб.
Было Сереге Корнееву всего пятнадцать лет. Сгорбленный секретарь сельсовета Сомов, то и дело сплевывая в кулак мокроту – болезнь заработал в окопах на германском фронте, последние годы свои доживал, – отложил ручку в сторону.
– Парень, ты ж еще совсем школяр. Возраст у тебя не подходит для серьезного дела.
– Ну и что? – Серега сдвинул брови углом.
– Как что? Ухлопают. Жалко, мать будет убиваться. Ты знаешь, что это такое, когда убивается мать, сына своего оплакивает, а? Иль еще по ком слезу льет?
– Знаю, – Серега сжал рот. – Видел.
Он действительно видел, как одеревенела мать, когда пришла весть, что отец расстрелян, – ну словно молния в нее вошла, лицо стало пепельным, сухим, таким, что у людей даже мурашки по коже бегали, бабы всхлипывали, прикладывая ко рту углы платка, а мужики, отворачивая в сторону головы, лезли за кисетами, чтобы негнущимися грубыми пальцами сгородить «козью ногу».
– Видел, значит, – секретарь сельсовета снова сплюнул в кулак, вытер ладонь о штаны, покачал головой. Судя по всему, не верил он, что Серега знает, что такое материнские слезы: – Видел, говоришь?
– Отца у меня на «барже смерти» увезли… Ведомо про такую?
– Слышал.
– Тогда записывайте меня в отряд. Отсюда не уйду, пока не запишете.
– За отца, значит, хочешь поквитаться?
– А что, нельзя?
– Мал ведь ты еще, чтобы квитаться. Тебе девок надо любить, а не квитаться.
Серега промолчал – не хотелось ему вступать в разговоры на эту тему, секретарь все понял, взял ручку, сжал ее пальцами. Хотел было внести Серегину фамилию в список, но в последний момент в нем снова что-то дрогнуло, на лоб наползли морщины.
– Не могу, парень. Это ты понимаешь? – просипел он. – Не могу. Не пацанье это дело – война. Кровь ведь, смерть. Драка предстоит жестокая, попадешь в лапы кулакам – не пощадят. Пытают, гады. Вон у меня есть сообщенье, – Сомов с грохотом выдвинул запятнанный чернилами ящик стола, на дне которого лежало несколько листков бумаги да в плоской банке из-под чая хранилась круглая печать. Подцепил пальцами одну бумагу, извлекая из ящика, хотел было прочитать ее, но Серега помотал несогласно головой:
– Не надо читать. Пиши лучше в отряд!
Сомов закашлялся, выбил в кулак тычок, застрявший у него в горле, спросил только:
– Комсомолец? – И когда Серега Корнеев кивнул в ответ, вздохнул и, больше ни слова не говоря, внес его фамилию в список отряда.
Перед сельсоветом толпился народ – отрядные получали оружие, привезенное на дровнях из уезда. Сереге досталась здоровенная, не по росту, мосинская трехлинейка с тремя обоймами патронов. Говорят, оружие придает человеку храбрость, уверенность, делает его значительным и в своих глазах, и в глазах окружающих, человек с оружием всегда старше становится. Серега на себе это ощутил.
Командир малыгинского отряда Карташов, присланный из уезда черноусый чекист в кожанке, с марлевой повязкой на голове, – зацепил свинец, выпущенный из кулацкого дробовика, подозвал Серегу Корнеева:
– Вот что, парень, тебе и… – Карташов оглянулся, увидел высокого человека в короткой, едва достигающей колен солдатской шинели – одежда была явно с чужого плеча, в госпитале, наверное, вручили, позвал: – Сомов! – Вот так иногда одно задание крепко соединяет людей… Секретарь сельсовета отделился от группы отрядных, подошел. – Товарищ Сомов, тебе и вот этому юному товарищу, – Карташов положил руку на Серегино плечо, – поручается боевое дело. Важное, прошу это усвоить, – Карташов понизил голос. – В четырех километрах отсюда телеграфная линия проходит, знаете?
Сомов кивнул – он знал эту линию, хороший ориентир. Зимой, если заблудишься, всегда по линии можно до деревни добраться; Сереге тоже была ведома телеграфная строчка, повешенная на столбы.
– Надо в двух-трех местах перерубить телеграф, оборвать, понятно? Чтоб о передвижении отряда знали только мы и наши люди. Иначе они ведь телеграфом пользуются, ясно? Выполните задание и возвращайтесь сюда же, в село.
– А если вас тут не будет, когда мы вернемся, а? Тогда как? – тихим, ровным голосом спросил Сомов.
– На этот счет договоримся, значит, так… Будете возвращаться – ориентируйтесь на сельсоветовскую избу. Если будет красный флаг висеть – значит, мы здесь, если флага не будет – ушли. Снимем флаг. Да и кулаки, когда приходят в деревню, первым делом сшибают флаги с сельсоветов. На флаг глядите, есть он или нет, по нему все поймете. Ну, успеха! – Карташов пожал руку вначале Сереге, что тому пришлось по душе: выходит, командир его за взрослого человека принимает, не то что Сомов, – потом тряхнул ладонь Сомова. Добавил совсем не по-военному: – Ни пуха вам ни пера, мужики!
Из села вышли на охотничьих лыжах, подбитых мехом. Лыжи эти ходкие, назад не скользят, мех им не дает, волос дыбом сразу становится, держит, двигаться же вперед на лыжах здорово – идут, будто маслом смазанные.
Серега прихватил с собою длинную сучковатую палку, в которую вбил загнутый крючком гвоздь – сам это приспособление придумал: палкой можно было зацепить телеграфный провод и, повиснув на нем, оборвать. На всякий случай в карман положил сапожный нож-тупик – есть такие, этими ножами когда сапоги тачают, воск на рант наносят, заделывают концы-лохмотья, чтобы нитку не порезать, – нож для «тупой работы», словом. Еще взял плотницкие клещи. Если понадобится, Серега на столб заберется, тупиком провода малость надпилит, потом клещами надпил перекусит. Винтовка, не мешая движению, тяжело и удобно лежала на спине.
Сомов – человек молчаливый. Если говорит, то только по делу, обычного трепа, когда и посмеяться можно, и подковырнуть, и разыграть кого-нибудь, и побасенку рассказать, не признает. Сколько по дороге Серега ни подъезжал к нему с разговором, чтобы скоротать время, сельсоветчик никак на это не реагировал – шел на лыжах молча, весь в себе, щуря хмурые глаза, прикрываясь воротником шинельки от ветра. Холодная, дырявая штука – его шинелька, крепкие сибирские трескотуны не выдюжит, окостенеет в ней мужик запросто. Серега покачал головой, будто взрослый, понимающий толк в хозяйстве человек: эвон какой беспечный этот «кашлюн» Сомов, потом понял, что нет у Сомова никакой другой одежды, и непонятная, совсем немальчишечья жалость охватила Серегу.
Он ловил глазами подпалины на шинели, останавливал взгляд на острых, двумя краюшками венчающих спину лопатках, видел, какие худые и слабые ноги у секретаря сельсовета – ему только в санях ездить, а не на лыжах ходить, подумал: когда они вернутся в село, надо будет взять у матери меховушку-безрукавку, пусть Сомов наденет ее под шинель, попусту от мороза не страдает.
С севера тянул ветер – поначалу, когда вышли из села, несильный, а сейчас покрепче. И вот какое дело: снеговая крупа не волочилась по земле, придавленная морозом, как это, собственно, и бывает, а приподнималась до колен и неслась вдоль лыжни, толкала в спину, холодила затылок. Раз снеговая крупа приподнимается над землей, волочится, уносясь неведомо куда, а мороз не отпускает, значит, затевается пурга. Судя по всему, будет пурга короткой, но злой, заметет все стежки-дорожки, продвижение кулаков задержит – это хор-рошо, а с другой стороны, плохо – отряд свяжет по рукам-ногам, скует.
До телеграфной линии шли недолго – помогал попутный ветер. Столбы стояли неровно – почва тут гнилая, зимой сильно промерзает, летом в хлябь превращается, столбы ведет из стороны в сторону, будто подвыпивших сельских гуляк. В одном месте провод был натянут ровно, туго, в другом провисал – это где как стояли столбы, в какую сторону их капризная гнилая почва крутила. Удобнее всего было рвать на провисе.
Зацепив провод крючком, Серега подпрыгнул, крепко держась одной рукой за палку, потянул его вниз, но он оказался прочным, спружинил и чуть было не уволок парня за собой. Сомов помог, обхватил Серегу худыми своими руками, не дал унестись за проводом. В конце концов проволока звонко щелкнула, обрывки ее вскинулись вверх, свиваясь в кольца.
Поскольку проводов было два, то таким же способом они совладали и со вторым, затем прошли метров четыреста вдоль линии и оборвали металлическую нить еще в шести местах.
– Жалко, – по-мужицки бывало вздохнул Серега. – Потом ведь чинить придется. Еще будем рвать или хватит?
Сомов посмотрел на Серегу: жалко тому телеграфную линию – это понятно, а разве Сомову не жалко? Прикинул: хватит этих обрывов или нет? Наверное, надо еще в одном-двух местах перерубить, будет надежнее.
Когда возвращались, ветер бил в лицо, норовил выстегать глаза, больно хлестал по щекам, вышибал слезы, залеплял льдистым крошевом ноздри, рот, мешал дышать. То и дело они останавливались, чтобы оттереть щеки, перевести дух.
Ветер пробивал одежду насквозь, тело выстуживал до костей, от него деревенели руки и ноги. Хотелось спрятаться куда-нибудь, но куда забьешься в чистом поле, под каким кустом схоронишься? Нет такого куста – поле голо, как стол, не за что зацепиться и глазу.
Сомов шел первым и весь ветер брал на себя, Серега хотел обойти его, но он прибавил шагу, широко ставя свои на вид очень некрепкие ноги, заскользил на лыжах быстро, будто на собачьей упряжке ехал. Вот тебе и «кашлюн», к морозам и лешачьим ветрам не приспособленный. Быстро шел Сомов, несмотря на то что дыхания не хватало, горло стискивал холодный, жесткий обруч. Примерно за полверсты до села остановились. Сомов отер слезившиеся глаза варежкой, потом, сняв их, стал совать пальцы по очереди в рот, отогревая.
– Глянь-ко, что там в Малыгине деется. Ты поглазастее меня… Есть там флаг иль нет?
Сельсовет находился на взгорке, виден был хорошо, над дранковой старой крышей трепетал маленький алый лоскут.
– Есть флаг, – сказал Серега.
Кивнув удовлетворенно, Сомов опять тронул варежкой глаза, сощурился, бросил быстрый цепкий взгляд на село, словно бы проверяя Серегину зоркость, поймал глазами красное пятно – как огонь, полощется на ветру флаг. Можно идти, отряд ждет их.
Двинулись. Сомов снова пошел первым. Когда приблизились к крайним амбарам – а они, как и охотничьи клети, навесы, под которыми сушат сети, кладовки для пушнины, мяса, кедровых орехов, рыбы, всегда выносятся на зады: так и хозяевам удобно, и защищают они жилье от ветра со снегом, – Сомов остановился, вытянул застывшую, в белесых пятнах шею, словно хотел выпростаться из своей худой шинельки, приподнял ухо у шапки, прислушался.
– Что-то уж очень тихо. А?
– Пошли, пошли! Небось обедают мужики, вот и ни стука ни грюка. Ложками чалдоны работают, – засмеялся Серега, двинулся первым к амбарам. Услышал, как сзади заскрипел снег – Сомов пошел следом. И правда, время-то обеденное, по домам сидят бойцы, да потом никак за эти краткие часы не мог уйти отсюда отряд, обязательно дождался бы их. Вон и знак – флаг, отсюда его очень хорошо видно, будто красное крыло неведомой птицы скребет серое небо: если б отряд оставил село, Карташов обязательно бы дал команду снять флаг. Если б не успел, кулаки все равно первым делом сшибли бы его из винтовки.
Рассмеялся Серега счастливо и звонко – на душе было легко. Выполнили задание, вернулись живыми! Отогреют сейчас озябшие руки-ноги, съедят чего-нибудь горячего. Он даже подпрыгнул на месте, но заплелась лыжа за лыжу, и Серега упал в снег. Вскочил, отфыркиваясь от липучей снежной пороши, ожегшей лицо.
Поравнявшись с амбаром, Серега вдруг почувствовал опасность, завертел в тревоге головой, пытаясь понять, откуда же она идет, но ничего не увидел… Бывает так – вдруг мы начинаем ощущать какие-то странные и очень острые, хорошо различимые позывы тоски и боли, от которых в груди взбухает холодный ком, тяжело теснит сердце, и мы настораживаемся, прислушиваемся к этим позывным, к тревоге, и невольно хочется занять оборонительную позицию. Серега был знаком с этим ощущением, случалось и раньше: начинали колотиться какие-то молоточки в мозгу, тоска нарастала – и оказывалось, где-то уже затевалась деревенская драка, в которую Серега непременно попадал и приходил домой с расквашенным носом либо с фонарем под глазом. Или же это взрослые вели разговор о нем, подозревая в проступке, грозя отстегать таловыми прутьями. В общем, есть такое точно, – витают вокруг нас какие-то волны, частицы, флюиды, предупреждающие о приближающейся опасности.
А ведь прав старый солдат Сомов – уж очень тихо в селе, просто подозрительно тихо. Может быть, лучше повернуть, уйти в лес, дождаться там темноты – зимние дни короткие, будто птичий скок: две искуренные «козьи ноги», и на землю наваливается вязкая холодная темень. Замерзнуть они за это время не успеют – перетерпят, одолеют стужу, а потом в лесу много теплее, чем в открытом, продуваемом всеми ветрами поле, – в лесу не замерзают, в лесу отогреваются. Он повернулся к Сомову, чтобы сказать ему об этом, – и вдруг увидел, как сомовские глаза из маленьких, прищуренных, запрятанных где-то подо лбом превращаются в большие, недобро-удивленные, и в тот же миг на Серегу навалился кто-то тяжелый, пропахший кислятиной – то ли квасу этот лесной хозяин только что выпил, то ли из капустной кадушки вылез, – схватил за руки, заламывая.
– Эхма! – азартно прохрипел здоровяк, потом матюкнулся. – Попался, который кусался? Стер-рвотна кр-расная!
Если б не последняя фраза, Серега подумал бы, что это неудачно шутит кто-то из отрядных, слишком уж зло, резко. А тут будто удар плетью: «Стер-рвотина кр-расная»!
Хоть и малорослым был Серега, но крепким, поднаторевшим в деревенских стычках, он резко пригнулся, уходя вниз, под ноги навалившегося на него человека, развернулся, ударил головой во что-то мягкое, кажется, в низ живота, и нападавший заохал, запричитал, жуя слова, – что-то неразличимое, спекшееся вырывалось из его рта. Чуть было не ушел Серега из-под него, да длинноствольная трехлинейка помешала – пропахший кислым человек успел схватиться за ствол, удерживая парня, а тут и подмога подоспела – навалились на Серегу еще двое, слепо молотя кулаками по голове, по спине, плечам и шее, – Сереге показалось, что хрустнули позвонки. Падая, успел увидеть, как на Сомова тоже навалились трое – лупят его почем зря, один даже рукояткой нагана взмахнул, опустил ее на незащищенную сомовскую голову. С Сомова слетела ушанка, и редкие седоватые, как будто присыпанные солью волосы стали пропитываться бурой маслянистой кровью.
– Рукояткой не бей, гад! – прохрипел Серега, но тут тяжкий удар пришелся на его затылок, из глаз посыпались блестящие зеленые искры, что-то плотное заволокло взор.
Очнулся он от холода. Ощутил под щекою жесткую сухую траву – болотную, ее здесь на подстилку косят, обвел взглядом часть стены, что была перед ним, неровно обтесанной – топором работали, рубанком ни разу по боковине бревен не прошлись, – по этой топорной работе да по клочьям пакли, вылезающей из пазов, определил: лежит в сарае. Голова болела – видно, как крикнул, его самого рукояткой или прикладом по затылку огрели, во рту было горько, отдавало металлическим привкусом, кажется, это спеклась, скаталась в осклизлые сгустки кровь. Руки были ободраны, наверное, тащили его за ноги, и руками он волочился по снегу, обдирал, царапал их. С плеч стянули одежду, почти раздели, а без одежды недолго и околеть.
Услышал за спиной неясное движение, стон и, с трудом гася вспыхнувшие опять перед глазами зеленые искры, повернулся на другой бок, увидел Сомова, притулившегося спиной к стенке.
Волосы на его голове слиплись и высохли, из пепельно-седых превратились в бурые, глаза совсем вобрались в череп и не были видны, щеки втянулись, обросли серой щетиной, выглядел Сомов немощным, старым, одиноким. Серега неожиданно понял, что Сомов сейчас находится между жизнью и смертью, что стоит ему чуть-чуть сдвинуться, сделать маленький шажок, и все – заказывай тогда Сомову деревянную шинель, а собственная худая шинелька, подбитая рыбьим мехом, ему будет уже не нужна.
Пожевав губами, Серега сплюнул, сморщился жалостливо:
– Ох и отделали же они нас!
В темном провале сомовских глазниц поймал тусклое мерцание, вот оно сделалось сильнее, в зрачках затрепетало, заискрилось пламя.
Сомов был упрямым человеком, живучим – в окопах империалистической да в Гражданскую многому научился, – разлепил он губы, просипел:
– Держаться надо, парень. До последнего. Чтобы во-от, – Сомов вытянул перед собой руку, с тихим хрустом сжал пальцы в кулак. Рука у него была лиловой, скрюченной от холода, костяшки буграми выперли на сгибе, высветились. – Несмотря ни на что, разумеешь? – Скривил горько губы: – Понятно те хоть, что произошло?
Серега отрицательно мотнул головой.
– Говорил же те: не ходи в солдаты. Вещь яснее ясного, – Сомов откинулся назад, вздохнул тяжело, хрипло, в груди у него заклокотало, зачуфыркал, ярясь, неведомый зверь, и Серега подумал, что его напарнику, или, как говорят в Сибири, связчику, легкие, наверное, отбили, вот и клокочет, сипит там кровь. – Отряд ушел из села, и флаг, само собою, Карташов снял. Но вот незадача – подслушал нас кто-то и разговор передал. Может быть, в отряде есть предатель, может, он и засек, пересказал все этим вот… – Сомов сдвинул голову в сторону, вхрипнул загнанно, словно умирающий конь, и у Сереги от этого хрипа невольно возникла жалость: он понимал, он видел, как тяжело и больно сейчас Сомову, – рассказал этим вот бандюкам. Пришли бандюки в село, флаг снова повесили. Мы с тобой и вляпались, как мухи в сладкий кисель, на флаг пошли.
Сомов просунул руку под худую свою шинельку, растер ключицы, грудь – шаманский способ утишать боль. Прохрипел:
– Знаешь, парень… ты это… Ты, как и договорились, держаться должен, ты держись. Вот так держись, – стиснул у себя на груди кулак. – Я скоро умру, а ты останешься, с тобой они разговор вести будут, – Сомов замычал, в нем снова вспыхнула боль, обожгла все его худое изувеченное тело, – но ты не бойся! Не бойся их, сволочей!
Запрокинул голову назад, в глубокие затененные глазницы проник свет, и Серега в первый, пожалуй, раз увидел, какого цвета у Сомова глаза.
Прошло примерно четверть часа, и Сомов затих, затих навсегда.
Голова его медленно сползла на грудь, качнулась, он начал заваливаться вперед. Падал Сомов ужасающе медленно, будто не человеком он был, а большой гуттаперчевой куклой, принимая то искусственное положение, которое может принять только мертвый. Дотянулся головой до пола и застыл. Сереге была видна его худая бледная шея с толстыми, похожими на веревки натуженными жилами и пропитанными кровью плоскими витками волос, прилипшими к коже.
Закусив зубами нижнюю трясущуюся губу, Серега Корнеев попытался сдержать плач, вырывающийся из него, но куда там – разве слезы удержишь? – рвутся и рвутся наружу. Они текли по щекам, горячие, обжигающие до боли. Его трясло, словно в падучей, в груди болело, закипала обида – почему же все так получилось, почему они попались на первом же задании?
Успокоившись, он ползком обследовал сарай, но ничего путного не нашел. Обнаружил только старый, изувеченный клещами гвоздь, в одном из углов, и все. Попытался выпрямить его пальцами, но гвоздь хоть и попорчен ржавчиной, а крепок. Неразогнутый он не нужен, оружие из него не получится. Хотел выбросить гвоздь, но потом передумал, подполз к стене, выбрал одно бревно поровнее, начал скрести по нему острием, выцарапывая черточку за черточкой, букву за буквой, сглатывая отдающую кровью слюну, крутя головой, – саднило затылок, в ушах будто сверчок поселился, свиристел и свиристел, пилил мозг.
Он выцарапал на бревне свою фамилию и фамилию Сомова, чтоб люди узнали о них, откинулся назад, пытаясь увидеть буквы. В амбаре стало совсем темно, ничего не удалось ему разглядеть.
Бежать из амбара бесполезно. Бревна – целкачи, даже с топором сквозь эту деревянную заплотку не прорубиться, крыша прочная, пробить ее трудно. Стропила толстые, на века сработанные, вон как высоко они, не добраться никак туда. Дверь не выдавить – окована железом, замок тяжелый, как безмен для взвешивания мешков с мукой.
Медленно тянулось время. Сомов, похоже, окоченел, мышцы превратились в дерево, теперь его не разогнуть. Наверное, так и хоронить будут.
В сухом холодном мраке амбара начали вставать перед Серегой лица людей, которых он хорошо знал, – многие из них были живы, кое-кого уже нет; вон внимательно посмотрел на него из темной глуби отец, тряхнул прядью длинных гладких волос, закидывая их набок, чтоб на глаза не свешивались, улыбнулся ободряюще, тихо и исчез, вон бабка Мария обозначилась – Серега узнал ее, раздвинул губы довольно: «Бабуня-я, бабуня милая-я», – бабка Мария много возилась с ним в детстве, рассказывала всякие были и небылицы, ходила в лес и на болота, показывала, какие съедобные ягоды тут растут, что можно собирать, а что вообще нельзя трогать – отравишься либо с ума сойдешь, учила находить белые грибы, подберезовики, свинухи и млечники – Серега бабку Марию любил и, когда она умерла, долго плакал. Взрослые утешали его, говорили, что он уже настоящий мужик, ему восемь лет и в таком возрасте негоже плакать…
Видел еще какие-то призрачные неясные лица, узнавал и не узнавал их – скорбные и ободряющие, натянутые, с усмешкой на губах и добрые, обеспокоенные и равнодушные, с холодной ленцой, застывшей в глазах, грустные, потерпевшие крушение в любви и совершенно безмятежные, радостные от предчувствия удачи.
А потом все это кончилось – негромко щелкнув, раскрылся хорошо смазанный керосином замок, и в проеме появился здоровенный парень в черной дубленой бекеше, с кудрявой лихой челкой, свисающей на глаза. Карабин он на всякий случай держал наготове, и на карабин этот Серега, как и всякие пацаны, интересующиеся оружием, обратил внимание в первую очередь – новеньким, незнакомым было оружие. Наверное, заморское, английское или французское.
Кудрявый предупреждающе поднял ствол карабина: не балуй, мол, комсомолец. За его спиной виднелся еще кто-то, тоже вооруженный. Глянув вдоль стены и увидев Сомова, его неестественную позу, кудрявый хмыкнул, веря и не веря в случившееся, достал из кармана горсть семечек, кинул щепоть в рот. Подошел к Сомову, сплюнул на него шелуху. Тронул стволом карабина.
– Готов? – голос у кудрявого был тоненьким, девчоночьим. – А жаль, рано окочурился, – вздохнул он как-то по-бабьи, пощелкал немного семечками, сплевывая по-прежнему шелуху на засохшие окровавленные волосы Сомова. – Поговорить по душам не удалось. Не понял он нашего откровенного и горячего желания. – Перевел взгляд на Серегу. – Ну ничего, не все еще потеряно – беседа все-таки состоится. Будем говорить с тобой, парень, за двоих. Чтобы все довольны были – и ты, и мы.
Изба, в которую кудрявый вместе с напарником привел Серегу Корнеева, была хорошо натоплена, добела отмытые бревна даже потрескивали, пощелкивали от крутого жара. В избе густо накурено, дым сизыми плоскими слоями плавает под потолком, две или три пепельницы – заводские, отштампованные из использованных снарядных гильз, с царским орлом на донье, забиты папиросными огрызками, обмусоленными остатками цигарок.
Многих людей, находившихся в избе, Серега не знал. Но кое-кто ему был знаком – среди чужих были и свои, деревенские, испокон веков в Малыгине живущие. Серега слепо заморгал глазами, застонал, гася боль.
– Ить, – засмеялся сидящий за столом Воропаев, самый богатый в селе мужик, удачливый – «фартовый человек», никогда не возвращался из тайги без добычи. Он умел добывать все: и зверя, и птицу, и золото. Случалось, не только намывное золото – песчаную крупу, а и крупное, самородковое, голыши величиной с воробьиное яйцо приносил. Но кто знает, сам он это золото находил или кто-то другой отыскал, а Воропаев, встретившись с ним нос к носу на глухой тропе, брал добычу и уходил бесследно прочь. Край этот умеет хранить молчание, болота тут бездонные, в тайге есть места такие, где днем темно, как ночью, и надо продираться с фонарем – «летучей мышью».
– Ить, хе-хе-хе, – повторился смешок Воропаева, – живой вроде бы, а недоволен этим… Ить! Головой крутит.
– Генерала из себя изображает, голозадый, – подхватил кто-то незнакомый Сереге, голос его был громким и услужливым, – красный командир.
– Из него красный командир, как из деревенского нищего патриарх всея Руси, – ровно и задумчиво произнес высокий, затянутый в тусклые поношенные ремни человек с не лишенным обаяния бледным лицом. Умные глаза затаили усмешку, но были подернуты холодом, одновременно было в них что-то печальное, тоскующее, даже надрывное. На плечах ладно сидевшего на нем френча были ровные золотые прямоугольники офицерских погон, отражавшие свет горевших в избе двух ламп-десятилинеек. Один просвет, три звездочки – поручик. И еще деталь – к френчу поручика, ровно, один к одному, над левым карманом были прикреплены три Георгиевских креста и одна медаль – тоже Георгиевская. Выходит, неплохо воевал поручик на германском фронте. К фронтовым наградам, даже к царским – ведь все равно даром они не давались, – у Сереги Корнеева, как и у всей деревенской ребятни, было свое, уважительное отношение.
– Ить верно, господин Рогозов, не красный он командир, как деревенский дурак – не патриарх всея Руси. – Воропаев запустил пальцы в густую кержацкую бороду, в которой, несмотря на возраст, еще ни одной седой искринки не было, расчесал ее, будто гребнем. – Так, маленький хорек, вот кто нам попался. Со взрослым петухом да и с курицей ему еще не совладать – силы пока не те, – а вот цыплят уже таскает. За это, господин поручик, тоже надобно наказывать.
– Отец, говорите, у него революционером был? – спросил Рогозов сощурившись, и в глазах его Серега Корнеев уловил неожиданный интерес к себе.
– В начале девятьсот пятого года был прислан к нам под конвоем, – подтвердил Воропаев, – в златоглавой нагрешил, когда там заваруха была.
– Баррикады на Красной Пресне, уличные бои с гранатами и винтовочной стрельбой, убитые полицейские и болтающиеся на столбах рабочие… Выходит, тяга к бунту – это наследственное?
– В крови, – хмыкнул Воропаев, стрельнул цыганскими глазами в Серегу, – вы все точно подмечаете, господин граф.
«Выходит, Рогозов не просто поручик, не просто офицер, отмеченный тремя «Георгиями», а голубая кровь, белая кость – граф!» – подумал Корнеев, а Воропаев еще раз польстил Рогозову:
– Глаз у вас верный. И рука.
– Руки мне даны не для того, чтобы с детьми воевать, – негромко и спокойно проговорил Рогозов, – я военный, а не учитель церковноприходской школы, который лупит своих подопечных дубовой линейкой по лбу либо, насыпав на пол гороху, ставит на колени.
– Ить я понимаю, простые мужики вам не компаньоны, – покачал головой Воропаев, – тогда зачем заставляете мужика карты сдавать?
– Думаю, что и вы и я предпочтете иметь противника сильного, с оружием в руках, а не дрожащего недоразвитого щенка.
– Кто знает, может, этот дрожащий щенок покрепче иных матерых кобелей будет. Сельсоветчик, говорят, не хотел его в отряд к Карташову записывать, а щенок – видите, какой крепкий растет щенок, господин поручик, – настоял.
– Сельсоветчик уже не свидетель, спросить не у кого.
– Верно, – подтвердил Воропаев, – свидетель на том свете кашляет. К тому ж братец у щенка крепкий есть, Николай. И не щен, а матерый пес. Настоящий пес, продразверсткой заправляет, хлебушек из закутов скребет, да так чисто – ну ровно корова языком. На черный день ни хрена не оставляет.
– Вот что, господа… В данном случае мы воюем не с человеком, а с идеей, – Рогозов, высокий, гибкий и наделенный силой, что чувствовалось по его крепкой, хотя и узкой груди, одернул френч под ремнем, собрал складки сзади, – а с детьми совсем воевать не годится. Предлагаю: пусть он клятвенно отречется от большевистских идей, от своего вождя, господина… извините, товарища Ленина, пусть даст слово никогда больше подобными глупостями не заниматься и катится на все четыре стороны. А чтоб ученье покрепче на душу легло – всыпьте десятка полтора плетей. – Рогозов усмехнулся. – Вполне возможно, что в будущем он нам пригодится. Землю, например, пахать, на сельское общество работать…
Только сейчас Серега понял, почему лицо у Рогозова бледное, кожа почти прозрачная, обесцвеченная, поры темными точечками просвечивают, а глаза он все время прижмуривает, словно ему на свет больно смотреть: граф долгое время в темноте прятался, в подвале либо в глухом хлебном закуте смутное время пережидал – вот и обелесел, в гриб, что в подвалах на мокрых стенках да на столбах живет, обратился. Грибы эти синие, прозрачные, жидкие.
Что такое «идея», Серега знал, в кружке политграмоты проходил, там это слово часто употребляли. Он сомкнул губы упрямо. О том, что его могут бить, вырезать на теле ножом или плотницкой стамеской звезду, пытать, загонять под ногти острые сапожные гвозди, расширяющиеся квадратом у основания, жечь лицо раскаленным шомполом, Серега даже и не думал. Да тут же половина своих, деревенских мужиков, на них такое пятно ляжет, что ни в жизнь потом не оттереться, проходу ни в селе, ни в болотах, ни в тайге не дадут. Лицо Серегино напряглось, скулы окостенели, в височных впадинах выступил мелкий искристый пот, похожий на измельченную соль, к горлу подкатило что-то теплое, удушливое, что мешало вдохнуть воздух полной грудью, перед глазами закачались плавно, будто круги на воде, зеленоватые табачные кольца.
– Хорошо, господин поручик, – Воропаев поднялся, попытался выпрямиться, стать вровень с графом, но куда там – у Рогозова что надо стать, а Воропаев узловат, костист, топором сработан, и материал, который пошел на его изготовление, – не самого лучшего качества. Да еще горбина на спине образовалась. Хмыкнул Воропаев: – А если он не откажется от этой самой… как вы говорите?
– От идеи, что ль?
– Во-во, слово какое незапоминаемое. От идеи коли не откажется, тогда как? Может, его… – Воропаев сложил длинные, пропеченные порохом и самосадом пальцы в щепоть, с силой прищелкнул, изображая стук ружейного курка, – а?
– Решайте сами, – спокойно проговорил граф, наклонил голову. Причесочка у него была волосок к волоску, точно посередке разделена ровной линией, приглаженная, словно бы Рогозов только что у цирюльника побывал.
У Сереги жарко вспухли виски, звонкая кровь заколотилась в ушах, он сглотнул соленую слюну.
– Ну что, родимец? – Воропаев подошел вплотную к Сереге, нагнулся, дохнул табаком и луком. Вдруг без размаха, коротко и сильно, ткнул Серегу костяшками пальцев под нос. Серега полетел назад, попал в жесткие и сильные руки стоявших за его спиной конвоиров, те оттолкнули его, и он снова напоролся лицом на кулак Воропаева. Коротко и оглушающе звонко хрустнули два передних зуба. Серега, пробитый насквозь болью, будто сухой летней молнией, поджигающей в ясную летнюю пору истекающие смолой леса и торфяники, охнул, валясь на колени. Оперся руками о пол, поднялся, стараясь удержаться на ослабших, подрагивающих ногах. Воропаев проговорил добродушно: – Ить, не охай ты, родимец, не охай, а принимай с благодарностью науку, в ножки мне за нее кланяйся, в ножки, понял?
Выставил вперед ногу, обутую в прочный, сшитый из толстой юфтевой кожи сапог. Сапог был крепко пропитан колесной мазью, которая застывает на морозе и тает в тепле, случается, что на полу следы оставляет. Не зимняя это обувь – сапоги, но Воропаев все-таки надел их, для форса, для того, чтоб графу Рогозову показать: сибирский чалдон, мол, в лаптях не ходит, да и по случаю «установления собственной власти в селе» – праздник все-таки, обувь воскресную грех не надеть.
– Впрочем, кланяться мало… Мало этого! – звонко выкрикнул, зверея, Воропаев, лицо его побагровело, кровь прилила и к глазам, белки из блестящих, голубоватых обратились в пунцовые. Все в избе притихли. – Ца-алуй сап-пог, с-сука!
Серега выпрямился, твердо посмотрел на Воропаева снизу вверх. Лицо его было залито кровью, сочившейся из носа, губ, из разбитых десен; кровь собиралась на подбородке в густые тяжелые капли и стекала непрерывной струйкой на пол.
– Ца-алуй сапог, с-сука! – снова выкрикнул Воропаев, топнул подошвой, прогибая половицу. – Ц-цалуй, кому сказали!
Прищурив глаза так, что они превратились в щелочки, Серега отрицательно мотнул головой – нет! – превратился в пацаненка, которого и трогать-то грешно, бронзовая челка свесилась, прилипла к омытому кровью лицу. Он, пожевав разбитыми губами, сипя и задыхаясь, дунул, отводя прилипшие волосы от глаз, но не смог, слишком слаб был. И вот какая вещь – не отказ целовать сапог, а именно это беззащитное детское движение, точнее, обыденность его, привела в еще большую ярость Воропаева. Он с силой ударил Серегу сапогом, тот рухнул на руки кудрявого парня.
Прошло несколько тихих минут, все молчали, кряхтели, дымили табаком, попивали брагу-медовуху, выставленную в честь «праздника» в количестве, которое собравшимся сразу было и не осилить, – налита в три огромные, похожие на бочки бадьи.
– Слышь, дядька! – подал голос державший Серегу, обращаясь к Воропаеву.
Тот брагу хоть и не пил, а ковш в руке держал, поставил на стол, стрельнул в парня угольными глазами, все еще набухшими от крови. Мотнул головой: говори!
– Держать-то его… занятие для бедных родственников, – кудрявый запустил свободную руку в карман, кинул в рот щепоть семечек, – когда вы брагу без нас за кадык льете. Может, на улицу его вытряхнем, чтобы побыстрее очухался, э? Зараз водой еще окатим, чтоб ускорить это дело. Промаха не будет. Э?
Воропаев, не отвечая, подошел к печке, пошуровал за загнеткой. Подцепил пальцами кусок мяса, выудив его прямо из щей, отправил в рот. Пожевал задумчиво.
– Ить, ленив ты больно, парень. Искореняй в себе этот порок, ибо… – Воропаев поднял глаза кверху, будто к всевышнему обращался, – ибо с этим пороком большого богатства тебе не иметь. Приказали тебе держать, значит, держи! Впрочем, – Воропаев неожиданно махнул рукой, – ладно, волоки его отсюда, шоб избу не кровянил. Не отмоешь пол ить потом.
Стражники поволокли беспамятного Серегу Корнеева в сенцы, а оттуда, в рубашке, окровавленного, неподвижного, – на крыльцо. Потоптавшись, гулко давя подошвами промерзшие деревянные доски, заляпанные клейкими ошмотьями снега, стащили Серегу вниз. Положили на снег вверх почерневшим, залитым кровью лицом.
– Слышь, а он не сбежит отсюда? – поинтересовался молчаливый напарник кудрявого.
– Да ты что? – кудрявый хыкнул по-девчоночьи тонко. – В мороз? Да мы его сейчас водой окатим, он к земле так прикипит, что отдирать потом придется, сам встать в жисть не встанет.
Мороз к ночи покрепчал, гулкий, с мутноватым слюдянистым туманом – туман, впрочем, все равно не смог затянуть небо, – мелкие далекие звезды были хорошо видны, похожи были на рубленое в крошку серебро, рассыпанное целыми пригоршнями, густо, особенно много их сгрудилось над селом. Пурга так и не собралась. Дымы из печей плоско уходили вверх, к далекому крошеву звезд, растворялись там, в невидимой выси. Слышимость в такой мороз добрая, различить можно даже, как бьется сердце у соседа, сидящего за забором в своей избе, и как талдычат о нехватке соли две старушки, встретившиеся на другом конце села. Время от времени слышался пистолетный щелк: один выстрел, другой, третий. А вот кто-то ахнул из трехлинейки, перекрыл все звуки вокруг. Но это не были выстрелы. Трещали, лопались от крутого мороза деревья, стонали в глубоком полумертвом сне своем. В промежутках между этой стрельбой можно было отчетливо разобрать глухое недовольное бормотанье – кропотали, боясь уснуть в такую стужу, птицы, пережидающие лютую ночь в снегу, время от времени высовывали из наста головы, ловили глазами деревенские огни, мечтали о тепле, о лете, о тихих зорях июля и обильной лесной кормежке. Худо птицам в такую ночь.
Кудрявый приволок из избы ведро воды, выкрикнул тонко, разрезая воздух будто ножом:
– Ну-к, связчик, посторонись!
Его напарник проворно отодвинулся от Сереги Корнеева, и кудрявый, опрокинув на лежащего ведро воды, тоже проворно отпрыгнул назад, чтоб капли не попали на него, не прожгли ледяными брызгами обувку. Часть воды угодила в снег и зашипела жестко, зло, стреляя ледяной дробью, будто пролилась на раскаленную до малинового мерцания плиту.
В такой мороз иногда показывают пришлому человеку один местный фокус. Выносят на улицу воду в деревянной кружке – обязательно в деревянной, чтобы ручка к пальцам не прилипала, – и льют ее тоненькой звонкой струйкой на землю. Мороз схватывает струйку прямо на лету, в хрусталь обращает, и на снег вместо капель падают вытянутые, схожие со стеклянными бусинами катышки, обмерзают инеем на лету, лопаются. Кудрявый не раз демонстрировал этот фокус купеческим девкам, приезжающим в гости из-за лесов, с юга, где такие морозы редки, там более мягкая и добрая зима стоит.
Серега дернулся, застонал сипло, долго, рубашка на нем обратилась в жестяную негнущуюся кольчугу, лицо покрылось прочной стеклистой коркой. В гулкой тишине было слышно, как тоненько захряпал, зазвенел битый хрусталь – звон был каким-то рождественским, страшным и праздничным одновременно, кудрявый не сразу понял, что это звук приближающейся смерти, Серега заворочался, стараясь раскрыть глаза, но лед сковал их, прикипел к векам, забил глазницы, омертвил кожу.
– A-а, заворочался, – хихикнул кудрявый, поддел локтем сползающий с плеча карабин, – не нравится такая купель… Не нравится? Будешь теперь наперед знать, что красным быть негоже. – Повысил голос, обращаясь к напарнику: – Хватай его под мышки, поволокли назад в хату. Не то подохнет ранее срока. Воропаев нас тогда без хлеба схарчит.
Они выдрали Серегу из ледяной коросты, тот замычал немо – в коросте, затрещав, осталась рубашка, – с грохотом проволокли по крыльцу, втащили в избу. Опустили на пол.
– Подлечили малость, – весело объявил кудрявый, пнул Серегу носком сапога в бок. А тот уже боли не чувствовал, в нем онемело все, сгорело, все внутри превратилось в сплошной стон, в рыдание, в крик; прыгали какие-то огненные пятна перед глазами, резвились, будто скатанные из рыжей коровьей шерсти мячи, которые готовят по весне, чтобы в лапту играть, видел он еще какие-то неясные лики, вернее, не лики, а плоские пятна, и все. Пинка кудрявого Серега тоже не почувствовал, боль не могла пересилить боль. Он не издал ни звука.
Когда через пять минут мокрого Серегу снова втащили в дом, Воропаев подступил к нему, покачался на носках, хмыкнул:
– Ну, комсомоленок, как? – захохотал, покрутил головой. – Ить, живуч, однако, живуч хорь…
Он долго грозил Корнееву, требуя того, что советовал граф. Серега едва различал Воропаева – качалась перед ним какая-то неясная тень, окруженная мутным керосиновым обводом, а вот собрать свой взгляд на этой тени он не мог – все уплывало, утопало в боли, покрывалось оранжевыми всплесками и гасло. Голос воропаевский Серега слышал отчетливо. «О чем он говорит? – шевельнулось в голове мучительное, медленное. – О чем? Отречься? Так и от отца своего можно отречься, от матери, от братана… Нет, господин Воропаев, нет. Я не тварь продажная, чтоб менять взгляды, как корове меняют подстилку в хлеве…»
Серега, из последних сил напрягшись так, что на мгновенье ясно увидел ненавистное лицо, плюнул, целясь в Воропаева. Не достал. Плевок шлепнулся на пол и черным пятном расползся по широкой струганой доске.
Воропаев понял, что это плевок – именно плевок, увидел в прояснившихся Серегиных глазах выражение непреклонности, твердость, понял, что не согласится этот парень свою комсомолию на волю променять.
– Ить, вон как, значит, решил? Не приемлешь, што было предложено? Ладноть! – громыхнул Воропаев. – Вот што, хлопцы. Кончать с этим комсомоленком будем.
В сенцах громыхнула упавшая посудина, кто-то негромко чертыхнулся, в избу вошел Рогозов, оглядел поочередно каждого, кто находился здесь. Поняв все, спросил спокойно и глухо:
– Значит, решили прибить… Парень этот малыгинский?
Воропаев молча кивнул.
– Смотрите, может, не надо этого?.. – Рогозов сухо щелкнул пальцами, посмотрел на пол, выставил перед собой два сложенных вместе пальца, указательный и средний, будто ствол пистолета. – Чтоб деревню не озлоблять.
– Напротив, надо. Людей в страхе и покорности следует держать, шоб каждый сверчок знал свой шесток, шоб другим неповадно было, шоб люд не красным, а нам с вами, господин поручик, служил, вот ить. И шоб за хлебную обираловку в конце концов расчет кой-какой был. Не то ведь братец его, Колька, спец по этому делу, снова прикатит и ничего, кроме вшей, в доме не оставит. Так што надо, господин поручик.
– Что ж, – Рогозов по-прежнему не поднимал головы, смотрел в пол, будто намеревался найти там что-то, – поступайте, как считаете нужным…
Утром окаменевшее тело Сергея, покрытое бурой ледяной коркой, было выставлено на развилке двух дорог, неподалеку от телеграфной линии, воткнули его ногами по колено в снег. По полю носился злой ветер, взбивал снеговые пряди, взметывал их под облака, гудел свирепо, распугивая ворон и опадая, тихо ползал по снеговому насту вокруг безжизненного тела.
Две недели труп простоял на развилке, Воропаев не давал его убирать, чтобы похоронить-то по-человечески, грозил, что прикончит каждого, кто хоть пальцем притронется к мертвецу.
И все-таки тело комсомольца кто-то увез – кто именно, Воропаев так и не дознался, хотя пробовал. Похоронили Сергея Корнеева на макушке высокой песчаной насыпи, откуда были видны сизые таежные дали, река, ржаво-пятнистые, покрытые радужными керосиновыми разводами болота, длинная лесистая грива. Место это находилось в десяти минутах ходьбы от села, было чистым, на нем росли цветы, пробивающиеся сквозь белый, как снег, песок, броские, яркие, видные издалека; в самую худую комариную пору, когда гнус и комары до смерти заедали телят и щенков, тут было чисто – ни гнус, ни комар не задерживались. Сомова же похоронили на сельском погосте.
Когда округу уже летом взяли в кольцо красные отряды, пришедшие на выручку, и кулацкой власти наступил конец, Воропаев со своими спутниками попытался выйти из этого кольца – потайными тропами выскользнуть либо с боем прорваться, и – повезло ему, выскользнул. Но ненадолго – вскоре, примерно через месяц, его снова взяли в клещи. Неподалеку от села. Воропаев, не желая сдаваться – знал, что его ждет, – полубезумный, с нечесаной, сбившейся в колтун бородой, прыгнул в болото – в несколько секунд на глазах у растерявшихся связчиков его засосала вонючая, покрытая пузырями болотная жижа.
Болото с той поры – а оно было безымянным, болото и болото, – начали называть Воропаевой топью, потом люди было переименовали – назвали Иудиной топью, но название не привилось, слишком оно непривычно для русского уха, и на топографические карты болото так и легло – Воропаева топь.
Больше всего сокрушался о том, что не удалось Воропаева живьем взять, Серегин брат Николай. Он пришел на болото, на то самое место, где утопился кержак. Сдвинув на затылок парусиновую фуражку, серую, пропотевшую и пыльную, с захватанным козырьком, над которым ярко и чисто светилась новенькая звездочка, Николай Корнеев расстегнул кобуру маузера. Вытащил маузер за тяжелую, кое-где до основания вытертую рукоять и, не целясь, выстрелил в керосиновое пятно, в провал, что скрыл Воропаева. Стрелком Николай был отменным, дай бог каждому так стрелять, – пуля вошла в самый центр провала, взбив короткий черный фонтанчик. В болоте что-то заурчало, задвигалось недовольно, словно нечистая сила, живущая в нем, проснулась, на поверхность провала вымахнул газовый пузырь, лопнул громко. Звук был таким же сильным, как и выстрел маузера.
Не целясь, Николай всадил в провал вторую пулю, и снова болото завозилось, словно кому-то было больно, а плоть его имела живую ткань, которую нельзя протыкать – вызывает пулевой ожог.
Раздался третий выстрел. Четвертый. Лицо Корнеева словно бы окаменело, сделалось страшным в своем нечеловеческом спокойствии, в узких глазах поблескивал-трепетал злой пламенек, и что самое страшное, от чего оторопели стоявшие рядом его друзья, – по лицу медленно текли тяжелые крупные слезы.
Пятый выстрел, шестой… Седьмой. И каждый раз болото отвечало вздохами, басовитыми всхлипами! Он стрелял и стрелял, желая одного – чтобы пули его попадали в ненавистное тело Воропаева.
К Николаю подошел Карташов, крутоплечий, усталый, с поблескивающим шрамом на лбу – когда Серега пришел к нему в отряд, Карташов носил на голове повязку, это была та рана, тот след, – сдавил ему плечи руками.
Николай снова, не целясь, выстрелил в черный болотный провал, вогнав эту пулю в то же малое пятнецо, куда он уже всадил прежние.
– Не надо, Николай, – глухо проговорил Карташов. – Этой пальбой ты никому не поможешь. Ни себе, ни матери, ни мертвому брату, ни людям – ник-кому.
Некоторое время Корнеев сидел неподвижно, держа в увядшей непослушной руке маузер, потом поднял голову. Глаза его уже были сухими, лишь на худых жестких щеках не истаяли еще слезы да нервно дергались плоские сизые жилки в костлявых височных впадинах. Поднялся.
– Ладно, – в последний раз поглядел туда, где нашел свою смерть Воропаев. Вложил маузер в кобуру. – Ничего не поделаешь, верно. Будем жить дальше.
Всех связчиков Воропаева поймали: и кудрявого конвоира – любителя семечки полущить, и напарника его, молчаливого бледного парня, и других, всех, кто принес столько бед местным мужикам. Все они были расстреляны в уездном центре.
А вог граф Рогозов исчез, никакого следа не оставил, Николаю же Корнееву очень хотелось повидаться с ним, поговорить с глазу на глаз, все узнать об обстоятельствах гибели Сереги.
Но пропал граф, канул, словно бы в глубь обскую погрузился.
Через год Николай Николаевич Корнеев, которого почти ничто, кроме матери, не держало в селе, уехал в Тюмень. До самой войны он все еще мечтал увидеть Рогозова, но не удалось ему это. В декабре сорок первого года Николай Корнеев был убит под Москвой, когда сибиряки прибыли на помощь столице. Похоронили его в Москве на Преображенском кладбище, в братской могиле.
Осталось у Николая Николаевича трое детей. Старший – Константин, средний – Сергей, которого назвали в честь геройски погибшего пятнадцатилетнего Сереги Корнеева, и младший – Владимир.
Глава пятая
Слово «дорогой» одновременно и приятно, и отталкивает, ибо им пользуются и влюбленные, и скупцы. Оно одинаково напоминает и о сердце, и о кошельке.
Антуан Ривароль
– Ты прости меня, ладно? – шепотом произнес Володя. – Простишь, а?
Валентина освободилась от объятий и уже не слышала его. Словно бы зов далекий донесся до нее, словно бы поняла она что-то. Неожиданно уткнулась лицом в ладони, затряслась не то в плаче, не то в смехе. Ей было страшно. Страшно и зябко, несмотря на духоту квартиры и угасающую, но еще сильную жару за окном. Она корила себя, терзала и одновременно верила, что подобные ошибки случаются только один раз в жизни и, случившись, никогда больше не повторяются. Значит, и с ней никогда подобное больше не повторится. Все это дурной сон, наваждение, бред, все это должно остаться тайной. Никто никогда ничего не должен знать о ней. Никто. Никогда.
Но как она будет теперь смотреть в глаза Косте, как? Может быть, просто отодвинуть его в сторону, отгородиться завесой отчуждения, поставить крест на том, что было? Что было, то было. Будто и не было вовсе. Не было, не было, не было!
– Ну, выплакалась? – грубовато спросил Володя. – Не плачь! Пожалуйста.
Эх, Корнеев, Корнеев! Все вы Корнеевы такие, не понимаете, что происходит вокруг. А что, если все случившееся станет известно в городе – славном, милом, до душевной маеты необходимом городе, который Валентина любила, любит сейчас и будет любить всегда?
Еще вчера – не позавчера, а вчера – их город был провинциальным, что называется, чалдонским – идешь по улицам и гадаешь: город это или не город? Скорее всего просто большая деревня, дома широкостенные, приземистые, как кубышки, на земле стоят косо, срублены из бревен-целкачей, от времени покрывшихся копотью, заборы, как крепостные стены, только бульдозерам их брать, за каждым забором собака бесится, а сегодня это настоящий город.
Когда началось массовое жилищное строительство, многие чалдонские крепости были снесены. Хозяева получили квартиры, переехали вместе с домашней утварью, с коврами и кухонным скарбом, позабирали с собой все, даже фикусы и кошек, а вот собак оставили… Некуда было их брать, да и незачем.
Как-то в вечерней телепередаче Валентина выступила с рассказом о брошенных собаках, выступление наделало шуму и принесло диктору настоящую популярность. Как ни странно, именно после того самого, теперь уже далекого, но такого памятного выступления, Костя стал подтрунивать над ней и ее работой. Валентина хорошо знала его натуру, понимала значение и косого, брошенного вскользь взгляда, и частое подрагивание пухлых, шелушащихся от мороза и ветра губ, и ироническое «хм-м», вроде бы никому и не адресованное. Нельзя сказать, чтобы это ее обижало, нет – но задевать задевало.
Она часто вспоминала первые встречи с ним – и как ей только вскружил голову высокий капитан с орденами, густо теснившимися на груди? Замужество ее напоминало прыжок с отвесного, страшновато-высокого берега в летнюю речную воду, когда летишь долго-долго, телом стремительно рассекая воздух, и в этом затяжном полете осекается дыхание, сердце обрывается, судорожно бьется на лету, вместо него, кажется, остается лишь сладкая боль. Затем – удар о воду, зеленоватая тишь глубины и отрезвляющий, какой-то крапивный холод, желание как можно быстрее вынырнуть, вернуться назад, на крутой береговой откос.
Если бы у Валентины спросили, счастлива она или нет, то вряд ли бы она сегодня сумела дать однозначный ответ. И да и нет. Собственно, наверное, как и всякая жена, как всякий муж.
Ей, девчонке, только что окончившей педагогический институт, льстило, что у нее такой героический супруг, фронтовик – орденов много, носит ее, что называется, на руках. Ну чего еще надо для счастья? Наверно, что-то еще нужно человеку, не только нежность и любовь, – ему хочется, чтобы жизнь была многообразна и полна.
…Валентина вскинулась, словно от удара, подняла руку, стараясь дотянуться до Володиного лица, хлопнуть его по шеке, но не дотянулась. И сказать ничего не сумела, только:
– Ты… ты… ты…
А Володя Корнеев все понимал по-своему. «Надо переждать», – сказал самому себе. Переждать, пока она отойдет от шока, опять станет самой собою – той самой, которую он любил, к которой прежде испытывал нежность, а сейчас – что-то другое, похожее на жажду, чему и названия-то он не находит. Он отодвинулся к стене, у которой стояла тахта, сжался, притих. Если бы он курил, подумалось ему, то обязательно сейчас сунул бы в рот толстую «казбечину» или крепкий студенческий «Дукат», подымил бы немного, попытался бы разобраться в превратностях судеб человеческих, проанализировать пути-перепутья, жизненные зигзаги, которые иногда заставляет делать какая-то не подвластная человеку сила…
Мысль же у него билась одна: «Надо ждать. Ждать, когда эта оглушенная женщина очнется».
…Валентина опять забыла о нем, перенеслась в мыслях далеко, очень далеко от этой комнаты. Не было удушливо спертого воздуха, запаха гари и асфальта, а главное, в эти мгновения не было ничего напоминающего о чудовищной ошибке – все оставалось, как и раньше, на своих местах. Она сейчас вспоминала прошлое, лучшее, как ей казалось, – лучшее, что было в ее жизни с Костей.
Грезилась ей зимняя, освещенная невероятно слепящим, голубым светом луны лесная поляна. Тени от тревожно-яркой луны были длинными, прозрачными, снег двигался, волновался, как речная гладь, жил своей сказочной, колдовской жизнью. Деревья оцепенели в крепком зимнем сне – ни одна ветка не пошевелится, ни одной иголки на лапах елей не видно, под искристо-голубыми нашлепками снега – пронзительно-черные провалы, тьма, в которой едва-едва – скорее чутьем, чем глазом, – угадываются бугристые крепкие стволы, наросты сучьев, окаменелости смолы, причудливое переплетение ветвей.
В самом начале их совместной жизни Костя повез ее в «загородный охотничий домик» – если можно было так назвать бревенчатую, темную от возраста и непогоды пятистенку, стоящую в девственном сонном лесу километрах в сорока от города. «Загородный охотничий домик» принадлежал одной уважаемой организации, которой руководил давний – еще по фронту – Костин товарищ, молчаливый сутулый человек с добрыми тихими глазами и сизоватым рваным шрамом, развалившим пополам правую щеку, – след немецкого осколка. Товарищ служил вместе с Костей в одном полку, только на другом участке: Костя летал, а его друг находился в БАО – батальоне аэродромного обслуживания. Однажды Костя вывез его, раненного, обескровленного, с «ТТ» наготове, чтобы пустить в себя пулю, из окружения с задымленного, разбитого «юнкерсами» брянского аэродрома в наш тыл, спас жизнь.
Пятистенка была черно-голубой в лунном свете и – вот диво! – прозрачной, словно ее сработали не из крепкобоких темных сосновых бревен, а из дорогого, невиданной красы камня. Похожа она была на хоромы волшебника, даже дым из высокой, вонзающейся в небо трубы шел как-то по-особому, словно вылетал из орудийного ствола, – сплошной вертикальной струей.
Дым вонзался в студеный воздух, светился под луной и растворялся в ночной тьме высоко-высоко.
Около избушки то и дело позвякивала цепь, будто кто-то им подавал знак. Валентина, приглядевшись, ахнула, потом рассмеялась неожиданно счастливо и, не удержавшись, чмокнула Костю в щеку.
Валентина увидела любимого своего зверя, повелителя детских сказок – около пятистенки мотался на цепи из стороны в сторону поднятый на ноги остановившейся невдалеке машиной молодой медведь. Поскольку был он еще юн, то не очень-то смыслил в жизни, выходил из себя по любому мелкому поводу, маялся, тратил понапрасну силы – старый медведь приоткрыл бы один глаз, посмотрел, кто пожаловал в гости, и, не найдя ничего для себя путного, снова погрузился бы в дрему. Ведь зимнее забытье слаще всего на свете; даже слаще конфет, которыми его могут угостить эти поздние пришельцы. А молодой мишка нервничал, гремел цепью, месил лапами снег, втягивал ноздрями воздух, четко перебирал его струи, нити, стараясь определить, что несут эти двое, чем могут угостить, крутил головою, реагируя на их смех, и если бы умел выть – обязательно б завыл.
Дверь им открыл волосатый, по самые глаза заросший чалдон с недобрым лицом и медленной развалистой походкой. Валентина испугалась его, невольно прижалась к мужу. Чалдон испуг заметил, сощурил глаза, из бороды – беспорядочных скруток волос – выплеснулись какие-то невнятные слова. Костя рассмеялся, что-то сказал хозяину, ласково обнял жену за плечи, и она успокоилась, сразу показалась сама себе маленькой – а ведь действительно в каждом из нас, несмотря на годы и солидность, живет ребенок…
Разбойный вид чалдона довершала одежда – он был наряжен в черный, крупной домашней вязки свитер с суконными заплатками на локтях, в ватные брюки, перехваченные тягучим сыромятным ремнем, и катанки. На поясе, в ворсистой жесткой кобуре, сшитой из свиного чепрака, висел нож.
Несмотря на внешнюю скованность движений, неуклюжую походку, чалдон оказался мужиком проворным и хватким.
В избе все сияло – пол, стены и стол были вымыты с мылом и добела выскоблены ножом, печь жарко натоплена. С крутого, больно хватающего за скулы мороза они будто бы в рай угодили – в избе было сухо, даже чересчур, и жарко: гости, казалось, должны были взмокнуть здесь, как в африканской пустыне облиться потом, но нет – лишь лица сделались темнее в жаре да дыхание участилось, – а так ни одной росинки на лбу.
Тело воспринимало этот крутой жар естественно, как собственное тепло, вот ведь – чалдон знал свое дело, был мастером хранить тепло и, как всякий мастер, ведал, что человеческое тело принимает, а что отталкивает.
Хозяин медленно и тяжело повел рукой – раздевайтесь, мол, дорогие гости, вешайте одежду на крюки. Кованые самодельные крюки были ввинчены в бревна рядом с дверью, на них можно было не только легкую Валентинину дошку и Костин полушубок повесить, а одежду целой роты.
Пока они, почему-то смеясь, рдея щеками от жара, раздевались, чалдон собирал на стол. Оглянулись, увидели: на столе стоит потная, пускающая слезы по крутому черному боку бутылка шампанского, отдельно – закуска.
Костя выкрикнул что-то коротко и радостно, метнулся к столу, схватил бутылку шампанского, сделал несколько почти неуловимых движений, и в ту же секунду жаркую тишину чалдонской пятистенки всколыхнул выстрел. Мягкая, раскисшая от вина пробка, роняя крошку, впилась в потолок, отскочила от него резиновым мячиком. Из бутылки вот-вот должна была выхлестнуть золотистая пенная жидкость, но Костя опередил ее, подставил под горлышко граненый стакан. Фужеров здесь не было, имелись только стаканы. Другую посуду тайга не признает.
Костя сегодня работал, как циркач, и Валентине было весело и легко от этого мужниного азарта, ловкости, за которую в другой раз она обязательно отругала бы его – ведь в ней, как и в любой другой российской женщине, был сокрыт природный, добродушный укор, роптанье в адрес непутевого мужика, который без нее, без бабы, чаще всего – ничто, а с ней – хозяин, челове-ек, глава семейства.
Тем временем чалдон выставил на стол дымящуюся рассыпчатую картошку в большом алюминиевом блюде, сдобренную тертым чесноком и лавровым листом, пар от картошки поднимался густым столбом, дух шел такой, что голова невольно кружилась; в глиняной старой миске с изъеденными временем краями – грибы, самые лучшие, что водились в тайге, – боровики, на деревянной, со следами порезов подставке – светящийся восковой вилок квашеной капусты и отдельно, в туесе, «царская ягода» – моченая брусника.
Бруснику здесь заготавливают центнерами, как и клюкву, выходят на мшарники целыми семьями, домой возят бочками. Ухода и специальной обработки – засолки, маринада, квашения – ни клюква, ни брусника не требуют: надо залить бочку сверху теплой чистой водой, чтобы не обвяла ягода за зиму, не сморщилась, потом закупорить деревянным кругом. Вот и вся «засолка». В сибирских деревнях бруснику едят с картошкой, с мясом, с рыбой, используют как начинку для пирогов, просто лакомятся в будни и в праздники и лечатся ею от мигрени – брусника снижает кровяное давление.
Чалдон принес с улицы две окаменело-янтарных замороженных стерлядки. Проворно выхватив из чехла нож, тонко настрогал стерляжьего мяса в тарелку, оно, морозное, ломкое, искрилось жемчужно, в блюдце налил уксуса, приправил перцем, насыпал соли. Быстро перемешал – приправа готова. Стерляжья строганина – что может быть нежнее и вкуснее ее в угрюмой заимке?
Валентине все тут было по душе: и заимка, и голубая луна, и беспокойно-трезвый медведь, которому не суждено было в эту зиму уснуть, и обжигающая картошка, и брусника, и даже сам угрюмый, пока ни единого слова не произнесший чалдон, которого она поначалу испугалась, а сейчас привыкла, и стерляжья строганина.
Много у них было потом поездок – в Москву, в Ленинград, в Крым, в Прибалтику, – были и полеты в тайгу, ночевки у озер, но больше всего запомнилась именно та, первая поездка, сухая изба, струистый, выплескивающийся из кирпичной трубы дым, бесконечно длинной свечой застывающий в глубоком небе. Неужели все это ушло в прошлое?
Она почувствовала, что ладони стали мокрыми. Плакала? Она не могла вспомнить, плакала или нет.
– Хватит, хватит, – донесся до нее голос Владимира Корнеева, вызывавший теперь только неприязнь. – Вставай! Пошли куда-нибудь!
Не поднимая головы, она проговорила зло, хриплым, неузнаваемым голосом:
– Уходи отсюда! Сейчас же!
Она почувствовала, как озноб охватывает ее всю. Через некоторое время, будто сквозь сон, услышала стук закрывшейся двери.
Глава шестая
Граф Рогозов не исчез бесследно, нет. И за границу ему уйти не удалось, как ни хотел он этого.
Через несколько лет в сухую июльскую пору, когда ни дождинки, ни росинки на землю не выпадает, через Малыгино проехала таратайка, в которой сидели два работника милиции с винтовками, а между ними, на охапке сена, свесив длинные ноги чуть ли не до земли, Рогозов. Он ничуть не изменился – по-прежнему был моложав и надменен, и лицо было все тем же – худощавым и белым («Такой белый, такой белый – почти синий», – рассказывали потом малыгинские бабы, луща кедровые орехи), голова с чуть поредевшими волосами, разделенными все тем же ровным пробором.
Сзади верхом ехал еще один милиционер – верно, начальник, поскольку милиционер этот был вооружен не винтовкой, а наганом, засунутым в скрипучую кожаную кобуру. Видно, Рогозов являл из себя преступника важного – кобура нагана была предусмотрительно расстегнута, и в распахе ее виднелась вороненая рукоять. Был начальник молоденьким и смешливым – пока ехал по селу, все белоснежные зубы свои бабам показал.
Когда Рогозова провезли уже через село, об этом сказали матери Сереги Корнеева. Она вышла на крыльцо, опираясь на суковатую, хорошо высушенную и потому очень легкую клюку, – совсем старая, сгорбившаяся после смертей, навалившихся на нее, и, мучительно щуря слезящиеся полуслепые глаза, долго смотрела на дорогу, в конце которой был виден небольшой клуб пыли, поднятый телегой и верховым милиционером. Потом повернулась и скрылась в доме.
После мужики сказывали, что Рогозов был заключен в лагерь, хотя, честно говоря, его к стенке надо было прислонить да пальцем на спусковой крючок дробовика нажать, – так они выражались, но, говорят, занималась им специальная комиссия, которая-то и решила оставить его в живых, поскольку руки поручика оказались не замаранными впрямую кровью – в расстрелах и казнях он не участвовал, пытать никого не пытал, это и облегчило его судьбу. Да кроме того, он специалистом был, дипломированным инженером – окончил в Петербурге политехнический институт, – а инженеры в ту пору были позарез нужны.
Кое-кто из мужиков, полдесятка таких нашлось, узнав, что через село провезли Рогозова, схватился было за дреколье, за вилы – взыграла кровь! – но их окоротили: куды, мол, дураки, лезете? Рогозова же власть охраняет, три милиционера с винтовками и с наганом. К тому же судить его будут… Дружно сплюнули раздосадованные мужики, побросали вооружение и разошлись по домам.
О чем думал Рогозов, трясясь на телеге, вдыхая горький запах пыли, болотной и таежной прели? Как ни странно, ни печали, ни тоски – ощущений, что обычно возникают с неизвестностью грядущего, – не было. Другое было – какая-то странная, холодная, мертвая пустота, безразличие ко всему и вся – к судьбе своей, к жизни, к лету, вызвездившемуся в здешних краях, к прошлому своему, к товарищам, полегшим вдоль многих дорог империалистической войны, войны Гражданской, верным воинскому долгу и офицерской клятве, сражавшимся до конца, до последнего патрона в револьвере, до последнего дыхания и – увы – погибшим.
Во имя чего?
Рогозов тяжело вздохнул, прислушался к шуму в груди: застудил легкие, не сберег здоровье в сумятице последних лет. Да и как сбережешь, когда кругом властвовала одна только смерть? Голод, холод, тиф, огонь, свист пуль, виселицы, мужицкие вилы, неопределенность положения и тьма, тьма, тьма! Сплошная темень, в которой ни зги не видно и не знаешь, куда двигаться, за кем идти.
Подняв голову, он прислушался к резкому гортанному крику, раздавшемуся неподалеку, – кричала какая-то крупная птица со скандальным характером. Птица вскрикнула еще раз, и Рогозов, не выдержав, вздрогнул: настырным и зловещим был этот вскрик, в нем определенно был сокрыт какой-то знак, будто птицей этой руководила некая высшая сила.
Усмехнулся Рогозов – в бога он не верил. Тогда чего же он испугался?
Впрочем, странную встревоженность, охватившую его, нельзя было назвать испугом, Рогозов даже не мог объяснить себе, что это такое. Словно бы повинуясь какому-то неведомому приказу, он медленно повернул голову, цепляясь глазами за каждый предмет, уплывающий назад, за цветы и пыльные придорожные былки[2], кусты, увидел неподалеку, на высокой светлой горбине, памятник с блестящей, недавно подновленной звездочкой, ровную аккуратную ограду, сколоченную из оструганных реек, колкие тяжелые лапы сосен, тянущиеся к памятнику. Попытался что-то вспомнить, наморщил лоб, напрягая память, но ничего не вспомнил, свесил голову, снова погружаясь в угрюмое молчание, скользя глазами по пыльным куртинам, замшелым придорожным валунам, сырым, не пропадающим даже в жару пятнам земли – в этих местах били глубинные ключи, либо же вплотную к проселку подступала болотная прель.
Его абсолютно не тревожило будущее, жизнь, которую он должен был прожить. Он не знал, куда его везут – это совсем не волновало, – хотя понятно было одно: отныне ему предстоит поселиться в этих краях. Может быть, его расстреляют? Это Рогозова тоже не тревожило – меньше мучений будет.
Впрочем, рогозовские губы тронула легкая, едва приметная улыбка: стоило его везти для этого за тысячу верст, девять граммов свинца могли найти и в тех глухих местах, где он был взят чекистами. Не-ет, вряд ли кого повезут в такую даль – вначале на барже по реке, теперь вот по проселку, – чтобы расстрелять. Вряд ли.
Дорога сверзлась вниз, круто пошла в распадок, между мощными сосновыми стволами виднелся глухой черный кустарник, холодный и сырой, и Рогозов подумал, что, может быть, соскочить сейчас с телеги и побежать в этот распадок. Милиционеры обязательно палить будут по нему, поймает он пулю, ткнется лицом в землю и тихо умрет – и никаких тогда мучений, никакого будущего, останется одно лишь прошлое.
Но и эта мысль оставляла его равнодушным, не было у него ни сил, ни желания бежать, подставлять спину пуле. Хотя желание, чтобы все скорее кончилось, не угасало в нем.
Они еще трое суток двигались на север от села, преодолев по извилистому, петляющему среди болот проселку примерно полторы сотни километров, пока в предзакатном розовом сумраке храпящие усталые лошади не остановились у прочных, добротно сколоченных ворот, рядом с которыми находилось кривобокое растрескавшееся зимовье, приспособленное под сторожку. Налево и направо от зимовья уходил высокий острозубый забор – тоже, как и ворота, добротно сработанный, поверху увенчанный тремя нитками колючей проволоки.
«Вот она, расплата», – понял Рогозов.
Из сторожки вышел человек, одетый в легкую рубчиковую гимнастерку, перетянутый кавалерийскими ремнями, спросил у спешившегося милиционера – старшего в конвое:
– Их благородие привезли?
Тот кивнул в ответ:
– Бывшее.
– Давай сопроводительную бумагу. Будем принимать аристократию по реестру.
Несколько раз потом Рогозов жалел, что не спрыгнул тогда, в распадке, с телеги и не побежал – тошно становилось, тоскливо и больно от безнадежности собственной жизни, от ощущения жестокого проигрыша, от всего, как он считал, худого, что выпало на его долю.
Осужденные работали на лесных делянках, тянули сквозь болотную бездонь земляную насыпь, на которую, говорят, потом будут положены рельсы железной дороги. «Но будут ли?» – усмехался Рогозов. Он не верил в затею – проложить дорогу на север, к Обской губе, к океану и раньше, еще при царе, хотели, да ничего из этого не вышло.
Чтобы как-то забыться, в скудные часы вечернего отдыха он думал о прошлом, вспоминал безмятежные дни, крымское имение свое, жаркую желтую степь, нарядных гимназисток и степенно-красивых барышень «на выданье», кипарисовую рощу, примыкающую к дому, и далекую синюю полоску моря – родовое имение Рогозовых находилось километрах в четырех от берега.
И задыхался Рогозов от тоски – тянуло вернуться в прошлое, в безмятежные солнечные дни, к гимназисткам и барышням, к милой, розоволикой, с веселым взглядом, ангельски беспечной, стройной своей Оленьке, на которой женился в пятнадцатом году, когда приехал на две недели из Царского Села к себе в имение.
На следущий день после свадьбы произошло несчастье: племенной бык, приставленный к коровьему стаду и никого, кроме хроменького кособокого пастуха Агапа, не признающий, ткнул рогом дядю Рогозова – Георгия Георгиевича. Угодил зверь точно в сердце – дядя побелел, оперся об ограду, пытаясь удержаться на ногах, ибо считал неудобным хлопнуться на землю при людях – рядом были молодожены, много военных, весь крымский свет собрался, – нарядные одежды, аксельбанты, ордена, парадные погоны, шитые золотой нитью, – но куда там, удар был сильным, ноги Георгия Георгиевича подогнулись, и он рухнул на траву. Когда дядю подняли, он был мертв.
Позже кто-то из присутствующих на свадьбе высказался, что молодоженам, мол, увы, не будет счастья, раз такое на свадьбе произошло. И как в воду тот глядел: подпоручик Рогозов вскоре вернулся в Царское Село, оттуда поехал на фронт, а потом началось такое… Закрутило-завертело его. Потерял он свою Оленьку. Видно, навсегда потерял. Сколько ни пробовал потом искать – не нашел. Имение было разорено. Кипарисовая роща, в которой раньше любили гнездиться птицы, была вырублена начисто – лишь два или три захиревших дерева остались, и те уже пожухли с верхушек, черные гнилые плешины появились на стволах – видно было, что и они скоро погибнут. Рощу вырубили ушлые татары, они пережигали кипарисовые стволы на уголь и возили в Севастополь, меняли там на хлеб. За фуру кипарисового угля им давали пуд зерна.
Дом без кипарисов выглядел как сирота. Вернувшись в Крым, Рогозов не стал и входить в дом. Сел на кипарисовый пень, сколько просидел – не помнит. Потом встал и ушел, не оглядываясь. Оленьку он в Крыму не отыскал. Никто не знал, куда она уехала.
Отец его, как оказалось позже, умер в Одессе от тифа. Об этом Рогозов узнал случайно. Отца ему было не так жалко, как других своих родичей. Наверное, потому, что отец слишком мало уделял ему внимания, особенно в детстве, когда Рогозов был гимназистом и когда мальчишек так неодолимо, сильно тянет к старшим.
Даже лица отцовского Рогозов не помнил толком: попроси восстановить лицо, облик, детали отдельные – рыжеватую бородку (под царя Николая II, отец был последовательным монархистом), спокойные жесткие глаза, сеточку морщин на лбу, это Рогозов вспомнит, а вот чтобы все лицо полностью, облик весь целиком – увы! Не задержался отец в памяти.
Год от года Рогозов все более и более замыкался в себе. Глаза этого худого, заросшего человека постепенно становились отрешенными, ни на что не реагирующими – ни на ласку, ни на крик, ни на выстрел, светлели, медленно выгорали; человеку, заглядывавшему в них, невольно делалось не по себе. Чужие, мертвые глаза были у Рогозова.
Наверное, эта способность отключаться, уходить в себя и помогла Рогозову перенести тяготы. Все научился, а вернее, приспособился выносить Рогозов: и свирепые морозы, и летний жар, и комаров с мокрецом, и работу непосильную – ко всему приспособился. Потом легче сделалось – начали действительно тянуть железнодорожную ветку на север, и Рогозов, дипломированный инженер, был поставлен руководить одним из участков стройки.
Темными ночами он часто ворочался на нарах, вспоминая близких, прошлое. Окончательно, навсегда забылся отец, а вот жена Оленька, наоборот, приблизилась и иногда вставала перед ним, радостная, близкая, розовощекая, явь из яви, словно они только что расстались. Рогозов, устало, как-то по-собачьи мотая головой, бросался ей навстречу, вытянув перед собой руки, но натыкался на пустоту, на какое-нибудь пятно, проступившее сквозь стенку барака, на продавленный тюфяк. Вглядывался слепо в темноту, стараясь воскресить Оленьку, и снова совсем реально видел ее чистое розовое лицо, спокойные темные глаза, обычно карие, а когда в них попадало солнце – диковинно серые, необычные, мягкие, совсем еще детские губы, потрескавшиеся от морской воды и летнего жара.
Чем дальше, тем больше замыкался в себе Рогозов. Он старел буквально на глазах. Худое вытянутое лицо сделалось еще более худым, скулы выпятились, нижняя челюсть набрякла, налилась свинцовой тяжестью, стала боксерской, из-за этой челюсти его побаивались трогать, считая, что он раньше был кулачным бойцом, посветлевшие выцветшие глаза окончательно спрятались подо лбом, накрылись сверху мохнатыми волосяными кочками бровей, и их совсем не стало видно. Волосы на темени поредели, сделались ломкими, неживыми, их присыпала соль седины, сквозь седину просвечивала младенчески розовая кожа, но тем не менее Рогозов продолжал каждый день расчесывать их – как однажды взял в привычку делить пробором голову пополам, так и не отступал от этой привычки. Почти ни с кем он не говорил – у него не было в лагере близких людей, с кем бы он мог и сухарь разделить, и последнюю картофелину, сваренную в мундире. От него отступились все, и он ото всех отступился.
Однажды вспомнился ему один его сослуживец. Из Царского Села, где стоял рогозовский лейб-гвардии гусарский полк и где Рогозов заработал два «Георгия», – он попал в Польшу.
Война для Рогозова шла по следующему графику – иного слова тут не придумаешь, именно по графику: две недели в тылу, на отдыхе, где офицеры приводили себя в порядок, били «блондинок», которых в окопах поднабиралось порядочно, чинили белье, резались в карты, пили крепкий местный самогон и ухлестывали за красивыми молоденькими паненками, следующие две недели их привилегированный полк находился на передовой.
Служил в их роте вольноопределяющийся первого разряда Окороков, высокий удалой питерец с загорелым лицом и лихими соломенно-рыжими усами, которые он каждые пять минут разглаживал костяным гребешком. Рогозов не был в близких отношениях с Окороковым – так, случалось раз или два сиживать за общим столом да на улице сталкиваться, затем несколько раз в окопах, у одного костра грелись, вот и все. Потом на фронте началось братание и прочее, о чем Рогозову вспоминать совсем не хотелось, и вольноопределяющийся Окороков напрочь пропал из вида.
Но вот только почему он так упрямо стал мерещиться в тяжелых сумерках вечерних бдений? Будто родственник какой, этот Окороков.
Вскоре Рогозов понял, почему. Как-то весной, когда сошел снег, к ним прибыла новая партия – человек шестьдесят. В тот же вечер на его нары, придавив тюфяк, подсел всклокоченный небритый человек с рыжеватой густой бородкой, в которой запутались сухие еловые остья, сор. Копнув рукою в бороде, человек выгреб из нее часть остьев.
– Не узнаете?
Рогозов покачал головой: нет.
– Ай да поручик! А еще братом фронтовым назывался, хлеб делили пополам, водку, баб, – укоризненно просипел рыжий. Тут Рогозов и узнал его: Окороков это, Окороков. И прежде, чем Рогозов успел сказать, что узнал, рыжий как выдохнул: – Окороков я. Да. На фронте мы вместе окопный жмых грызли, разве не помните?
– Вольноопределяющийся первого разряда, – хмуро кивнул Рогозов, – помню.
– Неверно. Прапорщик, – строго сиплым голосом поправил Окороков. – Прапорщик! – Сощурил яростные свои глаза, стрельнул острым лучиком в Рогозова. – Сколько лет-то прошло, а? Сколько зим, – в его голосе неожиданно появились надрывные нотки. Рогозов дернулся, будто голос родного человека услышал, морщины на его лице разгладились. Окороков собрал губы горестно, сочувствуя, покивал головой: – А вы изменились, граф!
«Мог бы этого и не говорить», – подумал Рогозов протестующе, но в знак согласия опустил веки. Произнес своим обычным тихим, спокойным голосом:
– Не я один изменился, вся Россия.
– Сколько же лет мы не виделись с вами, граф?
– Последняя встреча – в окопах. Когда же это было? В шестнадцатом году, кажется.
– А событий столько, что их, пожалуй, и в целый век не вместить.
«Риторика, – про себя поморщился Рогозов, – беседа ни о чем. Хотя, может быть, в этом «ни о чем» и кроется кое-что поучительное».
– К борьбе готовы, граф? – перешел на сиплый шепот Окороков.
– С кем? – горько усмехнулся Рогозов. – С мужиками? С чекистами? Ради спасения России? – Хотел было сказать: «Да пропади оно все пропадом!», но сдержался, проговорил лишь тихо, ощутив, как глотку обдало кислой пороховой пылью: – Нет, дорогой прапорщик. Устал я. Так устал, что избавление от этого, пожалуй, лишь одно – смерть. Ей-богу, прапорщик.
– Не думал я, что вы так скоро сломаетесь.
– Дело не в том, сломался я или нет. Думаю, что не сломался. Если понадобится, и винтовку, и наган смогу в руках держать, и стрелять без промаха не разучился, слава те! Дело в другом – не вижу смысла в борьбе.
– Думаете, Россия у мужичья навсегда останется?
– Вряд ли. Но то, что Россия уже не будет прежней, – голову даю на отсечение.
Запустив руку в бороду, Окороков выгреб из нее остатки еловых остьев.
– Верных людей здесь, в лагере, не пробовали нащупать?
– Нет. Даже не думал об этом.
– Вы превратились в мякину, граф! – вскинулся Окороков.
А бывший вольноопределяющийся тоже изменился, здорово изменился: исчезла поверхностная легкость, великосветский лоск, самоуверенность волокиты, способного на край света пойти за красивой дамочкой и, позабыв об всем, добиваться ее, исчезли смешливость, тяга к мотовству и розыгрышам, даже глупости, кажется, стало меньше – ума прибавилось, вот ведь как. Хотя и говорят, что коли ума нет, то даже хирургическое вмешательство не поможет. Появились нетерпимость, жесткость, злость.
Он продолжал:
– Слишком рано руки вы опустили. Охрана как?
– Особо не лютует.
– Я не об этом. Прочная ли тут охрана?
– Расшатывать не пробовал, – еле заметно усмехнулся Рогозов, – но, думаю, если понадобится подготовить побег, охрану обвести можно. Мастеров по этой части тут нет. Не то что в царском Третьем отделении.
– Вот это хорошо, – просипел Окороков. – Уходить нам отсюда надо, Рогозов. На север либо на юг – все равно, но уходить надо. К своим пробиваться.
– А где они сейчас, свои-то?
– Из верных источников знаю – в Маньчжурии, в Турции, в Польше, в Париже, в Харбине. А там, глядишь, снова… по коням! – Яростный свет в окороковских глазах погас, появилась в них какая-то затаенная мысль.
Но Рогозову было не до Маньчжурии, да и неизвестно, до нее ближе или до Парижа, по карте расстояния не мерил, измочален он и выжат, нет ему дела ни до чего – и тело, и воля сделались вялыми, не способными сопротивляться. Одного он сейчас желал, только одного – покоя.
Окороков скривил рот, в глазах снова зажглась ярость.
– Что-то вы не нравитесь мне, господин поручик. Может быть, уже красными прельстились? А?
– Я сам себе не нравлюсь, – тихо проговорил Рогозов, не обращая внимания ни на тон окороковский, ни на ярость во взгляде.
Окороков понял, что происходит с Рогозовым, смягчился:
– В Крым бы вам сейчас, граф.
Рогозов усмехнулся этим словам: только что о Маньчжурии говорил, теперь – о Крыме. Мечты, несбыточные мечты…
– Отдохнуть бы там дней тридцать – сорок и снова на службу во имя России.
– Если бы да кабы…
Хоть и говорили они долго в тот день, а настоящего разговора у них не получилось: слишком непохожими они были людьми – Рогозов и Окороков, разную жизнь прожили. Окороков это почувствовал и больше к Рогозову не подходил. Случалось, правда, что на работе они оказывались рядом. Рогозов затылком, шеей, спиной ощущал запаренное, тяжелое дыхание своего бывшего сослуживца, думал, что Окороков вот-вот окликнет его, скажет, что неплохо бы вечером в бараке перекинуться несколькими словами, но Окороков не окликал его.
Хотя по суетливому, ускользающему в сторону взгляду его Рогозов чувствовал: Окороков что-то замышляет, может быть, сколачивает группу для «правого» дела, возможно, даже побег задумал.
Как-то вечером на лесоповале жгли костры – очень уж сильно допекала мошка. Рядом с Рогозовым, тесня его, кто-то сел на бревно, сунул красные мосластые руки в огонь, заохал блаженно. Рогозов подвинулся – узнал Окорокова, здорово похудевшего за последнее время, с черно запавшими щеками, искусанными злыми комариными жалами.
– Слышите, поручик, – забормотал Окороков едва слышно, – все же мы в окопах вместе землю ели, – Рогозова, как и в прошлый раз, несколько покоробило это панибратство, он сжал губы, на щеках его забегали, заиграли желваки. Но Окороков на рогозовскую натянутость не обратил внимания. – Вместе кровь проливали. Не знаю, выберусь я отсюда живым или не выберусь – одному господу богу известно, поэтому просьба к вам, граф, великая просьба… – Рогозов при этих словах насторожился, поднял голову. – В Омске у меня сын трехлетний есть, на воспитании находится. Вот адрес, – Окороков сунул Рогозову бумажку – скатанную в комок записку, – если я погибну, а вы уцелеете, разыщите, ради бога, сына, подсобите на ноги стать, а? – в окороковском голосе появились молящие нотки.
– Хорошо, – согласно проговорил Рогозов.
Июльской ночью, когда в светлом струистом небе полыхали невиданные в этих краях зарницы, Окороков с двумя заключенными бежал, убив караульного и прихватив его пистолет. Рогозов, когда узнал об этом, перекрестился: свят, свят, хорошо, что Окороков не вовлек его в побег!
У него даже в груди от этой мысли похолодело. Но потом им овладело спокойствие. «Собственно, а чего вы боитесь, господин Рогозов, кого боитесь? Окорокова? Охрану? Мужичья? Будете раболепствовать перед этим быдлом? – Задумавшись, он прикрыл глаза. – Борьба ведь не окончена, Окороков прав. Тут все надо выжигать каленым железом, все ростки. А затем начинать новую жизнь. Новую!»
За беглецами была снаряжена погоня – часть охраны пошла по реке, на лодках, часть по тайге с собаками.
Вернулась погоня через полтора дня с двумя из трех совершивших побег. Третьего – Окорокова – с ними не было. Рогозов подумал с завистью: ушел ведь, каналья! Молодец! Что-то тяжелое поднялось в душе, он, завидуя Окорокову, запрокинул голову, ловя глазами блекло-голубые пятна неба, запутавшиеся в макушках деревьев, кадык запрыгал на рогозовской шее, и тем, кто был рядом, показалось: Рогозов плачет. Но он тут же взял себя в руки, лицо его стало обычным – спокойным и равнодушным.
Стал он через двенадцать лет вольным человеком. Вольным-то вольным, но не совсем: осел на здешней земле и срубил себе дом неподалеку от Малыгина – знакомого села, стоящего на берегу черной таежной реки, спокойной и рыбной, с болотами вокруг – их тут полным-полно, и болота все пользуются у стариков недоброй славой. Будто бы в них водяная нечисть водится, зеленоволосые бородачи и безлицые, синие бабы, в лунные ночи упыри с русалками на речных берегах собираются, бьют в бубен и голышом пляшут вокруг холодного костра.
Рогозову на худую славу здешних мест было наплевать – он совсем замкнулся, считая, что нет прочнее крепости, чем человек внутри себя. И, наверное, прав был: самая надежная крепость – мы сами, не существует, пожалуй, сила, что могла бы взломать ее стены. Взломать невозможно, а вот снести целиком ничего не стоит – мановением руки, как говорится, а бывает, и одним косым взглядом – от стен только прах остается.
Малыгинские мужики, узнав, что Рогозов поселился рядом с селом, снова поднялись на дыбы, но запал был не тот – время прошло, многое забылось, истерлось, зарубцевалось; находящийся в селе работник милиции объяснил, что Рогозов не по своей воле здесь поселился – власти так решили, и мужики смирились, но встречаться с ними Рогозов боялся: жаканом либо картечью запросто ожечь могли за прошлое или просто так.
Нарушив свое отшельничество, Рогозов женился: понимал Рогозов, что если свалится, хворь его настигнет, малыгинская мужицкая дробь или же зверь поломает – пропадет один, сгинет враз. В подруги взял тихую женщину-зырянку, раскосоглазую, с милым лицом, тихую, но проворную и работящую.
Дом он справил себе теплый, просторный, не пожалел на него ни сил своих, ни материала, обнес высоким, чуть ли не вровень с крышей, забором, острым зубцом затесал верхушку каждой доски, завел трех справных лаек, которых взял уже взрослыми и, чтобы приучить к себе, кормил с руки, дышал на них, ибо псы должны были к духу, к запаху хозяина своего привыкнуть, ни с чем другим не путать, за три версты распознавать его в таежной глухомани. Потом, когда привыкнут, можно командовать ими, как хочешь. Заимел и сторожевого пса – здоровенного, угрюмого, с тоскливыми умными глазами, способного защитить дом и без хозяина, посадил его на длинную цепь. В общем, обезопасил себя со всех сторон и занялся охотой.
Поплыл он как-то на лодке-самоделке, что сам вырубил из старого прочного ствола, на север, застрял там, благо непуганой дичи много оказалось, хоть из рогатки ее бей, но потом будто ножом обрезал в себе охотничий азарт, решив, что легкая добыча к добру не приведет – по ночам уже морозы прихватывали, деревья от холода звенели, а это предвестник худой: еще немного, и настоящий мороз ударит, по реке сало поплывет, тогда до заимки будет трудно добираться, – и он сложил груз в долбленку, наладился назад. Там, где глубоко было, с шестом шел, перекаты по берегу одолевал, лодку за собой на веревке волок.
Как-то под вечер, одолев очередной перекат, он вдруг замер – неожиданно почудилось ему: вот-вот в голову свинцовый жакан вопьется. Неужели кто-то из малыгинских? Все, это конец.
Облизал заскорузлые губы. Не шевелясь стрельнул глазами в одну сторону, в другую, проскользил взглядом по черной чистой воде, с рыкающим шумом подкатывающей чуть ли не под самые ноги, окропляющей сапоги и скользко, проворно уносящейся дальше. Нет, никого. На берегу – тоже никого и ничего, кроме деревьев с вялой поблекшей листвой. Потом за красноталом, сползающим в воду, вдруг увидел темный полусгнивший шест, облепленный костями. Пригляделся, стер со лба холодный пот: кости-то человечьи… Рогозов старался понять, что же тут такое случилось, угадать, в какую беду попал человек, но не угадал. Мудрено это сделать издали. А подойти ближе не мог – на него кто-то цепко и зло смотрел, как бы держал под прицелом.
Наконец он понял, что взгляд этот бросает на него пустоглазый, выбеленный дождями череп у шеста. Привязал лодку за корчагу, взвел курки ружья – на всякий случай. Подошел к останкам неизвестного. Одежда на скелете истлела, кости же были прочно привязаны к шесту. Шест с распорками и небольшой крестовиной вогнан в осклизлые сырые бревна плота. Выходит, человек этот плыл на плоту по реке привязанным, думал, наверное, океана достичь, но не получилось. Хотел Рогозов повернуться, отвязать лодку и уйти отсюда, чтобы никогда не возвращаться, но что-то его остановило. Машинально, будто кто-то вел его за руку, он одолел крутую горбинку берега, с которой окунал в воду ветки куст краснотала, и, давя каблуками набухшую речной влагой землю, спустился на плот. На костяке задубевшим кольцом висела кожаная скрутка, совсем почти сгнившая, под скруткой что-то рыжело. Рогозов пригляделся – проволока. Ноги человека были тоже прикручены к мачте плота.
Рогозова даже передернуло, он словно бы сам ощутил то, что когда-то ощущал этот человек. И проволока, и скрутка показались ему знакомыми…
Еще в лагере, когда встречался с Окороковым, он обратил внимание на простую мужицкую оборку, которой тот был подпоясан – плетенную из сыромяти, с грубо сплюснутыми узлами на концах. Осужденным не положено было иметь ремни – не дай бог кто-нибудь повесится, – а вот оборки носить почему-то разрешали. В последний раз, когда они разговаривали, сидя у жаркого, защищавшего от комаров и мокреца огня, Окороков был подпоясан этой немудреной, но довольно приметной оборкой. С ней он и ушел.
И вот Рогозов увидел окороковскую оборку снова. Костяк был прикручен к шесту именно этой самой сыромятью, которая хоть и сгнила за прошедшие годы, прахом стала, а все же сохранилась. Сохранилась, вот ведь как! Тряпье, то все истлело, ни одного целого клочка, а вот сыромять выдержала, зной и стужу одолела, весточку из худого прошлого принесла.
Так вот почему его останавливала неведомая сила, не давала ходу, в напряжении держала! Это был Окороков, взгляд его, пришедший из небытия, из его вечного покоя.
Словно живой, забился вдруг, зазвучал в ушах окороковский голос, натуженный, сипловатый, злой, и тут неожиданно Рогозов вспомнил просьбу бывшего прапорщика разыскать в Омске сына, подсобить ему, на ноги поднять. Как же он забыл о ней, как же ни разу не всплыл в его голове тот жутковатый и жаркий день, когда он в последний раз разговаривал с Окороковым?
Теперь вот ответ перед мертвецом надо держать. Рогозову показалось, что сейчас этот скелет встанет и вскинет кости рук к нему. В ужасе он зашептал: «Ей-богу, Окороков, вернусь домой и разыщу твоего сына. Даю честное благородное слово, сделаю это, разыщу…» В сознании возникли какие-то неясные слова, и Рогозов, чтобы они все-таки дошли до Окорокова, снова повторял и повторял их.
В лодке у Рогозова была лопата, насаженная на короткий удобный черенок. Она хоть и не была предметом первой необходимости, а все же часто выручала его – то берег Рогозов ею подбивал, чтобы лодку удобнее было на сушу вытягивать, то дерн срезал, углубление для костра выкапывая, чтобы огонь по сторонам не разбегался и лесной пожар не случился – тайгу надо беречь пуще глаза собственного, ибо Рогозов и умом и сердцем понимал, что иных защитников и кормильцев у него, кроме тайги, нет; иногда кустарник лопатой, как топором, рубил.
Уже не чувствуя гнетущего страха, озноба внутри – все куда-то исчезло, Рогозов достал из долбленки штыковку, спокойно и деловито, будто это каждый день доводилось ему делать, выкопал небольшую мелкую могилу, сложил в нее останки бывшего сослуживца. Хотел было и шест порубить топором, тоже бросить в могилу, передумал, пусть кости покоятся там одни. Зарыл могилу, сверху придавил ее мягким речным камнем, выцарапав на нем ножом крест – метка пусть будет. Возможно, воротиться сюда придется.
Возвращаясь домой и волоча за собой тяжелую долбленку, Рогозов все думал об Окорокове. Обещание надо было выполнять. Вот только как? Самому нельзя, может, жену-зырянку послать?
Вернувшись домой, Рогозов долго искал бумажку, которую свернутой в картечину дал ему Окороков. В том, что она была цела и где-то хранилась, Рогозов не сомневался: бумаги он не привык выкидывать.
Через неделю все же нашел картечину, засунутую в старую коробку, среди какого-то исписанного бумажного сора. Еще он обнаружил там два пакетика: один с семенами свеклы, другой – с черным луковым пшеном, похожим на высушенную осетровую икру. Как и когда он засунул туда семена – не помнил. Может быть, это сделала жена?
Долго Рогозов вчитывался в полустертые карандашные буквы, пытаясь понять, что же на бумажке было написано. Несколько букв дорисовал, и в конце концов получилось, что окороковский сын был оставлен в Омске на Московской улице, в доме восемнадцать. Звали его Дмитрием.
Неожиданно Рогозов почувствовал укол зависти: у него-то самого детей не было, и за завистью пришла и печаль, и досада, даже боль. А может, не жена в этой беде повинна, а сам он, Рогозов? Если детей у них не будет, он обязательно усыновит окороковского паренька. Решено. Это, собственно, и обещал покойнику.
Он целый вечер просидел с женой при свете экономной лампы-семилинейки, объясняя ей, как отыскать паренька.
Сколько же Дмитрию Окорокову сейчас лет? Десять, двенадцать, пятнадцать?
Через день зырянка по таежной тропе ушла в Малыгино, откуда начиналась почтовая «веревочка», по которой можно было добраться куда хочешь. Рогозов хотел было проводить ее, довезти до села на санях по первопутку, но она отказалась. Пешком привычнее. Да и тайга для нее не чужая.
– Хорошо, – сказал Рогозов. – Иди! И возвращайся скорее.
Поцеловал ее старомодно и церемонно в лоб, зырянка поморщилась: чего это он ее как покойницу в лоб целует? Закинула руки на рогозовские плечи, потянулась, превращаясь в высокую узкотелую молодицу, коротко и сильно поцеловала Рогозова в губы. Рогозов даже охнул – вот так баба – тихая его жена! Прощаясь, повторил:
– Возвращайся скорее. Слышишь? Я прошу тебя.
Она молча кивнула, улыбнулась в ответ. Только сейчас Рогозов увидел, какие у нее большие и серьезные глаза. Серые, как осенний день. Именно как осенний день, подернутые пеленой влаги, дождя и очень глубокие…
Глава седьмая
В человека, в человека надо верить! В его достоинство, произрастающее из его сути и крепнущее в его свободе… Надо вернуться к истоку – к человеку, к существу первозданному, первоэлементу истории… Пусть человек идет своим путем. И он придет!
Хосе Луис Сампедро
Одно дело выбрать место для буровой, другое – обосновать, убедить начальство, что она должна быть установлена именно на этой гриве и больше нигде. Тут одними эмоциями не обойдешься, тут система доказательств нужна – неопровержимых, единственно верных.
У Сергея Корнеева голова, наверное, начала седеть, прежде чем он это доказал: всем казалось, что он избрал малыгинскую гриву лишь из-за удобств – удобно харчи на буровую доставлять, удобно вахту-смену возить, да чего там возить, она может из деревни пешком до площадки дотопать, ноги от нескольких километров ходьбы не отвалятся, удовольствие одно, закалка организма, на почту, в магазин и на танцы удобно бегать. В общем, сплошные удобства. Рай, а не буровая.
Не сместить ли ее куда-нибудь в болото, в бездонь, а? Тем более работы все равно свертываются, оборудование демонтируется, народ с нефти на реку, на железную дорогу, в рыбоохрану, на лесопилки уходит – там спокойнее, будущее обеспечено, пенсия хорошая накапать может. А что буровые – трудолюбивые вышки и это эфемерное «земляное масло»? Сон. Поэтому будьте добры, товарищ Корнеев, передвиньте свою буровую влево, в болота, поближе к границе Малыгинской площади, – вот какие разговоры шли.
Но Корнеев заупрямился, он, как солдат на фронте, в окоп забрался, сам окопом сделался – буровую он будет ставить именно на гриве и больше нигде. В конце концов оппоненты попятились, уступили Корнееву.
– Ох, Николаич, не нагорело бы тебе за упрямство, – как-то сожалеюще проговорил Синюхин.
Корнеев уперся взглядом в заляпанный грязью и мазутом помост буровой, спросил тихо, не поднимая головы:
– Нога не болит?
– Чего? – не понял Синюхин.
– Нога, спрашиваю, не болит? Капканом ногу, помнишь, прихватил?
Синюхин взглянул на свои сапоги, переступил с места на место, поморщился от воспоминания.
– Как на собаке зажило. Одни только укусы остались. А знаешь, почему тебя с этой гривой так долго мотыжили? Завидуют тебе.
– Не про то говоришь. Чему завидовать? Да меня с потрохами сжуют, как только бурение закончим! В тайгу шага не дадут больше сделать.
– И все-таки завидуют. Упрямству. Тому, что гриву отстоял, буровую сберег. Другие давно уж и буровых лишились, и штатного расписания, а ты поухватистей их оказался – отстоял.
– Поухватистей… На собственную шею! Кто же мне может завидовать?
– Они.
– Кто «они»? Нечистая сила?
– Вовсе не нечистая. Разные бумажные командиры, клерки и начальники. Не смейся, их много и они – сила. Любого героя могут завалить, не только тебя. Сжуют, одни только ботинки останутся.
– Жевать долго придется.
Он вспомнил трудные дебаты в тресте, но мысль переключилась на другое. Надо будет в Малыгино наведаться, к дяде Сереге на могилу сходить. Сейчас уже нечего кипятиться, нервничать и размахивать «колотушками», как малыгинские называют кулаки. Последнее это дело, коль драка осталась позади.
Синюхин стрельнул из-под очков глазами, уловил перемену в Корнееве, сощурился выжидающе: в точку он, Синюхин, попал. Есть ведь такие люди, которые буквально нутром своим чутким ощущают, что надо завидовать, только вот мозгом, головой не могут усвоить – чему же конкретно завидовать? Открытий никаких Корнеев не сделал и вряд ли сделает, книгу не написал, диссертацию не защитил, ордена не получил – вместо всего этого одни лишь подзатыльники, – личная жизнь из-за скитаний и ползанья по болотам не сложилась, все мутно, неопределенно, так чему же завидовать? Может, тому, что, как сказывают, в мутной воде, когда ничего не видно, сплошная грязь, крупная рыба ловится?
Но, похоже, чего-то Синюхин темнит. А чего темнить, когда цель у них одна: хоть разбейся, хоть в небеса вознесись, хоть умри, что хочешь сделай, а найди то, чего ищешь.
«Все эти распри, геройство стойких оловянных солдатиков – ни к чему, – думал тем временем Синюхин, – в конце концов скважина окажется пустой, и все – клади тогда голову на плаху… А если тут все же есть нефть? Нету ее, Синюхин, нету, родной. Ни ты, ни Корнеев – не ясновидящие, ни ты, ни он не умеете смотреть сквозь земную материю, разгадывать, что там, в глуби, есть, а чего нет. Не дано, не способны! А как же насчет гусарского правила: либо грудь в крестах, либо голова в кустах? Дурак, – выругал он себя, – собственную башку не бережешь!» – раздвинул губы в кривой улыбке, вздохнул: все-таки придется класть голову на плаху. Ничего в этой гриве нет, напрасно он тогда совет дал. И корнеевское упрямство, надежда его – это мыльный пузырь, который скоро лопнет. Так почему же он, Синюхин, должен отвечать за промахи другого? Мало ли чего он мог насоветовать?
– Слушай, Николаич, – спросил Синюхин, – ты уверен, что мы найдем тут нефть?
– А ты? Ты же ухо прикладывал к земле, говорил, что слышишь ее.
– Я – нет, уже не верю в нефть.
– Хорошо, когда имеешь дело с искренним человеком. – Глаза у Корнеева сузились, в них то ли смех назревал, то ли злость – зрачки дрожали, ярились, сразу и не понять, что в них.
– Это я на всякий случай, – сказал Синюхин. – Если провалимся – тебе отвечать придется.
– Одному?
– Конечно, ты же начальник.
– Понимаю. А если победим – на пьедестал почета вместе вскарабкаемся. – Корнеев, странное дело, сохранял ровный тон. – Ох и логика же у тебя, Кириллыч!
– Все в мире относительно. Не каждому дано понять, где правда, а где кривда, где сволочизм, а где преданность другу, что такое много, а что – мало.
– Два волоса в супе – много, два волоса на голове – мало. – Корнеев, собирая кожу в жесткие скибки, провел ладонью по лицу, устало сощурился.
В последнее время он начал уставать, здорово уставать. К вечеру у него сдавали глаза, хотя ничего «бумажного» в его работе не было, припухали веки, предметы теряли резкость, расплывались, и тогда он применял бабушкино средство: брал немного спитого чая, мочил в нем вату, потом клал мокрые тампоны на глаза. Припухлость проходила, возвращалась острота зрения – чай, вернее, теин в заварке помогал. Вот и сейчас опять в глазах что-то двоится, Синюхин, стоящий рядом, совсем расплылся.
– Все в мире относительно, это-то, Кириллыч, верно. До тебя еще Эйнштейн эту мудрость доказал.
Синюхин разозлился, но мгновенно угас. Мысль его приняла новое направление: «А ведь ситуация такая, что управление остается в стороне. Они ведь там не все знают, – Синюхин поежился, но та же мысль не давала покоя. – Написать бы туда… Для этого, конечно, надо иметь особый характер, а он у тебя, Синюхин, не такой еще стойкий. Душевного пороха не хватит, понял? Но что делать, если нас скоро будут раскатывать в блин? Вызовут на ковер… Что ответишь? А?»
– Что делает человек, когда на него в горах наезжает лавина? – Синюхин неожиданно расплылся в улыбке. – Спасается. Никому не охота быть раздавленным.
Корнеев сейчас думал о том, что Синюхин принадлежит к категории людей, на которых невозможно по-настоящему обидеться. Может быть, и напрасно. Ведь колебания в такой ситуации, игра «туда-сюда» – сродни подлости, а подлость, даже если она совсем ничтожна, невидима, как воздушная пыль, нельзя оставлять без последствий. Ее надо стирать мокрой тряпкой, как стирают осевшую на подоконник уличную грязь. Не то конопляное зернышко раздуется, прорастет, превратится в ветвистое дерево. Попробуй борись тогда!
– Если будешь вести двойную игру и еще раз об этом, Кириллыч, заговоришь, – усталое лицо Корнеева отвердело, – одному из нас придется уйти с буровой. Думаю, что уйдешь ты. Понял?
«Дурак! – на лице Синюхина ничего не отразилось, ни злости, ни смятения. – Вот ты себе и подписал приговор».
– Ясное дело, – мотнул он головой, – кому нужен лось, объедающий сосновые свечи?
А ведь действительно нет вреднее животного в лесу, чем лось, обкусывающий верхушки у молодых сосен.
Кто-то позвал Корнеева. Он резко обернулся. У сходней, ведущих на буровой помост, стоял плотный низкорослый человек в телогрейке, вольно распахнутой на груди, – впрочем, человеку этому запахиваться, застегиваться не на что было: на телогрейке не было ни одной пуговицы, все выдраны с мясом, из дыр клочьями вылезала вата. На голове у него довольно ловко сидела помятая велюровая шляпа с затертой, покрытой потными пятнами лентой. К верху шляпы, наполовину накрывая ленту, была пристегнута яркая морская кокарда. Корнеев вспомнил, что эти кокарды зовут «капустами», они красиво смотрятся, когда бывают привинчены к суконному черному околышу форменной фуражки, и совсем нелепо выглядит «капуста» на потасканной шляпе. Моряк с печки бряк.
– Ну? – на чалдонский манер отозвался Корнеев.
– Котелки гну – недорого беру, – быстро, словно высыпал из решета горох, проговорил расхристанный человек, мотнул головой в сторону. Движение было резким, с головы чуть было не слетела «форменная» шляпа. – Я, земеля, на барже трубы привез. Сгружать надо.
– Все ясно, капитан, – Корнеев, скользя подошвами по сходням, съехал вниз, – молодец, что трубы доставил. Вовремя. – Быстрым взглядом окинул сосняк, в котором лежали старые, завезенные вместе с буровой трубы. Запас их был невелик – два-три дня, и бурить нечем будет. – Спасибо, капитан!
– Одним «спасибо» не отделаешься.
В сосняке, в самом центре гривы, гнездилось восемь кучно расположенных, крепких, сколоченных из неокрашенных досок балков. Корнеев заспешил по тропке к балкам. Там стоял старый, с ржавыми гусеницами «детешник» – дизельный трактор, помятый ветеран, который, прежде чем попасть в тайгу, успел, кажется, побывать на целине, затем работал в лесхозе и лишь потом попал к геологам.
У балков копошился, моя в тазу сапоги, Синюхин, пыхтел натужно, водя ладонью по шершавой кирзе. «Молодец, Синюхин – сапоги не в реке моет, не в калужине какой-нибудь холодной, а в тазу, налил туда подогретой воды и плещется. Никогда ревматизм не схватит», – подумал Корнеев.
– Слушай, Кириллыч, поднимай людей. Тех, кто спит, тех, кто не спит – всех без разбору поднимай. Трубы пришли. Я буду трактор заводить. – Корнеев отвернулся, подошел к ржавому трактору: – Ну, родимый, послужи обществу!
Намотал на диск пускача сыромятный ремешок с привязанной на конце деревянной плошкой, чтобы рука со шнура не соскакивала, набрал в грудь воздуха, подержал немного, выдохнул: «Ну!» – дернул ремешок. Тяжелый, поеденный рыжей коростой диск пускача заупрямился – не хотел поддаваться человеческой силе, скрипел ржаво, прокрутившись дважды вокруг своей оси, пускач негромко вздохнул, и все… Корнеев снова намотал на диск ремешок, снова дернул. И опять – три негромких зажатых вздоха и тишина.
– Ну, родимый, ну, целинничек, – бормотал Корнеев просяще, будто старый трактор был живым существом, – поднапрягись!
Словно откликаясь на его просьбу, после шестого рывка пускач сквозь негромкие вздохи подал голос – хриплый, застойно-оглушающий, будто над ухом начали палить из автомата.
– Ах ты мой целинничек! – Корнеев добавил газу, чтобы пускач прогрелся. Мотор заработал еще громче. Корнеев покосился через плечо на балки: как там, поднимаются ребята? Из балков на улицу высыпали люди, поругивались.
Когда пускач прогрелся и набрал силу, Корнеев стал манипулировать рычагами – надо было теперь запустить сам дизель, черный от выхлопов, копоти и застывшего масла, вытекшего из старого дырявого нутра, в прогарах и окалине. Дизель захрипел неохотно, надорванно – разбудить его было делом непростым, затряс черенком выхлопной трубы, задрожал, будто больной, потом, проснувшись разом, вдруг завыл, словно движок танка, идущего в атаку, заголосил обиженно.
– Молодец! – похвалил Корнеев, хлопнул ладонью по ржавой проплешине, украсившей бок дизеля.
Но, видно, рано похвалил: что-то в сложном, истонченном ржой и старостью нутре движка закряхтело, забряцало, запыхтело. Трактор выплюнул из прогоревшего столбика трубы черный сгусток, который, чуть повисев в воздухе, не выдержал собственной тяжести, свалился на ржавую тракторную гусеницу, проскользнув у Корнеева между руками. У движка прорвалась какая-то емкость, на землю пролилось что-то густое, вонючее, противное. Трактор всхрипнул, кашлянул и умолк. Корнеев не выдержал, выругался матом, грохнул кулаком по гнилому прогнувшемуся капоту.
– Что, начальничек, трубы вручную таскать придется, чтоб народ особо не толстел, а? – подал сзади голос тип в велюровой шляпе. Корнеев со зла хотел и его обругать, но удержался, сказал:
– Можешь сделать доброе дело? Помоги нам.
– Энтузиазм и рабочую сноровку проявить, чтоб в газете про это написали? – хмыкнул тот. – А?.. Помогу.
А ведь «моряк с печки бряк» прав: таскать, упираться, ломать хребет, доставляя трубы с баржи вручную, на себе, – дело последнее, в больницу залететь можно запросто, – там предоставят возможность вместо лесного кулеша питаться горькими лекарствами. Корнеев посмотрел на черные, измазанные маслом и гарью руки. Хоть и был он начальником, руководителем, а на начальника не походил. Начальник – чистый человек, знакомый лишь с ручкой, записной книжкой и портфелем, а Корнеев по уши в мазуте, на паровозного кочегара больше смахивает. Хрумкая сухими ветками, к трактору подошел Синюхин.
– Что, отработал механизм свое?
– Новый трактор уже вряд ли дадут. Этому организму – хана, похороны за государственный счет надо справлять.
Без техники работать трудно. Один гнилой трактор на такую огромную бригаду – это не техника, а горе, слезы. Корнеев видел как-то фильм – показывали на активе – о поиске нефти в южных штатах Америки. Техники там на каждой буровой столько, что вороне кляксу негде уронить: тракторы, бульдозеры, грузовики, юркие легковые машины, лебедки, автомобили с каротажными будками. Вертолетов полно, самолеты есть. А тут техника одна – собственные ноги да собственные руки. Еще горб, на котором можно таскать тяжести. Чем прочнее горб – тем лучше.
Корнеев первым двигался сквозь сосняк к реке, слышал, как сзади топают башмаками ребята. Сбитые движением, с сосенок поднимались здоровенные желтотелые комары, грозно взвивались в воздух, пикировали оттуда на людей.
– Ахр-ря! – рявкнул за спиной матросик в фетровой шляпе, прибивая комара, заскулил по-щенячьи.
Осенние комары, когда выдается теплый, как этот, денек, перед долгой спячкой злобствуют хуже летних, никак крови напитаться не могут.
Но вот в сосняке прорезалась светлая полоса, мутная, рыжая от осеннего тепла. Стало легче дышать, пахнуло речной сыростью, рыбьим духом, прохладой.
Баржа-плоскодонка, на которой прибыли трубы, въехала носом в песчаный берег, основательно пропоров его. У Корнеева мелькнула даже мысль: как бы не застряла баржа. Впрочем, тревога напрасная – баржа (все речные люди произносят слово «баржа» с ударением на последнем слоге, в этом сокрыт какой-то шик, что-то вольное), едва будет разгружена, приподнимет свое дно, сделается подвижной, и тогда ее собственный движок легко сдерет плоское железное тело с песка.
Гулко работал спрятанный в металлическом нутре двигатель, невольную зависть вызвал: вот это техника, живет, дышит, человеку помогает. Звонко шлепала отработанной жижей водоотливка.
На носу, прочно вцепившись в крашеный поручень сильными, как клешни, руками, стоял кто-то очень знакомый, с костистым спокойным лицом, на котором выделялся прочный шишкастый лоб, посеченный рябью кожной болезни – кажется, оспы, да вдобавок ко всему еще и шрамом. Корнеев вгляделся: Карташов!
– Здорово, дядя Володь!
– Здорово, коль не шутишь! Чего, племянничек, пешком за трубами? А техника где?
– Путевку на тот свет выписали. Скис гражданин трактор, на вечный покой попросился.
– На себе трубы будете таскать?
– На себе. А ты чего на реке делаешь, дядя Володь? Ты вроде бы в Ныйве должен быть, а не здесь. От летного дела отошел, что ль?
– Почему отошел? Продолжаю работать. На реке я, в командировке.
– Хороша командировочка! Погода сегодня – загорать можно.
– Можно, – подтвердил Карташов. – Только я не по части загара, я место для вертолетных площадок выбираю.
– Никак начинается новый этап развития авиации?
– Вдоль рек заправочные площадки ставить будем, железные танки в землю вроем, бензин по воде на баржах летом подвезем. Вертолетам не надо будет каждый раз на заправку домой ходить – все здесь, на месте получат.
– Вертолетов-то – тьфу! Одной бочки хватит, чтоб всем заправиться. Куда им столько горючки?
– Это сегодня. А завтра?
– Завтра, дядя Володь, будет тут тишь, гладь да божья благодать. Все работы свертываем. Разве не знаешь? – Корнеев сжал кулак, втискиваясь ногтями в ладонь, почувствовал, как под глазом у него задергалась тоненькая жилка.
Карташов не ответил. Корнеев поднялся по деревянной сходне на баржу. Трубы были ровными рядами уложены на железной палубе и туго перехвачены тросами, чтобы в шторм – хотя какой на реке может быть шторм? – или если болванка прихватит, не сдвигались в сторону, не клали баржу набок. Трос сдернули, свернули в бухту, оттащили в сторону, накрыли брезентом – если бухта под дождь попадет, от такого троса надежности не жди, в самую неподходящую минуту размотается и лопнет, ровно прелая веревка.
– Давай, Кириллыч, – наклоняясь, пробормотал Корнеев, взялся за один конец трубы, – покажем рабочему классу пример.
Синюхин молча подхватил другой конец, зашатался под тяжестью.
– Богатыри, – пробурчал Карташов, – третьего возьмите.
Набряк день страшной усталостью, пока они носили трубы, дрожала, гудела земля под ногами, будто под ней ничего не было, лопались на ладонях волдыри, окропляя кожу едкой, прозрачной жидкостью, сочилась из-под ногтей сукровица. По лицу жестко били сосновые ветки, норовили выколоть глаза, рассечь кожу, пот разъедал ноздри, губы, веки, мешал дышать, люди иногда падали, но тут же поднимались, снова подставляли спину, плечи под торец бурильной трубы, волокли на буровую. Казалось, конца этой работе не будет – гора труб не уменьшалась.
Но вот что-то шевельнулось в этой куче, в ворохе труб возникло движение. Уже перед самым закатом, когда горизонт стал брусничным и на нем заструились темные живые ленты перистых облаков, будто выползающие откуда-то из-под земли, из самого ее чрева, гора труб как-то враз истаяла, оставив после себя на палубе огромное ржавое пятно осыпи.
– Палубу кто будет после себя мыть? – ярился удалой мореход в фетровой шляпе. Кокарда его в вечернем свете казалась всамделишно золотой, сотворенной из настоящего червонного металла. – Александр Сергеевич Пушкин? Михаил Юрьевич Лермонтов?
Измотанный Корнеев глянул на него исподлобья.
– Верно. Николай Алексеевич Некрасов!
– Слушай, петух с кокардой, – крикнул Карташов, – возьми швабру, ведро, зачерпни воды из реки и вымой сам. Не умрешь!
Что-то неуступчивое появилось в лице бравого морехода, щеки вобрались под скулы, взгляд стал тяжелым. Несколько секунд он колебался, потом все же покорился. Молча прошел на корму, извлек из ящика, окрашенного в пожарный сурик, ведро с привязанной к дужке веревкой, закинул в воду.
Перед тем как втащить ведро на палубу, задрал голову – по небу проплыл вертолет с испачканным масляными разводами пузом. Машина прошла низко, целя носом на Малыгино, на закраину села, где находилась вертолетная площадка – обширный бревенчатый помост, уложенный на землю.
– Брательник твой прилетел, – проговорил Карташов, обращаясь к Корнееву.
– Вижу.
– Не хватает Вовки вашего, а так все бы в сборе были. Может, посидим вечерком, погутарим, а?
Какой там «посидим, погутарим»! Перед глазами красные блохи пляшут, норовят вцепиться в нос, в губы, от усталости дрожат-ноют не только мышцы, но и все кости, позвоночник разваливается, не хочет держать осоловелое, разбитое тело, ноги подкашиваются, руки ходуном ходят, будто в малярийном приступе, в пальцах стакан с чаем не удержать… Доволочь бы тяжелое тело до постели и опрокинуться на нее.
– Посидим, погутарим, – согласился Корнеев.
– Тогда я имущество в узел скручу, у тебя заночую. – Карташов пошел в кубрик собирать вещи, которые у него, как у всякого командированного, уместились бы в свертке из газеты.
Небо между тем совсем потемнело, солнце завалилось за обрезь земли, будто в глубокий сундук ухнуло, оставив наверху лишь жалкий отсвет свой – печальный малиновый призрак, который дрожал предсмертно, будто в агонии, сыпал искрами, таял на глазах. Комары, эти «четырехмоторные», с грозным гудом начали носиться над самой рекой. Из воды то тут то там, невидимые во тьме, со звонким шлепаньем вылетали литые тела, и визжащий, словно сорвавшийся в штопор «четырехмоторный» оказывался в желудке проворного сырка или пыжьяна.
Карташов, светя себе фонариком, спустился с баржи на обсушенный солнечным жаром, еще теплый песок. Скользнул лучом фонаря по темной, шевелящейся от рыбьих всплесков воде. На барже гулко забряцали цепью, по сходне на берег спустился бывалый мореход, знаток Пушкина и Лермонтова. Песок скрипел под ним, словно снег. Подошел, кашлянул.
– Чего тебе? – спросил Карташов.
– Я не к вам, – покхекал в кулак бывалый мореход. – К нему вон. – Он покосился на Корнеева.
– Валяй, – разрешил Карташов.
– Рабочие вам нужны? – спросил моряк у Корнеева и прихлопнул ладонью шляпу. Чуть руку не ободрал о кокарду. В макушку ему, повыше «капусты», впился комар.
– А что, умеешь работать?
Бывалый мореход пожал плечами:
– Вашим сегодня я, например, подсоблял.
– Угу, – хмыкнул Корнеев, – во имя Александра Сергеевича. А чего с баржи сбегаешь? Романтическую свою должность решил сунуть псу под хвост?
– На зиму якорь бросаем. Становимся.
– A-а, на зиму. На буровой работал когда-нибудь?
– Не приходилось.
– Где живешь?
– Здесь же, под Малыгином, на заимке.
– Фамилия как?
– Окороков.
– Ладно, запомню. Сдашь вахту на своем боевом корабле – приходи, поговорим.
В вечернем густом мраке, в котором тяжело ворочалась, вздыхала, устав от дневных забот и тягот, река, что-то шевельнулось – то ли рыба большая из воды вымахнула и своим грузным телом разрубила воздух, будто колуном, то ли весло о тугую речную плоть шлепнуло, то ли еще что – может, катер без единого сигнального огня прошествовал мимо.
Послышалось близкое:
– Эй, на берегу! – это был голос Константина, беспечный, звонкий, нетерпеливый, голос друга всем и вся, связчика, готового в любую минуту прийти на помощь незнакомому человеку. – Отзовитесь!
– На баржу правь, – прокричал в ответ Сергей. – Видишь?
Из темноты показался ладный узкий нос лодки, сработанной здешними умельцами, в воду в последний раз опустились мокрые весла, и вот поднялся, заслонив головою темное небо, Костя Корнеев. Был он в потертой кожаной куртке, наброшенной на плечи.
