Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон
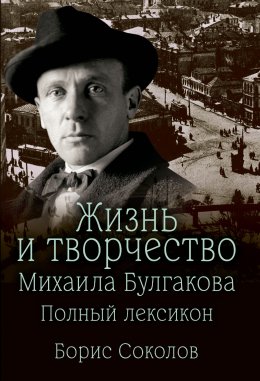
© Соколов Б.В., 2025,
© ООО «Издательство «Вече», 2025
Предисловие
В этой книге собраны материалы, отражающие жизнь и творчество великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Они рассказывают о родных и близких писателя, о его друзьях и литературных современниках, о том, как Булгаков, один из самых популярных советских драматургов 20‐х годов, в 30‐е годы вынужден был замолчать, продолжая, однако, писать «в стол» свой главный роман «Мастер и Маргарита». Рассказывается о его сатирических повестях, одна из которых, «Собачье сердце», пользуется неизменной популярностью и сегодня. Большая статья посвящена роману «Белая гвардия», где на личном опыте описывается начало гражданской войны в Киеве. В этом романе, по словам поэта Максимилиана Волошина, Булгаков сумел запечатлеть «душу русской усобицы». Читатель сможет разгадать загадки многих булгаковских произведений, узнает, кто стали прототипами их героев, как отразились в творчестве Булгакова политические реалии Советской России и, в частности, образы таких вождей большевиков, как Ленин и Троцкий. Большое внимание уделено взаимоотношениям Булгакова и Сталина, и, в частности, находится неожиданная разгадка тому, почему Сталин запретил постановку посвященной ему булгаковской пьесы «Батум».
Произведения
Романы
«Белая гвардия»
Роман. Впервые опубликован (не полностью): Россия, М., 1924, № 4; 1925, № 5. Полностью: Булгаков М. Дни Турбиных (Белая гвардия). т. 1. Париж: Concorde, 1927. т. 2. Париж: Издательская фирма Е.А. Бреннера «Москва», 1929. Через несколько недель после публикации первого тома в парижском издательстве Concorde, в Риге издательством «Литература» Карла Расиньша было напечатано «полное издание» романа, в котором было дописано окончание по четвертому акту второй редакции пьесы «Дни Турбиных». В архиве Булгакова в ОР РГБ хранится экземпляр этого издания с карандашной пометкой, предположительно, сделанной самим Булгаковым на странице 194: «Отсюда начиная – бред, написанный неизвестно кем». Кроме окончания, в рижском издании была несколько сокращена первая часть. Первая авторская редакция, которая должна была публиковаться в журнале «Россия» и в наибольшей степени отражает волю автора, опубликована: Булгаков М.А. Белая гвардия / Подготовка текста и послесл., публикация 21 главы И.Ф. Владимирова. М.: Наш дом – L’Age d’Homme, 1998.
Первая редакция романа «Белая гвардия», публикация которой не была окончена в журнале «Россия» из-за закрытия журнала, в наибольшей мере отражала авторский замысел Булгакова, тогда как позднейшая редакция 1929 г., в которой впервые было опубликовано значительно измененное по сравнению с первоначальным окончание романа, отражала влияние цензуры. Здесь, как и в пьесе «Дни Турбиных», содержался отсутствующий в первоначальном тексте намек на то, что Мышлаевский будет служить в Красной армии. В действительности прототип Мышлаевского, киевский друг Булгакова Н.Н. Сынгаевский, в Красной армии не служил ни дня, благополучно эмигрировав.
Б. г. – во многом автобиографический роман, основанный на личных впечатлениях писателя о Киеве (в романе – Городе) конца 1918 – начала 1919 г. Семья Турбиных – это в значительной степени семья Булгаковых. Турбины – девичья фамилия бабушки Булгакова со стороны матери, Анфисы Ивановны, в замужестве – Покровской. Б. г. была начата в 1922 г., после смерти матери писателя, В.М. Булгаковой, 1 февраля 1922 г. (в романе смерть матери Алексея, Николки и Елены Турбиных отнесена к маю 1918 г. – времени ее брака с давним другом, врачом Иваном Павловичем Воскресенским (1877–1966), которого недолюбливал Булгаков). Рукописи романа не сохранилось. Как говорил Булгаков своему другу П.С. Попову в середине 20‐х гг., Б. г. была задумана и написана в 1922–1924 гг. По свидетельству перепечатывавшей роман машинистки И.С. Раабен, первоначально Б. г. мыслилась как трилогия, причем в третьей части, действие которой охватывало весь 1919 г., Мышлаевский оказывался в Красной армии. Характерно, что отрывок из ранней редакции Б. г. «В ночь на 3‐е число» в декабре 1922 г. был опубликован в берлинской газете «Накануне» с подзаголовком «Из романа «Алый мах». В качестве возможных названий романов предполагавшейся трилогии в воспоминаниях современников фигурировали «Полночный крест» и «Белый крест». В фельетоне «Самогонное озеро» (1923) Булгаков так отозвался о Б. г., над которой тогда работал: «А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, от которого небу станет жарко…» Однако во второй половине 20‐х гг. в беседе с П.С. Поповым назвал Б. г. романом «не-удавшимся», хотя «к замыслу относился очень серьезно». В автобиографии, написанной в октябре 1924 г., Булгаков зафиксировал: «Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей». Но писателя все больше одолевали сомнения. 5 января 1925 г. он отметил в дневнике: «Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и «Белая гвардия» не сильная вещь».
Прототипами героев Б. г. стали киевские друзья и знакомые Булгакова. Так, поручик Виктор Викторович Мышлаевский списан с друга детства Николая Николаевича Сынгаевского (1895–1968). Первая жена Булгакова Т.Н. Лаппа следующим образом описала Сынгаевского в своих воспоминаниях:
«Он был очень красивый… Высокий, худой… голова у него была небольшая… маловата для его фигуры. Все мечтал о балете, хотел в балетную школу поступить. Перед приходом петлюровцев он пошел в юнкеры». Портрет персонажа во многом повторяет портрет прототипа: «…И оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб был чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок». Тут черты Сынгаевского сознательно соединены с приметами сатаны – разными глазами, мефистофелевским носом с горбинкой, косо срезанными ртом и подбородком. Позднее эти же приметы обнаружатся у Воланда в романе «Мастер и Маргарита».
Любопытно, что, по свидетельству Н.К. Крупской, разные глаза были у Ленина. Булгаков, работавший под началом Крупской в ЛИТО Главполитпросвета, возможно, знал об этом факте, что могло подтолкнуть его к мысли сделать вождя большевиков прототипом Воланда. А в «Белой гвардии» с Аполлионом (Авадоном) – ангелом-губителем Апокалипсиса, повелителем бездны, смерти и ада, предводителем полчищ саранчи, отождествляется военный вождь и создатель Красной армии Л.Д. Троцкий. Кстати сказать, в Средние века Авадона рассматривали как могущественного военного советника ада. К Троцкому же в какой-то мере восходит и Абадонна (Авадон) «Мастера и Маргариты», одинаково губительно относящийся ко всем воюющим сторонам. Но находившееся в тот момент под запретом имя Троцкого уже не упоминалось.
Николай Николаевич Сынгаевский жил на Малой Подвальной улице (в романе – Малая Провальная). Карум был абсолютно прав в том, что Сынгаевский был вторым мужем известной русско-польской балерины Брониславы Нижинской (1891–1972), которая была сестрой великого танцовщика Вацлава Нижинского (1889–1950). Оба они танцевали в труппе хореографа и танцовщика Михаила Мордкина. Б. Нижинская родилась в январе 1891 г. Сынгаевский мог быть немного моложе своей жены, но уж точно не на десять лет. При въезде в США как дату рождения он указал датой рождения 3 ноября 1895 г., но нельзя исключить, что Николай Николаевич, как и многие эмигранты, предпочел немного омолодить себя. В романе возраст Мышлаевского не указан, а в первой редакции пьесы «Дни Турбиных», называвшейся «Белая гвардия» и наиболее близкой к роману, Мышлаевскому, правда, произведенному уже в штабс-капитаны, в конце 1918 г. – 27 лет (в окончательной редакции, где Алексей Турбин стал полковником-артиллеристом и постарел с 30 до 38 лет, Мышлаевский стал его ровесником и тоже состарился до 38 лет, превратившись в кадрового офицера). В этом случае, если возраст Мышлаевского совпадал с реальным возрастом Сынгаевского, то Николай Николаевич должен был родиться в 1891 г., как и Михаил Булгаков, как и Бронислава Нижинская. Да и Т.Н. Лаппа, сама родившаяся 23 ноября (5 декабря) 1892 г., в беседе с Л.К. Паршиным подтвердила, что Сынгаевский, как и сам Булгаков, равно как и другие гимназические друзья мужа, все были «нашего примерно возраста». Так что насчет десятилетней разницы в возрасте между Сынгаевским и его женой Карум, который тереть не мог не только Булгакова, но и его друзей-собутыльников, явно приврал, стараясь скомпрометировать Николая Николаевича и представить его молодым Альфонсом при стареющей прима-балерине.
Т.Н. Лаппа следующим образом описала семью Сынгаевских:
«У них большая семья была. Варвара Михайловна дружила раньше с матерью Сынгаевского. Они жили на Мало-Подвальной улице. Маленький домик у них был, в саду… Он (Сынгаевский. – Б. С.)… все мечтал о балете, хотел в балетную школу поступить. Перед приходом петлюровцев он пошел в юнкеры…»
Вероятно, время поступления в юнкера Сынгаевского Татьяна Николаевна по памяти значительно сдвинула, так как из дневниковой записи Надежды Афанасьевны Булгаковой от 16 сентября 1916 г. следует, что Сынгаевский в тот момент был в Москве и собирался на фронт: «Не могу отделаться от одного впечатления: грустных глаз Коли Сынгаевского вчера в передней, грустных, больших не по обычному и детских. 20‐го он едет со своей артиллерийской бригадой на фронт. Вот. Ужасно почему-то оставило это во мне большое впечатление». Между прочим, тогда в Москве Булгаков с Сынгаевским разминулись буквально на пару дней, так как Михаил с Тасей в начале 20‐х чисел сентября приехали в Москву на три дня в связи с призывом.
Между прочим, из этой дневниковой записи можно сделать вывод о том, что Сынгаевский успел повоевать и получить офицерский чин. А то, что он кончил юнкерское училище в 1916 г. и сделал это, скорее всего, после университета (последующая успешная коммерческая деятельность выдает в нем неплохое образование), позволяет предположить, что они с Булгаковым были примерно одного возраста. Кстати сказать, Сынгаевский вполне мог быть выпущен из училища подпоручиком, а в дальнейшем, уже при Временном правительстве, когда чины раздавались довольно обильно, его могли произвести и в поручики, как и Мышлаевского.
Бронислава Нижинская в 1919 г. открыла балетную «Школу движения» в Киеве, которую посещал Сынгаевский, и между ними завязался роман. К тому времени балерина рассталась со своим первым мужем – танцовщиком Александром Кочетовским, от которого у нее было двое детей. Сын Лев погиб в автомобильной аварии, а дочь Ирина пошла по стопам матери и тоже стала известной балериной. Она действительно уехала из Киева в 1920 г. и в следующем году стала главным хореографом труппы Сергея Дягилева в Париже. Причем для того, чтобы Нижинской и ее матери разрешили эмигрировать из Киева, потребовалась, по свидетельству жены Вацлава Нижинского Ромолы Нижинской, петиция к Ленину, подписанная лечащими врачами Вацлава, больного тяжелой формой шизофрении. В этой петиции эмиграция Брониславы и ее матери обосновывалась необходимостью ухода за сыном и братом. Вероятно, Булгаков знал об этой истории, и она могла подтолкнуть его к тому, чтобы поэту Ивану Бездомному в «Мастере и Маргарите» был поставлен диагноз шизофрения. В разрешении на эмиграцию Брониславе Нижинской и ее родне было отказано. Но она вместе с Сынгаевским смогла прогастролировать во всех пограничных городах между Киевом и польской границей, а затем перейти границу, которая тогда была еще не на замке. Кстати сказать, первый контракт о работе танцовщиком у Сергея Дягилева Сынгаевский подписал в Париже еще 11 ноября 1920 г. До 1938 г. Нижинская и Сынгаевский оставались в Европе, преимущественно во Франции. Сынгаевский танцевал партию Шаха в поставленном ей балете «Спящая принцесса». В 1935 г. Сынгаевский, управлявший автомобилем, попал в аварию вблизи Парижа, во время которой погиб его пасынок Лев, а он сам и падчерица Ирина были серьезно ранены. В 1938 г. Нижинская с Сингаевским эмигрировали с США, где основали новую балетную школу. Нижинская была также возлюбленной Федора Шаляпина, но никогда не была замужем за ним. Впрочем, этот роман, как кажется, был чисто платоническим. До самой смерти Николая Сынгаевского, превратившегося в Америке в Nicolas Singaevsky, в 1968 г. в Лос-Анджелесе они с Брониславой были вместе. Николай был ее импресарио, а иной раз и переводчиком, так как по-английски она говорила не слишком бегло. Интересно, что прототипу Мышлаевского, в отличие от героя, который так и не стал Мышлаенко, фамилию все-таки пришлось сменить. Он стал Николя Сингаевски, или, если произносить на американский манер, Николасом Сингаевски. Возможно, Булгаков знал об этой перемене имени и обыграл ее в пьесе.
Бронислава пережила своего второго мужа на четыре года и скончалась в феврале 1972 г. в Лос-Анджелесе. Были ли дети у Сынгаевского и Нижинской, неизвестно. К сожалению, мемуары Брониславы Нижинской, так называемые «Ранние воспоминания», доведены только до начала Первой мировой войны, т. е. обрываются задолго до ее знакомства с Сынгаевским.
Не исключено, что имя жены Сынгаевского – Бронислава подсказала Булгакову отчество одного из героев «Белой гвардии» – штабс-капитана Александра Брониславовича Студзинского. В романе он представлен чистым поляком, что подчеркивается многочисленными полонизмами в его речи. В пьесе же «Дни Турбиных» о польском происхождении Студзинского, произведенного здесь уже в штабс-капитаны, свидетельствуют в первую очередь фамилия и отчество. Хотя в одном из черновиков пьесы остался очень примечательный диалог между Студзинским, выправившим себе новые документы с новой украинской фамилией, чтобы уйти вместе с петлюровцами из Города, к которому приближаются красные, и Мышлаевским:
«Студзинский. Сейчас. (Достает бумагу. Мышлаевскому.) На.
Мышлаевский (читает). Так… гм… Борисович… Ты находишь, что это красивее, чем Брониславович?
Студзинский. Все у тебя шутки.
Мышлаевский. Да какие тут шутки! Дело совершенно серьезное. Студзенко… Черт знает, что за фамилия! Какой ты Студзенко, когда тебя акцент выдает? Когда с тобой заговоришь, так кажется, что кофе по-варшавски пьешь…»
На предложение Студзинского пойти вслед за петлюровцами штабс-капитан выдвигает аргумент, окрашенный явной булгаковской симпатией: «Так. Мерси. С обозами этой рвани… Мышлаенко… Нет, знаешь, я уж Мышлаевским останусь».
Однако подчеркивать польский акцент Студзинского в пьесе не было никакой нужды, так что от этого колоритного диалога Булгаков в конце концов отказался.
Что же касается Мышлаевского, то у него и в романе, и в пьесе польская – только фамилия. То же самое, вероятно, можно сказать и о Николае Николаевиче Сынгаевском, фамилия которого – украинская, а не польская. Хотя в дальнейшем, женившись на польке, польский язык он, вероятно, выучил.
Прототипом поручика Шервинского послужил еще один друг юности Булгакова Юрий (Георгий) Леонидович Гладыревский (1898–1968), певец-любитель (это качество перешло и персонажу), служивший в войсках гетмана Павла Петровича Скоропадского (1873–1945), но не адъютантом. Потом он эмигрировал. Интересно, что в Б. г. и пьесе «Дни Турбиных» Шервинского зовут Леонид Юрьевич, а в более раннем рассказе «В ночь на 3‐е число» соответствующий ему персонаж именуется Юрий Леонидович. В этом же рассказе Елена Тальберг (Турбина) названа Варварой Афанасьевной, как и сестра Булгакова В.А. Булгакова, послужившая прототипом Елены. Капитан Тальберг, ее муж, был во многом списан с мужа Варвары Афанасьевны, Леонида Сергеевича Карума (1888–1968), немца по происхождению, кадрового офицера, служившего вначале Скоропадскому, а потом большевикам, у которых он преподавал в стрелковой школе. Любопытно, что в варианте финала Б. г., в журнале «Россия» доведенном до корректуры, но так и не опубликованном из-за закрытия этого печатного органа, Шервинский приобретал черты не только оперного демона, но и Л.С. Карума: «– Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский.
Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кукольным.
– Это ложь, – вскричала во сне Елена. – Вас стоит повесить.
– Не угодно ли, – ответил кошмар. – Рискнете, мадам.
Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда – золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон…
– Кондотьер! Кондотьер! – кричала Елена.
– Простите, – ответил двуцветный кошмар, – всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.
– А смерть придет, помирать будем… – пропел Николка и вышел.
В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи».
Интересно, что в реальной жизни к профессиональному искусству из прототипов героев «Белой гвардии» имел отношение только прототип Мышлаевского Н.Н. Сынгаевский, который стал профессиональным балетным танцовщиком, причем сразу же после падения Скоропадского. А вот прототип Шервинского Юрий Гладыревский в опере никогда не пел и после падения Скоропадского продолжил службу у белых.
Можно сказать, что Булгаков в какой-то мере наделил Шервинского судьбой Сынгаевского, тогда как основной прототип, Юрий Гладыревский, до конца честно сражался на стороне белых, вместе с ними эмигрировал, а в эмиграции никаким искусством не занимался. Подобно Мышлаевскому, Сынгаевский, несомненно, обладал организаторскими и деловыми способностями, иначе не был бы многолетним успешным импресарио-менеджером у Брониславы Нижинской. Можно предположить, что, придавая Мышлаевскому и Студзинскому черты опытных боевых офицеров, Булгаков использовал свой опыт общения с русскими офицерами на фронте Первой мировой войны в 1916 г., когда несколько месяцев работал в полевых госпиталях на Юго-Западном фронте, а также в еще большей степени свое знакомство с офицерами-белогвардейцами в период пребывания в составе Вооруженных сил Юга России на Северном Кавказе в конце 1919 – начале 1920 г.
Вероятно, значимы для Булгакова инфернальные черты у таких героев, как Мышлаевский, Шервинский и Тальберг. Последний неслучайно похож на крысу (гетманская серо-голубая кокарда, щетки «черных подстриженных усов», редко расставленные, но крупные и белые зубы», «желтенькие искорки» в глазах – в «Днях Турбиных» он прямо сравнивается с этим малоприятным животным). Крыс, как известно, традиционно связывают с нечистой силой. Всем троим, очевидно, в последующих частях трилогии (а до закрытия журнала «Россия» в мае 1926 г. Булгаков, скорее всего, думал продолжить Б. г.), предстояло служить в Красной армии своего рода наемниками (кондотьерами), таким образом спасая свои шеи от петли. Глава же Красной армии председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий в романе прямо уподоблен сатане. Булгаков предсказал в финале романа два варианта судьбы участников Белого движения – либо служба красным с целью самосохранения, либо гибель, которая суждена Николке Турбину, как и брату рассказчика в «Красной короне» (1922), носящему то же имя.
В результате публикации Б. г. сильно испортились отношения Булгакова с сестрой Варей и Л.С. Карумом, а также со знакомым поэтом Сергеем Васильевичем Шервинским (1892–1991), чьей фамилией был награжден не самый привлекательный персонаж романа (хотя в пьесе «Дни Турбиных» он уже гораздо симпатичнее).
В Б. г. Булгаков стремится показать народ и интеллигенцию в пламени гражданской войны на Украине. Главный герой, Алексей Турбин, хоть и явно автобиографичен, но, в отличие от писателя, не земский врач, только формально числившийся на военной службе, а настоящий военный медик, много повидавший и переживший за три года мировой войны. Он в гораздо большей степени, чем Булгаков, является одним из тех тысяч и тысяч офицеров, которым приходится делать свой выбор после революции, служить вольно или подневольно в рядах враждующих армий. В Б. г. противопоставлены две группы офицеров – те, кто «ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку», и «вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь». Зная результаты гражданской войны, Булгаков на стороне вторых. Лейтмотивом Б. г. становится идея сохранения Дома, родного очага, несмотря на все потрясения войны и революции, а домом Турбиных выступает реальный дом Булгаковых на Андреевском спуске, 13.
Булгаков социологически точно показывает массовые движения эпохи. Он демонстрирует вековую ненависть крестьян к помещикам и офицерам и только что возникшую, но не менее глубокую ненависть к немцам-оккупантам. Все это и питало восстание, поднятое против немецкого ставленника гетмана П.П. Скоропадского лидером украинского национального движения С.В. Петлюрой. Для Булгакова Петлюра – «просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года», а стояла за этим мифом «лютая ненависть». Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, и спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии.
«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове «офицерня»… Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять…
– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!
В финале Б. г. «только труп и свидетельствовал, что Пэттура не миф, что он действительно был…». Труп замученного петлюровцами еврея у Цепного моста, трупы сотен, тысяч других жертв – это действительность гражданской войны. А на вопрос: «Заплатит ли кто-нибудь за кровь?» – Булгаков дает уверенный ответ: «Нет. Никто».
В тексте романа, который Булгаков отдал в журнал «Россия», слов о цене крови еще не было. Но позднее, в связи с работой над пьесой «Бег» и зарождением замысла романа «Мастер и Маргарита» вопрос о цене крови стал одним из основных, и соответствующие слова появились во втором томе парижского издания романа.
Тут Булгаков, возможно, ориентировался на следующую мысль генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса (1874–1937), выраженную в книге «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале» (1922): «Еврейские главари советской власти на крови христианской интеллигенции взрастили и закалили российский пролетариат для завершения кровавой большевистской эпопеи кровавыми еврейскими погромами.
Разрешала ли когда-нибудь кровь «еврейский вопрос?»
Никогда.
«Еврейский вопрос» в глубоком значении – это вопрос идейный. Преследования, насилия, избиения не разрешают идей, а утверждают их последователей и создают им ореол мучеников, жертв. Так, в первые три века ужасных гонений, изуверских истреблений последователей идей Христа христианство укрепилось, разрослось и победило окончательно мир».
Дитерихс утверждал: «Массовое засилие евреями высших административных и политических должностей советских органов управления, особые привилегии, которыми пользуются эти лица, служат только подтверждением народной молвы о роли евреев в современных событиях в России. Провозглашенные русско-еврейскими главарями большевистского учения принципы народовластия, проповедуемые ими высокие лозунги всемирного равенства, братства и свободы не только не разрешили в России исторического, больного и мрачного «еврейского вопроса», а, наоборот, усугубили его, и едва ли можно сомневаться в неизбежности в недалеком будущем невероятных массовых, кровавых еврейских погромов. Десятки тысяч Ицек, Мовшей, Срулей, Сар, Ривок и прочих бывших граждан Израиля, а ныне жителей различных грязных местечек Теофиполей, Белгородок, Чарторий и Межибужий заплатят разгромами, разорением, имуществом и жизнью за социальные, кровавые и изуверские эксперименты своих единоплеменников Бронштейнов, Цедербаумов, Тобельсонов, Голощекиных и Юровских, и едва ли кто-либо способен предотвратить эти новые потоки крови, грядущий ужас насилий над еврейской голытьбой со стороны обманутой и изнасилованной толпы народов России».
Булгаков, весьма настороженно относившийся к евреям, вместе с тем был категорическим противником погромов, и именно убийство еврея становится символом всех страданий, которые претерпел город под властью Петлюры. Кровью же, как был убежден писатель, не разрешается не только еврейский вопрос, но и ни один серьезный вопрос прошлого и настоящего.
Надо сказать, что Дитерихс, возглавлявший следственную комиссию по расследованию убийства царской семьи, отличался патологическим антисемитизмом и без каких бы то ни было оснований считал убийство Николая II ритуальным убийством. Дитерихс также был главнокомандующим армии Колчака в 1919 г. и Правителем Дальнего Востока и Земским Воеводой – командующим Земской ратью в 1922 г. Его сыном от первого брака с Марией Александровной Повало-Швейковской был режиссер МХАТа Николай Михайлович Горчаков (Дитерихс) (1898–1958), поставивший «Кабалу святош» и впоследствии поссорившийся с Булгаковым из-за разногласий по поводу инсценировки «Виндзорских проказниц» Уильяма Шекспира (1564–1616). К счастью для Горчакова, его отец развелся с его матерью еще до революции 1917 г., и поэтому при советской власти ему не ставили родство с одним из руководителей Белого движения. Его сестре, Наталье Михайловне Полуэктовой (Дитерихс) (1902–1994), повезло меньше. 13 лет она провела в лагерях и ссылке и была реабилитирована только в 1992 г.
В символическом контексте можно воспринимать убийство еврея Фельдмана при вступлении петлюровцев в город и убийство безымянного еврея у Цепного моста в тот момент, когда украинские войска город оставляют. При этом Фельдман движим благородным порывом – позвать врача для жены, у которой начались родовые схватки. Именно это вывело его на улицу в тот момент, когда в город вступают петлюровцы. Но он сам же навлекает на себя смерть «не той» бумажкой, доказывающей, что он поставлял припасы гетманской армии.
Этот эпизод может служить иллюстрацией еще одной мысли Дитерихса: «Из среды русского народа вышел Ленин (о еврейском происхождении вождя большевиков Дитерихс в то время не знал. – Б. С.), но никто не скажет, что весь русский народ состоит из Лениных или исповедует ленинские принципы. В Англии в свое время появился знаменитый Джек – потрошитель животов, но никто не делал из него ответственным весь английский народ. Но довольно, чтобы из среды еврейского племени появился один Бронштейн или какой-нибудь еврей, обвиняемый в ритуальном убийстве или в каком-либо другом преступлении против общества, и весь еврейский народ будет считаться солидарным с Бронштейном или другим преступником и ответственным, как ответственны перед обществом эти преступники.
В существовании такого исключительного явления для еврейского народа повинны больше всего сами представители этого племени».
В варианте же финала, который так и не успел появиться в «России», данное место звучало иначе: «Петурра!.. Петурра!.. Петурра… Петурра… хрипит Алексей… Но Петурры уже не будет… Не будет, кончено. Вероятно, где-то в небе петухи уже поют, предутренние, а значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась, свилась в клубок в далях за Лысой Горой и более не вернется. Кончено». Здесь лидер украинского национального движения уподоблен даже не просто мифу, а нечистой силе, исчезающей на рассвете с первым пением петухов (позднее в «Мастере и Маргарите» вот так же исчезают Гелла и Варенуха, оставляя в покое несчастного Римского).
В Б. г. Булгаков использует мотив «оборачиваемости» большевиков и петлюровцев. Отметим, что в действительности многие деятели украинского национального движения и части петлюровской армии нередко в ходе гражданской войны или уже после ее окончания переходили на сторону большевиков либо, по крайней мере, признавали советскую власть. Так, один из руководителей Центральной Рады и Директории известный писатель Владимир Кириллович Винниченко (1880–1951) в 1920 г. короткое время входил в состав Компартии Украины и украинского Совнаркома (правда, впоследствии он эмигрировал). Уже после окончания гражданской войны вернулся в СССР бывший председатель Центральной Рады известный историк Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934). Перешел к большевикам и один из ближайших соратников Петлюры, генерал-хорунжий армии УНР Юрий Осипович Тютюнник (1891–1930), выпустивший в 1924 г. в Харькове на украинском языке мемуары «С поляками против Украины», которые охарактеризовал как «акт обвинения Петлюры и петлюровщины». Позднее он работалй в украинской кинематографии и, в частности, в 1928 г. написал сценарий для фильма Александра Петровича Довженко (1894–1956) «Звенигора», что, однако, не спасло его от репрессий. В феврале 1929 г. Ю.О. Тютюнник был арестован по ложному обвинению в членстве в мифической Украинской военной организации и 20 октября 1930 г. расстрелян на Лубянке. В 1997 г. он был реабилитирован Генеральной прокуратурой Украины. А.П. Довженко также служил в армии УНР в конце 1917 – начале 1918 г. По некоторым данным, он участвовал в подавлении большевистского восстания на заводе «Арсенал», о чем снял фильм «Арсенал» (1929), но уже с просоветских позиций. Прототип одного из персонажей Б. г., ворвавшегося в город петлюровского полковника Болботуна, полковник Петр Федорович Болбочан (1883–1919), ранее командовавший 5‐м Запорожским полком в армии Скоропадского, в ноябре 1918 г. встал на сторону Директории и участвовал во взятии Киева, а спустя полгода возглавил антипетлюровский заговор и был расстрелян по приказу Петлюры. Между украинскими социалистами, к которым принадлежали и Петлюра, и Винниченко, и Тютюнник, и большевиками еще и в 20‐е гг. не было непроходимой пропасти. Булгаков же в Б. г. старался дать понять читателям, что насилие исходило от большевиков никак не в меньшей степени, чем от их противников. Большевистский миф, по цензурным условиям, он вынужден разоблачать иносказательно, намеками на полное сходство красных с петлюровцами (последних ругать не запрещалось). Это проявилось, в частности, в следующем эпизоде: «По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты…» Этот эпизод был купирован в советских изданиях Б. г. 60–80‐х гг., ибо не укладывался в пропагандистский стереотип, согласно которому красный цвет и насилие над человеком, да еще проповедующим гражданские права, несовместимы. Для Булгакова и большевики, и петлюровцы в деле равнозначны и выполняют одну и ту же функцию, поскольку «нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.
Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся».
Возможно, Булгаков был знаком с цитатой из «Правды», приведенной в книге С.П. Мельгунова «Красный террор в России» (1923): «Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодный амбар, раздевала догола и избивала шомполами».
Показательно, что в варианте заключительной части Б. г., так и не напечатанном в журнале «Россия», Алексей Турбин, сбежавший от петлюровцев, ожидает прихода красных и видит сон, в котором его преследуют чекисты: «И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папахе. И это тот самый, которого Турбин ранил в декабре на Мало-Провальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги? Враги, черт их возьми! Неужели же теперь они соединились? О, если так, Турбин пропал!
– Берите его, товарищи! – рычит кто-то. Бросаются на Турбина.
– Хватай его! Хватай! – орет недостреленный окровавленный оборотень, – тримай його! Тримай!
Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно – Турбин всегда при пиковом интересе, Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет.
Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет».
По Булгакову, все власти, сменяющие друг друга в гражданской войне, оказываются враждебны интеллигенции. В Б. г. он показал это на примере петлюровцев, в фельетонах «Грядущие перспективы» (1919) и «В кафэ» (1920) – на примере красных, и, наконец, в пьесе «Бег» (1928) – на примере белых.
Генерал-лейтенант колчаковской армии К.В. Сахаров вспоминает в книге «Белая Сибирь» (1923), какой была ночь во время «ледяного похода» белых от Омска до Читы: «Темная ночь, зимняя, глубокая, без просвета и без звезд, окутала землю. Улицы тонули в тумане, сквозь который мутными пятнами кое-где просвечивали костры. Часовые у ворот и дозорные нервно окликали каждую тень». Этот ночной пейзаж навел генерала на грустные думы: «Шестой год скитаний – сколько принесено за это время жертв для счастья родной страны. Личное счастье, семья, здоровье, кровь, и самая жизнь. И за все это – очутиться загнанными где-то в глуши Сибири… Мрачным казалось настоящее, беспросветно тяжелым, обидным – прошедшие пять лет. А там впереди за деревней, на востоке, еще темнее. Там полная неизвестность, может быть, западня, а – кто знает – может быть, и конец страданиям – смерть безвестная, мучительная, с издевательствами. Все представлялось неопределенным и зловещим».
В Б. г., когда Николка пробирается домой после того, как петлюровцы взяли Город, он видит почти ту же картину, что и Сахаров: «Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли». Вместо часовых, как Сахаров, Николка видит мирно катающихся с горки ребятишек. Но когда он вежливо спрашивает у них: «Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?», то слышит в ответ зловещее: «Офицерню бьют наши… С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска».
Надо отметить, однако, что, несмотря на отдельные расправы над офицерами и юнкерами на улицах, массовых убийств офицеров и других противников УНР не было. Около 4 тыс. пленных поместили в здании Педагогического музея. Кто-то бросил в здание музея бомбу. В результате несколько десятков человек было убито и ранено. Большинство заключенных смогло освободиться за деньги или благодаря связям среди новой украинской власти. Оставшихся около 600 офицеров и юнкеров эвакуировали по железной дороге в Германию 30 декабря 1918 (12 января 1919) г. Булгаков это хорошо знал, поскольку читал мемуары оказавшегося среди заключенных в Педагогическом музее Романа Гуля «Киевская эпопея». Гуль, в частности, вспоминал:
«В Педагогическом музее скопилось более 2000 человек. Но в комнатах лежат только наиболее усталые. Большинство наполнило большой вестибюль, толпятся у входа, стоят кругом здания – ждут «конца». Конец авантюры почти пришел. По городу со всех сторон близится, трещит стрельба. Слышны неясные крики толпы. Мы столпились у здания – ждем последнего акта. Вдруг за углом, совсем близко, толпа закричала громкое: «Слава! Слава!» – и затрещали выстрелы. Все около музея вздрогнули, метнулись, большинство кинулось в здание, толкая друг друга. В кучке оставшихся на улице закричали: «В цепь! В цепь!» Захлопали затворами. Но к оставшимся бросились из толпы. «Господа! Что вы! Бросьте, все равно ведь все кончено! Вы всех погубите!» И через мгновение около музея не было никого, а в вестибюле стоял взволнованный генерал Канцырев, собираясь вступить в переговоры… В музее заняты комнаты, проходы, лестницы. Гул тысяч голосов внезапно обрывается жуткой тишиной. Все прислушиваются к уличному шуму. И опять гудят: обсуждают положение, ждут переговоров.
Через полчаса стало известно – впредь до выяснения участи вход занят украинским и немецким караулом. И украинские власти приказали всем, как пленным, снять погоны, кокарды.
В комнатах, проходах, в уборной, на лестнице офицеры, генералы срывают с себя погоны, кокарды. Офицеры генерального штаба рвут аксельбанты. И этот пустяк – сорванные погоны – сразу дает почувствовать «плен».
Очень немногие офицеры бесконечных штабов попали в музей. В большинстве штабы скрылись. Раньше всех, бросив фронт на произвол судьбы, бежал главнокомандующий князь Долгоруков, клявшийся в приказах «в минуту опасности умереть с вверенными ему войсками». Скрылся представитель Добровольческой армии генерал Ламновский, в то время как мелкие чины его штаба попали в музей. Полковник Сперанский бежал из музея ночью, подкупив караул…
Но, несмотря на «настоящий плен» – снятие погон, выдачу оружия, – командный состав и в музее пытался сохранить вид «воинской части». Уже на второй день сидения была объявлена запись желающих ехать на Кубань и Дон. Целые дни в комнатах раздаются крики: «Желающие на Дон! Записываться здесь!» Люди стоят в очереди. Кто-то записывает. Для чего? Неизвестно. Говорят, пропустят…
Из газет узнали об убийстве генерала Келлера «при попытке бежать». И о том, как въехавшему на белом коне Петлюре подносили саблю убитого графа. И о том, как на банкете украинских самостийников Винниченко поднял бокал «за единую, неделимую Украину»…
С каждым днем сидение в музее становилось тяжелей: плохая пища, духота, отсутствие уборной, вши и к этому полная неизвестность своей судьбы и приближение большевиков с севера. И в то время, как рядовой офицер не мог подумать даже, когда он будет свободен, сильные мира ежедневно освобождались. Одни за деньги (в большинстве казенные), другие – благодаря связям. В один из дней стало известно, что сам украинский комендант музея бежал с освобожденным генералом Волховским и с 400 тысяч казенных денег. А рядовые офицеры все сидели и сидели…
Тянутся дни. Наступило 25 декабря – Рождество. Разговоры об освобождении усилились. Приходят родные – обнадеживают. Уже многих освободили.
Но в один из дней Рождества произошел эпизод, совершенно неожиданно решивший судьбу арестованных.
…Было часов 11 ночи. Большие комнаты застланы людьми. Все укладываются спать на свои шинели, многие заняты обычным делом: сидят полуголые, рассматривают рубахи, кальсоны – бьют вшей. Многие заснули.
Я, сжатый с обеих сторон другими, задремал. Но вдруг вскочил от невероятного треска, взрыва. Показалось, что падают стены, рушится здание… Вылетели, дребезжа, окна. И тут же раздался дикий крик сотен голосов. Люди вскочили с мест, бросились, побежали к дверям по лежащим. Страшный крик не прекращается. «Из пушек по нас стреляют!» – кричит кто-то. «Господа, спокойно! Это взрыв!» – доносятся голоса среди общего шума… Бежать, конечно, некуда. Но все ждут второго удара и метнулись, сами не зная куда.
В отворенные двери нашей комнаты стали входить окровавленные раненые. Забегали сестры.
В соседнем круглом зале громадный купол из толстого стекла рухнул вниз – на лежащих. Стекла падали с такой силой, что пробивали насквозь стулья. Здесь стоны, крики, паника отчаянная. Раненые с окровавленными лицами, руками, одеждой толпятся, выбегая из комнаты. Есть тяжелораненые.
Но не прошло десяти минут после взрыва, как к нам в комнату влетели, размахивая нагайками, вооруженные до зубов гайдамаки в опереточных костюмах. «Панове! Тихо! Не то по-гайдамацки будем ногаями бить!» – кричали они. И стало тихо. Только раненых носили, перевязывали да обсуждали вполголоса, что же это такое было? И опять укладывались спать на свои шинели…
Наутро увидели, что во всем здании все окна выбиты. Наш квартал опутан проволокой, оцеплен войсками. К нам никого не пускают. Стало еще тяжелей. Из газет узнали, что во взрыве, где пострадали 200 с лишним арестованных, украинцы обвиняют нас же. Будто бы мы сделали это с целью побега…
В дни Рождества комнаты сильно поредели. Многих выпустили по ордеру. Многие освободились за деньги. Исчез из музея полковник Крейтон. Бежал во время взрыва, прикинувшись раненым, генерал Канцырев. Скрылся Кирпичев. Осталось человек 600…
Комендант объявил официально, что сегодня, 30 декабря, нас, вот таких, как мы есть, – полуголых, вшивых, полуголодных, вывозят под конвоем в Германию… Мы едем ночь и день в наглухо запертых вагонах. 35 человек лежат, плотно прижавшись друг к другу от холода и тесноты».
К.В. Сахаров описывает, как офицеры провожали его в связи с отъездом из Читы в Европу: «Много теплых заздравных речей. И первый тост за Святую Русь, за нашу Родину, которая будет жить, будет снова Великой и свободной! Этот тост был покрыт могучими радостными аккордами бессмертного русского гимна:
- Боже, Царя храни!
- Сильный, Державный,
- Царствуй на славу, на славу нам!
- Царствуй на страх врагам,
- Царь православный!
- Боже, Царя храни!
У многих на глазах слезы; ценные мужские слезы воина текут по огрубелым лицам. А кругом школы гудит толпа егерей и ижевцев, гудит довольная, близкая, гудит не поганым революционным бессмысленным гамом, а близким, братским единением, какое было всегда между русскими господами офицерами и их солдатами. Среди последних многие, слыша гимн, крестятся. И раздается в толпе часто общая всем мысль: «Господи, неужто по-настоящему придет теперь освобождение!»
Эта сентиментальная сцена, скорее всего, послужила для Булгакова объектом пародии в сцене вечеринки у Турбиных в Б. г., когда перепившиеся офицеры поют царский гимн:
«– Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан.
– Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! – трижды в грохоте пронеслось по столовой…
Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:
- …си-ильный, де-ержавный
- царр-ствуй на славу…
На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! – покачиваясь, кричал Мышлаевский.
– Верно!
– Я… был на «Павле Первом»… неделю тому назад… – заплетаясь, бормотал Мышлаевский, – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» – и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»
– Жи-ды, – мрачно крикнул опьяневший Карась.
Туман. Туман. Туман. Тонк-танк… тонк-танк… Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.
– А-а…»
В «Днях Турбиных» прямое указание на ненавистных Сахарову евреев отсутствует, зато Мышлаевский, прежде чем окончательно опьянеть, успевает произнести развернутую филиппику против революционеров:
«Николка. Все равно. Пусть император мертв, да здравствует император! Ура!.. Гимн! Шервинский! Гимн! (Поет.) Боже, царя храни!..
Шервинский, Студзинский, Мышлаевский. Боже, царя храни!
ЛариоCик (поет). Сильный, державный…
Николка, Студзинский, Шервинский. Царствуй на славу…
Елена, Алексей. Господа, что вы! Не нужно этого!
Мышлаевский (плачет). Алеша, разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий… Ну что он им сделал? Что? Орут: «Войны не надо!» Отлично… Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой!.. Павла Петровича князь портсигаром по уху… А этот… забыл, как его… с бакенбардами, симпатичный, дай, думает, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это? Пороть их надо, негодяев, Алеша! Ох, мне что-то плохо, братцы…
Елена. Ему плохо!
Николка. Капитану плохо!
Алексей. В ванну».
И, разумеется, Булгаков нисколько не верил в единение «между русскими господами офицерами и их солдатами». В «Белой гвардии» прекрасно показана та лютая ненависть, какую питали одетые в солдатские шинели мужики к «господам офицерам». В отличие от большинства белоэмигрантов, Булгаков тогда, когда писал Б. г. и «Бег», еще имел слабые надежды, что Россия может возродиться и при большевиках. Но он, безусловно, не хотел видеть во главе возрожденной России царя и не считал, что русская культура пострадает от прививки других культур.
В Б. г. выявлены и причины неудачи Белого движения. Крестьянство ему враждебно, а городская «кофейная публика», заклейменная еще в фельетоне «В кафэ», защищать идеалы белых не желает: «Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки – просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет – дело швах!»
Алексей Турбин в Б. г. – монархист, хотя монархизм его испаряется от сознания бессилия предотвратить гибель невинных людей. Т.Н. Лаппа свидетельствовала, что эпизод исполнения братьями Турбиными и их друзьями запрещенного царского гимна – не выдумка. Булгаков с товарищами действительно пели «Боже, царя храни», только не при гетмане, а при петлюровцах. Это вызвало недовольство домовладельца, главного архитектора Киевского учебного округа Василия Павловича Листовничего (1876–1919, по другим данным – не ранее 1920-го) – прототипа инженера Василия Ивановича Лисовича, Василисы, в Б. г. Однако в период создания романа Булгаков уже не был монархистом. В дневнике писателя 15 апреля 1924 г. следующим образом прокомментированы слухи о том, «будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича» (Младшего) (1856–1929), дяди Николая II (1868–1918) и главы дома Романовых: «Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало».
В Б. г. есть отчетливые параллели со статьей С.Н. Булгакова «На пиру богов» (1918). Русский философ писал, что «некто в сером», кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Россией и ищет ее связать и парализовать». В романе «некто в сером» – это и Троцкий, и Петлюра, уподобленные дьяволу, причем настойчиво подчеркивается серый цвет у большевистских, немецких и петлюровских войск. Красные – это «серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов, с равнины, ведущей к Москве», немцы «пришли в Город серыми шеренгами», а украинские солдаты не имеют сапог, зато имеют «широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей». Рассуждения же Мышлаевского о «мужичках-богоносцах» Достоевского, порезавших офицеров под Киевом, восходит к следующему месту в статье «На пиру богов»: «Недавно еще мечтательно поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда народ перестал бояться барина, да тряхнул вовсю, вспомнил свои пугачевские были – ведь память народная не так коротка, как барская, – тут и началось разочарование…» Мышлаевский в Б. г. последними словами ругает «мужичков-богоносцев Достоевских», которые сразу становятся смирными после угрозы расстрела. Однако он и другие офицеры в романе только угрожают, но угроз своих в действие не приводят (барская память действительно короткая), в отличие от мужиков, которые при первой возможности возвращаются к пугачевским традициям и господ режут. При описании похода Мышлаевского под Красный Трактир и гибели офицеров автор Б. г. воспользовался воспоминаниями Романа Гуля «Киевская эпопея (ноябрь – декабрь 1918 г.)», опубликованными во втором томе берлинского «Архива русской революции» в 1922 г. Оттуда же образ «звенящего шпорами, картавящего гвардейца адъютанта», материализовавшийся в Шервинском, плакат «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан!», бестолковщина штабов, с которой сам Булгаков не успел столкнуться, и некоторые другие детали.
Как вспоминала Т.Н. Лаппа, булгаковская служба у Скоропадского свелась к следующему: «Пришел Сынгаевский и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь… а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас ночевать… А утром Михаил поехал. Там медпункт был… И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы». Эпизод с бегством от петлюровцев и ранением Алексея Турбина 14 декабря 1918 г. – писательский вымысел, сам Булгаков ранен не был. Гораздо более драматическим было бегство мобилизованного Булгакова от петлюровцев в ночь со 2‐го на 3‐е февраля 1919 г., запечатленное в Б. г. в бегстве Алексея Турбина, а в рассказе «В ночь на 3‐е число» – в бегстве доктора Бакалейникова. Т.Н. Лаппа запомнила возвращение мужа в эту драматическую ночь: «Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное – нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать. Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал». В романе болезнь Алексея Турбина перенесена по времени на период пребывания в Городе петлюровцев, а сцену убийства еврея у Цепного моста он наблюдает, как это и было с писателем, в ночь на 3‐е февраля. Приход петлюровцев в Город начинается убийством еврея Фельдмана (как можно судить по киевским газетам того времени, человек с такой фамилией действительно был убит в день вступления украинских войск в Киев) и завершается убийством безымянного еврея, которое Булгакову довелось видеть воочию. Сама жизнь подсказала трагическую композицию Б. г. Писатель в романе утвердил человеческую жизнь как абсолютную ценность, возвышающуюся над всякой национальной и классовой идеологией.
В эпизоде бегства Алексея Турбина от петлюровцев Булгаков говорит о троичности, как основе бытия: «Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут и, настигнув совершенно неизбежно, – убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз – попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз». В данном случае писатель опирается на книгу о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», в которой в качестве приложения помещены специальные «Заметки о троичности», а третье письмо из двенадцати писем основной части книги озаглавлено «Триединство». Флоренский доказывает, что троичность – это наиболее древний из всех архетипов человеческого мышления, и возводит ее к Божественной Троице. Идея троичности получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Булгаков создал три мира – древний ершалаимский, современный московский и вечный потусторонний, а также три ряда функционально подобных персонажей.
Финал Б. г. заставляет вспомнить «звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас» И. Канта и навеянные им рассуждения князя Андрея Болконского в романе «Война и мир» (1863–1869) Льва Николаевича Толстого (1828–1910). В предназначавшемся к опубликованию в журнале «Россия» тексте заключительные строки романа звучали так: «Над Днепром с грешной и окровавленной, и снежной земли поднимался в черную и мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.
Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Звезды будут так же неизменны, так же трепетны и прекрасны. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»
В издании Б. г. 1929 г. «мир» в финале исчез, и стало не столь очевидным, что Булгаков здесь полемизирует со знаменитыми словами Евангелия от Матфея: «Не мир я принес вам, но меч». Автор Б. г. явно предпочитает мечу мир. Позднее в романе «Мастер и Маргарита» парафраз евангельского изречения был вложен в уста первосвященника Иосифа Каифы, убеждающего Понтия Пилата, что Иешуа Га-Ноцри принес иудейскому народу не мир и покой, а смущение, которое подведет его под римские мечи. И здесь же Булгаков утверждает покой и мир как одну из высших этических ценностей. А в финале Б. г. автор солидарен с Кантом и Львом Толстым: только обращение к надмирному абсолюту, который символизирует звездное небо, может заставить людей следовать категорическому моральному императиву и навсегда отказаться от насилия. Однако, наученный опытом революции и гражданской войны, автор Б. г. вынужден констатировать, что люди не желают взглянуть на звезды над ними и следовать кантовскому императиву. В отличие от Толстого, он не столь большой фаталист в истории. Народные массы в Б. г. играют важную роль в развитии исторического процесса, однако направляются не какой-то высшей силой, как утверждается в «Войне и мире», а своими собственными внутренними устремлениями, в полном соответствии с мыслью С.Н. Булгакова, высказанной в статье «На пиру богов»: «А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха. Да он и прав по-своему, голод – не тетка». Народная стихия, поддержавшая Петлюру, оказывается в Б. г. мощной силой, сокрушающей слабую, по-своему тоже стихийную, плохо организованную армию Скоропадского. Именно в недостатке организации обвиняет гетмана Алексей Турбин. Однако эта же народная сила оказывается бессильна перед силой хорошо организованной – большевиками. Организованностью большевиков невольно восхищается Мышлаевский и другие представители белой гвардии. А вот осуждение «наполеонов», несущих людям страданье и смерть, автор Б. г. с автором «Войны и мира» вполне разделяет, только Петлюра и Троцкий для него не миф, как Наполеон Бонапарт (1769–1821) для Толстого, а реально существующие и по-своему выдающиеся личности, которые вследствие главенствующей роли должны нести и более высокую ответственность за преступления своих подчиненных (впрочем, грядущие преступления ЧК еще только смутно угадываются в снах Алексея Турбина, да и то лишь в неопубликованном варианте романа).
Отметим, что, кроме Троцкого, еще один близкий к большевикам персонаж Б. г. имеет демонические черты. Если председатель Реввоенсовета сравнивается с ангелом бездны Аполлионом Откровения Иоанна Богослова и иудейским падшим ангелом Аваддоном (оба слова в переводе с древнегреческого и древнееврейского означают губитель), то Михаил Семенович Шполянский, получающий инструкции из Москвы, уподобляется лермонтовскому демону. Прототипом Шполянского послужил известный писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский (1893–1984). В 1918 г. он находился в Киеве, служил в броневом дивизионе гетмана и, как и Шполянский в Б. г., «засахаривал» броневики, описав все это подробно в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие», вышедшей в Берлине в 1923 г. Правда, Шкловский был тогда не большевиком, а членом боевой левоэсеровской группы, готовившей восстание против Скоропадского. Булгаков приблизил Шполянского к большевикам, памятуя также, что до середины 1918 г. большевики и левые эсеры являлись союзниками, а потом многие из последних вступили в коммунистическую партию.
Из-за того, что в СССР Б. г. не была закончена публикацией, а зарубежные издания конца 20‐х гг. были малодоступны на родине писателя, первый булгаковский роман не удостоился особого внимания прессы. Правда, известный критик А.К. Воронский (1884–1937) в конце 1925 г. успел назвать Б. г. вместе с «Роковыми яйцами» произведениями «выдающегося литературного качества», за что в начале 1926 г. получил резкую отповедь главы Российской Ассоциации Пролетарских Писателей (РАПП) Л.Л. Авербаха (1903–1939) в рапповском органе – журнале «На литературном посту». В дальнейшем постановка по мотивам Б. г. пьесы «Дни Турбиных» во МХАТе осенью 1926 г. переключила внимание критики на это произведение, и о самом романе забыли. Булгакова мучили сомнения насчет литературных достоинств Б. г. В дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 г. он зафиксировал их: «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу». Вместе с тем существовала и высокая оценка Б. г. авторитетным современником. Поэт Максимилиан Волошин (Кириенко-Волошин) (1877–1932) пригласил Булгакова к себе в Коктебель и 5 июля 1926 г. подарил ему акварель с примечательной надписью: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу российской усобицы, с глубокой любовью…» Тот же Волошин в письме издателю альманаха «Недра» Н.С. Ангарскому (Клестову) (1873–1941) в марте 1925 г. утверждал, что «как дебют начинающего писателя «Белую гвардию» можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». Булгаков при переделке текста романа в конце 20‐х гг. убрал некоторые цензурно острые моменты и несколько облагородил ряд действующих лиц, в частности, Мышлаевского и Шервинского, явно с учетом развития этих образов в «Днях Турбиных». В целом же в пьесе характеры героев оказались психологически более глубокими, не такими рыхлыми, как в романе, и действующие лица теперь не дублировали друг друга.
В письме правительству 28 марта 1930 г. Булгаков называл одной из главных черт своего творчества в Б. г. «упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией». В этом же письме он подчеркнул «свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ». Отметим, что Булгакову действительно удалось беспристрастно взглянуть на все воюющие стороны гражданской войны с позиции, близкой к философии ненасилия (непротивления злу насилием), развитой Л.Н. Толстым в основном уже после создания «Войны и мира» (в романе эту философию выражает только Платон Каратаев). Однако булгаковская позиция здесь не вполне тождественная толстовской. Алексей Турбин в Б. г. понимает неизбежность и необходимость насилия, однако сам на насилие оказывается неспособен. В окончании Б. г., которое так и не было опубликовано в журнале «Россия», он, наблюдая бесчинства петлюровцев, обращается к небу: «– Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики… Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же, вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.
Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, а больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.
– Змилуйтесь, добродию, – вопят они.
Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:
– Нет, товарищи, нет. Я – монар… Нет, это лишнее… А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, причем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух надо убить как бешеных собак. Это – негодяи. Гнусные погромщики и грабители.
– А-а… так… – зловеще отвечают матросы.
– Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их. В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому».
Булгаковский интеллигент убить способен только в воображении, и в жизни предпочитает передоверить эту неприятную обязанность матросам. И даже протестующий крик Турбина: «За что же вы его бьете?!» – заглушается шумом толпы на мосту, что, кстати, спасает доктора от расправы. В условиях всеобщего насилия в Б. г. интеллигенция лишена возможности возвысить свой голос против убийств, как лишена возможности сделать это и позднее, в условиях установившегося к моменту создания романа коммунистического режима.
Прототип Тальберга Л.С. Карум оставил обширные воспоминания «Моя жизнь. Рассказ без вранья», где многие эпизоды своей биографии, отразившиеся в Б. г., изложил в собственной интерпретации. Мемуарист свидетельствует, что он очень рассердил Булгакова и других близких своей жены, явившись на свадьбу в мае 1917 г. (как и свадьба Тальберга с Еленой, она была за полтора года до описываемых в романе событий) в мундире, при всех орденах, но с красной повязкой на рукаве. В Б. г. братья Турбины осуждают Тальберга за то, что он в марте 1917 г. «был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова». Карум действительно был членом исполнительного комитета Киевской городской Думы и участвовал в аресте генерал-адьютанта Н.И. Иванова (1851–1919), в начале Первой мировой войны командовавшего Юго-Западным фронтом, а в феврале 1917 г. предпринявшего по приказу императора неудачный поход на Петроград для подавления революции. Карум отконвоировал генерала в столицу. Муж сестры Булгакова, как и Тальберг, окончил в Петербурге юридический факультет университета и Военно-юридическую академию. При Скоропадском он, подобно герою Б. г., служил в юридическом отделе военного министерства. В декабре 1917 г. Карум покинул Киев и вместе с братом Булгакова И.А. Булгаковым, которого мать, опасаясь петлюровской мобилизации, отправила с зятем, прибыл в Одессу, а оттуда в Новороссийск. Прототип Тальберга поступил в белую Астраханскую армию, ранее поддерживавшуюся немцами, стал здесь председателем суда и был произведен в полковники. Возможно, это обстоятельство подсказало Булгакову повысить Тальберга до полковника в пьесе «Дни Турбиных». Бывший начальник штаба Киевского военного округа генерал Н.Э. Бредов, знавший Карума еще по его деятельности в исполнительном комитете киевской Думы, при переходе Астраханской армии в состав Вооруженных сил Юга России генерала А.И. Деникина настоял на его увольнении. Только благодаря влиятельным знакомым Каруму удалось получить должность преподавателя права в Феодосии, куда он и уехал в сентябре 1919 г., забрав с собой из Киева жену. К зятю в Феодосию отправился и брат Булгакова Николай, раненый в октябрьских 1919 г. боях в Киеве. Возможно, это обстоятельство побудило писателя связать будущую судьбу Николки в Б. г. с Перекопом. После прихода красных Карум, не пожелавший эвакуироваться с Русской армией генерала П.Н. Врангеля (1878–1928) в ноябре 1920 г., остался преподавать в стрелковой школе, которая в 1921 г. была переведена в Киев. В отличие от Елены Турбиной в Б. г. и особенно в «Днях Турбиных», сестра Булгакова Варя мужу не изменяла. Когда в 1931 г. Карум был арестован и позднее сослан в Новосибирск, жена последовала за ним. Сохранилась ее записка, переданная супругу после ареста: «Любимый мой, помни, что вся моя жизнь и любовь для тебя. Твоя Варюша». Сохранилась любопытнейшая рукопись Л.С. Карума «Горе от таланта» (1967), посвященная анализу булгаковского творчества. Здесь прототип следующим образом характеризовал Тальберга:
«Наконец, десятым и последним из белогвардейцев – это генерального штаба капитан Тальберг. Он собственно даже не в белой гвардии, он служит у гетмана. Когда начинается «заваруха», он садится на поезд и уезжает, не желая принимать участия в борьбе, исход которой для него вполне ясен, но за это навлекает на себя ненависть Турбиных, Мышлаевского и Шервинского. – Почему он не взял с собой жену? Почему он «крысиной походкой» ушел от опасности в неизвестность? Он – «человек без малейшего понятия о чести». Для белой гвардии Тальберг – личность эпизодическая». Автор «Горя от таланта» стремится как бы оправдать Тальберга: отказался от участия в безнадежной борьбе, жену не взял с собой, потому что ехал в неизвестность. Самого же писателя Карум характеризовал почти теми же словами, что и враждебная автору Б. г. марксистская критика 20‐х гг.: «Да, талант Булгакова был именно не столько глубок, сколько блестящ, и талант был большой… И все же произведения Булгакова не народны. В них нет ничего, что затрагивало народ в целом.
Вообще, у него народа нет. Есть толпа загадочная и жестокая. В произведениях Булгакова есть известные слои царского офицерства или служащие, или актерская и писательская среда. Но жизнь народа, его радости и горести по Булгакову узнать нельзя. Его талант не был проникнут интересом к народу, марксистско-ленинским миросозерцанием, строгой политической направленностью. После вспышки интереса к нему, в особенности к роману «Мастер и Маргарита», внимание может потухнуть». В письме правительству 28 марта 1930 г. Булгаков процитировал сходный с карумовским отзыв критика Р.В. Пикеля, появившийся в «Известиях» 15 сентября 1929 г.: «Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества».
В «Романе без вранья» Карум следующим образом охарактеризовал свою реакцию на появление Б. г.: «В романе описывается 1918 год в Киеве. Мы журнал «Смену вех» (так Леонид Сергеевич по памяти ошибочно называет журнал «Россия». – Б. С.) не выписывали, поэтому Варенька и Костя (К.П. Булгаков. – Б. С.) купили его в магазине. – «Ну, и не любит же тебя Михаил», – сказал мне Костя.
Я знал, что Михаил меня не любит, но не знал действительных размеров этой нелюбви, переросшей в подлость. Наконец, я прочел этот злосчастный номер журнала и пришел от него в ужас. Там, среди других, был описан человек, по наружности и некоторым фактам похожий на меня, так что не только родные, но и знакомые узнали в нем меня, по морали этот человек стоял очень низко. Он (Тальберг) при наступлении петлюровцев на Киев бежит в Берлин, бросает семью, армию, в которой служит, поступает как какой-то мерзавец.
В романе описана семья Булгакова. Он описывает случай моей командировки в Лубны во время власти гетмана при петлюровском восстании. Но затем начинается вранье. Героиней романа сделана Варенька. Других сестер нет вовсе. Матери тоже нет. Затем описаны в романе все его собутыльники. Во-первых, Сынгаевский (под фамилией Мышлаевский), это был студент, призванный в армию, красивый и стройный, но больше ни чем не отличающийся. Обыкновенный собутыльник. В Киеве он на военной службе не был, затем познакомился с балериной Нежинской, которая танцевала с Мордкиным, и при перемене, одной из перемен власти в Киеве, уехал на ее счет в Париж, где удачно выступал в качестве ее партнера в танцах и мужа, хотя был на 20 лет моложе ее.
Собутыльники были описаны довольно точно, но только с благородной стороны, из-за чего впоследствии было у Булгакова много хлопот.
Во-вторых, описан был Юрий Гладыревский, мой двоюродный племянник, офицер военного времени лейб-гвардии стрелкового полка (под фамилией Шервинский). Он во время гетмана служил в городской милиции, в романе же он выведен в качестве адъютанта гетмана. Это был малоинтеллигентный юноша 19‐ти лет, умевший только пить и подпевать Михаилу Булгакову. И голос у него был небольшой, ни для какой сцены не пригодный. Он уехал с родителями во время гражданской войны в Болгарию, и более сведений я о нем не имею.
В-третьих, описан Коля Судзиловский, его тоже можно узнать по внешней обрисовке, бывший в то же время киевским студентом, немного наивный, немного заносчивый и глуповатый юноша, тоже 20‐ти лет. Он выведен под именем Лариосика».
Судьба прототипов-«собутыльников» была следующей. Юрий (Георгий) Леонидович Гладыревский (1898–1968) родился 26 января/7 февраля 1898 г. в Либаве (Лиепае) в дворянской семье. В Первую мировую войну он дослужился до чина подпоручика лейб-гвардии 3‐го Стрелкового Его Величества полка. В последние недели гетманщины он состоял в штабе белогвардейских добровольческих формирований князя Долгорукова (в Б. г. – Белорукова). После прихода в Киев в начале февраля 1919 г. красных Ю.Л. Гладыревский работал в белом подполье и, возможно, при этом служил для маскировки в Красной армии. Отсюда Шервинский – красный командир в том варианте финала Б. г., который должен был появиться в журнале «Россия». Позднее, очевидно, Булгаков узнал о подлинной судьбе Ю.Л. Гладыревского и убрал из финального образа Шервинского красноармейские атрибуты. После вступления в город 31 августа 1919 г. Добровольческой армии Юрий Леонидович был произведен сразу в капитаны своего родного лейб-гвардейского полка. Во время октябрьских боев в Киеве он был легко ранен. Позднее, в 1920 г., участвовал в боях в Крыму и в Северной Таврии, был еще раз ранен и вместе с Русской армией П.Н. Врангеля эвакуировался в Галлиполи. В эмиграции зарабатывал на жизнь пением и игрой на фортепиано. Умер он 20 марта 1968 г. во французском городе Канны.
Племянник Карума Николай Николаевич Судзиловский (урожденный Николай Владимирович Капацын) родился 5/17 февраля 1896 г. в Нижнем Новгороде в семье капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны. О дате рождения свидетельствуют копии метрической выписки из книг Варваринской приходской церкви Нижнего Новгорода: «5 февраля 1896 года родился, а 6 февраля крестился сын делопроизводителя управления Вельского уездного воинского начальника капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны, нареченный именем Николай». Однако вскоре после смерти матери, в 1908 г., Николай был усыновлен семьей своей бездетной двоюродной бабушки Варвары Федоровны, которая была замужем за статским советником Николаем Михайловичем Судзиловским. Она была дочерью статского советника Миотийского и была родной сестрой матери Леонида Сергеевича Карума, Марии Федоровны Миотийской. Согласие на усыновление отец Коли дал еще в марте 1905 г., но только 13 января 1911 г. по высочайшему указу было дано на изменение отчества Николая Владимировича Судзиловского на Николаевич.
Н.Н. Судзиловский, чей приемный отец служил в качестве непременного члена Волынского губернского по воинской повинности присутствия в Житомире, в 1913 г. поступил на тот же медицинский факультет Киевского университета Св. Владимира, что и Булгаков, но вскоре из-за трудностей учебы перевелся на юридический факультет. В 1915 г. он был зачислен в киевское Константиновское военное училище, где преподавал его дядя Л.С. Карум. По его окончании Николай Судзиловский был произведен в подпоручики, но в действующей армии ни дня не служил, тем более что она к моменту окончаниям им училища почти полностью разложилась. 31 января 1918 г. он был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья и отправлен в отставку. Возможно, здесь сказались связи отца, да и здоровьем, как кажется, Коля Судзиловский действительно не блистал. Так что Лариосик был в общем-то прав, когда аттестовал себя у Турбиных «человеком невоенным». После отставки он возобновил занятия на втором курсе юрфака.
В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился ещё в октябре, а вовсе не 14 декабря 1918 г., в день падения гетмана Скоропадского, как романный Лариосик. Т.Н. Лаппа вспоминала, что тогда у Карумов «жил Судзиловский – такой потешный! У него из рук все падало, говорил невпопад. Не помню, то ли из Вильны он приехал, то ли из Житомира. Лариосик на него похож».
В 1919 г. Николай Николаевич вступил в ряды Добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна. По словам Л.С. Карума, он погиб, но так ли это, сказать трудно, поскольку в данном случае Леонид Сергеевич питался слухами.
Т.Н. Лаппа свидетельствует, что любовь Лариосика к Елене Турбиной не была чистой фантазией драматурга, поскольку Судзиловский действительно был влюблен в прототипа Елены – Варю Булгакову (Карум): «Родственник какой-то из Житомира. Я вот не помню, когда он появился… Неприятный тип. Странноватый какой-то, даже что-то ненормальное в нем было. Неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то… Рост средний, выше среднего… Вообще, он отличался от всех чем-то. Такой плотноватый был, среднего возраста… Он был некрасивый. Варя ему понравилась сразу. Леонида-то не было…»
Л.С. Карум в своих мемуарах пытался доказать, что он гораздо лучше Тальберга и не лишен понятия о чести, но невольно лишь подтвердил булгаковскую правоту. Чего стоит эпизод с попыткой поцеловать руку арестованному и препровождаемому в Петроград генералу Н.И. Иванову, дабы «выразить старому генералу всю мою симпатию к нему и показать, что не все из окружающих являются его врагами» (этот жест Карум явно делал на тот случай, если власть переменится, и Иванов вновь будет командовать). Или сцена в Одессе: «Встретил на улице какого-то знакомого по академии офицера… Он, узнав, что я пять дней должен болтаться один в Одессе, уговорил меня зайти к полковнику Всеволжскому, очень интересному якобы человеку, у которого собирается ежедневно офицерское общество, в будущем долженствующее составить офицерскую дружину или даже возглавить отряд, который пойдет на бой с большевиками.
Мне делать было нечего. Я согласился.
Всеволжский занимал большую квартиру… В комнате человек 20 офицеров… Все молчат, говорит Всеволжский.
Говорит он много и хорошо о предстоящих задачах офицеров в восстановлении России. Уговаривает меня остаться в Одессе и не ехать на Дон.
«– Но я здесь займу какую-либо должность и буду получать содержание? – спрашиваю я.
– Нет, – улыбается гвардейский полковник. – Ничего я Вам не могу гарантировать.
– Ну, тогда мне надо ехать, – говорю я. Больше я к нему не заходил». Из цитированного отрывка ясно, что Карум, как и восходящий к нему герой Б. г., был озабочен только карьерой, пайком и денежным содержанием, а не какими-то идейными соображениями, и потому с такой легкостью менял армии в годы революции и гражданской войны.
Фамилия Тальберг, которой наградил Булгаков несимпатичного персонажа Б. г., была весьма одиозной на Украине. Вице-директором департамента полиции (Державной Варты) в министерстве внутренних дел в правительстве Скоропадского был Николай Дмитриевич Тальберг. Он родился 10/22 июля 1886 г. в местечке Коростошев близ Киева. Булгаковский же Тальберг, в отличие от Карума, занимает должность помощника военного министра, тогда как Леонид Сергеевич всего лишь служил в ликвидационном отделе военно-юридического управления гетманского военного министерства. Н.Д. Тальберг происходил из потомственных дворян, но был не военным, а чиновником V класса, т. е. статским советником, как и отец Булгакова. В начале 1913 г. он был назначен непременным членом Черниговского губернского по земским и городским делам присутствия. В Первую мировую войну Николай Дмитриевич состоял чиновником для особых поручений при министре внутренних дел и, как и булгаковский Тальберг и Л.С. Карум, имел юридическое образование, только гражданское, а не военное. Н.Д. Тальберг был ярым монархистом и противником манифеста 17 октября 1905 г. Как и булгаковский Тальберг, Николай Дмитриевич после падения гетмана благополучно эмигрировал, только не в Германию, а в Румынию (Бесарабию), затем перебрался в Одессу, в 1919 г. переехал в Болгарию, затем в Югославию, а позднее проживал в Берлине, где был профессором истории и активным участником монархического движения, членом Высшего Монархического Совета.
Вот как излагает биографию Тальберга в годы гражданской войны его биограф В. Лукьянов: «Переворот большевиков застал его в Москве, куда он только что приехал для доклада своему другу. Выяснив вскоре существование тайной монархической организации, во главе которой стоял Н.Е. Марков, Тальберг вступил в нее, переехав с этой целью в Петроград. По указанию этой организации он выполнял ответственные поручения. В конце апреля 1918 года он был отправлен ею в Москву и в Киев. В мае он участвовал в небольшом тайном монархическом съезде, происходившем в Киеве. С разрешения местной монархической организации он поступил в министерство внутренних дел правительства гетмана генерала П.П. Скоропадского и, борясь с революционными организациями, устраивал на службу бывших жандармских и полицейских чинов. После падения гетмана Тальберг добрался до Бессарабии, где прожил год. Вернувшись неудачно в Одессу, когда там началась эвакуация, он через Болгарию, Сербию, Австрию и Чехословакию попал в начале 1920 года в Берлин, зная, что там начинают собираться русские монархисты». В конце 30‐х гг. Н.Д. Тальберг переехал в Австрию. После 1945 г. он эмигрировал в США, где и умер 11 июня 1967 г. в Джорданвилле (Нью-Йорк). Там он преподавал в местной семинарии. Н.Д. Тальберг написал ряд трудов по истории Русской православной церкви и биографии К.П. Победоносцева.
Н.Д. Тальберга петлюровцы действительно собирались повесить. Вскоре после занятия украинскими войсками Киева армейская газета «Ставка» в заметке с красноречивым заголовком «Под суд!» писала о Тальберге: «Вице-директор департамента, мордобоец и палач, правая рука Аккермана (директора департамента полиции. – Б. С.), организатор киевских наемных убийц и вешателей должен попасть в руки правосудия». По тону статьи можно было легко понять, что меньше смертной казни Николаю Дмитриевичу не светило.
С Н.Д. Тальбергом связана и тема слухов о гибели царской семьи, будто бы оказавшихся «несколько преувеличенными». В книге следователя Н.А. Соколова «Убийство царской семьи», вышедшей в 1925 г., был приведен текст допроса Соколовым 30 мая 1921 г. в Берлине Н.Д. Тальберга. Тот показал: «В 1918 году, после Пасхи, одной монархической организацией, в которую я входил, на меня были возложены некоторые поручения и, между прочим, – войти в сношения с немецким представительством в России об обеспечении безопасности Государя Императора и Его Семьи. Я хорошо помню, что Царская Семья в это время была уже перевезена из Тобольска в Екатеринбург. Никто в нашей организации не мог себе объяснить, какими причинами был вызван ее переезд, но мы знали, что во главе власти в Екатеринбурге был Белобородов, о котором у нас имелись сведения как о «звере».
Нас беспокоила судьба Царской Семьи, и мы, кроме того, не могли развивать нашей работы, так как мы понимали, что это может грозить гибелью Семье, раз Она находится в руках большевиков. Я и должен был высказать все эти соображения кому следовало из представителей немецкой власти и добиться у них создания такой обстановки для Нее, чтобы Ей не грозило от большевиков никакой опасностью. Я отправился в Москву, где в то время находился граф Мирбах, и числа 5–6 мая по новому стилю я имел свидание с секретарем Мирбаха доктором Янсоном. Я высказал ему наши соображения и просил его доложить Мирбаху о нашей просьбе создать безопасность от большевиков для Царской Семьи. Янсон лично отнесся сочувственно к моей просьбе и просил меня указать ему способ, как создать эту безопасность. Я сказал, что в условиях существующей действительности немцы могли бы это сделать чрез имевшиеся у них организации их военнопленных. Янсон спросил меня, достаточно ли будет для этого 500 человек. Я сказал ему, что я лично не могу ответить на этот вопрос, что его могут решить они сами. Он обещал мне доложить о нашей просьбе Мирбаху.
Тут же я уехал в Киев и вошел в сношения с немцами и там. Я обращался с нашей просьбой обезопасить от большевиков Царскую Семью к майору Гассе, заведывавшему политическим отделом оккупационных войск на Украине, и даже подал ему об этом докладную записку. Он ответил мне, что удовлетворение нашей просьбы зависит от Мирбаха.
Когда появилось в газетах сообщение большевиков об убийстве Государя, я не поверил этому. Я имел общение в Киеве также с немецкими офицерами главного командования, имевшими связь с Москвой по прямому проводу, обращался к ним за сведениями, но они мне отвечали, что у них никаких сведений нет. После панихиды по Государю я в соборе увидел князя Долгорукова, и он мне сказал, что Альвенслебен заранее предупреждал его о возможности появления важных сведений о судьбе Государя, к которым следует относиться с осторожностью. Это меня еще более укрепило в моем недоверии к большевистскому сообщению о смерти Государя. Больше показать я ничего не имею».
Булгаков эту книгу вряд ли успел прочесть при работе над «Белой гвардией», но хорошо был знаком со слухами о чудесном спасении царской семьи, ходившими в монархических кругах Киева. Кроме того, соответствующие материалы насчет слухов о чудесном спасении царской семьи были и в книге М.К. Дитерихса «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале», написанной по материалам Н.А. Соколова. Эта книга вышла еще в 1922 г. во Владивостоке, и с ней Булгаков, вполне возможно, был знаком.
Можно предположить, что Булгаков, по обыкновению, выбрал маскирующего прототипа (Н.Д. Тальберга), который призван был прикрыть основного прототипа (Л.С. Карума). Однако на этот раз фокус не удался. Не только Леонид Сергеевич и его жена сразу же поняли, кто стоит за похожим на крысу персонажем Б. г. и «Дней Турбиных», но и знакомые Булгаковых и Карумов, понятия не имевшие о Н.Д. Тальберге и в лучшем случае, лишь слышавшие эту фамилию, сразу же вычислили Леонида Сергеевича в качестве главного прототипа.
В «Днях Турбиных» Тальбергу 35 лет и он старше как Н.Д. Тальберга, которому в 1918 г. было только 32 года, так и Л.С. Карума, которому к тому времени исполнилось лишь 30 лет. Вполне вероятно, что года рождения Н.Д. Тальберга Булгаков не знал, но, возможно, видел его хотя бы на фотографиях в газетах и решил, что тот выглядит лет на тридцать пять. Поэтому писатель и сделал персонажа старше Карума, в надежде приблизить его возраст к возрасту исторического Тальберга, чтобы замаскировать настоящего прототипа.
Тальбергу в Б. г. противопоставлены братья Турбины, готовые вступить в безнадежную борьбу с петлюровцами и только после краха сопротивления осознающие обреченность белого дела. Причем если старший, списанный с самого автора Б. г., отходит от борьбы, то младший явно готов ее продолжать и, вероятно, погибнет на Перекопе. Николка имел прототипами младших братьев Булгакова – главным образом Н.А. Булгакова, но частично и Ивана. Оба они участвовали в Белом движении, были ранены, сражались до конца. Иван, интернированный в Польше вместе с войсками генерала Н.Э. Бредова (1883 – после 1945), позднее добровольно вернулся в Крым к генералу Врангелю и оттуда уже отправился в эмиграцию. Николай же, скорее всего, по ранению, эвакуированный в Крым, служил вместе с Л.С. Карумом в Феодосии. Однако негативного отношения к мужу сестры у него не было. В письме матери из Загреба 16 января 1922 г. Н.А. Булгаков упоминает встречи «у Варюши с Леней», с двоюродным братом Константином Петровичем Булгаковым (1894–1985) во время службы в Добровольческой армии (в середине 20‐х К.П. Булгаков эмигрировал и стал инженером-нефтяником в Мексике). Очевидно, встреча Н.А. Булгакова с Л.С. Карумом произошла в Феодосии, где он жил вместе с Варей.
Образом молочницы Явдохи автор Б. г. продолжает традицию изображения здорового начала в народной жизни, ее стяжателю Василисе, тайно вожделеющему молодую красавицу. Здесь заметно влияние известного рассказа «Явдоха» (1914) сатирической писательницы Надежды Тэффи (Лохвицкой) (1872–1952). Позднее, в предисловии к сборнику «Неживой зверь» (1916) она следующим образом изложила содержание рассказа: «Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе, очень и грустном и горьком, говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой, и такой беспросветно темной, что, когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала – пришлет он ей денег или нет. И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фельетона, в которых негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.
– Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! – возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла: – И это, по ее мнению, смешно?
– И это тоже смешно?
Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. Но как могла я сказать?»
Возможно, Булгакова привлекло в данном предисловии сходство с Б. г., где он, в отличие от фельетонов и сатирических повестей, ни минуты не смеялся и рассказывал о вещах трагических. Свою Явдоху Булгаков сделал цветущей молодухой, которую вожделеет скаредный Василиса, причем в его воображении она предстает «голой, как ведьма на горе».
Единственный героический персонаж Б. г. – полковник Най-Турс, судя по всему, имел весьма конкретного и неожиданного прототипа. Своему другу П.С. Попову Булгаков говорил во второй половине 20‐х гг., что «Най-Турс – образ отдаленный, отвлеченный. Идеал русского офицерства. Каким бы должен быть в моем представлении русский офицер». Из этого признания обычно делают вывод, что настоящих прототипов у Най-Турса не было, поскольку среди участников Белого движения будто бы не могло быть настоящих героев. Между тем прототип существовал, но называть вслух его имя в 20‐е гг. и позднее было небезопасно.
Вот биография одного из видных кавалерийских командиров Вооруженных Сил Юга России, имеющая явные параллели с биографией романного Най-Турса. Она написана парижским историком-эмигрантом Николаем Николаевичем Рутычем (Рутченко) (1916 г. рождения) и помещена в составленный им «Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России» (1997): «Шинкаренко Николай Всеволодович (лит. псевдоним – Николай Белогорский) (1890–1968). Генерал-майор… В 1912–1913 гг. участвовал добровольцем в болгарской армии в войне против Турции… Был награжден орденом «За храбрость» – за проявленное отличие при осаде Адрианополя. На фронт Первой мировой войны вышел в составе 12‐го Уланского белгородского полка, командуя эскадроном… Георгиевский кавалер и подполковник в конце войны. В Добровольческую армию прибыл одним из первых в ноябре 1917 г. В феврале 1918 г. был тяжело ранен (в ногу. – Б. С.), заменяя пулеметчика в бронепоезде в бою у Новочеркасска».
Комментаторы давно установили, что Белградского гусарского полка, в котором Най-Турс командовал эскадроном и заслужил «георгия», в русской армии не существовало. За образец Булгаков как раз и взял вполне реальный 12‐й уланский Белгородский полк. Совпадают и обстоятельства гибели Най-Турса и ранения Шинкаренко: оба с пулеметом прикрывали отступление своих.
Но откуда Булгаков мог узнать о Шинкаренко? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к дальнейшей биографии Николая Всеволодовича. В феврале 1918 г. он выжил, но вынужден был остаться на территории, занятой красными. Шинкаренко пришлось скрываться вплоть до возвращения Добровольческой армии на Дон весной 1918 г. Вновь присоединившись к своим, он возглавил отряд, а потом полк кавказских горцев в Сводно-Горской дивизии. Шинкаренко произвели в полковники, а в июне 1919 г. он временно принял командование Сводно-Горской дивизией, с которой отличился под Царицыным. Осенью 1919 г. Сводно-Горская дивизия была переброшена на Северный Кавказ для борьбы с начавшимся на территории Чечни и Дагестана восстанием против белых. Согласно «Боевому составу Вооруженных Сил Юга России на 5/18 октября 1919 г.», эта дивизия числилась среди войск Северного Кавказе. Как раз в это время здесь же служил военным врачом Булгаков. Правда, точно неизвестно, был ли тогда Шинкаренко вместе со своей дивизией. В романах «Тринадцать щепок крушения» и «Вчера» он (точнее – автобиографический герой полковник Подгорцев-Белогорский) после ранения под Царицыным пребывает в госпитале (вполне возможно – во владикавказском, где работал Булгаков). Потом действие возобновляется весной 1920 г., когда главный герой оказывается в районе Сочи в рядах Кубанской армии. Основная ее масса капитулировала перед красными, но Шинкаренко вместе с частью кубанцев и горцев удалось избежать сдачи в плен и эвакуироваться в Крым. Кстати сказать, одним из отрядов белых в районе Сочи в январе 1920 г. командовал полковник Мышлаевский. Не отсюда ли Булгаков взял фамилию одного из героев Б. г.?
Необходимо оговориться, что романы Белогорского – это художественные произведения, где документально точные описания ряда боев соседствуют с вымыслом. Об этом автор даже предупреждает читателей в специальном примечании. Вообще, о событиях своей жизни, в период после боев под Царицыным и вплоть до прибытия в Крым, Шинкаренко рассказывал очень скупо. Может быть, причина заключалась в том, что он не считал борьбу с восставшими горцами славной страницей Белого движения. Тем более что теми же горцами Николаю Всеволодовичу пришлось командовать почти всю гражданскую войну. Но в его романе «Вчера», написанном уже после Второй мировой войны, речь идет об антисоветском восстании на Северном Кавказе в конце 20‐х гг. При этом автор очень точно описывает как раз те районы Чечни, в которых осенью 1919 г. побывал Булгаков. Их зарисовки мы находим в «Необыкновенных приключениях доктора» и в дневнике «Под пятой». Не исключено, что тогда же в тех же самых аулах побывал и полковник Шинкаренко.
В любом случае Булгаков на Северном Кавказе мог либо лично встречаться с Николаем Всеволодовичем, либо слышать рассказы о нем от офицеров Сводно-Горской дивизии.
Какова же была дальнейшая судьба Шинкаренко? Гораздо более счастливой, чем у Най-Турса. За отличия в боях в Северной Таврии Врангель произвел Николая Всеволодовича в генерал-майоры и наградил орденом Св. Николая. Перед эвакуацией из Крыма Шинкаренко командовал Туземной дивизией. И в эмиграции он не сидел сложа руки, изыскивая любую возможность продолжить борьбу с большевизмом. В некрологе, опубликованном в феврале 1969 г. в парижском журнале «Часовой», отмечалось: «Тяжелая и серая эмигрантская жизнь не удовлетворяла генерала Шинкаренко, и он рвался к действию. Сначала были попытки работать в России. Когда же вспыхнула гражданская война в Испании, он одним из первых прибыл в армию генерала Франко, был определен в войска «Рекеттэ» (красные береты), тяжело ранен в голову на Северном фронте и произведен в поручики (лейтенанты). После окончания войны непрерывно проживал в Сан-Себастьяне (Испания) и отдался литературной деятельности». 21 декабря Николай Всеволодовичем был сбит грузовиком и погиб в возрасте 78 лет. Интересно, что Шинкаренко, как и сам Булгаков и рожденный писательской фантазией Най-Турс не отличался почтением к штабам. В эмиграции он в ряде брошюр руководство основанного Врангелем Русского Обще-Воинского Союза (РОВСа). Шинкаренко ратовал за сохранение кадров белых армий в качестве вооруженных формирований в войсках одной из стран, готовой принять такие условия со стороны русской эмиграции. Шинкаренко-Белогорский утверждал, что руководители эмиграции живут только прошлым. В 1930 г. «Часовой» дал критический отзыв на одну из брошюр Белогорского, где, в частности, было сказано, что под псевдонимом Белогорский скрывается генерал Шинкаренко. Однако идейные разногласия не помешали генералу в 1939 г. опубликовать в «Часовом» свои очерки войны в Испании. Тогда же единственный раз было напечатано его фото. Оно доказывает, в частности, что Най-Турс обладает портретным сходством с Шинкаренко. Оба – брюнеты или темные шатены, среднего роста и с подстриженными усами. Да и в остальном они похожи. Вот что, например, писал в декабре 1929 г. один из соредакторов журнала «Часовой» офицер-дроздовец Евгений Викторович Тарусский (Рышков) (1890–1945) о книге Белогорского «Тринадцать щепок крушения»: «Белогорский – псевдоним, скрывающий имя одного из блестящих кавалерийских генералов нашей армии. «Тринадцать щепок крушения» проникнуты духом подлинного рыцарства и мужества, это художественный трактат о том, каким должен быть настоящий мужчина во всех жизненных обстоятельствах и в особенности в отношении женщины. Его герои особенно привлекательны этой своею мужественностью, мужским благородством, неизменно сохраняющими свою ценность равно во времена Росбаха или Трои или царицынских боев нашей гражданской войны». Эту характеристику вполне можно применить и к булгаковскому Най-Турсу. И тот же Тарусский в ноябре 1929 г. в «Часовом» утверждал, касаясь Б. г.: «Если есть среди советских писателей большой талант, которого советская тирания губит и, без сомнения, в конце концов погубит, то это – Михаил Булгаков. Булгаков органически не может вывернуть шиворот-навыворот по «марксистскому» образцу свою талантливую и чуткую душу. Угрозами, доносами, яростью и ненавистью встретила советская наемная критика первую часть «Белой гвардии», романа, под которым за малыми купюрами – подписался бы любой белогвардейский писатель». Несомненно, образ Най-Турса был очень весомым аргументом в пользу такого заявления. Разница же между Булгаковым и эмигрантами-белогвардейцами заключалась в том, что автор Б. г. принимал советскую власть как неизбежную и длительную реальность российской жизни, тогда как Шинкаренко, Тарусский и некоторые другие, как их называли в эмигрантской среде, «активисты» все еще мечтали об ее сравнительно скором свержении вооруженным путем. Насчет же героизма рядовых, и не только рядовых, участников Белого движения у Булгакова с эмигрантами разногласий не было.
Назвать Най-Турса какой-нибудь украинской фамилией, близкой к фамилии прототипа, писатель не мог, потому что сражаться белградскому гусару приходилось против украинцев Петлюры, и украинская фамилия в данном контексте была бы неорганичной. Да и вполне возможно, что Булгаков фамилии Шинкаренко вообще не запомнил.
Можно предположить, что фамилия Най-Турс имеет чисто литературное происхождение. Дело в том, что ее при желании можно прочесть и как «найт Урс», т. е. «рыцарь Урс» («knight» по-английски значит «рыцарь»). «Urs» же по латыни – это «медведь». Так зовут одного из героев романа Г. Сенкевича «Quo vadis», раба-поляка, ведущего себя как настоящий рыцарь. Может быть, из-за этого Най-Турсу дано распространенное польское имя «Феликс», что в переводе с латинского значит «счастливый». Сенкевич не только прямо упоминается в тексте Б. г. Начало булгаковского романа является легко узнаваемым парафразом начала романа Сенкевича «Огнем и мечом».
Не исключено также, что Булгакову и Шинкаренко все же довелось встречаться на Северном Кавказе в конце 1919 или в начале 1920 г. Тогда прототип Най-Турса вполне мог быть тем раненым полковником, которого Булгаков вспоминает в своем дневнике в ночь на 24 декабря 1924 г. вместе со стихами Василия Жуковского, ставшими эпиграфом к «Бегу»: «Я смотрел на лицо Р.О. (сотрудника редакции «Гудка». – Б. С.) и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал… Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О., одновременно – вагон, вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же – картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.
- Бессмертье – тихий светлый брег…
- Наш путь – к нему стремленье.
- Покойся, кто свой кончил бег,
- Вы, странники терпенья…
Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19‐го года во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так:
– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.
Меня же контузили через полчаса после него».
Возможно, Шинкаренко и был тем раненым в живот полковником. Булгаков мог решить, что тот умер, и это обстоятельство подсказало ему трагический конец Най-Турса, который, кстати, носит то же звание, что имел Николай Всеволодович в свою бытность на Северном Кавказе.
Фамилия Най-Турс, несомненно, восходит к сиамской (тайской) фамилии Най-Пум. Известен полковник лейб-гвардии Гусарского полка Николай Николаевич Най-Пум (1884–1947), в Первую мировую войну – командир третьего эскадрона. Он был родом из Сиама (Таиланда), приехал в Россию в 1898 г. вместе с принцем Чакрабоном Пуванатом (1883–1920). Он учился в Пажеском корпусе, крестился под именем Николай Николаевич, в 1906 г. принял российское подданство и жил в Киеве, где женился на Елизавете Ивановне Храповицкой. Бывший директор Пажеского корпуса, генерал от инфантерии Николай Алексеевич Епачин (1857–1941) вспоминал в книге «На службе трех императоров» (1996): «Когда я принял Пажеский корпус (в 1900 г. – Б. С.), в нем воспитывался Сиамский принц Чакрабон, второй сын Короля, и два сиамца: Най-Пум и Малапа; принц и Най-Пум были в специальных классах, а Малапа – в общих, он был значительно моложе первых двух. Государь весьма интересовался воспитанием этих юношей, а относительно принца Чакрабона Его Величество сказал мне, чтобы я смотрел на него, как на Его сына. Сиамцы были помещены в Зимнем дворце, получали стол от Двора, придворный экипаж, прислугу и все прочие удобства; одним словом, они были обставлены по-царски… По окончании курса специальных классов корпуса принц и Най-Пум в августе 1902 г. были произведены в корнеты Гусарского Его Величества полка». Най-Пум после гражданской войны жил в эмиграции сначала во Франции, а затем в Англии. Он умер 21 ноября 1947 г. в графстве Корнуэлл в Англии.
«Мольер»
Роман. При жизни Булгакова не публиковался. Впервые: Булгаков М. Жизнь господина де Мольера. М.: Молодая гвардия, 1962 г. (серия «ЖЗЛ»). Название «Жизнь господина де Мольера», очевидно, было дано вдовой писателя Е.С. Булгаковой при подготовке романа к публикации в альманахе «Литературная Москва» в 1956 г. (издание не осуществилось). Во всех сохранившихся в булгаковском архиве авторских экземплярах машинописи роман назван «Мольер». Еще в октябре 1929 г. Булгаков занес в записную книжку названия интересовавших его авторов и произведений: «Казанова, Мольер, Записки Пиквикского клуба» (последнее – название романа (1837) великого английского реалиста Чарльза Диккенса (1812–1870), в инсценировке которого в МХАТе драматург в 1934–1935 гг. сыграл роль Судьи и один из героев которого, мошенник Джингль, послужил прототипом Аметистова в пьесе «Зойкина квартира»). Здесь же Булгаков набросал список литературы о великом французском комедиографе Жане Батисте Мольере (Поклене) (1622–1673), использованной при работе как над пьесой «Кабала святош», так и над М. Договор на М. для серии «Жизнь замечательных людей» «Жургаза» (Журнально-газетного издательства) был заключен 11 июля 1932 г. Первым названием беллетризованной биографии стало следующее: «Всадник де Мольер. Полное описание жизни Жана Баптиста Поклэна де Мольера с присовокуплением некоторых размышлений о драматургии». Титул всадник (буквальный перевод с французского слова «кавалер») заставляет вспомнить другого персонажа, который в период начала работы над М. также владел творческим воображением писателя. Это – Понтий Пилат, всадник Золотое Копье, пятый прокуратор Иудеи. Если Мольер вынужден был порой льстить королю, пользуясь его покровительством и защитой от «князей церкви» и могущественных аристократов, то Пилат, опасаясь гнева кесаря, проявляет трусость, отправляя на казнь невинного Иешуа Га-Ноцри.
5 марта 1933 г. Булгаков закончил работу над М. и 8 марта сдал рукопись в издательство. 9 апреля 1933 г. он получил развернутый отзыв редактора серии «ЖЗЛ» Александра Николаевича Тихонова (Сереброва) (1880–1956). Отзыв был резко отрицательным, хотя и признавал достоинства булгаковского таланта: «Как и следовало ожидать, книга в литературном отношении оказалась блестящей, и читается с большим интересом.
Но вместе с тем, по содержанию своему она вызывает у меня ряд серьезных сомнений.
Первое и главное это то, что Вы между Мольером и читателем поставили некоего воображаемого рассказчика, от лица которого и ведется повествование. Прием этот сам по себе мог бы быть очень плодотворным, но беда в том, что тип рассказчика выбран Вами не вполне удачно.
Этот странный человек не только не знает о существовании довольно известного у нас в Союзе, так называемого марксистского метода исследований исторических явлений, но ему даже чужд вообще какой-либо социологизм даже в буржуазном понятии этого термина.
Поэтому нарисованная им фигура Мольера стоит вполне обособленно от тех социальных и исторических условий, среди которых он жил и работал.
Какова была классовая структура Франции эпохи Мольера? Представителем какого класса или группы был сам Мольер? Чьи интересы обслуживал его театр, и проч.? Все это необходимо знать, т. к. без этого будет многое непонятно в его личной судьбе, а в особенности в судьбе его театра.
Исторические события, на фоне которых развертывалась деятельность Мольера, освещены Вашим рассказчиком под углом зрения Иловайского (автора гимназических учебников русской и всеобщей истории Д.И. Иловайского (1832–1920). – Б. С.). «Фронда» (движение аристократии, оппозиционное Людовику XIV (1638–1715) и его фавориту, фактическому правителю Франции кардиналу Джулио Мазарини (1602–1661). – Б. С.) для него не более как внутренняя «междоусобица», война с Нидерландами и Испанией – личное дело Людовика XIV и пр.
В книге совершенно недостаточно выяснено значение мольеровского театра – его социальные корни, его буржуазная идеология, его предшественники и продолжатели, его борьба с ложноклассическими традициями аристократического канона (что это такое, наверняка не знали не только Мольер и Булгаков, но, думается, и сам А.Н. Тихонов. – Б. С.).
Литературная генеалогия пьес Мольера – также неубедительна и ограничивается уголовными ссылками на заимствования и плагиаты (почему-то советская литературно-критическая традиция с самого начала очень не жаловала всякие упоминания о заимствованиях, не умея и не желая различить заимствование и плагиат. Самого Булгакова в печати обвиняли, что он чуть ли не украл из повести Алексея Николаевича Толстого (1882/83—1945) «Ибикус» (1924–1925) идею тараканьих бегов в пьесе «Бег» (правда, за эмигранта Аркадия Аверченко (1881–1925), у которого эти бега в рассказах тоже присутствуют, никто заступаться не спешил). Советская идеология мифологизировала всех выдающихся людей прошлого и настоящего. Поэтому плоды творчества гениев следовало представлять как нечто абсолютно самобытное, оригинальное и неповторимое, чего, как известно, не может быть в природе человека. Эта традиция позднее, с конца 60‐х г., постепенно переносилась и на творчество канонизируемого Булгакова, в отношении которого стало дурным тоном говорить о заимствованиях, хотя концентрация литературных источников в бул-гаковских произведениях, особенно в «Мастере и Маргарите», едва ли не наивысшая в мировой литературе, что вовсе не мешает оригинальности авторам. – Б. С.).
Рассказчик неоднократно упоминает имена Корнеля, Расина, Шапеля и других современников Мольера. Но какие же сведения об них мы получаем? Корнель – был влюблен в Дю-Парк, Расин – был интриганом, Шапель – пьяницей. И это почти все! А что они делали и писали, какова их роль в литературе и театре – об этом нет почти ничего.
Помимо этого и других крупных недостатков, Ваш рассказчик страдает любовью к афоризмам и остроумию (страшное преступление с точки зрения редактора-марксиста. – Б. С.). Некоторые из этих афоризмов звучат по меньшей мере странно. Например: «Актеры до страсти любят вообще всякую власть», «Лишь при сильной и денежной власти возможно процветание театрального искусства», «Все любят воров, потому что возле них всегда светло и весело», «Кто разберет, что происходит в душе у властителей людей» и прочее в этом роде.
Он постоянно вмешивается в повествование со своими замечаниями и оценками, почти всегда мало уместными и двусмысленными (о ящерицах, которым отрывают хвост, о посвящениях, которые писал Мольер высоким особам, о цензуре и пр.). За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность, особенно в тех случаях, когда это связано с Вашей личной биографией (об авторе, у которого снимают с театра пьесы, о социальном заказе и пр.). (Похоже, А.Н. Тихонов всерьез опасался: читатели могут подумать что «актеры до страсти любят советскую власть», что советские партийные и государственные деятели, покровительствующие театру, много воруют, что души у советских властителей совсем не светлые, и т. д. – Б. С.)
Зато вполне недвусмысленны его высказывания, касающиеся короля Людовика XIV, свидетельствующие об том, что рассказчик склонен к роялизму (тут А.Н. Тихонов ошибся, не зная резких булгаковских отзывов в дневнике «Под пятой» о династии Романовых. – Б. С.).
Людовик XIV для него – «серьезный человек на троне», «лицо бесстрастное и безупречное» (иронии враг остроумия А.Н. Тихонов тоже не воспринимает, или просто предпочитает не обращать на нее внимание, чтобы приблизить свой отзыв к столь популярному тогда жанру литературного доноса. – Б. С.), он храбрый полководец и занят в «кругу своих выдающихся по уму министров». Он всегда галантен, вежлив и справедлив. Вместо ссылок на исторические материалы, Ваш рассказчик любит черпать свою информацию из каких-то сомнительных источников. Его рассказ то и дело пестрит выражениями: «как говорят», «поговаривают», «прошел слух», «злые языки болтают» и т. д. Все это придает его рассказу характер недостоверной сплетни даже в тех случаях, когда он излагает бесспорные факты.
И вообще, у этого человека большая любовь ко всякого рода сомнительным, альковным закулисным историям и пересудам. Вспомните только, с каким азартом и как подробно он излагает «пикантную» сплетню о сожительстве Мольера с дочерью.
Ко всему прочему он обладает, по-видимому, большими оккультными способностями, иначе откуда бы он мог узнать, что чувствовал, видел и слышал Мольер в момент своей смерти или сколько раз снился Мольер Филиппу Орлеанскому (автор утверждает, что всего «один раз»).
Да и вообще рассказчик верит в колдовство и чертовщину.
Его Мольер «пылает дьявольской страстью». Рукописи Мольера «колдовским образом сгинули». Таким же «колдовским образом» рассказчик проникает в тайну женитьбы Мольера…
Если все это сопоставить, то получается отчетливый портрет бойкого, иногда блестящего благера-мещанина (от французского blagueur, т. е. хвастун, насмешник, враль. – Б. С.), может быть, близкого эпохе Мольера, но никак не приемлемого в качестве лектора для нашего, советского слушателя.
А между тем, как я уже говорил, идея Ваша передать биографию Мольера устами выдуманного рассказчика – очень удачна.
Если бы Вы вместо этого развязного молодого человека в старинном кафтане, то и дело зажигающего и тушащего свечи, дали серьезного советского историка (очевидно, в XVII в. такого историка пришлось бы перемещать с помощью машины времени, вроде той, что была в булгаковских пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич», но тогда М., вероятно, превратился бы в фантастический роман; интересно, что работа над этими пьесами началась уже после отзыва А.Н. Тихонова и, как знать, не подсказал ли этот отзыв, наряду с другими источниками, переместить советских инженера-изобретателя, управдома и вора домушника в XVI и XXIII в.? – Б. С.), он бы мог много порассказать интересного о Мольере и его времени. Во-первых, – он рассказал бы о социальном и политическом окружении Мольера, о его роли литературного и театрального реформатора. Об истории театра до и после Мольера. Об театре – аристократическом, буржуазном и народном. Об их репертуаре и публике. Об существующих тогда теориях театрального искусства и борьбе этих теорий. Об устройстве театральной сцены, начиная от королевского театра до бродячих трупп. Об взаимоотношениях между антрепренерами и труппой и об целом ряде других интересных вещей, связанных с этой театральной эпохой.
Все это Вам, как специалисту по театру и знатоку Мольера, известно, конечно, лучше меня. Тогда почему же произошло такое досадное недоразумение с Вашей работой?
По-видимому, Вы либо не поняли задач нашей серии – хотя и лично, и письменно мы Вас об них осведомляли, либо, создав для себя тип воображаемого рассказчика, вполне пригодного для первой части книги. Вы невольно, как художник, стали его развивать и в конце концов сами попали в его руки (отметим оригинальное решение А.Н. Тихоновым сложной теоретической проблемы, в каком соотношении находятся писатель, создавший текст, и введенная им в произведение фигура рассказчика: согласно редактору «ЖЗЛ» выходит, что рассказчик свободно может захватывать писателя в плен. – Б. С.).
Так или иначе, но из всего сказанного выше нетрудно сделать неизбежный вывод – книга в теперешнем виде не может быть предложена советскому читателю. Ее появление вызовет ряд справедливых нареканий и на издательство и на автора. Книгу необходимо серьезно переработать. Я не сомневаюсь, что Вам нетрудно будет это сделать, если Вы, откинув отдельные, может быть, ошибочные мои замечания, согласитесь с основным – это не тот Мольер, каким его должен знать и ценить советский читатель.
Вы меня простите, Михаил Афанасьевич, что написал это все может быть резко и неуклюже (в неуклюжести автору отзыва, по-своему замечательного, не откажешь. – Б. С.) – но я иначе не умею.
Если Вы согласитесь взять на себя дальнейшую работу над рукописью, я, разумеется, готов более подробно в личной беседе изложить свою точку зрения (до личной беседы у Тихонова с Булгаковым дело так и не дошло. – Б. С.).
Как Вы просили, я послал Вашу рукопись Алексею Максимовичу.
Подождем, что он скажет».
Мнение основателя советской серии «ЖЗЛ» Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936), что неудивительно, совпало с мнением А.Н. Тихонова, которому он написал 28 апреля 1933 г.: «В данном виде это – несерьезная работа и Вы правильно указываете – она будет резко осуждена». Вторая жена Булгакова Л.Е. Белозерская, одно время работавшая вместе с А.Н. Тихоновым в серии «ЖЗЛ», передает с его слов позднейшую устную характеристику Горьким булгаковского М.: «Что и говорить, конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет…»
Уже 12 апреля 1933 г., не дожидаясь горьковского отзыва, Булгаков в ответном письме А.Н. Тихонову категорически не согласился с замечаниями редактора. Он утверждал: «Вопрос идет о полном уничтожении той книги, которую я сочинил и о написании взамен ее новой, в которой речь должна идти совершенно не о том, о чем я пишу в своей книге.
Для того чтобы вместо «развязного молодого человека» поставить в качестве рассказчика «серьезного советского историка», как предлагаете Вы, мне самому надо было бы быть историком. Но ведь я не историк, я драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчетливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер и форму для донесения этого Мольера до зрителя (драматическая описка: не зрителя, а читателя. – Примечание Булгакова. – Б. С.) я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно.
Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не мог переписать ее наизнанку. Помилуйте!
Итак, я, к сожалению, не могу переделывать книгу и отказываюсь переделывать. Но что ж делать в таком случае?
По-моему, у нас, Александр Николаевич, есть прекрасный выход. Книга непригодна для серии. Стало быть, и не нужно ее печатать. Похороним ее и забудем!»
17 ноября 1933 г. редакция «ЖЗЛ» известила Булгакова о своем окончательном отказе от публикации М.
Замечания А.Н. Тихонова к М. удивительным образом бьют именно по тем особенностям книги, которые делают ее привлекательной для читателей. К счастью для них, Булгаков переделывать М. не стал. Советский канон биографий деятелей прошлого и настоящего допускал только их мифологическое изображение. Тех, кто официально был признан выдающимся и для своего времени «прогрессивным», требовалось писать по преимуществу светлыми красками, а к допустимым недостаткам «прогрессистов» относилась разве что недооценка передовой роли того или иного класса или явления. Такие современники Мольера, как Пьер Корнель (1606–1684), Жан Расин (1639–1699) и уж тем более религиозный вольнодумец Клод Эманюэль Шапель (1626–1686), относились к числу положительных героев мифа, упоминать об их пьянстве или склонности к интригам считалось дурным тоном. Наоборот, монархов, вроде Людовика XIV, и вообще аристократов надо было изображать карикатурно в качестве отрицательных культурных героев. Творческая же личность как таковая ревнителей канона не интересовала. Место живого драматурга в биографии тот же Тихонов гораздо охотнее отдал бы подробному описанию устройства театральной сцены, интересному на самом деле только для специалистов. Требования же, предъявленные им к М., больше годились бы для обширного научного трактата по социально-политической или социо-культурной истории эпохи Людовика XIV. А уж подозрительное отношение даже к метафорическому упоминанию дьявольской или колдовской силы вообще анекдотична и показывает, как мало шансов было в то время и на публикацию «Мастера и Маргариты», где мистическое начало, связанное с Воландом и его свитой, играет куда более важную роль, чем в М.
Слабая надежда на издание М. появилась, когда в октябре 1933 г. А.Н. Тихонова в редакции «ЖЗЛ» на время сменил Лев Борисович Каменев (Розенфельд) (1883–1936). 1 ноября 1933 г. Е.С. Булгакова зафиксировала в дневнике его мнение о рукописи со слов секретаря «ЖЗЛ» Н.А. Экке: «– Каменеву биография Мольера очень нравится, он никак не соглашается с оценкой Тихонова. Ждет его приезда из отпуска для того, чтобы обсудить этот вопрос с ним. Я очень надеюсь, что биография все-таки будет напечатана у нас». Вероятно, другой отзыв того же Л.Б. Каменева отмечен в дневнике Е.С. Булгаковой 21 сентября 1933 г. со ссылкой на Н.А. Экке, которая «рассказывала: «какой-то партийный работник из «Academia» говорил:
– Вы дураки будете, если не напечатаете. Блестящая вещь. Булгаков великолепно чувствует эпоху, эрудиция громадная, а источниками не давит, подает материал тонко» (временный заместитель А.Н. Тихонова до прихода в «ЖЗЛ» руководил издательством «Academia»).
Ирония судьбы заключалась в том, что в 1926 г. Л.Б. Каменев, тогда занимавший гораздо более высокое положение одного из признанных партийных вождей, решительно воспрепятствовал публикации «Собачьего сердца». Позднее вождь впал в опалу и, кажется, научился гораздо терпимее относиться к литературным произведениям. Однако после убийства 1 декабря 1934 г. секретаря Ленинградской парторганизации С.М. Кирова (Кострикова) (1886–1934) Л.Б. Каменев был репрессирован, так что в дальнейшем его положительный отзыв мог бы только повредить М.
Некоторые реалии М. неожиданным образом преломились в «Мастере и Маргарите». Вот описание театрального зала во дворце герцога Филиппа Орлеанского Малый Бурбон, где играла труппа Мольера, будучи Труппой Господина Единственного Брата Короля: «На главном входе Малого Бурбона помещалась крупная надпись «Надежда», а самый дворец был сильно потрепан, и все гербы в нем и украшения его попорчены или совсем разбиты, ибо междоусобица последних лет коснулась и его. Внутри Бурбона находился довольно большой театральный зал с галереями по бокам и дорическими колоннами, между которыми помещались ложи. Потолок в зале был расписан лилиями, над сценой горели крестообразные люстры, а на стенах зала – металлические бра… Театральная жизнь в Бурбоне прервалась тогда, когда началась Фронда, потому что в Бурбонский зал сажали арестованных государственных преступников, обвиняемых в оскорблении величества. Они-то и испортили украшения в зале». В «Мастере и Маргарите» театральный зал Малого Бурбона видит в своем сне арестованный за хранение долларов в уборной управдом Никанор Иванович Босой, и в этом зале сидят (в буквальном смысле сидят на полу, в отличие от фрондеров XVII в.) государственные преступники, подозреваемые в еще более страшном преступлении, чем оскорбление величества – в сокрытии от государства валюты и прочих ценностей. Босой «почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Все было как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика».
По сравнению с эпохой Людовика XIV и Мольера государственные преступники в «Мастере и Маргарите» кажутся мельче – не на королевскую власть покушаются, а всего лишь пытаются скрыть от властей золотые десятки, валюту да драгоценности. Однако показательно, что в советском обществе пятиконечные звезды – символ коммунистической идеи и аналог королевских бурбонских лилий на занавесе в М. превратились в золотые десятки. Государство во времена Булгакова стремилось выжать из своих граждан как можно больше ценностей. В М. писатель ловко обыграл латинское словосочетание «оскорбление величества» – «laesio majestatis» из Закона об оскорблении величества, активно использовавшемся при римском императоре Тиберии (43 или 42 до н. э. – 37 н. э.) для преследования его врагов. Буквальный перевод «laesio majestatis» – умаление, ущерб или порча величества. Поэтому заключенные в театральный зал Малого Бурбона обвиняемые в «оскорблении величества» и «испортили украшения», причем эти украшения оказываются связанными с символикой королевской власти. В «Мастере и Маргарите» закон об оскорблении величества становится причиной малодушия Пилата, убоявшегося отпустить Иешуа. В современном же мире «Мастера и Маргариты» «оскорбление величества» власти звучит пародийно и выражается в отказе отдать ей золотые десятки – весомый заменитель мнимых бумажных десяток-червонцев, которыми одаривают подручные Воланда московскую публику на сеансе в Театре Варьете. Подлинные произведения театрального искусства, которые в М. играла в театральном зале Малого Бурбона труппа Мольера, а до нее – королевский балет и итальянцы, в «Мастере и Маргарите» спародированы выступлениями «драматического артиста» Куролесова и других, агитирующих сдавать накопления. Если в М. над главным входом во дворец Малый Бурбон помещается надпись «Надежда», что, имея в виду печальную судьбу узников театрального зала, заставляет вспомнить дантовское «Забудь надежду, всяк сюда входящий» перед входом в ад в «Божественной комедии» (1307–1321) Данте Алигьери (1265–1321), то в «Мастере и Маргарите» Никанор Иванович видит только вспыхивающие на стенах «красные горящие слова: «Сдавайте валюту!» – современную копию библейских «мене, мене, текел, упарсин» – пророчества вавилонскому царю Валтасару скорой гибели (Дан., 5). Советский театр, в сравнении с мольеровским, выродился в примитивное агитационное представление.
Интересно, что единственный абзац М., содержащий своеобразный сравнительно-исторический подход к исследуемой теме, но противоположный тому, который требовал от Булгакова А.Н. Тихонов, похоже, сознательно был купирован автором при отсылке рукописи в издательство, а позднее, вплоть до 1990 г. не воспроизводился из-за цензурной неприемлемости во всех советских изданиях М. Вот это обращение рассказчика к акушерке, принимающей Мольера: «Добрая госпожа, есть дикая страна, вы не знаете ее, это – Московия, холодная и страшная страна. В ней нет просвещения, и населена она варварами, говорящими на странном для вашего уха языке. Так вот, даже в эту страну вскоре проникнут слова того, кого вы сейчас принимаете». А в рукописи М. остались слова, вообще пародирующие «классовый» и «идеологический» подход, который Булгаков высмеял еще на примере репетиции пьесы драматурга Дымогацкого в «Багровом острове». Приведем пассаж, как бы предвосхитивший требуемого А.Н. Тихоновым историка-марксиста в качестве рассказчика: «Здесь я в смущении бросаю проклятое перо. Мой герой не выдержан идеологически. Мало того, что он сын явного буржуа, сын человека, которого наверное бы лишили прав в двадцатых годах XX столетия в далекой Московии, он еще к тому же воспитанник иезуитов, мало того, личность, сидевшая на школьной скамье с лицами королевской крови.
Но в оправдание свое я могу сказать кое-что.
Во-первых, моего героя я не выбирал. Во-вторых, я никак не могу сделать его ни сыном рабочего, ни внуком крестьянина, если я не хочу налгать. И, в-третьих, – относительно иезуитов. Вольтер учился у иезуитов, что не помешало ему стать Вольтером».
К счастью Булгакова, ни А.Н. Тихонов, ни А.М. Горький, ни Л.Б. Каменев не знали о том, что рассказчику в старинном кафтане, пишущему роман при свечах гусиным пером (подобная участь уготовлена Мастеру в последнем приюте), в ранней редакции М. предшествовал рассказчик – булгаковский современник. Иначе последний вряд ли бы отважился на положительный отзыв о М., а двое других сделали бы в своих рецензиях еще более резкие выводы, которые вполне могли бы привести и к репрессиям со стороны власть имущих по отношению к Булгакову.
Мольер в М. родственен Мастеру в последнем булгаковском романе. Вместе с тем он находится в более завидном положении, чем герой «Мастера и Маргариты» и его создатель. Мольер все-таки способен ставить и публиковать свои пьесы, пусть иной раз и пресмыкаясь перед королем и имея могущественных противников в лице высших церковных иерархов Франции. Булгаковский Мастер лишен возможности обнародовать свое гениальное произведение и может увидеть напечатанным лишь один отрывок из него. Однако эта публикация приводит к погубившей его травле со стороны идеологически ангажированных критиков. Сам же Булгаков находился в положении, более близком к положению автобиографического Мастера, чем главного героя М. Его пьесы, за редким исключением, на сцене так и не появились, а в печати его произведений не было с 1928 г. и до самой смерти. Потому-то М. написан гораздо оптимистичнее «Мастера и Маргариты»: если в начале 30‐х гг. Булгаков еще надеялся на перемены к лучшему в своей судьбе, то, дописывая последний роман, уже будучи смертельно больным, он уповал лишь на посмертную славу.
В черновике к М. Булгаков сделал выписку из брошюры священника церкви Св. Варфоломея Рулле с такой характеристикой Мольера: «Демон, вольнодумец, нечестивец, достойный быть сожженным». Эта цитата отразилась в заключительных строках эпилога М.: «Итак, мой герой ушел в парижскую землю и в ней сгинул. А затем, с течением времени, колдовским образом сгинули все до единой его рукописи и письма. Говорили, что рукописи погибли во время пожара, а письма будто бы, тщательно собрав, уничтожил какой-то фанатик. Словом, пропало все, кроме двух клочков бумаги, на которых когда-то бродячий комедиант расписался в получении денег для своей труппы». В «Мастере и Маргарите» с помощью Воланда «колдовским образом» возрождается сожженная главным героем рукопись о Понтии Пилате.
Среди идущих за гробом Мольера в М. упоминается баснописец Жан де Лафонтен (1621–1695). В сцене сна Никанора Ивановича Босого в «Мастере и Маргарите» «баснями Лафонтена» называет театральный ведущий отговорки арестованных, что у них нет золота и валюты. Лафонтен, не побоявшийся публично отдать последние почести осуждаемому церковью комедиографу, в главном булгаковском романе упоминается в уничижительном смысле карикатурным представителем новой власти, власти, удивительно схожей с «кабалой святош» – клерикальным тайным «Обществом Святых даров», боровшимся против «Тартюфа» (1664) и других мольеровских пьес.
«Театральный роман»
Роман, имеющий подзаголовок «Записки покойника». При жизни Булгакова не закончен и не публиковался. Впервые: Новый мир. М., 1965, № 8. На первой странице рукописи автографа романа читаем:
«М. Булгаков
Записки покойника. 26. XI 36 г.
Театральный роман».
Сначала было только «М. Булгаков» и «Театральный роман», а затем между этими строчками было вписано буквами несколько меньшего размера, чтобы уместить в оставшийся промежуток, «Записки покойника» – то ли в качестве подзаголовка, то ли в качестве альтернативного названия. Некоторые исследователи полагают, что «Записки покойника» являются основным названием романа, а «Театральный роман» – подзаголовком. На наш взгляд, подзаголовок «Театральный роман» к названию «Записки покойника» совершенно невероятен. Дело в том, что название «Театральный роман» определяет основное содержание произведения – роман главного героя, драматурга Максудова, с Независимым Театром, и роман как литературное творение, посвященное театральному миру и оставшееся в посмертных записках покончившего с собой драматурга. Неслучайно ранняя редакция Т. р., упоминаемая в письме Булгакова правительству 28 марта 1930 г. как сожженная после получения известия о цензурном запрете пьесы «Кабала святош», названа романом «Театр». «Записки покойника» – это специфическое, с грустной иронией, определение жанра произведения, и в качестве основного названия оно выступать никак не может. Не исключено, что этот подзаголовок – дань традиции. Здесь можно прежде всего вспомнить роман великого английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870) «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837) (в мхатовской инсценировке этого романа Булгаков успешно играл роль Судьи), а также мемуарные «Замогильные записки» (1849–1850) известного французского писателя-романтика и политического деятеля виконта Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), предназначавшиеся к публикации только после смерти автора, как и рукопись Максудова в булгаковском романе.
Начало работы над Т. р. относится к концу 1929 г. или к началу 1930 г., после написания незавершенной повести «Тайному другу». События, запечатленные в этой повести, послужили материалом и для Т. р. Первая редакция Т. р., называвшаяся «Театр», была уничтожена 18 марта 1930 г. Работу над Т. р., по свидетельству его третьей жены Е.С. Булгаковой, писатель возобновил 26 ноября 1936 г., вскоре после перехода из МХАТа либреттистом-консультантом в Большой театр. Сюжет Т. р. был во многом основан на конфликте Булгакова с главным режиссером Художественного театра Константином Сергеевичем Станиславским (Алексеевым) (1863–1938) по поводу постановки «Кабалы святош» в МХАТе и последующим снятием театром пьесы после осуждающей статьи газеты «Правда». 24 февраля 1937 г. писатель, как зафиксировано в дневнике его жены, впервые читал отрывки из Т. р. своим знакомым, причем «чтение сопровождалось оглушительным смехом». 3 июня 1937 г. он читал роман мхатовцам – художникам В.В. Дмитриеву (1900–1948) и П.В. Вильямсу (1902–1947), сестре Е.С. Булгаковой О.С. Бокшанской (1891–1948), работавшей секретарем основателя Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943), ее мужу артисту Е.В. Калужскому (1896–1966), а также администратору театра Ф.Н. Михальскому. Как записала Е.С. Булгакова, сцена репетиции, напоминавшая о «Кабале святош», «всем понравилась». Позднее последовало еще несколько чтений Т. р. Однако, как вспоминала Е.С. Булгакова, в 1938 г. писатель «отложил «Записки» для двух своих последних пьес («Дон Кихот» и «Батум». – Б. С.), но главным образом для того, чтобы привести в окончательный вид свой роман «Мастер и Маргарита». Он повторял, что в 1939 году он умрет и ему необходимо закончить Мастера, это была его любимая вещь, дело его жизни. И «Записки покойника» оборвались на незаконченной фразе».
Отметим, что на незаконченной фразе остановилась и работа над повестью «Тайному другу». И получилось так, что обе эти фразы во многом передают главные идеи повести и романа. «Тайному другу» завершается обращением к автору: «Плохонький роман, Мишун, вы (дальше, несомненно, должно было последовать: написали, что, кстати, делало фразу вполне законченной. – Б. С.)…» Т. р. писатель оборвал словами автора-Максудова:
«И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена…» Отметим, что эта фраза сама по себе закончена.
В центре Т. р. – история постановки в Независимом (Художественном) театре пьесы «Черный снег» начинающего драматурга Сергея Леонтьевича Максудова, являющегося сотрудником газеты «Вестник пароходства». Здесь узнается Михаил Булгаков, работавший в газете «Гудок» в 1922–1926 гг., и его пьеса «Дни Турбиных», посвященная гражданской войне в Киеве. Но вот история бесконечных репетиций «Черного снега» под руководством Ивана Васильевича (Константина Сергеевича Станиславского) больше напоминает репетиции пьесы Булгакова «Кабала святош» («Мольер») в Художественном театре в 1932–1936 гг.
Театр в романе Булгакова – нечто вечное, не подвластное времени. Поэтому в самих театральных репетициях в романе конкретных примет времени нет, и поэтому невозможно понять, когда именно они происходят. Но и за пределами театра в Т. р. не слишком много конкретных примет времени. Про Максудова сообщается, что он тогда жил «в плохой, но отдельной комнате в седьмом этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика».
Его прототип Булгаков в коммунальных квартирах жил только в 1921–1926 годах, в том числе в знаменитой «нехорошей квартире» № 50 дома № 10 по Б. Садовой. Дом у Красных ворот – тоже в районе Садового кольца. В 30‐х же годах писатель уже жил в отдельных квартирах.
Когда Максудов впервые приходит на Сивцев Вражек к Ивану Васильевичу, и тот сообщает, что «Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!», его тетушка Настасья Ивановна, чьим прототипом послужила актриса Мария Петровна Лилина, жена К.С. Станиславского, испуганно восклицает: «Мы против властей не бунтуем». Такая линия была характерна для Художественного театра и в 20‐х, и в 30‐х гг.
