Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени
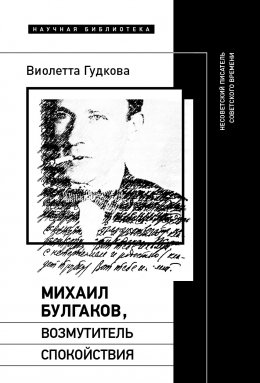
Москва Новое литературное обозрение 2025
УДК 821.161.1(092)Булгаков М.А.
ББК 83.3(2=411.2)6-8Булгаков М.А.
Г93
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Научное приложение. Вып. CCLXXIX
Виолетта Гудкова
Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия: Несоветский писатель советского времени / Виолетта Гудкова. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
Уже более ста лет произведения М. Булгакова не просто присутствуют в литературной и историко-культурной жизни страны – они продолжают вызывать бурные споры во всем мире. Книга Виолетты Гудковой – это попытка проследить историю рецепции булгаковских текстов в России от раннего этапа его творческой карьеры и до первых десятилетий XXI века. Автор сводит воедино самые разные интерпретации творчества М. Булгакова, анализируя, как менялись оценки его произведений литературными и театральными критиками на протяжении рассматриваемого времени, что писали об авторе «Мастера и Маргариты» современники в письмах и дневниках, каковы были режиссерские задачи при постановке булгаковских пьес и реакция зрителей на них, что в текстах автора не устраивало цензуру. Завершается книга тремя главами общего характера, в которых реконструируется последовательность публикаций наследия писателя, существенные трансформации его образа, происходившие в 1970–2000‑е, и ряд размышлений о поэтике Булгакова. Виолетта Гудкова – историк театра, литературовед, текстолог, ведущий научный сотрудник отдела театра Государственного института искусствознания, автор вышедших в «НЛО» книг «Юрий Олеша и Вс. Мейерхольд в работе над спектаклем „Список благодеяний“», «Забытые пьесы», «Театральная секция ГАХН» и «Рождение советских сюжетов».
ISBN 978-5-4448-2831-1
© В. В. Гудкова, Государственный институт искусствознания, 2025 © С. Тихонов, дизайн обложки, 2025 © OOO «Новое литературное обозрение», 2025
К читателю
Ну вот, еще одна книга о Булгакове. И автор хорошо понимает, что «пьес уж довольно написано», как справедливо замечено тетушкой Ивана Васильевича из «Записок покойника».
Задача этой книги проста: проследить, как менялось в России восприятие произведений М. А. Булгакова начиная с первых его шагов по литературному пути и до начала XXI века. Попытаться показать, что актуальность его произведений не исчезает, а в различные времена лишь наливается новыми смыслами, проявляя оттенки, которые не прочитывались прежде.
Необходимо уточнить: восприятие – кем? Соединены два русла: художественное (театр) – и аналитическое (литературоведение), как правило, рассматривающиеся порознь. В каждой главе рассказывается, что вычитывал из Булгакова театр, как спектакли интерпретировала критика – и что за идеи предлагали литературоведы. И не менее важный вопрос: слышали ли гуманитарии разных отраслей друг друга? Хотелось понять, как литературоведческие интерпретации опережают театральные (или наоборот), сплетаются с ними и на них опираются, вступают друг с другом в спор – либо просто протекают двумя параллельными и не пересекающимися, неизвестными одно другому ответвлениями гуманитарного знания и художественного творчества.
Работа основана на фундаменте освоенного ранее, ее смысл заключается в попытке перемены видения знакомых текстов, идей, представлений. Любое существенное обновление ракурсов прочтения наследия известного писателя связано либо с накоплением и расширением источниковедческого материала, либо со сменой историко-культурной ситуации в обществе, дающей новую точку зрения в интерпретации старых текстов. Представляется, что сегодняшний день соединил и то и другое.
Прежде всего, в последние годы основательно пополнилась фактологическая база: текстологические исследования Е. Ю. Колышевой, новые книги, от А. Н. Варламова и О. Я. Поволоцкой до О. Е. Этингоф и М. В. Мишуровской, публикация архивистами ФСК (ФСБ) агентурных сводок о писателе и, наконец, массив информации, представленный в томах фундаментального библиографического Указателя произведений Булгакова и отзывов о них.
Рассказ о том, как менялось видение булгаковского творчества за такой длительный временной отрезок (столетие), делает неизбежным некоторую пунктирность повествования: крупный план всего заслуживающего внимания материала попросту невозможен. Работа, безусловно, не «энциклопедична»: немыслимо собрать под одной обложкой рассказы о всех статьях и книгах, всех спектаклях за минувшее столетие. Их выбор связан с движением общественной мысли о Булгакове.
Выработка целостного знания о том, как именно шла рецепция творчества М. А. Булгакова советским и постсоветским литературоведением, театроведением и театральной режиссурой, невозможна без проверки и уточнения устоявшихся концепций и предложения новых исследовательских гипотез.
Наследие Булгакова изучается более полувека. За это время количество монографий и статей выросло до масштаба, по-видимому, уже не поддающегося исчислению. Литература о Булгакове огромна, овладеть ею во всей ее полноте почти невозможно. Первооткрыватели, авторы ключевых, опорных работ забываются, и дело не в том, что исчезают имена предшественников, а в том, что искажается процесс узнавания, время уплощается, все совершается сегодня, вчерашний же день тонет в тумане неопределенности и беспамятства. И кажется важным рассказать об одном (на фоне всемирного интереса к Булгакову небольшом, но существенном) фрагменте изучения его творчества: о российском булгаковедении и освоении произведений писателя отечественным театром.
Стоит предупредить о том, что, несмотря на стремление пишущего оставаться в рамках академического анализа, субъективизм повествования, проявляющийся и в структуре работы, и в отборе событий, фактов, оценок и проч., – нескрываем.
К тому же фигура автора временами раздваивается: на театрального либо литературного критика – и исследователя. Было бы странным и неестественным, даже фальшивым пытаться делать вид, что «меня тут не стояло» в 1970–1980‑е годы, время идеологических драк за наследие писателя, за то, чтобы оно наконец встретилось с читателем – пусть и не тем, для которого все создавалось в 1920–1930‑е годы. Десятки статей, написанных и опубликованных автором, так или иначе включены в повествование. И в книге приходится выступать и как свидетелю, очевидцу, активному участнику событий, и как историку литературы и театра, стремящемуся «держать дистанцию» в размышлениях о творчестве писателя.
Начать было естественным с напоминания о реакциях и отзывах современников – как тех, кто публиковал статьи и рецензии на газетно-журнальных полосах и в книгах, так и тех, кто на долгие десятилетия был этой возможности лишен. Работа предлагает вспомнить, как читали и смотрели на театральных подмостках вещи Булгакова, что писали и печатали о нем и его произведениях отечественные критики нескольких поколений – и что оставалось в дневниках и частных письмах. Как спорили по поводу трактовок давно, казалось бы, известных его вещей и как сменялись их оценки.
Только представим себе диапазон людей, высоко ценивших творчество Булгакова: от К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, А. Я. Таирова, А. Белого и М. Волошина до Г. А. Товстоногова, Ю. П. Любимова, А. И. Солженицына и М. М. Жванецкого, то есть от ключевых фигур отечественной сцены и символистов Серебряного века до тех, кто отыскивал новые пути в театре и литературе XX и даже XXI века.
В ходе работы замысел усложнялся, нельзя было не понимать, что необходимо обрисовать хотя бы в общих чертах (но опираясь на выразительные факты) и историко-культурный контекст существования булгаковского наследия. Предельно сжатый по условиям работы, он тем не менее – один из существенных элементов повествования.
Несколько слов о структуре книги.
Открывает ее глава общего характера, где рассказывается, как быстро сложилась репутация молодого литератора и каким весомым художественным авторитетом он обладал уже к середине 1920‑х годов. Это значит, что привычные представления о Булгакове преимущественно как «жертве травли» не просто корректируются, но резко меняются.
Затем идут четыре главы о трех московских спектаклях: «Днях Турбиных», «Зойкиной квартире», «Багровом острове» – и спорах вокруг так и не поставленного «Бега».
Следующее десятилетие, 1930‑е годы, – время запрещения всех пьес и репетиций спектаклей. И главы выстроены по-иному: год за годом рассматривается меняющаяся ситуация вокруг.
1940‑е – уход писателя и начало истории «жизни после смерти». 1950‑е – медленное возвращение на российскую сцену «Дней Турбиных» и первые литературоведческие статьи. 1960‑е – начало публикаций пьес, выход к читателю «Записок покойника», а во второй половине десятилетия – «Мастера и Маргариты». В 1970–1980‑е разгорается нешуточная борьба за присвоение имени и авторитета писателя различными общественно-политическими группами литературных критиков, полярным образом трактующих и биографию автора, и его сочинения. Десятилетие 1980‑х – пик освоения булгаковского наследия. На сценах страны идут, кажется, все его вещи, ставятся не только пьесы, но и проза, от «Морфия», «Роковых яиц» и «Собачьего сердца» до «Записок покойника» и «Мастера и Маргариты». Это приводит к возможности размышления о новаторской поэтике Булгакова, для которого драматургия и проза воспринимались «как левая и правая рука пианиста».
Столетний юбилей (1991) и особенности его празднования сообщают о канонизации нового имени – и некотором охлаждении интереса к нему. Хотя в начале 1990‑х к зрителям выходят первые спектакли по только что опубликованным пьесам «Адам и Ева» и «Багровый остров», проявившие не ушедшую актуальность старых вещей.
2000‑е свидетельствуют об утрате интереса режиссуры к отечественной истории. В литературоведении оригинальные идеи и концепции уступают место тотальному комментарию.
В 2010‑е появляются принципиальной важности исследования литературоведов. Два русла гуманитарного знания, литературоведение и театральная критика, могут взаимодействовать, объясняя творческие открытия автора, подталкивая сцену к новому пониманию человека в мире. Но этого не происходит. Часть режиссеров и исследователей будто живут в разных исторических временах. А театральные работы, кажется, вовсе освобождены от булгаковских текстов и смыслов.
Завершают книгу три главы общего характера. Рассказ о рецепции булгаковского творчества на протяжении века дополняет еще и последовательность (порядок) публикаций наследия писателя, существенные трансформации его образа, происходившие в 1970–2000‑е, наконец, некоторые размышления о поэтике Булгакова.
Надо сказать и об особенностях комментирования.
Ранее комментатор, знаток, эксперт делился знанием, принадлежащим ему одному, посвящая обычного, не слишком осведомленного об историко-культурном контексте читателя в детали, скрытые в художественном произведении, рассказывая неизвестные тому факты, и тем самым углублял прочтение текста. В годы, когда собственно историческое знание было запретным, полузапретным, частично запретным, комментарии прочитывались с неменьшим интересом, нежели само произведение (как это происходило в годы перестройки, когда публикаторский бум, приведший к широкому читателю десятки запрещенных сочинений 1920–1930‑х и более поздних лет, потребовал прояснения исторического фона).
За последние десятилетия в работе комментаторов произошли принципиальные изменения – по разным причинам. Комментирование, предоставляющее информацию, которая уточняет, расширяет понимание комментируемого текста, в 1960‑е годы было одним, в восьмидесятые – иным. С появлением огромного массива легкодоступной информации в интернете – третьим. Ясность задачи начала уходить. Если в 1980‑е много писали о личностях публицистов, вершащих суд над нелояльными писателями сталинской поры, то в 2000–2010‑е повторять их характеристики стало излишним. Имена Л. Авербаха, В. Блюма, В. Киршона, А. Орлинского, Р. Пикеля, кажется, известны всем. Академическое правило комментировать все без исключения фамилии, организации, события теперь кажется избыточным, так как при появлении вопроса достаточно один-два раза кликнуть в интернете, чтобы получить ответ. Поэтому автор считает полезным рассказать о фигурах, остававшихся в тени (как не самые известные в стране режиссеры, создавшие важные спектакли, драматурги третьего ряда, чьи сочинения ярко обозначили тенденцию, либо следователи ОГПУ, проводившие допросы Булгакова), уделяя меньше внимания известным публичным лицам.
Сегодня, кажется, резко сменился адресат книг. Трудно угадать (предположить), что именно в новом тексте окажется ему неизвестным либо непонятным. Частые перемены и изъятия из школьных программ и лежащее в руинах гуманитарное образование обнажило разлившееся невежество не только школьников, но и студентов.
Отсылки к источникам необходимы для выстраивания системы аргументации, это фундамент работы. Но излишние сноски, разъясняющие частности, необязательные для развития мысли, тормозят чтение, рассредоточивая внимание читающего. Цель работы – опираясь на уже сделанное раньше, рассказать о новом. Ведь «есть же еще и другие книги», по афористическому замечанию профессионального редактора Л. А. Пичхадзе.
Самая приятная часть вступления – назвать тех, кто помогал автору в работе. Традиционная (многолетняя) признательность сотрудникам научной библиотеки СТД РФ, а также дружелюбному и компетентному коллективу РГБИ.
Моя искренняя и глубокая признательность за возможность заинтересованных обсуждений работы на международных конференциях в РГБИ, РГГУ, музее Булгакова. Коллегам по отделу театра Института искусствознания – В. В. Иванову, Л. М. Стариковой – за высказанные ими замечания и соображения. Во время работы всегда нужны слова одобрения и поддержки. Но безусловно, я благодарна и тем, кто не скрывал своего скепсиса по поводу данной работы: их критические суждения способствовали продуманности моих умозаключений и формулировок. Как сказано умудренным автором (в булгаковских «Записках покойника»), «…решил я все же взглянуть со стороны на себя построже, и за это решение очень обязан Ликоспастову».
Работа над книгой была сопряжена с трудными этическими вопросами.
Многие из любимых коллег ушли из жизни. Нет и некоторых, скажу аккуратно, оппонентов. И сложна, и мучительна проблема – как говорить и спорить с теми, кто уже не сможет ответить. Но восстанавливая историю развития отечественного булгаковедения, необходимо сказать о значимых книгах и статьях, даже и в тех нередких случаях, когда ты с ними не согласен. Умолчание страшнее – ведь мы живем столько, сколько читают наши книги.
Scripta manent – написанное остается.
Первые отзывы о писателе
Резкость и ясность. Рождение репутации. 1923–1927
Когда в 1966–1967 годах читатели журнала «Москва» прочли роман «Мастер и Маргарита», впечатление было ошеломляющим. Никому не ведомое, таинственное, как Лохнесское чудовище, всплыло из небытия совершенно новое – как показалось большинству – литературное имя. Были живы знавшие его люди, были живы женщины, бывшие его женами, о нем, безусловно, слышали в писательских и театральных кругах. Но знание это, не выраженное печатно, не обладало общественной значимостью, оставалось личным, приватным делом отдельных людей. Мое поколение – узнавало нового автора.
Будто бы от нуля начиналось и изучение булгаковского наследия. Но широко распространенное мнение, что литераторы и критики заметили и оценили Булгакова только в десятилетие 1970‑х, неверно.
Уже после первых его шагов по литературной стезе, в 1923 году, писали: «Этот еще молодой, но выдающийся писатель до сих пор не получил должной оценки и признания»1.
…Энергичная, взвихренная и драматическая «Дьяволиада» (слово приживется, войдет в устную речь современников) расскажет о сумбуре недавних месяцев военного коммунизма, их пугающей неустойчивости. Повесть 1924 года поразит резкостью фокуса писательского взгляда, ясностью диагноза: это «действительность, которая бредит». Определенность формулы станет свидетельством того, что рассказчику известна (и он о ней помнит) иная, нормальная жизнь.
Москва начала 1920‑х, Москва донэповская, с галопирующей инфляцией, разрушенностью прежнего уклада и тотальной неуверенностью в завтрашнем дне, станет понятнее, когда мы сами переживем нечто подобное в 1990‑х. Главный герой «Дьяволиады», «тихий блондин Коротков», одиннадцать месяцев прослуживший в непонятно для чего существующем учреждении (Спимате), не выдержав повседневного абсурда и немыслимых мельканий «раздвоенного» начальника (человек со странной фамилией Кальсонер имеет брата-близнеца, о чем Коротков знать не может), бросается с крыши московской высотки с предсмертным возгласом: «Лучше смерть, чем позор!»
Отзовется о повести Евг. Замятин, заметив, что «Дьяволиада» – «единственное модерное ископаемое в „Недрах“», и с поразительной меткостью определит необычность вещи: «фантастика, корнями врастающая в быт»2.
О «Дьяволиаде» одобрительно отозвались теоретик литературы В. Ф. Переверзев3 и критик В. П. Правдухин4, отметив влияние на автора Гоголя и Достоевского. Сразу же были выявлены принципиально важные вещи: бесспорность и значительность таланта – и традиции, которым следует Булгаков, имена учителей.
Критикой с легкостью были определены корни булгаковского творчества. То, что позднее приходилось вычленять при известном умственном усилии, тогда, насколько можно судить, было видно невооруженным глазом. Так, рецензент «Нового мира» писал в связи со следующей повестью – «Роковые яйца»: «Булгаков стоит особняком в нашей сегодняшней литературе, его не с кем сравнивать. Разложить его творчество – нетрудно. Нетрудно проследить и его генеалогию»5 (а чуть выше назывались имена Гоголя, Гофмана, Достоевского). Внимательный Юрий Соболев подтверждал, что в «Дьяволиаде» автор «обнаружил любопытнейшее сочетание Гофмана с весьма современным Гоголем»6.
Но в общем для критики «Дьяволиада» прошла сравнительно незамеченной. Уже после появления следующей вещи ситуация изменилась.
В «Роковых яйцах» из разлитого в реальности бреда и какофонии послереволюционного быта начинают проступать типы и типовые поступки. Повесть организует вполне реалистический сюжет с убедительной конкретикой деталей: в Советской республике случился куриный мор, что представляется более чем возможным на фоне недавно окончившейся Гражданской войны и ее еще не преодоленных последствий. Необходимо как можно быстрее восстановить куриное поголовье. Отыскивается вполне практический способ: выписать здоровые яйца из‑за границы. Вся беда в том, что берется за это, кажется, нехитрое дело недавно назначенный директором совхоза Рокк, вчерашний комиссар в кожанке, спутавший яйца змей, крокодилов и страусов – с куриными. Последствия ошибки окажутся катастрофическими.
Используя открытие ученого, профессора Персикова, – волшебный «красный луч», ускоряющий развитие живых организмов, укрупняющий их, но при этом сообщающий тем невиданную агрессивность и злобу, – Рокк облучает партию экзотических яиц. Гигантские твари опустошают деревню и идут на Москву.
Любопытны два фабульных поворота фантастической повести: то, что сам Рокк останется в живых благодаря флейте, на которой он играл в далекой прежней жизни, то есть там, где бессильными окажутся револьверы, пулеметы и бронемашины, спасет искусство («культура»). И второе: после гибели профессора Персикова вновь уловить таинственный луч не удастся никому.
В «Роковых яйцах» появляется и тема ВЧК – ОГПУ: профессора Персикова и его открытие охраняют «котелки» с таинственным знаком на отвороте пиджака. Тема не была свободной для изображения, настораживала (если речь не шла о панегирическом воспевании вроде поэмы А. Безыменского о Дзержинском («Феликс») либо погодинской пьесы «Аристократы»). Критик, скрывшийся за инициалами, писал в связи с «Роковыми яйцами»:
Два слова об идеологии. Верное средство быть обвиненным в контрреволюции – вывести, хоть на минутку, в своем произведении чекиста. Обязательно найдется ретивый рецензент, пожелавший встать в позу прокурора7.
Предупреждение об опасности самоуверенного невежества и мысль о том, что человек уникален и незаменимые люди есть, вкупе с невинным, в общем-то, упоминанием о цвете коварного луча приводит критику к далеко идущим выводам. И вскоре зазвучат прокурорские интонации.
Критики поляризуются. Хотя кому-то (как Н. Осинскому) покажется, что это всего лишь «вагонное чтение»8, легкий пустячок, а Горький высоко оценит повесть, с некоторым даже простодушием посетовав, что «поход пресмыкающихся на Москву не использован»9, многие увидят в «пустячке» подрыв идеологических основ. Неудачный опыт несведущего в биологии Рокка будет воспринят как подозрительная и опасная аллегория: революция в России как «социальный эксперимент» была всем известной, даже расхожей метафорой.
И наконец, с завидной глубиной проникновения в сущность «Роковых яиц» о повести писал И. Гроссман-Рощин (чья чуть видоизмененная фамилия позднее будет отдана насмешливым автором пьесы «Адам и Ева» внесценическому персонажу Марьину-Рощину, конъюнктурному сочинителю романа «Красные зеленя», в названии которого иронически проявится нелепость названия известного литературно-художественного журнала «Красная нива»).
Гроссман-Рощин вовсе не склонен рассматривать повесть как шутку, бездумную шалость, пробу пера. С сугубой серьезностью вчитываясь в нее, рецензент видит глубинный смысл остроумной сюжетной выдумки:
В повести царит ощущение ужаса, тревоги. Над людьми, над их жизнью будто тяготеет рок. И дело вовсе не в ужасе самой темы: нашествие гадов, мор, смерть. Нет. Дело не в теме. <…> Н. Булгаков (так у автора. – В. Г.) как будто говорит: вы разрушили органические скрепы жизни, вы подрываете корни бытия; вы порвали «связь времен». Мир превращен в лабораторию. Во имя спасения человечества как бы отменяется естественный порядок вещей и над всем безжалостно царит великий, но безумный, противоестественный, а потому на гибель обреченный эксперимент… Эксперимент породил враждебные силы, с которыми справиться не может. А вот естественная стихия, живая жизнь, вошедшая в свои права, положила конец великому народному несчастью10.
И. Гроссману-Рощину вторил И. Нусинов:
Политический смысл утопии ясен: революция породила таких «гадов», от которых мы спасемся только разве таким чудом, как 18-градусный мороз в августе11.
Сборник с двумя повестями – «Дьяволиадой» и «Роковыми яйцами» – весной 1925 года был запрещен. Но спустя год вновь вышел в свет. И (забегая вперед) в 1927 году Г. Горбачев, возвращаясь к разбору ранних повестей Булгакова, напишет:
И на этом фоне осмеяния новой власти <…> совершенно ясна тенденция повести о профессоре Персикове, которого большевики отлично обслуживали, когда надо было его охранять от иностранных шпионов <…> методами ГПУ, но изобретение которого, благодаря своей торопливости, невежеству, нежеланию считаться с опытом и авторитетом ученых, сделали источником не обогащения страны, а нашествия на нее всевозможных чудовищ.
Такова эта повесть, ясно говорящая о том, что <…> жгущие дома, разведшие дикий бюрократизм большевики <…> совершенно негодны для творческой мирной работы, хотя способны хорошо организовать военные победы и охрану своего железного порядка12.
В сентябре 1925 года В. В. Вересаев, литератор известный и авторитетный, обращаясь к Булгакову, писал, что хотел бы помочь ему, чтобы «сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем», и сообщал, что Горький «очень Вас заметил и ценит»13. После выхода тоненького, ценой в 10 копеек, сборника рассказов Булгакова («Трактат о жилище». М.; Л.: Земля и фабрика, 1926) рецензент отмечал, что рассказ «Псалом» отличается «тонкостью нежно-лирического рисунка», а юмор Булгакова «похож на тонкие вспышки нервических улыбок Гейне»14. О «Белой гвардии» в письме к издателю Н. С. Ангарскому отозвался М. Волошин:
Я очень пожалел, что Вы все-таки не решились напечатать «Белую гвардию», особенно после того, как прочел отрывок из нее в «России». В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи… И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной: как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского15.
Главный редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский подтвердил: «Белая гвардия» и «Роковые яйца» – вещи «выдающегося литературного качества», Булгаков – «художник чрезвычайно талантливый, с европейской, уэллсовской складкой»16.
Сохранилось свидетельство филолога и лингвиста Б. В. Горнунга об авторитетности личности молодого Булгакова для профессуры тех лет: «О двух больших фигурах и их отношении к нашему поколению надо сказать особо: это Г. Г. Шпет и М. А. Булгаков». Еще: «Вторая огромная фигура, с которой мы соприкоснулись в 1923–26 гг., – это М. А. Булгаков»17. Оценка ученого, сотрудника Государственной академии художественных наук, вобравшей в себя цвет интеллектуальной Москвы, сообщает о весе и влиянии начинающего, казалось бы, литератора, всего лишь два года назад появившегося в столице: его имя поставлено рядом с вице-президентом ГАХН философом Г. Г. Шпетом.
Для полноты картины заметим на полях, что с самых первых литературных шагов Булгакова за его творчеством пристально следят за рубежом, о нем пишут газеты и журналы Берлина и Парижа, Нью-Йорка и Чикаго, Харбина и Белграда, Праги и Варшавы. И не потому, что эмигрантов привлекает известная оппозиционность писателя новой власти, – трогает другое: «неугасимая искра Божия»18.
Библиограф И. Н. Розанов, готовивший «Путеводитель по современной литературе», записывал в карточку о Булгакове: «Из других повестей выдаются „Белая гвардия“, „Роковые яйца“ и „Собачье сердце“. В двух последних прибегает к фантастике в духе Свифта»19. А литератор Н. Н. Русов в том же 1925 году размышлял в письме к Е. Ф. Никитиной:
Мне кажется, творчество Мих. Булгакова оценивается близоруко. Конечно, у него во всех вещах точная и колючая сатира на то, что нас окружает в Сов. России. Но у него не то, что в былое время давал Салтыков-Щедрин, у которого (кроме Головлевых) сатира местная, мелкая, которая затрагивает явления преходящие, избывные, отчего сейчас его сочинения имеют интерес исторический: кончилась помещичья Россия, и сатира Салтыкова-Щедрина потеряла свое актуальное значение. А наш Мих. Булгаков, я думаю, сродни Свифту или Раблэ, которые обжигали кислотой своей желчи род человеческий, людское стадо. Булгаковская трагикомическая история с роковыми яйцами возможна и в Америке, и во Франции, где угодно и в какие времена хотите…20
Все это означает, что никому не известный киевский медик, перебравшийся в конце октября 1921 года в Москву и опубликовавший две сатирические повести, «Роковые яйца» и «Дьяволиаду», да еще – главы романа о Гражданской войне на Украине, «Белая гвардия», был замечен и оценен как писатель не просто талантливый, но и уникальный.
Уже к 1925 году планка сравнений поднята на максимальную высоту. Талант писателя неоспорим, сравнения рецензентов отсылают к сонму великих – как русских (Салтыкову-Щедрину, Толстому, Достоевскому, Гоголю), так и европейских (Гофману, Гейне, Свифту).
Роман «Белая гвардия» печатался новым изданием – «Россия». В 1923 году программа этого ежемесячного журнала и его редактора И. Г. Лежнева21 была обнадеживающей. Лежнев писал:
Культура и жизнь строятся по закону преемственности. После революционного разрыва этой преемственной нити наступает либо стремительный отлив к прошлому, либо непреоборимое и упорное связывание звеньев, зарубцовывание ткани, происходит смешение крови двух эпох, двух культур. Идея сращения, синтеза двух культур есть самая актуальная и современная идея…22
Российские власти в те годы относились к литераторам разумно-покровительственно. В 1924 году Луначарский формулировал позицию государства по отношению к художественному творчеству:
Государство должно воздерживаться от того, чтобы путем государственного покровительства приучать художников к неискренности, натасканной революционности или подчеркивать значение художественно третьестепенных, но, так сказать, революционно-благонамеренных авторов и произведений… Равным образом, – продолжал нарком, – государство должно совершенно воздерживаться от каких бы то ни было политических давлений на писателей нейтральных, не воздвигать на них и тени гонения за то, что они не мыслят и не чувствуют по-коммунистически… Величайшая нейтральность в этом отношении23.
Схожая точка зрения поддерживалась и другими влиятельными государственными деятелями, например Н. И. Бухариным, который, выступая на совещании по вопросу о литературе при ЦК, заявлял:
Мне кажется, что лучшим средством загубить пролетарскую литературу, сторонником которой я являюсь, величайшим средством ее загубить, является отказ от принципов свободной анархической конкуренции24.
Соглашался с этим и Л. Д. Троцкий, писавший в книге «Литература и революция» (1924):
Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно руководить25.
Но подобное прекраснодушие продолжалось недолго. Да и было ли оно всерьез? Уже существовало постановление Совнаркома от 9 февраля 1923 года, сообщавшее, что «ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения Главреперткома при Главлите». Особое внимание уделялось театру, судя по тому, что специально прописывались условия
обеспечения возможности осуществления контроля над исполнением произведений: все зрелищные предприятия отводят по одному месту, не далее 4‑го ряда, для органов Главного комитета и Отдела политконтроля ОГПУ, предоставляя при этом бесплатную вешалку и программы26.
В октябре 1924 года Н. С. Ангарский, издатель литературного альманаха «Недра», в специально составленной «Записке», предназначенной для партийных инстанций, давал общую характеристику литературной ситуации и фигур пишущих:
Остаются «попутчики» разных настроений и идеологий. Они сейчас заняли центральное место в литературе. <…> Они по большей части талантливы и берут жизнь, как она есть, срывая, конечно, с вещей и явлений подвешенные нами ярлыки. С виду получается как будто оппозиция, фронда, а на самом деле нам показывают подлинную действительность, которую мы в шуме повседневных событий не видим и от которой закрываемся этикетками, подвесочками, ярлычками27.
Вскоре на общественную сцену выйдут Л. Авербах, В. Блюм, И. Гроссман-Рощин, В. Киршон, Г. Лелевич, О. Литовский, А. Орлинский, Ф. Раскольников и другие яростные противники булгаковского творчества, голоса же его сторонников утихнут.
В 1925 году вокруг Булгакова идут бурные споры. Мнения рецензентов разделились, и разделение это симптоматично. Та часть критиков, которая к Булгакову нескрываемо враждебна, утверждает, что его творчество «заслуживает внимания марксистской критики» в связи с
1) несомненной талантливостью, умением делать литературные вещи и 2) не-нейтральностью его как писателя по отношению к советской общественности, чуждостью и даже враждебностью его идеологии основному устремлению и содержанию этой общественности28.
Другая же часть, относившаяся к творчеству писателя благосклонно, напротив, не усматривает в его произведениях вообще никакой идеологии. Так, Н. Осинский пишет, что Булгакову «не хватает писательского миросозерцания, тесно связанного с ясной общественной позицией»29, а В. Правдухин досадует на то, что автор «затушевывает, притупляет» свои вещи30.
Прослеживается закономерность: идеологические противники писателя точнее и в выявлении смысла произведений Булгакова, и в определении их литературных источников, те же, кто относится к нему с симпатией, либо не видят важнейшего плана его творчества, либо осознанно стремятся этот план смазать, смягчить, чтобы вывести писателя из-под удара «благонамеренных».
Так, Д. Горбов, сообщивший читателям, что вещи Булгакова доставили ему «большое художественное наслаждение», пишет: «М. Булгаков представляется нам писателем совершенно идеологически неоформленным и при своем очевидном художественном даровании занятым, пока что, пробой пера». Далее автор рецензии выражает твердую надежду на то, что «дарование Булгакова рано или поздно определится, примкнет к жизни подлинной России, пережившей Октябрь, и ему уже не придется рядить неопределенность своей идеологии в пестрые одежды памфлета, направленного в безвоздушное пространство». С покровительственной симпатией в интонациях Д. Горбов сравнивает писателя с одним из мелькнувших на страницах «Белой гвардии» персонажем – а именно юнкером, у которого «еще не успел вырасти один зуб с левой стороны»31.
Думается, что сам автор «Роковых яиц» и «Белой гвардии» вполне отдавал себе отчет в направленности собственного творчества (равно как и направленности общего движения страны) и отнюдь не по наивности, приписываемой ему некоторыми доброжелательными критиками, заканчивал повесть о столкновении профессора Персикова с чекистом Рокком иронико-скептическим deus ex machina в виде морозов в августе. Вариант же развязки произведения, предложенный ему из Италии Горьким, вряд ли мог показаться Булгакову годным к опубликованию («гады», выведенные в неисчислимых количествах невежественным Рокком, атакуют и захватывают Москву)32.
Весной 1925 года (когда Булгаковым уже написано и застревает в цензуре «Собачье сердце») в Москве организуется вечер в честь трехлетия журнала «Россия». 11 марта 1925 года И. Г. Лежнев пишет Н. В. Устрялову33: «В конце марта устраиваем широкий публичный литературный вечер с демонстрацией всех наличных в Москве сил»34.
Вечер прошел чуть позже намеченного, 6 апреля. Булгаков был в числе литераторов-авторов, читающих свои вещи: А. Белого, П. Антокольского и др.
Публичные споры продолжаются. Спустя год Булгаков получает приглашение на диспут под названием «Литературная Россия» в Колонном зале Дома Союзов 12 февраля 1926 года и выступает на нем.
Присутствуют писатели и критики, актеры и читатели. Спорят энергичные приверженцы журнала «На посту» и группа А. Воронского, остатки ЛЕФа и приверженцы «формальной школы» В. Шкловского – все наличные творческие группы и объединения. Газетные отчеты ироничны при передаче выступлений, в которых звучали важные мысли. Схематично воспроизводилось и направление возникшей дискуссии.
«Рафинированному Шкловскому скучно читать „Молодую гвардию“», – изобличает автор отчета М. О. Ольшевец одного из ораторов, выступавших на дискуссии, и иронизирует над требованием другого, заявившего: «Дайте нам печатать книжки о человеке вообще и о „бесплодном яйце“ в частности!»35 Это – искаженная фраза Булгакова, речь идет о «Роковых яйцах». Писатель заявил, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело. Нужно писать о человеке»36.
Сохранилось агентурное осведомление А. С. Славатинского37, начальника 5‑го отделения Секретного отдела ОГПУ. Побывав на диспуте, Славатинский сообщает:
Отчеты о диспуте, появившиеся в «Известиях» и «Правде», не соответствуют действительности и не дают картины того, что на самом деле происходило в Колонном зале Дома Союзов.
Центральным местом или, скорее, камнем преткновения вечера были вовсе не речи т. т. Воронского и Лебедева-Полянского38, а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и Мих. Булгаков. Оба последних говорили и острили под дружные аплодисменты всего специфического состава аудитории и, наоборот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского прерывались свистом и неодобрительным гулом.
Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писателем, старым и новым критиком и даже между старым буржуазным читателем и новым, советским, читателем, который ждет прихода своего писателя. <…>
В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрикацию «красных Толстых», этих технически неграмотных «литературных выкидышей». Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узкоутилитарной точки зрения и необходимо наконец дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и «живому писателю». Надо дать возможность писателю писать просто о «человеке», а не о политике.
Несмотря на блестящие отповеди т. т. Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. <…> Этот диспут – словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях39.
Итак, в начале 1926 года, когда во МХАТе уже репетируются «Дни Турбиных», писатель выступает в центре Москвы вместе с опытным и известным публике Шкловским. В эти месяцы представляется, что новую власть можно убеждать, можно пытаться объяснять ей, каковы задачи истинной большой литературы. Оба имевшие успех у публики оратора спорят с главным редактором двух влиятельных литературных журналов («Красная новь» и «Прожектор») и главным цензором, начальником Главлита – и в тот вечер уходят победителями. О присутствии в Колонном зале чина ОГПУ и его впечатлениях им, конечно, ничего не известно. Как не известно и еще об одном документе другого сотрудника ОГПУ в связи с тем же вечером.
Агент доносил:
Булгаков говорит, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело. Нужно писать о человеке», – заключил свое выступление Булгаков. Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же, выступление Киршона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих40.
Ситуация ужесточается с каждым месяцем. В прессе писательские дарования разносятся по «фронтам», «лагерям» и прочим группировкам – не случайно используется лексика военного образца. Размежевание производится при этом не по признакам единства литературных стилей.
В печати процветает открытость классификаций и даже их наглядность. Журнал «На литературном посту» иллюстрирует статью о писательском расслоении выразительной картинкой «дерево современной литературы»41. Ствол дерева асимметричен: левая его сторона мощно тянется кверху, это самая жизнеспособная, по мнению автора, часть литературного потока, пролетарские писатели – М. Горький, Д. Бедный, А. Веселый, А. Фадеев, А. Серафимович, Н. Ляшко, В. Казин и др.42 Справа – ветвь потоньше: правые попутчики Мих. Зощенко, Б. Пильняк, В. Вересаев, А. Соболь. Булгаков на этом метафорическом древе – в правом нижнем углу явно чахнущей, отмирающей ветви (под общей шапкой «буржуазные писатели» он объединен с Евг. Замятиным, И. Эренбургом, А. Толстым). И наконец, ветка засохшая, клонящаяся книзу, уже погибшая. Под впечатляющим названием «живые трупы» здесь помещены А. Ахматова, А. Белый, М. Волошин.
Рецензируя первую книжку «Русского современника», автор «Октября» нескрываемо ироничен в оценке статьи С. Парнок:
В отделе статей… попытка возрождения буржуазной литературы также ярко выражена, особенно в статьях Чуковского и С. Парнок. Последняя предлагает поэтам <…> вечность как плату за уход от современной революционной действительности. И, конечно, идеалом для нее опять-таки служит… Ахматова, —
сообщает рецензент. И далее цитирует пассаж из статьи С. Парнок, кажущийся ему, по всей видимости, верхом нелепицы:
Ну а что, если вдруг, – пишет она, – окажется, что такая одинокая, такая «несегодняшняя» Ахматова будет современницей тем, кто придут завтра и послезавтра?43
Тот же процесс политических оценок художественных организмов идет и в отношении театров. «Новый зритель» сообщает о дифференциации театров Москвы (представляющейся ему очевидной и не требующей доказательств):
МХАТ – правый фронт, Театр имени Вахтангова – «попутчики», МХАТ-2 – «сменовеховствует», театр Корша – «мещанский»44.
В стане «попутчиков» оказывается и Булгаков. Крылатое mot, употребленное Троцким в качестве рабочего обозначения, не более, в 1926 году «вызывает представление о подозрительном существе, которое, спотыкаясь и падая, бежит в хвосте большого движения»45, – объясняет критик.
Отношение к попутчикам еще различно, но, пожалуй, мнение таких, как А. К. Воронский, который полагает, что они – «мостик» между классиками и нами, и призывает у них учиться, – остается мнением читателей, понемногу умолкающих. Активно же высказывающиеся (печатающиеся), скорее, солидаризируются с противоположной точкой зрения, энергично сформулированной, например, Г. Якубовским: только два пути лежат перед художником – или
медленно, мучительно разлагаться в сообществе маститых и «бессмертных», заполняющих мертвецкую буржуазной идеологии, или, овладев резцом исторического материализма, гранить свой череп и черепа современников и твердо, уверенно идти по пути к царству свободы в рядах <…> мастеров пролетарской культуры46.
Создание новой литературы, способной «гранить черепа современников», придавая им нужную форму, было насущно важной задачей. И попутчики здесь не годились. Среди свежих литературных произведений поэтому с особенной радостью был встречен критикой роман Ф. Гладкова «Цемент». «Несомненно, автору удалось подслушать какую-то глубинную мелодию эпохи – мелодию ее высокого волевого напряжения к преодолению ветхого Адама на советской земле…» – писал Д. Горбов, увидевший в романе «произведение большого стиля». Далее критик раскрывал свое понимание поэтики «большого стиля»:
Эта глубинность запашки, вскрывающей нижние плодородные жизненные пласты, позволяет автору идти по своему произведению выпрямившись и пользоваться только широкими жестами…47
Другими словами, приблизительность частностей и деталей, стилистическая фальшь и небрежность возводились в ранг художественного достижения.
Не разделявший увлечения романом Гладкова О. Брик объяснял, отчего понравился «Цемент», с чем связана его восторженная оценка:
Гладков сообразил, что от нашей советской литературы требуют одновременно двух диаметрально противоположных вещей: «героизма и быта», «прокламации и протокола». Требуют, чтобы Ленин был и Ильич, и Петр Великий, Маркс – и Карл, и Моисей, а Даша – и Чумалова, и Жанна д’Арк.
«Цемент» понравился потому, что люди, мало что смыслящие в литературе, увидели в нем осуществление своего, из пальца высосанного литературного идеала. Но трудно подвести всех Глебов под Геркулесов.
Кому нужна это греко-советская стилистика? Едва ли самим Глебам. Скорей тем, кто и советскую Москву не прочь обратить в «пролетарские Афины»48.
Остроумно и кратко О. Бриком обрисована сущность происходящего: произведения подверстываются под ожидаемое, почти планируемое. Создание героев идет, как приготовление блюда по известному рецепту, с точно соблюдаемой дозировкой черт и красок. Эпоха нуждается в «большом стиле», то есть нарочитом «приподымании» событий и описании не того, что есть, а того, что «должно быть». Происходящие события залакировываются, начинает на глазах подменяться история. (Возможно, именно в связи с этим процессом рождается известная булгаковская фраза из «Записок покойника»: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует». Другими словами, в реплике Максудова не призыв к «протоколированию действительности», а отталкивание от ее искажения). Это – предвестие будущего метода социалистического реализма, утверждением которого будет увенчана эта, по ироническому определению О. Брика, «греко-советская стилистика».
1 марта 1926 года Булгаков читает «Похождения Чичикова» на литературно-художественном вечере в ГАХН. Вечер был устроен с благотворительной целью – помочь М. Волошину, которого не печатают, с ремонтом коктебельского дома. Волошин отдаривает авторов своими акварелями, одну из которых посылает Булгакову.
В том же году печатать перестанут и Булгакова, но писатель об этом еще не знает.
7 мая 1926 года у Булгакова проходит обыск. Конфискуют машинописи «Собачьего сердца» и «Под пятой. Дневник» (Ордер № 2287. Дело 45)49. И все заинтересованные члены Политбюро прочтут эти дневниковые записи с недвусмысленными критическими комментариями по поводу действий новой власти.
В те же весенние дни выходит сообщение о предполагаемом содержании следующего, шестого, номера журнала «Россия», в частности, анонсируется окончание романа «Белая гвардия». Но журнал закрывают, и роман остается недопечатанным.
Даже и недопечатанная, «Белая гвардия» замечена людьми театра. МХАТ просит Булгакова об инсценировке романа. В театре создается репертуарно-художественная коллегия, и эта коллегия приступает «к проработке „Белой гвардии“ М. Булгакова, которая должна явиться <…> фундаментальной современной пьесой театра»50. Так оценивает самый влиятельный, «старый» театр столицы молодого автора – и первый вариант его инсценировки романа.
По точному замечанию К. Рудницкого, Булгаков «увлек театр не только своим талантом <…> но и как идеолог»51.
Многоцветные 1920‑е шаг за шагом превращаются в сереющие. К их концу климат журнальных и газетных страниц холодеет, оттачиваются и приступают к исполнению новых обязанностей термины, формулировки отвердевают в политические обвинения. Кончился и нэп с его временно позволенным частным предпринимательством, независимыми издательствами и литературными кружками, публичными обсуждениями спектаклей и книг. Время дискуссий и разноголосицы мнений закончилось. Будто спохватившись, рецензенты выстраивают и прежние прозаические вещи Булгакова, и драматические сочинения в единый и неприемлемый ряд.
В 1929 году И. Нусинов в специальном докладе, посвященном творчеству Булгакова, соединит бесспорное гоголевское влияние с идеологической направленностью вещи: «Новый государственный организм – „Диаволиада“, новый быт – такая гадость, о которой Гоголь даже понятия не имел»52. А И. С. Гроссман-Рощин обвинит писателя в отсутствии мировоззрения, вспомнив при этом пушкинских «Бесов»:
А если у художника этого мировоззрения нет? Тогда художник – на манер печальной известности Булгакова – увидит только «заднюю» эпохи – «Диаволиаду». Жизнь покажется ему огромной и кошмарной путаницей. Разве каждая строчка писания Булгакова первого периода не есть, в сущности, вопль:
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
И кружит по сторонам!..
И продолжит:
Впрочем, не будем наивны. Булгаков не только так видит мир, но дает платформу изменения мира. Он объективно призывает варягов53.
Кажется, это не что иное, как обвинение в государственной измене.
Время менялось быстро. Между 1923–1924 и 1926–1927 годами (казалось бы, прошло всего-то три-четыре года!) пролегла пропасть.
Теми, кто начинал изучение творчества Булгакова в 1970–1980‑е, кто работал в архивах и библиотеках, отыскивая газетные и журнальные отклики, осознавая накал страстей не столько литературной, сколько общественно-политической борьбы, – невольно акцентировался лишь факт отторжения писателя, отбирались выступления самые резкие, уничижительные до прямых оскорблений. А невероятно быстрое осознание и масштаба писателя, и его влиятельности, и уникальности его художественного дара замечено не было.
Теперь очевидно, что травля успешного драматурга и обсуждения, как быть с его пьесами, проходящие не в худсовете, Наркомпросе или Главискусстве, а в ГПУ и Политбюро ВКП(б), органах высшей власти страны, были связаны со стремительно растущей известностью Булгакова. Всего через два года после публикации первых сатирических повестей и глав так и не допечатанного романа имя Булгакова стало фокусом притяжения и отталкивания множества общественно-политических сил. Ни одно движение, умонастроение, появляющееся в послереволюционном советском обществе, не нравящееся власти (будь то сменовеховство или шире – буржуазный демократизм, борьба с цензурой или утверждение права человека на частную жизнь, заклейменное как «мещанство» и «антиколлективизм», или уже совершенно нелепые, но угрожающие «фашизм» либо «подкулачничество»), не осталось несоединенным с произведениями и личностью Булгакова.
«Осенью 1929 года стали изымать из библиотек его книги»54. Инструктивное письмо Главполитпросвета за подписью Н. К. Крупской «О пересмотре книжного состава массовых библиотек» сообщало, что должны быть изъяты
произведения, даже и значительные в отношении литературного мастерства, проводящие настроения неверия в творческие возможности революции, настроения социального пессимизма. Например, М. Булгаков. Дьяволиада. М. Недра. 192655.
В течение многих месяцев шла настоящая ковровая бомбардировка всего, сочиненного литератором. Были и единичные положительные отзывы, но они тонули в бушующем море критического гнева.
Помимо очевидности его писательского дара и определенности позиции (становившейся все более неприемлемой) было и другое, не менее важное: вызывающее одиночество художника. Оно тоже было замечено: «Один только Булгаков… выпадает из общего, весьма благонамеренного и весьма приличного тона»56. Трудно понять, как сумел выстоять писатель, как мог продолжать сочинять новые вещи. Но так же, как и «чугунному человеку», стоящему на Тверском бульваре со склоненной головой, – «все, все шло ему на пользу», переплавляясь в тигле творчества. Вырастал художнический масштаб, укреплялось понимание людей, более объемным становилось мировидение пишущего.
Шумный успех «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры» и печатная буря, пронесшаяся над головой автора после премьер, вышедших одна за другой во МХАТе и у вахтанговцев, сделали репутацию Булгакова окончательно одиозной. Открыто выступивший против идеологической цензуры «Багровый остров» в Камерном театре ее подтвердил.
С ней писатель жил и работал оставшиеся двенадцать лет жизни.
Явление драматурга
«Дни Турбиных»
Пьесу, которая позже получит название «Дни Турбиных», Булгаков начинает набрасывать 19 января 1925 года. В первые месяцы того же года выходит журнал «Россия» с романом «Белая гвардия», и к малоизвестному до тех пор писателю с любопытством начинают присматриваться столичные литераторы. Заново осознает свои возможности и автор57.
Не следует, конечно, это преувеличивать, но у меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших «Бел<ую> гвардию» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением58.
Булгаков посещает московские литературные кружки, слушает новые вещи коллег-беллетристов, читает свои сатирические повести. 7 марта на «Никитинском субботнике» в присутствии нескольких десятков слушателей (участники оставляли подписи в журнале) читает «Собачье сердце». Один из них, М. Я. Шнейдер, говорит на обсуждении: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации своего отношения к происшедшему» – и высказывает предположение, что автор «выше своего задания»59.
Булгаков начал пересочинять роман «Белая гвардия» в пьесу без какого бы то ни было внешнего толчка (заказа), по внутреннему побуждению. Пережитое в Киеве 1918 года не отпускало писателя. Видимо, роман, не получивший полноценного обнародования, то есть ни читателя, ни прессы, ощущался автором как неоконченное дело. Требовал осуществления и драматургический дар.
Но хотя пьеса рождается из романа, несколько миновавших важных и бурных лет исподволь меняют оптику автора. «Перевод» прозы в драму приводит к рождению новой вещи.
В знакомстве Булгакова с Художественным театром, наверное, сыграла свою роль случайность (режиссер Б. Вершилов мог и не прочитать роман в закрывшемся журнале). Но встреча МХАТа (с его поисками материала для спектаклей на современную тему) и нового московского драматурга не могла не произойти.
И тут необходимо принципиальное уточнение.
Известно, что при постановке «Дней Турбиных» рядом с режиссером (И. Я. Судаковым) и актерами сидел автор, о котором позже К. С. Станиславский скажет:
Большие надежды возлагаем на Булгакова. Вот из него может выйти режиссер. <…> Сужу по тому, как он показывал на репетициях «Турбиных». Собственно – он поставил их, по крайней мере, дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектаклю60.
Раньше по умолчанию предполагалось, что первую пьесу в Художественный театр принес начинающий литератор. Сегодня можно утверждать иное: во МХАТе появился автор сложившийся, со своей художественной идеей, со своим, весьма определенным видением мира и людей в нем (что, в свою очередь, предполагало и новизну конструктивных и стилистических приемов).
Если считать начало походов в театр гимназиста с шестнадцатилетия, а не раньше (что, скорее всего, не так), то житель Киева Михаил Булгаков, родившийся в 1891‑м, к 1916 году обладал целым десятилетием замечательного опыта театрала. (Разыгрывание шарад и участие в домашних любительских спектаклях, привычные для интеллигентных семей того времени, как и сочинение пьес для этих представлений, оставим за скобками.)61
Первые театральные впечатления Булгакова относятся к началу XX века. В драме – сцена за обязательным занавесом, в опере – дирижер, раскланивающийся из оркестровой ямы.
Какие только художественные стили, актерские индивидуальности, режиссерские направления ко времени своего появления во МХАТе он не видывал!
Начиная с соловцовского театра в Киеве, где молодой Булгаков познакомился с искусством Степана Кузнецова и Павла Орленева, Елены Полевицкой и Веры Юреневой, продолжая страстной увлеченностью оперой (известно, что любимые слушал десятки раз, оставляя билеты на память). В первые годы московской жизни, как вспоминала позже его вторая жена Л. Е. Белозерская, мечтал увидеть сочиненную им «французскую комедию» «Белая глина» на сцене театра Корша, и чтобы в ролях были заняты Николай Радин и Василий Топорков62.
Во время пребывания во Владикавказе (1919–1921) Булгаков сочинил пять пьес, четыре из которых были поставлены (что означало, по-видимому, и некое участие в их подготовке). Автору будущих «Записок покойника» местные актеры хорошо известны. В письме к двоюродному брату из Владикавказа 1 февраля 1921 года сообщает: «Поживаю за кулисами, все актеры мне знакомые, друзья и приятели…»63
И игру этих провинциальных актеров умел ценить (об одном из них – Аксенове – даже сочинил очерк, сейчас мы бы назвали его «актерским портретом»)64, восхищенно отзывался о молодой актрисе Лариной, играющей роль Анатоля Шоннара в его пьесе «Парижские коммунары»65, отосланной на организованный Масткомдрамом (Мастерской коммунистической драмы) конкурс драматических сочинений в честь Парижской коммуны.
Во Владикавказе служил заведующим литературным отделом, заведующим театральным отделом. Был лектором. Деканом театрального факультета Горского народного художественного института.
Переехав в Москву, записывает в дневнике <26> января 1922 г.: «Вошел в бродячий коллектив актеров: буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль»66.
Не намеренная утверждать, что с появлением Булгакова-актера в этих труппах воцарялось высокое искусство, замечу только, что любая работа непременно что-то дает человеку – если он способен и хочет предлагаемое взять.
В Художественный театр пришел совсем не неофит.
В связи с сообщениями о том, что пьеса Булгакова репетируется на сцене самого влиятельного театра страны, активизируется критика. Рецензенты обращаются к опубликованным прозаическим вещам писателя. «Рассказы М. Булгакова цельны, выдержаны, единое в них настроение и единая тема. Тема эта – удручающие бессмыслица, путаность и никчемность попыток строить новое общество… Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета»67, – констатирует Л. Авербах. Повести Булгакова – «вредное литературное явление», пример «ново-буржуазного <…> выступления»68 – утверждает Г. Лелевич. Сборник рассказов «Дьяволиада» писателя «с определенно устряловской, сменовеховской необуржуазной идеологией <….> заострен против революции»69, – уверен Г. Горбачев.
Таковы выводы о настроениях молодого литератора, долженствующие насторожить и встревожить театр. Тем не менее МХАТ не отказывается от автора, сумевшего выразить важные настроения публики и сделавшего это талантливо: современных пьес катастрофически не хватает.
Перипетии общественной борьбы, разгоревшейся вокруг спектакля Художественного театра, проявили и обстоятельства идеологического характера (возмущение власти смелостью и неуместной «объективностью» МХАТа, защитившего пьесу и автора), и обстоятельства субъективные (протест менее одаренных литераторов против бурного успеха драматурга талантливого и отважного). Сочинение пьесы и борьба за нее продолжались больше полутора лет, медленно продвигаясь к сценическому результату.
Летом 1926 года Булгаков пишет режиссеру А. Д. Попову о переутомлении и в числе причин упоминает «…гонку „Гвардии“ в МХАТе 1‑м (просмотр властями!)»70.
В июне, когда в прессе утверждалось, что вот-вот все попутчики перейдут в пролетарский лагерь и «командному составу» писателей «правого фланга», Ф. Сологубу, Евг. Замятину и Булгакову «останется только уложить их идеологические чемоданы»71, проходит генеральная репетиция (их было несколько).
Надо сказать, что в последние десятилетия к многочисленным источникам, опираясь на которые исследователи изучают творчество и биографию писателя, прибавились агентурные сводки ОГПУ – НКВД 72, составившие сегодня немалую и полезную часть документальных свидетельств. Характеристики героев, данные осведомителями, их репортажные заметки о неосторожных фразах, ситуациях, образе жизни и мысли того, за кем следят, нередко – вхожими в булгаковский дом, присутствующими в публичных местах писательских сборищ, ресторанов, театров, дружеских встреч, стали неожиданным и ценным материалом.
Разные в интеллектуальном отношении, косноязычные либо владеющие литературной речью авторы, с большей или меньшей точностью воспроизводящие разговоры, реплики тех, о ком составляют отчеты, дают представление не только об умонастроениях жертв, наводя на резкость, отшелушивая ненужное, – но и о том, какие темы и оценки представляются информаторам запретными, они выводят в слова еще не объявленные публично вещи.
19 июля 1926 года датировано донесение (агентурно-осведомительная сводка) начальнику 5‑го отделения СО ОГПУ тов. Т. Д. Дерибасу, в котором сообщалось:
По поводу готовящейся к постановке пьесы «Белая гвардия» Булгакова, репетиции которой уже идут в Художественном театре, в литературных кругах высказывается большое удивление, что пьеса эта пропущена реперткомом, т. к. она имеет определенный и недвусмысленный белогвардейский дух.
По отзывам людей, слышавших эту пьесу, можно считать, что пьеса как художествен. произведение довольно сильна и своими сильными и выпукло сделанными сценами имеет определенную цель вызвать сочувствие по адресу боровшихся за свое дело белых73.
Борьба вокруг спектакля будет идти вплоть до последних предпремьерных дней. Вот события (конечно, не все), произошедшие лишь в течение одной недели сентября 1926 года.
17 сентября после репетиции проходит заседание Главреперткома, на котором председательствует П. И. Лебедев-Полянский, выступают критики В. Блюм и А. Орлинский, присутствуют пять сотрудников ЦК ВКП(б). После вынесенного ими вердикта генеральная репетиция, назначенная на 19 сентября, отменяется.
Сохранена внутренняя, то есть закрытая от посторонних глаз рецензия профессионала, многообещающего драматурга Малого театра Б. Ромашова, который писал:
«Дни Турбиных» пытаются дать «эпическое полотно» эпохи гражданской войны <…> но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов <…> Автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее «героев» <…> Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой <…> И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику74.
22 сентября насыщенный и трудный день: проходит фотографическая съемка участников спектакля в гриме и костюмах, на которую автор, по-видимому, приходит после допроса в ОГПУ. После майского обыска и конфискации машинописей «Собачьего сердца» и дневника писателя под выразительным названием «Под пятой» – это второй прямой контакт Булгакова со всеведущей и всесильной организацией. И можно предположить, что неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы спектакль не был выпущен.
Протокол допроса сохранен, и это поразительный документ, в полной мере выявивший интонацию, с которой Булгаков будет разговаривать с властями и впредь: откровенность и прямота. Среди прочего Булгаков сообщает, что
в своих произведениях <…> проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. <…> Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением.
Следующая ниже приписка дополняет сказанное:
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для меня (я – сатирик)75.
Можно попытаться представить, что чувствовал и думал молодой 24-летний следователь С. Г. Гендин76, выслушивая и записывая эти откровения. Уж не испытывал ли сочувствие к допрашиваемому литератору?
23 сентября проходит общественный показ – «полная генеральная с публикой»77. Спектакль, готовый к выпуску, смотрят представители Главреперткома, режиссерское управление, Высший совет и правительство (список приглашенных Станиславскому помогал составить Мейерхольд, более искушенный в царедворских тонкостях). Неожиданностью стало то, что была прислана еще и специальная комиссия, «которая отмечала, как отдельные моменты воспринимаются публикой. В результате появилась интереснейшая запись»78. Ни состав и назначение комиссии, ни ее «интереснейшая запись», к сожалению, неизвестны. А на следующий день, 24 сентября, в коллегию Наркомпроса под грифом «Срочно» отправлена бумага из ОГПУ.
Пьеса Булгакова «Семья Турбиных» («Белая гвардия»), поставленная МХАТом и дважды запрещенная Главным Репертуарным Комитетом, 23/1X с. г. была поставлена в третий раз с некоторыми изменениями.
Ввиду того, что эти изменения не меняют основной идеи пьесы – идеализации белого офицерства, – ОГПУ категорически возражает против ее постановки79.
Экстренное закрытое заседание коллегии собирается в тот же день. Хотя в протоколе № 48 пьеса названа скользкой, все же позволено ее играть в текущем сезоне,
сделав купюры по указанию Главреперткома. <…> Настоящее постановление сообщить Секретариату ЦК партии, Агитпропу ЦК партии, ЦК комсомола, Культотделу ВЦСПС, в Секретариат Председателя Совнаркома т. Рыкова и Председателю Малого Совнаркома т. Богуславскому80.
25 сентября в «Нашей газете» публикуется официальное сообщение о разрешении спектакля81. А 27 сентября А. В. Луначарский отправляет почтотелеграмму А. И. Рыкову.
Дорогой Алексей Иванович. На заседании коллегии Наркомпроса с участием Реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова только одному Художественному театру и только на этот сезон. <…>
В субботу вечером (25 сентября. – В. Г.) ГПУ известило Наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции либо подтвердить решение коллегии Наркомпроса, ставшее уже известным. Отмена решения коллегии Наркомпроса ГПУ является крайне нежелательной и даже скандальной82.
Итак, Наркомпрос разрешает спектакль, ГПУ его запрещает. Сам же факт участия сотрудников ГПУ в заседании по поводу репертуара театра воспринимается, по-видимому, как обычный.
30 сентября проходит заседание «высшей инстанции» – Политбюро, на котором 12‑м пунктом повестки стоит: «О пьесе». Докладчик – А. В. Луначарский, содокладчики – Менжинский и Кнорин83. Решено «не отменять постановление коллегии НКПроса о пьесе Булгакова»84. Подлинник протокола подписан В. М. Молотовым.
Наркому просвещения оппонируют глава ОГПУ и сотрудник Агитпропа. Вот кто определяет теперь художественную политику и имена на театральной афише.
Скандала было решено избежать, и выпуск спектакля не отменили.
Для МХАТа было важно и обретение полноценной пьесы с живыми и (еще) узнаваемыми персонажами, и выход на подмостки театральной смены старой гвардии – нового поколения молодых актеров. Для Главреперткома как инструмента цензуры, набирающего силу и выверяющего движение по партийным установкам, важна безусловная идеологическая чистота: близится 10-летие Октябрьского переворота, власть Советов, народная власть отошла в прошлое, у руля государства – партийные органы85. Стало быть, они и определяют в том числе и обновляющийся театральный репертуар.
С этого момента критические и театральные дискуссии о произведениях Булгакова и личности автора перемещаются на иной, государственный уровень. Теперь в дело вступают высшие власти – не только Наркомпрос, ОГПУ, но и Политбюро (кажется, о пьесе Булгакова знает каждый его член). Высказываются В. М. Молотов и Я. Э. Рудзутак, А. А. Сольц и В. В. Шмидт. Так, отвечая на анкету «Красной газеты» сразу после премьеры, высокие партийные работники и члены правительства говорят о «Днях Турбиных» вполне благожелательно. Заместитель председателя Совнаркома Рудзутак полагает, что «никакой контрреволюционности нет» и «снимать со сцены не следует». Шмидт (народный комиссар труда) отметил «художественную безукоризненность постановки»86.
Это весомый аргумент в пользу утверждения авторитетности (и, страшно сказать, влиятельности) нового писательского имени.
А Вс. Иванов напишет Горькому в Сорренто:
«Белую гвардию» разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца три. А потом ее снимут. Пьеса бередит совесть, а это жестоко. И хорошо ли, не знаю87.
Комментарий поразителен: драматург, чья пьеса «Бронепоезд 14-69» год спустя выйдет на подмостки МХАТа, не уверен в правильности апелляции к совести, видимо, полагая, что можно как-то обойтись и без нее.
Премьера прошла 5 октября.
…Бесшумно раздвигался занавес, и люди из зрительного зала будто попадали в гостиную Турбиных. В теплой комнате на сцене зажигался камин и играли блики живого огня, вызванивали менуэт Боккерини часы, негромко звякали чашки. Друзья турбинского дома рассаживались за столом. И зритель благодарно узнавал, припоминал ту, в общем-то, уже несуществующую жизнь с обязательной скатертью на столе и привычно поблескивающим боком рояля. Кремовые шторы гостиной превращались в символ одного из двух грандиозных чувств, состояний человека. Уют и неуют. Холод и тепло. Свет и тьма. Вьюга – и огонь в камине. Пушки (грохот) – и менуэт старинных часов с пастушками. Зима – и алые розы на скатерти. Смерть, подстерегающая на улице – и вино, песня, любовь. Нежность к Дому как бытию человека, пристанищу его души. Сценические реалии Художественного театра в спектакле означали много больше, чем просто обжитую повседневность, – они возвращали, подтверждали одухотворенную осмысленность жизни. Некоторым даже показалось, что «основной подкупающей силой „Дней Турбиных“ оказался не сюжет пьесы, а ее оформление в МХАТе 1‑м, прочувствованная игра актеров, мягкость красок бытового реализма…»88
Один из тех, кто видел первые спектакли, вспоминал спустя более чем полвека: «Я еще те представления видел, когда на сцене „Боже, царя храни“ пели. – Ну, и как в зале реагировали на спектакль? – Ну, все заколдованные были!»89
Пьеса рассказывала о двух месяцах страшных событий, пронесшихся на Украине, какими их видела одна из множества киевских интеллигентных семей и ее друзья. Обостряло фабулу то, что описывалась ситуация Гражданской войны в многострадальном городе, власти в котором сменились за год свыше десятка раз. Белая армия и войско Петлюры, немцы, гетман, большевики – было от чего закружиться головам обывателей.
Герои булгаковской пьесы не служат в армии Краснова или Деникина, они все еще русские, российские офицеры, брошенные командирами и вынужденные самостоятельно принимать решение, с кем быть90. Тот, кому присягали, – расстрелян. Гетман оказался слаб, национальная идея скомпрометирована. Большевики неприемлемы – но Россия принадлежит им. Люди чести и верности, люди, привыкшие к приказам, должны начать собственное, личное самоопределение вне строя и исчезнувшей субординации. Вот, собственно, о чем шла речь.
Семейная пьеса со спорами 1919 года о том, с кем идти дальше русским офицерам, друзьям, застигнутым революцией и Гражданской войной врасплох, поразила публику тем, что люди пытаются объяснить свой выбор в домашних словесных столкновениях – без перестрелки. Они слушают и слышат друг друга, даже не соглашаясь с решением, принятым собеседником.
И именно миролюбие, дружественность вызвали у части общественности гневный протест, даже агрессию.
Несколько забегая вперед, приведем выступление Маркова:
Художественный театр в военных Турбиных, по существу, читал повесть о штатских Турбиных <…> как бы давал отчет в том психологическом перерождении, которое совершалось внутри интеллигенции. В этом был исторический смысл спектакля91.
После премьеры «Дней Турбиных» поднялась волна газетно-журнальных реакций. Первые отзывы о пьесе (писали именно о тексте и сочинителе – не об актерской игре или режиссуре) появились вечером того же дня.
На страницах «Комсомольской правды» сорок комсомольцев (вряд ли побывавших на премьере) выразили возмущение спектаклем.
А. Орлинский сообщил, что «Дни Турбиных» не что иное, как «политическая демонстрация, в которой Булгаков перемигивается с остатками белогвардейщины»92. В. Блюм напомнил о том, что «хитрая пьеса скрывает не только то, что у Турбиных есть прислуга и денщики, но и апологию шовинизма»93.
А. Безыменский был прост и груб: «Я ничего не говорю против автора пьесы Булгакова, который чем был, тем и останется: новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы»94.
Вновь Орлинский: «Против булгаковщины»95. В. Плетнев: «Мы будем вести классовую борьбу – и не будем пугаться этого слова – гражданскую войну в театре»96. Орлинский в статье «Гражданская война на сцене МХАТ» призывает «дать отпор булгаковщине» и заявляет, что «классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»97.
Рассматривая рецепцию творчества Булгакова в 1920–1930‑е годы, приходится писать не о художественной стороне произведений, композиции спектаклей и находках в актерских работах, а об общественно-политических напряжениях. Что волновало, задевало рецензентов, пишущих о театральной премьере? Не «черные усики» Хмелева, женственная притягательность Соколовой или обаятельная инфантильность Яншина. Протест вызывали ноты на рояле, семейный уют и дружественные человеческие привязанности поверх идеологических расхождений. Со знаком плюс виделся в то время разрушенный быт, необжитое жилье, за безбытностью вставало и забвение родственных связей. Государство разрушало человеческие связи, делая каждого беззащитным, одиноким и не могущим противостоять диктату революционной идеи. Задачи государства – пятилетки, индустриализации – отменяли проблемы и сущность частных жизней. Жизнь каждого становилась неважной, превращалась в средство, утрачивала самоценность. Другими словами, политической пьесу делали не события фабулы, но система ценностей автора, конституирующая текст. Образ мира, явленный Булгаковым, притягивал зрителей.
Спустя десять дней после премьеры, когда прошло всего-то три-четыре представления «Турбиных», уже существует некая «булгаковщина», против которой необходимо вести ни много ни мало гражданскую войну. Градус обвинений драматурга все повышается. В. Блюм пишет о «героике белой гвардии» как «зародыше российского фашизма»98. Обвинения автора во всех смертных грехах, вплоть до «фашистских устремлений», были нелепы, но опасны.
Серьезные, страшные обвинения в адрес автора – «фашист», «шовинист», – строго говоря, к реальному значению этих слов отношения не имели. О фашизме в газетах писали с 1923 года – и об итальянском, с Муссолини, и о зарождающемся германском национал-социализме. Что за «фашизм» пугал критиков в нэповской России середины 1920‑х, объяснить вряд ли кто-то мог. Но даже опустошенные, освобожденные от конкретного содержания слова-жупелы имели значение. Они придавали некую зловещую, пугающую окраску фигуре драматурга, чью пьесу могли увидеть только жители Москвы и лишь в одном театре, – а газеты читали во всех городах страны. И обвинения Булгакова в шовинизме (то есть противостоянии провозглашенному СССР пролетарскому интернационализму) многими могли, по-видимому, приниматься на веру.
Работая с обильным газетно-журнальным материалом, невозможно составить представление о спектакле как феномене театрального искусства. Никто из рецензентов не писал ни об актерской игре, ни о режиссерских мизансценах, ни о декорациях и музыкально-шумовом оформлении (за исключением звуков «Интернационала» в финале, которые, по предложению И. Судакова, должны не утихать, а усиливаться) – ключевых элементах зрелища99.
Цель критических выступлений находилась не в описании и анализе художественных удач и промахов спектакля, а лишь в выявлении неверной направленности и этой пьесы, и творчества Булгакова в целом, оцениваемого как не лояльного советской власти.
На этом устрашающем фоне упреки в «интеллигентском мировоззрении», мещанстве выглядели мирно и даже утешительно, – например, когда снисходительно отмечали чрезмерную сосредоточенность актеров на «моментах „интимно-семейных“ переживаний»100. Либо сообщали, что
Идеология «Дней Турбиных» – это типичная идеология старого чеховского мещанина, 100% обывателя. Его символ веры – кремовые шторы и весь уют. Турбины и турбинствующие – пошляки, ненужные люди101.
Удачно найденная Э. Бескиным формула о кремовых шторах как символе пошлости стала расхожей, вошла в анналы. Нерв спектакля был определен и, казалось, обесценен.
Параллельно печатной критической кампании продолжались публичные общественные споры102. Диспуты в связи с «Днями Турбиных» и «Любовью Яровой» продолжались еще в 1928 году, театральная Москва не успокаивалась, критики не умолкали. Многажды выступал Луначарский. Читая доклады, давая интервью и участвуя в диспутах, он кардинальным образом менял оценку пьесы и автора, похоже, что пьеса и спектакль не отпускали его. 4 октября 1926 года, выступая с докладом в Коммунистической академии, он говорил, что пьеса «идеологически не выдержана» и «политически неверна»103. Через три дня, срываясь в грубость, заявлял, что Булгакову нравится «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля»104.
Как это обычно и происходит, не самые талантливые участники боев за столичные подмостки проявляли творческое начало в изобретении все новых и новых, порой самых неожиданных параллелей и ассоциаций, долженствующих уничтожить конкурента.
Орлинский, который, кажется, не упускал ни одной возможности высказаться, на диспуте сообщил, что «МХАТ, обладающий таким большим мастерством, попадает вместе с пошляком-Булгаковым в лужу»105.
11 октября в Доме печати состоялся «Суд над „Белой гвардией“» – диспут о спектакле «Дни Турбиных». Хроникер писал:
И суд начался! И началась горячая «баня». Главные «банщики» – оппоненты: зав. клубной секцией МК ВКП Орлинский, автор мейерхольдовского «Треста Д. Е.» Подгаецкий, присяжный оратор Дома печати Левидов106. И еще, и еще… Почти все они пришли в полной боевой готовности, вооруженные до зубов цитатами и выписками <…> В «общем и целом» все ораторы, с разных только «концов» и «точек», сошлись на резком осуждении «Дней Турбиных» как пьесы неверной, художественно фальшивой и чужой. <…> Артисты Художественного театра хранили молчание, на требования публики высказаться ответили отказом («не уполномочены, а Константин Сергеевич болен и не мог прийти»)…107
В свидетельствах очевидцев остался еще выкрик из зала некой гражданки, на трибуну не поднимавшейся: «Все люди братья!»
18 октября 1926 года осведомитель сообщает начальнику СО ОГПУ Дерибасу:
Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове. От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим.
Достать билет в 1 МХАТ на «Дни Турбиных» стало очень трудно. Говорят, что более сильно пошли рабочие, т. к. профсоюзные льготные билеты108.
Пьеса сама по себе ничем бы не выделялась из ряда современных пьес и при нормальном к ней отношении прошла бы как обычная премьера (хочется верить информатору. – В. Г.). Но кому-то понадобилось, чтобы о ней заговорили на заводах, по окраинам, в самой гуще – и вот результат: билета на эту пьесу не достать109.
Досадуя, он противоречит сам себе: начиная с утверждения, что о «Днях Турбиных» говорит «вся интеллигенция», сообщает о небывалом шуме и на рабочих окраинах.
Неспроста молчали несколько дней после премьеры (тут он попросту искажает факты, отклики посыпались на следующий же день. – В. Г.), а потом сразу начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. Мало того, начали дискуссию в Доме печати, а отчет напечатали по всем газетам. Одним словом, все проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это – вода на мельницу автора и 1 МХАТа110.
Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии им. Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха «Моск. Общ. Драм. Писателей» выдало Булгакову колоссальный гонорар <…>
Лицам, бывшим на генеральной репетиции «Дней Турбиных», а потом вместе ужинавшим (! – В. Г.), автор Булгаков в интимной беседе жаловался на «объективные условия», выявившие контрреволюционность пьесы <…>
Около Худож. театра теперь стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа, весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки «Дней Турбиных». <…>
В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу. <…> Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением»111.
Под текстом стоит подпись: «Нач. 5 Отд. СО ОГПУ Рутковский»112.
Слухи, кругами расходившиеся по Москве, будут сопровождать Булгакова всю его жизнь.
Дважды повторенная уничижительная оценка пьесы и предположение, что газетная кампания, драматичная и мучительная для Булгакова, была кем-то организована, подталкивают к мысли, что донесение это принадлежит перу литератора-конкурента, который присутствовал и на генеральной репетиции, и на товарищеском ужине после нее (что сужает круг возможных информаторов) и либо был собеседником в той самой «интимной беседе», либо внимательно слушал ее, сидя неподалеку. Но открывшая свои хранилища на какое-то время преемница ОГПУ ФСБ фамилии своих штатных и нештатных секретных сотрудников по-прежнему хранит в тайне.
О Булгакове в эти месяцы высказывались и представители интеллигенции. Например, поэт и литератор, вдохновенная Л. Рейснер113 писала о «Белой гвардии»:
Возможна ли у нас в СССР «справедливая критика»? Конечно, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана. Устрялов – замечательный публицист, и Устрялова бьют и будут бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно умный, талантливый. Со всеми ими наша критика ведет гражданскую войну, т. е. самую беспощадную изо всех войн. Когда не хватает пушек, бьют дубинами114.
Среди зрителей Москвы середины 1920‑х, можно предположить, было немало тех, кто прошел через пусть не тот же самый, но схожий с тем, который встал перед героями «Дней Турбиных», выбор. Принять случившееся как новую данность? Эмигрировать в неизвестность чужой страны, утратив профессию, – либо остаться среди новой и, похоже, неприветливой неизвестности дома. Прежняя устоявшаяся жизнь сломана, исчезли и многие привычные места службы. Нужно налаживать новые связи, устраивать быт. Не каждый склонен к рефлексии и способен ясно видеть происходящее. Театр оказался местом силы, нравственной поддержки и надежды.
Здесь человек понимал, что он не одинок, что подобную сумятицу мыслей и чувств переживали многие, что они выжили – и вот собрались у рождественской елки. Что можно жить дальше, опираясь на прежние ценности: дружбу, любовь, порядочность. Один из критиков был точен, когда писал, что социальный смысл «Белой гвардии» «в консолидации вокруг произведения всех мещанских настроений – примирения, общечеловеческой любви и проч.»115.
И именно в эти точки били агрессивные рецензенты. Обвинения свидетельствовали, по-видимому, о существенных напряжениях внутри страны и власти. Как можно было увидеть вражду к «коммунистическим идеалам рабочего класса» в пьесе, где не было речи ни о рабочих, ни об их идеалах? Кому была страшна «белогвардейщина» в 1926 году? О каком «фашизме» можно было рассуждать в связи с Турбиными? Еще того нелепее выглядело сравнение литераторов, испытывающих влияние драматурга, появившееся тремя годами позднее, с «подкулачниками». Зловещую параллель проводил В. Киршон: «Если в деревне, кроме кулаков, имеются подкулачники, то в искусстве, кроме Булгаковых <…> имеются подбулгачники»116. Обвиняла сама форма слова.
25 октября И. Нусинов в стенах Комакадемии (на секции литературы и искусства) читает доклад о творчестве Булгакова, в котором не слишком удачно формулирует упрек тем, кому булгаковские вещи нравятся: «фальшивой репутацией является прославление Булгакова»117.
Еще одним толчком к массовому срыву критики в ругательства станет афиша Художественного театра, появившаяся накануне премьеры «Дней Турбиных» и поместившая пьесу Булгакова среди сочинений Эсхила, Бомарше, Шекспира и Сухово-Кобылина. Зрительский бесспорный успех плеснул масла в огонь. Быстро вспыхнувшая известность Булгакова-драматурга задела многих причастных к литературе знакомцев. Дм. Стонов писал Ю. Слезкину 8 октября 1926 года:
Думаю, что «московские новости» тебя еще интересуют, разреши оторвать тебя на несколько минут от работы. В центре событий – пьеса Булгакова «Дни Турбиных». Ее разрешили только в Художеств[енном], только в Москве, и то – говорят – скоро снимут. Пресса ругает (Луначарский и др.), но и публика не хвалит. Прав был ты, прав: Бул. – мещанин и по-мещански подошел к событиям118.
Редкие голоса защитников спектакля терялись в многоголосом хоре осуждающих и автора, и театр. Но все же они были. Так, один из зрителей напоминал: «…критика забыла, что пьеса поставлена на пороге 10‑й годовщины Октябрьской революции, что теперь совершенно безопасно показать зрителю живых людей…»119, а Л. Сейфуллина говорила об авторе «Дней Турбиных» как о человеке, «честно взявшем на себя задачу описания врага без передержек»120. А. Пиотровский увидел в спектакле
рост основного театра, его прямое и непосредственное, руководимое Станиславским продолжение. И эта молодая труппа показала превосходную одаренность и отличный, чисто мхатовский и в то же время свежий, сильный и жизненный стиль. «Дни Турбиных» выдвигают малую сцену первого МХАТ в ряд прекраснейших молодых трупп Москвы121.
Страсти не успокаивались, и через четыре месяца спор о «Днях Турбиных» был продолжен еще на одном диспуте – в Театре имени Мейерхольда, где выступил и автор. Только теперь МХАТ ответил на нападки, защитив и автора, и спектакль. Заведующий литературной частью МХАТа П. А. Марков, по чьей инициативе и произошло знакомство «художественников» с молодым прозаиком, говорил о самых важных, принципиальных вещах. На фоне громких обвинений его мысли, видимо, показались не слишком существенными и, похоже, никого из нападавших не смогли переубедить.
Все обставлено так, чтобы можно было посмотреть в лицо человека, – говорил Марков. – Тут есть трагедия людей, есть мрак, который покрывает их за этими кремовыми занавесками, в эту суровую эпоху. <…> Тут-то и заключено самое важное для Художественного театра: раскрытие внутренних судеб человека и через это внутреннее раскрытие человека ход к эпохе…122
«Трагедия людей и раскрытие внутренних судеб человека» были именно теми темами, которые волновали многих в ситуации исторического перелома. И кроме бдительных коллег, сотрудников ОГПУ и прочих представителей идеологического слежения и контроля, существовали еще и зрители!
Именно на этом диспуте Луначарский отыщет точные слова, верность которых будет подтверждена временем: «„Турбины“ были первой политической пьесой на нашем горизонте, которая ставила серьезно социально-политические проблемы»123. Не только о внутренних судьбах частного человека, но и о направлении развития страны рассказывал «домашний», «семейный» спектакль Художественного театра – вот что было высказано наркомом.
Трудности при выпуске спектакля, слухи о которых мгновенно разлетелись по Москве, привлекли внимание и широкой публики. Возмутителем театрального спокойствия был не неизвестный автор, а уже начавший обретать художественный успех литератор с определенной идеологической физиономией.
Отзывов восхищенных и понимающих было немало, но они скрывались в переписке друзей, домашних обсуждениях, дневниковых записях и по большей части оставались Булгакову неизвестными. Как, например, дневник образованного милиционера Гаврилова, дежурившего на вечерних представлениях Художественного театра и ведущего записи своих театральных впечатлений.
Гаврилов смотрел «Дни Турбиных» более сотни раз, иногда ему приходилось выстаивать спектакль на ногах (когда появлялись важные гости, он уступал свое место в 3‑м ряду амфитеатра). После сорока просмотров, выучив звучащий текст спектакля наизусть, он записал его для себя, создав аналог самиздатского экземпляра (пьеса будет опубликована лишь спустя 30 лет). Не раз и не два Гаврилов сообщает о случаях истерик в зрительном зале, связывая их с хорошей игрой (спектакль шел неровно, вводились новые исполнители, исподволь менялся рисунок мизансцен и проч.). О многом сообщает историку театра и такая запись:
Как слышно из разговоров в публике, «Бронепоезд» смотрят обычно по одному разу, а «Дни Турбиных» даже по 6 раз и более; один гражданин видел «Дни Турбиных» более 20 раз, и все за плату124.
Но вернемся к перипетиям вокруг «Дней Турбиных», связанных, в том числе, и с финансовым положением театров.
К удаче современного исследователя, в решающие сентябрьские дни перед выпуском спектакля Вл. И. Немирович-Данченко находился за границей, и О. С. Бокшанская отправляла ему длинные, наполненные деталями и оценками как внутритеатрального, так и более широкого контекста, письма-отчеты.
Так, 10 сентября 1926 года, мельком сообщая, что не высылает текста «Дней Турбиных», так как он все еще не утвержден, – писала:
При этом все условия – и вообще, и в театре – сильно изменились за год. Сейчас нельзя говорить, нельзя заикаться ни о каких дотациях, ни о каких субсидиях. Сейчас могут говорить только те коллективы, которые себя окупают. Это правда, это верно, это непреложно. И при всем великолепном отношении сверху к Художественному театру никто из них не думает, что это отношение должно выражаться в какой-то реальной материальной помощи, в каких-то послаблениях. Жизнь теперь стала на строго деловую линию125.
Что же до новостей в связи с готовящимся спектаклем, то О. С. Бокшанская, человек театра до мозга костей, в очередном послании сообщала, что вокруг «Дней Турбиных»
развернулись страсти. По поводу этой пьесы происходят диспуты, кто-кто только не говорит о ней. Все это создало нам громадную рекламу. Пьеса делает аншлаги подряд…126
Она же, 20 октября:
С «Турбиными» все так же: идет травля в газетах и журналах, и одновременно идет такой спрос на места, что всегда множество людей отходит от кассы ни с чем – все билеты проданы <…> В виде самой большой милости теперь можно выпросить места «постоять».
И тут же:
Самый больной и ужасный вопрос у нас – наше безденежье. Театр весь в долгу. По векселям долгу около 100 000, и все векселя срочные до 1 января127.
В скобках замечу: в день генеральной репетиции «Ревизора» в Театре имени Мейерхольда, на которой был и Булгаков, несколько упал сбор на «Днях Турбиных» – театралы смотрели мейерхольдовскую премьеру.
2 ноября Бокшанская сообщает Немировичу, что «пьеса эта дает громадные сборы. При объявленных на нее несколько повышенных ценах (выделено мной. – В. Г.) она делает в вечер не менее 4000 р.128 Лучшие спектакли Художественного в эти недели на круг, за вечер приносят 2600, 2800 рублей»129.
Когда-то в разговоре со мной П. А. Марков на вопрос, кто принял спектакль, ответил: «Все». – «Кто не принял?» – «Все»130.
Тогда ответ показался не совсем ясным. Теперь понятно, что хотел донести до собеседника мудрый современник Булгакова. «Все, кто не принял» – те, кто имел вес в публичном поле и был противником драматурга. «Все, кто принял» – те, кто ходил на спектакль еще и еще, но не имел права голоса в печати, а таких было в Москве множество.
Любопытно, что в прессе звучали предположения, что герой «Турбиных» непременно станет и героем фильмов. Предвосхищая это и видя отражение черт Алексея Турбина в герое фильма «Сорок первый» (реж. Я. Протазанов по одноименной повести Б. Лавренева), В. Ашмарин писал, что спектакль «Дни Турбиных» – это «сменовеховский плевок» на «горячий утюг революции»131.
В ноябре 1926 года после двадцати аншлагов на «Турбиных» впервые в кассе случился недобор в полторы сотни рублей. «Ясно, что недобор может получиться только от непродажи первых мест (по 7 р.), т. к. в Москве немного людей, которые могут выбросить на билеты такие деньги. Дешевые же билеты раскупаются с бою»132, – свидетельствует О. С. Бокшанская.
Кто же покупал дешевые билеты? Уж, наверное, не нэпманы. Тема отношения рабочего зрителя к спектаклю Художественного театра заслуживает отдельного разбора.
Несмотря на утверждения, звучавшие с трибун диспутов, что «рабочему это не нужно» и что рабочему Турбины не просто неинтересны, но даже враждебны (как в статье «В Камергерском переулке. Дела и люди Художественного театра: повернется ли 1‑й МХАТ лицом к рабочему зрителю?», в которой неизвестный автор утверждал, что МХАТ ставит «чуждые», «упаднические», «далекие и неинтересные рабочему зрителю пьесы, например „Дни Турбиных“»133), ряд свидетельств говорит об обратном.
Так, Старостин, секретарь культкомиссии Прохоровской Трехгорной мануфактуры, возмущен тем, что в то время как интерес рабочего зрителя к спектаклю «Дни Турбиных» «все возрастает <…> удовлетворение спроса прогрессивно падает»134. А М. Анчарова сообщает о мнении заведующего центральной распределительной кассой льготных билетов Петрова о необходимости «принудительного ассортимента»: «Если стадное чувство заставляет рабочего тянуться на <…> „Дни Турбиных“, то я считаю нужным заставить его пойти и к Мейерхольду…»135
Вопреки утверждениям, что спектакль был адресован исключительно «бывшим людям», остаткам буржуазии и заблудившимся в идеологии интеллигентам, рабочие хотели видеть этот спектакль. Не случайно перед гастролями МХАТа в Ленинграде в 1928 году проходит общегородское собрание театральных рабкоров, которое выносит постановление о включении «Дней Турбиных» в гастрольную афишу136. Дело в том, что пьеса по-прежнему разрешена одному лишь МХАТу, к показу только в Москве, и вывоз ее за границы столицы требует специальных решений.
Добиться билета на «Дни Турбиных» с обычной профсоюзной скидкой – задача почти неразрешимая, – возмущались в журнале «Программы государственных академических театров». – При трех-четырех спектаклях в неделю в течение двух месяцев (январь – февраль) на эти спектакли было выделено только 1620 мест.
Далее, будто спохватившись и резко меняя логику рассуждения, автор заметки продолжал:
Кстати, необходимо отметить, что МХАТ-1 в своем хозрасчетном увлечении чересчур часто (четыре раза в неделю) ставит «Дни Турбиных», «Пугачевщина» совсем снята с репертуара, «Декабристы» крайне редко появляются, да и весь репертуар как-то скомкан во славу «Турбиных». Даже «Любовь Яровая», этот боевой спектакль сезона, ставится реже, чем «Турбины»137.
О булгаковских спектаклях то и дело вспоминали в связи с иными премьерами, неустанно проводя параллели. Выразительное и о многом говорящее описание стычки с критиком после спектакля «Любовь Яровая» (ленинградский Большой драматический театр, реж. Б. М. Дмоховский) оставил автор журнала «Рабочий и театр»:
В «кулуарах», вернее, в коридорах в день премьеры горячие споры.
Прижали критика к стене и пытают.
– Вы говорили, что это Тренев с поправкой на Булгакова!!
– Никогда не говорил!
– Как же – сам слышал!
– Злостная инсинуация.
– Значит, не вы? Кто же это мог сказать?
Критик смылся. <…>
Белые. Вот, только что, всерьез, при полном освещении показали парад, манифестацию. Передернуло. Любование белыми. Ставка на внушительность и величественность.
И вот другая постановка. <…> Вместо врага – живгазетные, смешные фигуры.
Что же это? Ведь нельзя же, право, при рассматривании «белой половины» оглядываться на Булгакова, да и нельзя перегибать палку и делать врагов смешными и неубедительными138.
За сезон 1926/1927 года спектакль посмотрело 113 409 зрителей139, аншлаги продолжались и тогда, когда число представлений перевалило за сотню. А. Глебов сокрушенно объяснял популярность «Дней Турбиных» тем, что «публика всех классовых категорий тянется к современности»140. По-видимому, «Дни Турбиных» завоевывали все большее число сторонников, по-прежнему не имеющих доступа в печать.
17 декабря 1926 года главный администратор МХАТ Ф. Михальский получает письмо от уполномоченного по театральным делам ТАСС:
Постановка «Дней Турбиных» вызвала большой шум в московском театральном и художественном мире. Поднялась целая дискуссия, следует ли советскому театру ставить такую пьесу, где некоторые белогвардейцы выведены в слишком идеализированном виде. То, что «Дни Турбиных» идут почти беспрерывно в течение нескольких месяцев, доказывает, что вопрос решен в положительном смысле.
И вполне правильно. Для нас было бы мало чести, если бы вся наша победа сводилась лишь к победе над пьяной оравой белогвардейцев, среди которых не было бы некоторой части более достойных противников.
Ничего антисоветского в пьесе, конечно, нет…141
Когда полвека назад, на исходе 1960‑х, началось изучение творчества Булгакова, фигуры его критиков вызывали общее возмущение, и только. Агрессивные, не слишком талантливые, те, кто регулярно выступал в печати, влияя на умы, стремясь сделать свою точку зрения единой для всех. Пришло время обсудить серьезность позиции противников спектакля и попытаться ощутить искренность либо фальшь упреков людей, писавших о «гражданской войне», «белогвардейщине» и неприятии «рабочего класса и его коммунистических идеалов», «шовинизме» и «фашизме», а еще и «пошлости», «мещанстве» и художественной ничтожности пьесы.
Взаимоотношения Булгакова и современной ему критики дают основания утверждать, что писатель был внимательно прочитан и прекрасно понят современниками – но пошел вразрез с теми, кто оказался готовым расстаться с ответственностью личности за путь и судьбу страны и собственные поступки, кто воспринял как правильное, «полезное», нужное – наступающее единомыслие писательского «коллективного хозяйства». И дело было не в отдельных «преступных личностях», а в движении общества к диктатуре сталинщины. Именно противники булгаковского творчества – с той зоркостью, которая порой рождается враждебностью, – делали достоянием общественности, договаривая, переводя с языка художественных образов на не допускающий разночтений и двусмысленностей понятийный язык – сущность, телеологию, да и особенности поэтики произведения писателя.
Множество недалеких людей пытались поймать миг удачи, напав на слабого, назначенного виновным. Затравив одну жертву, переходили к следующей до тех пор, пока неожиданно для себя сами не оказывались ею.
Сегодня полезно всмотреться и в эти судьбы. Сказать о том, что многие из них попали под тот же каток репрессий, который сами же и организовывали несколькими годами раньше. А. Орлинский и В. Киршон, Р. Пикель и Мих. Левидов, Ф. Раскольников и молодой следователь С. Г. Гендин, допрашивавший Булгакова накануне премьеры, – все они десятилетием позднее были убиты той самой властью, за которую они сражались, с Булгаковым в том числе. И список этот может быть продолжен.
Многие из них начинали свой путь в юности как революционеры, проходили через университетские волнения и сходки, распространение прокламаций, ссылки, революции марта и октября. Рано вступали в партию, свято верили в идеалы большевизма и не просто занимали посты, а истово служили идее революции. Как правило, не слишком образованные, они шли в фарватере главенствующих идей эпохи. Кому-то удалось прозреть раньше, чем оказаться брошенным в топку, кто-то так и ушел, не осознав причин собственной гибели.
Их слова писались и печатались, начиная жить отдельной жизнью, создавая вторую реальность, и пьесу вместе с ее автором накрывала мрачная пелена злоумышленного, преступного деяния. Обвинения порой были абсурдными, но их последствия – вполне практическими. «Классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»142, – настаивала журнальная передовица.
Обвиняли Булгакова и в сменовеховстве143. Вряд ли Булгаков с этим согласился бы, судя по его репликам на страницах дневника в адрес Василевского Не-Буквы, Бобрищева-Пушкина и других и горьким мыслям об их человеческих качествах и собственной участи144.
Здесь уместно вспомнить об истории с запрещением пьесы не столь талантливого, но плодовитого автора, нечаянно угодившего в болевой нерв времени.
В мае 1922 года на сцене московского Теревсата (Театра революционной сатиры) прошла премьера пьесы Т. Майской «Россия № 2»145.
Спектакль о том, что стране нужно дружелюбно встретить своих граждан, эмигрировавших после революции, но теперь одумавшихся, прозревших и искренне стремящихся возвратиться, чтобы начать работать на благо родины, имел шумный успех. Автора несколько раз вызывали на поклоны, зрители хлопали, тем же вечером появилась рецензия в «Вечерних известиях», затем в «Правде», «Известиях ВЦИК», «Рабочей Москве».
Самым щедрым на похвалы оказался критик «Известий ВЦИК»:
Сюжет анекдотичен, – отмечал он. – Но анекдот дал возможность автору нарисовать уголок эмигрантской жизни. <…> В пьесе много от сменовеховства, от милюковщины, от Бурцева. <…> Было не скучно, а все виды искусства хороши, кроме скучного. <…> У подавляющего большинства пьеса имела безусловный успех. Надо отдать справедливость автору: некоторые роли написаны – в том числе роль главной героини – очень удачно. Старые театралы знают, что хорошо написанные роли – хорошая пенсия автору. Хорошая роль – это долгий век пьесе. В этом смысле надо с уверенностью предсказать и пьесе Т. Майской долгую жизнь. <…> Автора дружно вызывали и кричали «Спасибо!»
Хвалебный отзыв внезапно обрывался посткриптумом:
По распоряжению политсовета, последовавшему сегодня, пьеса Т. Майской снимается с репертуара и театр Теревсат закрывается. Жаль!146
На следующий же день спектакль был снят, а сам театр закрыт.
Театральным успехом власти не то что с легкостью пренебрегли – скорее, именно этот безоговорочный успех и подтолкнул к решительному шагу.
Что же их испугало?
«Милюковщина» пьесы, по формуле рецензента, отсылавшая к позиции П. Н. Милюкова147, одного из недавних министров Временного правительства, основателя партии кадетов, и упоминание имени еще одного известного эмигранта, яркого публициста В. Л. Бурцева148, уточняли причины отторжения властями, казалось бы, безобидной пьесы Т. А. Майской. Оба политика, и Милюков, и Бурцев, не скрывая морального неприятия большевизма, призывали соотечественников «убить в себе психологию гражданской войны»149.
Мелодраматические перипетии пьесы и впрямь происходили с субъективно искренними, любящими Родину «хорошими людьми».
Обнищавшие молодые люди дворянского происхождения Елена Аргутинская (Лолот), ее кузен Николай (Коко) и жених Георгий Алмазов иронизировали по поводу остающихся в Париже генералов и промышленников, мечтали работать в новой России. Не случайно речь одного из персонажей Николая изобиловала пословицами и поговорками – автор акцентировал бесспорную «русскость» героев, их органическую близость родине. В фабуле «России № 2» причудливо соединялись элементы любовной мелодрамы ушедшего века с остроактуальной идеей примирения эмиграции и новой России.
Рецензент «Правды» писал:
«Россия № 2», поставленная в театре революционной сатиры, произвела на меня впечатление не революционное. Ее политический пафос <…> «от лукавого», от сменовеховства. Ее политический лейтмотив: «Ленин поправеет, мы (белая эмиграция) – полевеем». И эта идеология возведена здесь в перл создания. <…> А «самый умный» (из героев. – В. Г.) развязно балансирует на ходулях некоего «скепсиса» – и по адресу белых, и по адресу красных, хорошо знакомая претенциозная поза обанкротившегося интеллигента.
В результате крайне соблазнительно, чтобы не сказать контрреволюционно, звучали обильно рассыпанные в пьесе шуточки, остроты и «бонмоты» на темы революции и революционного быта.
Пьеса безусловно не наша. Пьеса – нэпмана: характерно, что среди персонажей нет ни одного представителя промышленного капитала: буржуазию автор как будто намеренно «щадит».
Но и этот строгий критик подтверждал:
Пьеса имела совершенно исключительный успех – с требованиями «Автора на сцену!», с криками «Спасибо!», с речью автора. И так принимала пьесу публика высокой революционной квалификации – едва ли не ползала, заполнившие зал военные курсанты и комсомольцы. <…> Политический Совет Теревсата был совершенно прав, сняв эту «чужую» пьесу с репертуара. <…> Но почему «кстати» закрыт и Теревсат – непонятно. Почему сразу «высшая мера наказания»?150
По-видимому, именно потому, что «публика высокой революционной квалификации» – военные курсанты и комсомольцы, то есть отборные, «самые передовые» и политически грамотные молодые люди Страны Советов – с готовностью отозвалась на мысли Майской о необходимости примирения с русской эмиграцией и включения ее в общую созидательную работу. Возможно, именно это обстоятельство – специфичность отобранного зрительного зала, поддержавшего призыв к дружелюбию и прощению соотечественников, – и привело к молниеносному запрещению спектакля.
О новой общественной ситуации в стране размышляли и недавние эмигранты. Вл. Ходасевич в письме к М. Карповичу писал, что «влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции». И утверждал: «РСФСР 1922 года и эпохи „военного коммунизма“ – либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года», в которой «напрочь отсутствует общественность и торжествует всеобщее подличанье…»151
Запрещенная в столице, пьеса много шла по провинции – такова была практика тех лет. «Россию № 2» посмотрели зрители драматических театров Баку, Екатеринбурга, Казани, Театра музыкальной комедии Петрограда и проч. Но в 1927 году ее вновь запретили, и автор, пытаясь возвратить пьесу на сцену, обратился в Главрепертком с заявлением:
Узнав о том, что моя пьеса «Россия № 2», комедия-буфф в 3‑х действиях, впервые поставленная в Москве в театре Революционной Сатиры в 1922 г. и шедшая с тех пор во многих городах РСФСР, теперь запрещена к представлению на сцене, прошу вновь рассмотреть этот вопрос, тем более что в Репертуарном комитете не имеется ни одного экземпляра пьесы, а запрещение ее последовало по впечатлению от постановки (1922 г.), что не всегда отвечает замыслам автора.
Предлагаю экземпляр пьесы, разрешенной к постановке Военно-Политической цензурой и Политконтролем ГПУ от 16/VI 22 г. и 21/VI 22 г. и от 25/VII 1922 г. за № 759 и соответствующими печатями и подписями.
К вышеизложенному должно прибавить, что после снятия пьесы «Россия № 2» с репертуара Художественным отделом МОНО был назначен закрытый просмотр пьесы в присутствии Театрального совета и представителей Губполитпросвета, ОГПУ и других заинтересованных организаций, после чего пьеса была вновь разрешена к постановке (без всяких изъятий – безусловно) и, как значится на постановлении: «К постановке в театрах может быть допущена и даже желательна».
Ввиду вышеизложенных обстоятельств прошу вновь рассмотреть пьесу и разрешить ее к постановке. Татьяна Майская152.
Положительная резолюция («Разрешена военно-политической цензурой МГ ОГПУ» 16.VI.22 года [А. Луначарский]) была сопровождена отзывом замначполитконтроля ГПУ Медведева от 25 июля 1922 года: «К представлению пьеса „Россия № 2“ Т. Майской разрешается, и препятствий к тому со стороны Политконтроля ГПУ не встречается»153.
Но в 1927 году прежнее решение не представляется верным, и, истребовав с автора плату «за просмотр и гербовый сбор», политредактор ГРК пишет:
Почти все показанные в пьесе герои <…> мечтают о России, презирают эмигрантов с их политическими планами монархической реставрации. Наконец, они направляются в Россию. Муж арендует завод, а все прочие приезжают к нему в гости. При этом эмигранты эти из породы «ничему не научившихся». Как только они попадают в Россию, так начинается брюзжание на новые порядки, обывательское зубоскальство по поводу бытовых особенностей советского строя. <…> Все они ничего не умеют делать. Понять Россию не могут. Перемениться – тоже. По приезде в Россию – они остаются теми же парижскими хлыщами.
Единственный мотив, который их влечет в Россию, – это березки, «каких нет в Италии», да воспоминание о туго заплетенной косичке девочки «в деревне у бабушки». А политическое отношение по-прежнему одно и то же. Мотивы притяжения к России оправдывают этих героев «по человечеству» и оставляют тем самым действенным и их недовольство, и их зубоскальство по адресу сов. власти и сов. общественности.
Кроме этого, и сами герои, и автор глубоко убеждены, что Россия нуждается в каждом лишнем работнике, человеке, даже таком, как они. Едут они в Россию с полной уверенностью в то, что они здесь нужны, что Россия без них не обойдется. Это интеллигентское хамочванство и устранение из пьесы мотива раскаяния эмигрантов – решительно бросается в глаза как вывод. <…> Никаких оснований тащить на сцену эту смесь булгаковской идеологии («ошибка хороших людей») с изобразительными средствами Лидии Чарской <…> – нет154.
Далее следует лаконичное резюме политредактора ГРК: «Пьеса сменовеховская. Запретить».
Драматургический дебют уже известного в Москве литератора резко переменил направленность и лексику критических откликов. Рецензенты пишут не о следовании Булгакова классическим традициям, а о его политическом лице, сменовеховстве и контрреволюционности пьесы, «хамочванстве»155 интеллигенции.
«Хамская чванливость», увиденная в интеллигенте (и преобразованная в уродливое слово «хамочванство»), проявляла и оскорбленность необразованного, и душевную сухость, и, может быть, прежде всего, – неумение и нежелание различать не одни лишь черно-белые краски, а неистребимое разноцветье жизни. Собственная агрессивность трансформировалась во враждебность, которую (как казалось противникам и ругателям «Турбиных») источали невинные «кремовые шторы» спектакля.
Обвинения в мещанстве и пошлости были упреками в склонности человека к частной, приватной жизни, утаенной от государства и не подчиняющейся ему. Это были обвинения в стремлении к личной свободе. Выраженные порой неуклюжими до комичности фразами, они тем не менее сообщали об узловых проблемах страны, ее движении к тотальному диктату – и упорном тихом сопротивлении «лукавого» народа.
История с запрещением пьесы Т. Майской была много серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. «Теревсат неожиданно подхватывал тему о бессмыслице „братоубийственной смуты“, т. е. гражданской войны, осуждал гордыню, вражду, мстительные чувства»156, – писал исследователь позднего времени. В спектакле пробивались мотивы будущей булгаковской «Белой гвардии» с ее поразительной для 1922 года фразой, обращенной и к белым, и к красным: «Все вы у меня в поле брани убиенные».
Для сравнения приведем пример того, что предлагалось другими авторами пьес в начале 1920‑х.
Д. Синявский, автор пьесы «Добрый черт», в пространной ремарке, заключающей текст, писал:
Зритель освобождается от впечатления действий на сцене, только попадая на улицу.
В коридоре, фойе и раздевальне порядок соблюдается рабочими с револьверами и винтовками… Валяется труп убитого казака… Трупы казаков в вестибюле. Внизу при выходе <…> сделана баррикада, пулемет направлен дулом к выходящей публике.
Режиссер должен поставить в толпе выходящих сценки, характерные для <…> времени. Кого-нибудь арестовывают, обыскивают157.
Именно подобным предложениям отвечал Булгаков, когда в беседе с другом говорил:
А я бы мечтал завести в драматических театрах оркестр, играющий во время антракта, как было в старой провинции. Усатый капельмейстер помахивает палочкой и, поглядывая то и дело в партер, раскланивается со знакомыми.
Либо:
Отлично, когда занавес не раздвигается, а поднимается вверх, а на занавесе написаны порхающие купидоны158.
«Порхающие купидоны» вызывающе противостояли арестам в толпе – вот что означали будто бы «консервативно-мещанские» реплики Булгакова. И во мхатовском спектакле ухаживали за Еленой, дарили ей цветы, пытались поддержать, согреть друг друга. В «Днях Турбиных» топили ванную, ставили самовар, пили вино и играли на рояле…
Миролюбие и стремление людей к объединению и прощению отвергались властями, насаждавшими и поддерживавшими вражду и злобу. Так, Орлинский был возмущен тем, что спектакль МХАТ «Дни Турбиных» «содействует эмоциональному примирению зрителей с героями»159.
13 января 1927 года осведомитель сообщал:
По полученным сведениям, драматург Булгаков <…> на днях рассказывал известному писателю Смидовичу-Вересаеву следующее (об этом говорят в московских литературных кругах), что его вызвали в ОГПУ на Лубянку и, расспросив его о социальном положении, спросили, почему он не пишет о рабочих. Булгаков ответил, что он интеллигент и не знает их жизни. Затем его спросили подобным образом о крестьянах. Он ответил то же самое. Во все время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить.
В заключение ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы. «Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мной идут».
Передавая этот разговор, писатель Смидович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: „ничего“, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку».
Таково настроение литературных кругов.
Сведения точные. Получены от осведома160.
Запись беседы двух литераторов объясняет, что шокирующая сегодняшнего читателя ремарка пьесы Д. Синявского («кого-нибудь арестовывают, обыскивают»), по-видимому, воспринималась как реальная и обыденная возможность.
В 1927 году, в преддверии идеологического совещания при Агитпропе, вокруг произведений Булгакова и их восприятия читающей публикой разыгрывается любопытная критическая драка, вышедшая далеко за пределы чисто литературных разногласий.
Дискуссия начата статьей В. Правдухина «Литература сигнализирует». Размышляя над изменениями в умонастроениях, он прочерчивает путь новой литературы:
Наша советская литература, рожденная в бурях 1917 года, шедшая долгое время по живым следам революции, была до краев опьянена радостным ощущением героической борьбы с обветшалым миром.
Оптимизм нашей литературы был подлинным и казался несокрушимым. Думалось, что его хватит на длительный исторический период.
За последние годы и особенно за последний год это настроение бодрости и революционного опьянения спало, снизилось.
Ноты бодрости и общественного радования плохо удаются нашим писателям. И наоборот, очень знаменательно – М. Булгаков стал одним из популярных беллетристов именно благодаря своему скепсису.
Булгаков – упадочный писатель в том смысле, в каком им был А. Чехов. Едва ли он по существу «контрреволюционен». Поскольку ему талантливо удается показать «антисоветских» людей, он делает небесполезную работу познания действительности161.
Статью В. Правдухина сопровождает «звездочка» с редакционным уведомлением: статья печатается в дискуссионном порядке. Подобное сообщение означало осторожное дистанцирование редакции от публикуемого текста, а также – предположение, что данным тезисам будет дан отпор.
Эволюция литературных настроений описана Правдухиным внятно и с редкой критической чуткостью. От пылкого энтузиазма – к сомнениям, от уверенности к скепсису, от простоты и непреложности предначертанных лозунгов общественного развития – к трезвому вглядыванию в реальное положение вещей.
Правдухину ответил Г. Горбачев.
Он начал статью энергично и весьма решительно, договаривая за оппонента начатые тем рассуждения:
Если бы «литература сигнализировала» так, как толкует ее сигналы Правдухин, дело было бы скверно. Как ни вертись, а пришлось бы признать, что правеет страна, что не к «бесклассовому обществу» функционирует (эволюционирует? – В. Г.) наша общественность, хотя бы и более сложными путями, чем казалось это В. Правдухину в блаженные дни пильняковской гегемонии, т. е. в 1922–1923 годах, но что мы переживаем эпоху упадка и реакции, что налицо распад общественных групп162.
Проблема названа, ситуация обозначена жестко. Теперь задача состоит в том, чтобы доказать ошибочность столь серьезных предположений.
В своей статье Правдухин в качестве подтверждающих его суждения примеров разбирает, в частности, поэму А. Безыменского «Феликс» и роман Ф. Гладкова «Цемент». Г. Горбачев возмущен:
В. Правдухин <…> искажает перспективу… по существу хочет сказать, что в нашей литературе все общественно-актуальные по теме и пафосу, все пролетарские и революционные произведения натянуты, ходульны и неубедительны.
Правдухин берет для доказательства этого положения из большой поэмы Безыменского «Феликс» – строчки, понятные лишь на фоне поэмы, как своеобразный припев – вывод, искажает их явно издевательски и кричит о литературном неприличии бодрых мотивов поэмы, в которой есть сильнейшие по художественной силе места (Дзержинский в Ч. К., Дзержинский в автомобиле, Дзержинский, едущий на отдых на юг).
Передергивая и не затрудняя себя аргументами, Горбачев отметает оценки оппонентом литературных вещей и ситуации в целом, а затем переходит к утверждению, что «раньше было еще хуже»:
И в те времена правдухинского благополучия <…> Зощенко описал <…> сплошные свиные хари, а Эренбург – распад компартии. И этот самый Эренбург со своими не менее «скептическими», чем «Дьяволиада», – «Николаем Курбовым», «Трестом Д. Е.» и «Хулио Хуренито» был не менее, а более у известной части читателей популярен, чем ныне Булгаков…163
На миг отвлечемся от спорящих. Итак, упомянуты сатирики Зощенко и Булгаков с его сатирической «Дьяволиадой» – и в том же самом номере газеты читаем: «У эпохи нашей большая нужда в своем Гоголе… Без сомнения, эпоха наша все же рано или поздно создаст своего Гоголя». Между тем «свои Гоголи» уже здесь – именно их громят на соседней полосе.
Г. Горбачева поддерживает Т. Рокотов:
«Литературное преступление», «словесная импотенция», – честит творчество Безыменского его строгий критик. А наряду с этим – легкий переход к М. Булгакову, «одному из самых популярных беллетристов». И сразу другой тон, другие мысли, образы и сравнения… Сравните тон и отношение к пролетарским писателям и к такому явному идеологу чаяний новой буржуазии, как Булгаков. Там критика, граничащая с пасквилем, здесь – трогательные кавычки, в которые взяты антисоветские герои булгаковских произведений164, —
уличает Рокотов Правдухина в симпатии к писателю. Задевает и дистанция, демонстрируемая Правдухиным в тех кавычках, которыми он снабжает эпитеты «контрреволюционный» и «антисоветский».
Правдухин оказывается в трудном положении, возможно, грозящем и оргвыводами, так как речь от проблем литературного процесса перешла в плоскость идеологическую. Теперь свой ответ (заметим, вновь печатающийся с подзаголовком «В порядке обсуждения») он начинает, вооружившись до зубов, – с двух пространных выдержек: из резолюции ЦК ВКП(б) о политике в области художественной литературы и из статьи Н. Бухарина «Пролетариат и вопросы художественной политики» («…потому что если я ругаю пролетарских писателей, то это вовсе не значит, что я потенциально отрицаю за ними право на их развитие…» – Н. Бухарин).
Тема, которую предложил было к обсуждению В. Правдухин, забыта, отодвинута. Теперь задача – оправдаться в политических обвинениях самому.
Меня обвиняют в пасквильной критике-травле пролетписателей, – так начинает свой ответ Правдухин, – в чрезмерном восхвалении «идеолога чаяний новой буржуазии – Булгакова». Никакого восхваления М. Булгакова в десяти строчках, ему посвященных, у меня нет. Угодно Т. Рокотову искать его в кавычках к слову «антисоветский» – это его дело, если он не может понять, что это неуклюжее, неестественное слово требует особой отметки.
Неправ и т. Горбачев, говоря, что – по Правдухину – «знаменем литературной эпохи является едва ли не Булгаков». Я утверждал и утверждаю, что знаменательно то, что Булгаков популярен, его много читают, его пьесы <…> имеют чуть ли не самый большой успех. Все это говорит о настроениях читателей…165
Отметим важную деталь: эпитет «антисоветский» нов и еще не стал общепринятым, Правдухину он представляется «неуклюжим» и «неестественным». Но спорят не о чистоте стиля – о возможности жить и дышать. 9 октября 1928 года на обсуждении булгаковской пьесы «Бег» А. И. Свидерский, председатель Главискусства, с запоздалой наивностью скажет, что слова «советский», «антисоветский» – надо оставить. Через четыре месяца, в начале февраля 1929 года, в неожиданную дискуссию о терминах войдет еще один участник. Отвечая на письмо В. Н. Билль-Белоцерковского по поводу того же «Бега», Сталин назовет пьесу явлением «антисоветским»166, чем и решит ее судьбу. О неестественности слова более вспоминать не будут. Оно прочно войдет в новый язык, обретет власть.
Но вернемся к ленинградской дискуссии. Правдухин продолжает отвечать по пунктам выдвинутых Г. Горбачевым обвинений. Речь – о расхождениях в оценке «Цемента» Гладкова, ставшего главным козырем года в тезисе о становлении пролетарской литературы как новаторского и самоценного эстетического явления. «Автор создает антитезу прошлой сентиментальности Карамзина – и пишет нам не „бедную Лизу“, а „красную Дашу“», – не удерживается от усмешки Правдухин. Но заканчивает серьезно и обдуманно: «„Цемент“ означает переход к новой литературе, но он останется лишь в учебниках, когда культурно „созреет“ наша эпоха». И далее обращается к важнейшей проблеме современного ему литературного быта:
С легкой руки Горбачева у нас всякие сомнения в литературной ценности «благонамеренных» по содержанию произведений расцениваются как контрреволюционные попытки. Это нездоровое явление. Вредное снисхождение к своим, послабление писательскому безволию, вместо критики – рекомендация своих изданий, выдвижения своих кружковых товарищей вне зависимости от оценки писаний <…> – и в результате резкое снижение творческих устремлений, даже у талантливых писателей. <…> Легко идти по проторенной дороге установленных репутаций!167
Завершает дискуссию Горбачев, одержавший верх над идеологически нетвердым противником. Его заключающая дискуссию статья так и называется: «Отступление Валериана Правдухина». Г. Горбачев торжествует победу: Правдухин
отказывается от того непомерного значения, приписывавшегося им Булгакову, которое набрасывало тень на всю нарисованную им литературную перспективу. Правдухин не настаивает и на защите Булгакова от обвинения в контрреволюционности <…> Напрасно Правдухин повторяет явную опечатку «Правды», напечатавшей в отзыве на «Цемент», что это достижения «диктатуры», а не литературы, хотя, конечно, успехи пролетарской литературы тесно связаны с успехами пролетарской диктатуры168.
Вот, казалось бы, и все, в дискуссии поставлена точка. Разговор с обрисовки и анализа ситуации в литературе и – шире – обществе переведен на личности. Личности скомпрометированы. Попытка чуткого наблюдателя, социально озабоченного литератора пригласить общество к совместному размышлению терпит крах.
В апреле 1927 года развитие литературного процесса оборвано, совещанием при Агитпропе дан сигнал к разгрому независимых творческих людей. Но спустя месяц Г. Горбачев вновь возвращается к булгаковскому имени и публикует обширную статью, посвященную его творчеству. Выступление Горбачева, по всей видимости, есть не что иное, как подведение итогов. Если дискуссия на страницах ленинградских газет была развернута в марте, то есть накануне готовящегося совещания по идеологии, то майская статья, вероятно, носит «установочный» характер. Другими словами, это выражение платформы целой общественной группы, занимавшей командные посты в литературной практике тех лет, точнее – в практике идеологического разделения писателей на «прогрессивных» и «реакционных». К последним отнесены все те, кто выражал сомнения в безусловно «восходящем» развитии страны. Не переходя пока что к мерам административным, производили штучную селекцию писательских имен.
Что же видит критик в упрямом попутчике?
Формулировки Г. Горбачева недвусмысленны:
Если можно сомневаться в явно издевательском смысле «Роковых яиц» по отношению к творчеству, хозяйственно и культурно-организаторским способностям революционной власти <…> то это можно делать, лишь рассматривая «Роковые яйца» изолированно. В связи же со всем подбором рассказов в книге «Дьяволиада» для иллюзий места не останется.
И далее дает краткий разбор каждого из произведений, вошедших в сборник.
«Похождения Чичикова», в которых бессмертный гоголевский Павел Иванович, обретя вторую жизнь, убеждается, что «для авантюристов, обжор, нахалов, жуликов никогда не было такой благоприятной обстановки, как в дни безнадежно-глуповатого большевистского практического управления и хозяйствования», и т. д.
Но выявив смысловые тенденции сатирических вещей писателя, Горбачев, быть может, неожиданно и для себя самого, заключает статью пассажем, в котором с редкой глубиной и проникновенной тонкостью схвачена важнейшая особенность зрелого булгаковского мироощущения. Путь писателя, начатый всего лишь пять лет назад, оценен и описан в каких-то общих чертах с удивительной проницательностью и ясностью.
У Булгакова нет четких монархических высказываний Шульгина169, а есть то, чего у Шульгина нет: настроение какого-то всепрощения, признания конечной моральной правоты, жертвенности, героизма, права на славу и покой за обеими героически дравшимися в Гражданской войне сторонами…170
Явственна смена интонации критика, сумевшего почувствовать в ранних вещах Булгакова черты будущего эпического мышления художника.
После совещания при Агитпропе сравнительно нейтральные, уж не говоря о положительных, оценки творчества «буржуазного реакционного писателя» стали невозможны.
Размежевание заканчивается. И оно отчетливо читается в новых лексических формах, быстро превратившихся в общеупотребительные. Если, по мнению либерального А. Лежнева, Булгаков всего лишь фрондер («его <…> талант, фрондерство и испуг рецензентов создали ему большую известность»)171, то с точки зрения многих пишущих – белогвардеец и контрреволюционер. Так, В. Блюм в статье «Дискуссия о „Ревизоре“» писал:
В разнузданной погоне за трюком Мейерхольд насочинил с три короба, обыватель совершенно ошарашен <…> «левизной» спектакля, только что ему показали в «Днях Турбиных» «белоснежного контрреволюционера», теперь – вытравили политику из «Ревизора»172.
Вслед за булгаковской пьесой МХАТ выпускает новую премьеру – «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. Сравнивая два спектакля, О. Литовский заявлял:
Эта постановка <…> является наилучшим собственным ответом театра на «Дни Турбиных». Чем скорее Турбины всех видов погибнут под Бронепоездом, тем лучше173.
Снятие кавычек превращало метафору в прямое высказывание: теперь речь шла о гибели людей, не персонажей.
Но зрители замечали: «Что таить: „Турбины“ сыграны и поставлены лучше, любовней, бережливей, чем „Бронепоезд“». Тут же студент МВТУ Коншин не без остроумия замечал: «Спектакль „Бронепоезд“ – это после „Турбиных“ переэкзаменовка МХАТ на идеологию»174.
Эм. Бескин писал:
Наиболее откатился назад Художественный театр. Это сейчас – определенно правое крыло. Это – театр еще живой переклички с создавшим его потребителем – буржуазно-демократической интеллигенцией, индустриальной плутократией, либеральной кафедрой Московского университета, родовито-мануфактурным особняком на Арбате…175
Нельзя не отметить точность характеристик тесных связей творчества Художественного театра со столичной элитой прежних десятилетий. Критик продолжал:
В Художественном театре мы видим процесс утверждения традиций. Когда после постановки «Лисистраты» московская пресса писала о «пожаре вишневого сада», хитроумный Немирович-Данченко лукаво подмигнул в одном из газетных интервью: «А земля-то осталась!»
И слова его оказались вещими. На «оставшуюся землю» вновь осторожно пробрался «Дядя Ваня» со своей «зойкиной квартиркой», со своим уютом «кремовых штор», со своей классической библиотечкой-орестейей, со своими племянниками и племянницами Турбиными…176
Похоже, что в годы появления приверженных коммунистической идее, но профессионально некомпетентных «красных директоров», создания рабфаков, массовых назначений на руководящие посты выдвиженцев «от станка» и «от сохи» университетская кафедра и классическая библиотека служили неопровержимыми доказательствами реакционности и «художественников», и их драматурга.
Порой к обвинениям присоединялись и интеллигенты старой, дореволюционной складки, не отказавшиеся от иллюзий. Так, руководитель ГАХН профессор П. С. Коган писал о том, что контрреволюционность пьесы проявляется в том, что герои Булгакова «тоньше чувствуют, глубже переживают», но драматург «совершенно не знает новых, созданных революцией, критериев человеческой личности, суровой походной красоты социальных битв»177.
Был еще вариант: обвинить автора в мещанстве и потворстве вкусам обывателя, лукавого народца, блюдущего свой интерес и трезво оценивавшего движения власти. Лояльные сочинители адресовались к какому-то иному зрителю, чей образ реял в лозунгах и плакатах, но в реальности отсутствовал. Люди избегали назидательности, в театре в том числе. К тому же обвинения в мещанстве плохо связывались с упоминаниями о чрезмерной образованности и высоком интеллектуальном уровне публики Художественного театра, предпочитающей «Турбиных» «Бронепоезду».
Среди писем К. С. Станиславскому сохранилось письмо зрительницы, отправленное летом 1927 года:
Пишу Вам, посмотрев ваш спектакль «ДТ». Я не могу обойти молчанием виденный спектакль. Приношу Вам мою глубочайшую благодарность не за виденное, а за пережитое, так как спектакль только смотреть нельзя, он слишком «родной», чтобы говорить о нем общими фразами. <…>
Побывав у «Турбиных», я испытала то же душевное состояние, что испытывает, верно, верующий мусульманин, побывав в Мекке.
Это ведь единственное слово правды, слышанное за последние десять лет178.
Еще один зритель, М. И. Китаев, писал В. В. Лужскому в том же июне:
Конечно, гвоздем являются «Турбины». Вас ругают за эту пьесу в газетах. Публика хвалит, мне лично понравилось все это, потому что, дело прошлое – был и я когда-то в белой армии. Правда, все кончилось иначе, чем у Турбиных… После тюрьмы лагерь, принудительные работы. Но какое сходство. Как верно. Переносишься в 1918–1919 год. <…> Мы были молодежь, а офицеры были хуже, чем у Вас. <…> Да, и кроме того не только «Дни» Турбиных, но и ночи – все последствия – лагерь, один, другой, таскали из одного сибирского городка в другой, хождение по мукам. Коли встретимся – поговорим. <…>
P. S. Я бы не хотел, чтобы это письмо сохранилось, и тем более попало в какой-нибудь архив театра. Уничтожьте его179.
Излишне констатировать, что Лужский письмо сохранил.
В 1927 году «Турбиных» сняли с репертуара. «Единственный раз, когда ГРК решил снять спектакль, невзирая ни на какие затраты театра»180. Сначала ненадолго. Журналы откликнулись на новость красноречивым и простодушным образом.
Подыхать нам с мерином надо, вот что! – так начинался горестный диалог двух московских извозчиков. – «Турбиных» в первом МХАТе сняли. – Да, ползаработка отняли! – Привставший за чайником седой извозчик падает на табурет. Страшная весть молнией облетает чайную… Смятение полное.
Молодой парень: Дело, конечно, страшное – весь прошлый год только «Турбины» и кормили, но, авось, бог не без милости…181
О том, что внакладе не только московские извозчики, свидетельствовал и В. Блюм:
А как больно ударило по бюджету МХАТ-1 отсутствие на сводной афише печальной памяти «Дней Турбиных», – конечно, не может золотым дождем просыпаться на мхатовскую кассу «Женитьба Фигаро»…182
Почему, собственно, финансовый успех одного спектакля не может сравниться с успехом другого, критик не объяснял.
Конец нэпа означал и конец многих свобод, и связанные с этим финансовые потери.
12 сентября 1927 года заведующий финансами МХАТа Д. И. Юстинов пишет докладную записку Станиславскому, в которой сообщает, что «исключение из репертуара „Дней Турбиных“, предполагавшихся к постановке не менее 70 раз в сезон, неминуемо очень тяжело отразится на доходной части бюджета театра»183. И 3 октября 1927 года Станиславский обращается к А. И. Рыкову:
Глубокоуважаемый Алексей Иванович. Мне очень стыдно беспокоить вас. Но я принужден это делать, чтоб спасти порученный мне Мос<ковский> Художествен<ный> академич<еский> театр. Он, после запрещения пьесы «Турбины», очутился в безвыходном положении, не только материальном, но и репертуарном.
Вся тяжесть работы снова пала на нас – стариков, и я боюсь за здоровье и даже за жизнь надрывающихся в непосильной работе старых артистов184.
Собственно, именно эта практическая, финансовая сторона театрального дела продлила жизнь и «Дням Турбиных», и «Зойкиной квартире» – эти спектакли кормили театры.
По самому скромному подсчету запрещение «Турбиных» дает нам до 130 000 убытка в сезон. Сейчас у нас ужасно с деньгами. <…> Вместе с тем ходят слухи, что на сегодняшнем заседании коллегии НКПроса на просьбу о «Турбиных» ответят отказом <…> Ведь в прошлом году пьесу в конце концов разрешил не Наркомпрос, а Политбюро. Стало быть, и в этом году надо будет туда обратиться185, —
резонно полагает опытная помощница Немировича-Данченко О. С. Бокшанская.
И А. П. Смирнов, поддерживая просьбу Станиславского, просит «изменить решение П. Б. по вопросу о постановке Московским Художественным театром пьесы „Дни Турбиных“»186. В Политбюро проходит опрос членов, и уже 10 октября спектакль позволяют возвратить в репертуар.
Иногда все же можно было встретить осторожные, не хвалебные, но и не клеймящие чрезмерно яркого драматурга отзывы – вроде призыва А. Кугеля на совещании в Наркомпросе к защите таланта187, либо свидетельство критика о том, что именно «Турбины» были в числе спектаклей сезона, «вызвавших интерес к театру со стороны самых широких слоев населения»188, либо упоминание о том, что Булгаков силен «своим техническим мастерством и значительной писательской культурой»189. То Л. Гроссман в докладе об исторических декадах развития русского театра заявит, что пьесы «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» «свидетельствуют о развитии современного театра»190, то Б. Гусман осторожно заметит, что постановка «Дней Турбиных» есть попытка сближения с современностью191. Точные формулы промелькнули даже у такого активного противника и МХАТа, и Булгакова, каким был молодой энергичный марксист В. А. Павлов, заметившего, что спектакль «сильно волнует зрителя и обнаруживает громадное мастерство как режиссуры, так и актеров» и что «Дни Турбиных» «не случайно заставили и еще долго будут заставлять серьезно думать о театральном деле, о его внутреннем механизме, о рекомендуемых системах, об «академических» истолкованиях и, наконец, о том значении, которое приобретает театр в наше время». «Дни Турбиных» «останутся навсегда документом эпохи культурного стыка»192. Наконец, простое и здравое соображение было высказано на страницах «Правды»: для привлечения талантливых писателей стоит «отказаться от того, чтобы плевать им в лицо»193.
Хотя они были редки, все же свидетельствовали о том, что иные мнения, иные оценки существовали в зрительской толще, в обществе, пусть и не были пропущены в пространство открытой публичности.
Будто материализовавшись из строк писателя, в 1926 или 1927 году во МХАТе появился один из тех «живых людей из стана врагов». Он передал для автора «Турбиных» письмо, которым, по свидетельству Е. С. Булгаковой, писатель дорожил и хранил долгие годы.
Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть <…> Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня мое прошлое – дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции проходят. Нэп, Кронштадтское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар, и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета…
Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство <…> Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлечением. Рабочие делегации – знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца… Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики <…> А самая идея!? Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее, и красивее.
<…> паршиво жить, ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить – это привилегия следующего за нами поколения…
Завершая письмо, автор просит Булгакова дать понять ему и таким, как он, – есть ли надежда на перемены.
Я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией194.
Под письмом подпись: Мышлаевский.
Идут месяцы 1928 года. «Дни Турбиных» по-прежнему имеют успех у публики, так же, как и «Багровый остров» в Камерном театре, и «Зойкина квартира» в Вахтанговском.
В один узел сплетаются и сугубо художественные, внутритеатральные, и практические, меркантильные, и – общественно-политические причины и проблемы.
Еще разрешаются и организовываются открытые публичные литературные и театральные обсуждения и диспуты, проходят «понедельники» с дискуссиями.
Но воздух холодеет, холодеет.
В связи с театральными «понедельниками» В. Блюм пишет специальную статью, где бьет тревогу:
Буржуазия ведет наступление. Она уже хочет чувствовать себя «как дома» – по-старому. Ей осточертели современные пьесы, которые напоминают ей о сегодняшнем дне, когда власть не в ее руках. И находятся ловкие люди, – негодует Блюм, – которые устраивают так, что, по крайней мере, один раз в неделю – по понедельникам195, – она имеет возможность наслаждаться старым репертуаром «дореволюционного качества» (в репертуар ставят старые пьесы, играют любимые публикой актеры и проч.). И отсюда, с этих понедельников, льется в советскую общественность немалая опасность, которую пора осознать196, —
заканчивает призывом к бдительности критик.
Через два с половиной года после премьеры соображения финансовые, до поры до времени продлевающие сценическую жизнь булгаковским сочинениям, подчинятся идеологическим требованиям.
Постановка «Дней Турбиных» обошлась в 21 400 руб. По сей день пьеса прошла 249 раз, дав 797 301 руб. сбора. «Багровый остров» <…> успел пройти 42 раза, дав сбору 49 011 руб. (постановка обошлась всего в 9000 руб.). Теперь, когда эти антисоветские пьесы, – сообщалось на страницах «Комсомольской правды», – превратились в «дойных коров», и притом коров тучных, мы считаем необходимым и снятие «Багрового острова», давшего урожай «сам-пять» <…> и «Дни Турбиных»…197
Похоже, что запечатленная на страницах «Записок покойника» сценка, когда стайка драматургов, идущих по Камергерскому переулку, натыкается на возмутительную афишу, где имя Максудова в репертуаре Независимого театра стоит в ряду с Эсхилом, Шекспиром, Бомарше и Сухово-Кобылиным, воспроизводит реальную ситуацию, описанную в ядовито-восхищенном фельетоне В. Черноярова198. Зависть братьев-писателей, безусловно, имела место и могла провоцировать на некие действия. Политика политикой, но ведь возмущали и гонорары! Среди тех, кто успешного автора не любил, оказался не только недавний приятель Булгакова, рядовой литератор Ю. Слезкин, оказались драматурги, облеченные разного объема властью, – Билль-Белоцерковский, Киршон, Левидов, Луначарский, Раскольников, Ромашов и др.
Особенно были возмущены роскошью авторских гонораров Булгакова авторы, пишущие для клубных сцен. В то время когда некоторым клубным драматургам «вовсе отказываются платить», «чуждый нам Булгаков зарабатывает десятки тысяч (за „Дни Турбиных“)»199. Деньги в чужом кармане пересчитывают тщательно, не упуская ни копейки. Размышление над тем, «почему нет хорошей массовой пьесы?» заканчивается возмущенной констатацией того, что
Булгаков как автор пьесы «Дни Турбиных», вызвавшей резкий отпор всей советской общественности своим антиреволюционным содержанием, зарабатывает по 6396 р. 17 коп. в течение трех месяцев, а драматург С., автор 15 советских пьес деревенского репертуара <…> получил 16 руб.!200
Еще раз уточняет цифру С. Разумовский:
Булгаков за «Дни Турбиных» получает примерно по 2000 руб. ежемесячно (по документальным сведениям МОДПиК), тогда как клубные авторы не имеют возможности получить «нищенский гонорар»201.
Как же было смириться с этим головокружительным успехом сонму не таких талантливых, зато значительно более лояльных, тех, кто, по-видимому, не мог осознать разницы между пьесами Булгакова и собственными творениями, состоящими, кажется, из таких же, тех же букв, кто получал жалкие гроши на фоне безусловного (и широко обсуждавшегося в определенных кругах) финансового процветания нелояльного автора. И некий А. Г. Чирков с горечью и возмущением сообщал публике, что Булгаков «получил за антисоветскую пьесу „Дни Турбиных“ авторский гонорар больше, чем все клубные авторы за 12 лет»202. Видимо, простая логика подсказывала ему, что уж за идеологически верные, «нужные советскому зрителю» пьесы точно следовало платить дороже!
Заработанные драматургом деньги обсуждали не только собратья по ремеслу (хотя их это волновало больше, чем прочих). Гонорарами интересовались и в ГПУ.
На допросе в 1927 году спрашивают, сколько и за что платят Булгакову из‑за границы «и не получает ли Булгаков гонорара за издание за границей его романов и пьес. <…> Допрос продолжался три часа»203.
Милиционер Гаврилов 22 августа 1929 года записывал:
Открытие сезона, как и было раньше назначено, будет 3/IX <…> В новом репертуаре нет уже «Дней Турбиных». <…> На последнем спектакле в помещении Второго МХТ на закрытии сезона шли «Дни Турбиных» в 289‑й раз. По окончании спектакля публика устроила настоящую овацию – бесконечные вызовы, не расходились в течение 35 мин.204
Сегодня понятны две вещи: «Турбины» попали на сцену в последний миг, несколькими месяцами позже они бы на сцену уже не вышли. И второе: некогда казавшиеся поразительными, почти комическими печатные отзывы на спектакль на деле имели отношение к корневым вопросам жизни страны. Не случайно все самые болезненные, рискованные темы так или иначе проникали в отклики рецензентов.
Еще и в 1930 году Б. Розенцвейг писал об опасности «Дней Турбиных» «с точки зрения психологического воздействия на зрителя»205, хотя спектакль давно снят. А годом позже театровед и театральный критик Н. Д. Волков напоминал, что «театральный дебют беллетриста Булгакова вызвал политическую бурю»206.
21 февраля 1931 года московский букинист Э. Ф. Циппельзон, в книжную лавку которого захаживал Булгаков, записывал в дневнике:
Только что пришел из Комакадемии. Диспут о новой пьесе Киршона «Хлеб» прошел вяло. <…> О самой пьесе говорили мало, больше спорили о том, какой должна быть настоящая пролетарская драматургия. <…> Как всегда, самое интересное – разговоры в кулуарах. Так, например, совершенно неожиданно для меня режиссер Судаков в споре с Ермиловым заявил, что он согласен с тем, что «Дни Турбиных» – реакционная пьеса. А ведь Судаков имя себе создал постановкой этой пьесы207.
Спектакль, ключевой метафорой которого на десятилетия стали пресловутые «кремовые шторы», одновременно был признан и безусловно политическим высказыванием.
Заметим лишь, что в 1910‑е годы, на которые пришлось становление Булгакова, интерес к политике был естественен для образованного человека, осознававшего себя гражданином Отечества. Это позднейшие советские поколения вступали в жизнь во времена разъедающего лицемерия, липкого страха и тяжелой апатии – и свое отстранение от общественной жизни страны привыкали воспринимать как единственно возможное.
Еще и спустя три десятилетия постаревший критик 1920‑х годов вновь подтвердит: «Пьеса занимает место не в художественной, а политической жизни нашей страны»208.
По стечению обстоятельств «Дни Турбиных» стали охранной грамотой Булгакова. Несмотря на то что вряд ли Сталина могли убедить несколько дописанных реплик (в монологе Алексея Турбина, обращенном к юнкерам в гимназии, и в финальном споре Мышлаевского со Студзинским), «демонстрации всесокрушающей силы большевиков» пьеса не предъявляла и предъявить не могла. Но и отказаться от наслаждения игрой актеров в спектакле Художественного, видимо, Сталин не захотел.
Поражает мощная иррадиация пьесы, оставшейся уникальным феноменом истории советского и постсоветского драматического театра. Спустя полвека режиссер-интеллектуал нового поколения Г. А. Товстоногов сказал, что, бывало, движение драматургии определяла пьеса, шедшая в одном-единственном театре. «Например?» – спросили его. – «„Дни Турбиных“»209.
Присутствовала ли политика в «сценах из борделя»
«Зойкина квартира»
Если бы не цензурно-идеологическое вмешательство, какой театр мог бы возникнуть в России 1920‑х годов! И этот театр опирался бы прежде всего на комедии. В середине 1920‑х, в самые свободные месяцы нэпа, среди прочих, писали комедии Булгаков и М. Зощенко, А. Копков и А. Завалишин, В. Шкваркин и Н. Эрдман. Но всем этим авторам инкриминировали, помимо легкомысленной смешливости и ничтожности тем, несколько неожиданно и идеологическую вредоносность.
В эти годы на сценах страны вообще много смеялись. Вышучиванию подвергалось все и вся: высокие чиновные и партийные персоны, отношение к советской власти и ее новым институциям – съездам, заседаниям Совнаркома, декретам. Острые и смешные реплики героев, иронизирующих над лозунгами дня, были неотъемлемой принадлежностью не только «чистых» комедий, они могли появиться в любой пьесе. Голос народа, с его трезвым и нередко ироническим отношением к событиям в стране и центральным властным персонажам, их действиям и речам, звучал в лучших драматических сочинениях 1920‑х.
Людям недостает смеха и шуток как витамина, как источника энергии, радости жизни. Успех имеют комедии, дающие драгоценную возможность ощутить перестраиваемую жизнь через быт, повседневность, не заслоняемую дежурным пафосом, с сильным комическим элементом.
В юморе «мнение» перестает быть мнимым, недействительным, ненастоящим <…> взглядом на вещи, каким оно представляется сознанию <…> «омассовленному», а, напротив, выступает единственно живой, единственно реальной и убедительной формой собственного (самостоятельного) постижения жизни человеком <…> Юмор дифференцирует, выделяет «я» из всех… —
много позже сформулирует Л. Е. Пинский в своей замечательной работе «Магистральный сюжет»210.
Из острых и смешных шуток героев в пьесах 1920‑х годов вырисовывался образ «другого народа», не столько безусловно энтузиастического, сколько лукавого, трезво оценивающего поступки властей, способного предвидеть развитие событий и упорно помнящего о своем интересе – подобно Аметистову в булгаковской «Зойкиной квартире».
Читка новой комедии в Студии им. Вахтангова прошла с большим успехом 11 января 1926 года. Р. Н. Симонов вспоминал позднее: «Я не помню другого такого приема комедии нашей труппой»211. Драматург вопреки газетным поношениям смешлив и любит театр.
В марте 1926 года «Зойкина квартира» репетируется параллельно работе над «Белой гвардией» (еще не «Днями Турбиных») в Художественном театре, где 26 марта прошел показ двух актов спектакля Станиславскому. Летом пьеса для вахтанговцев еще дописывается, а во МХАТе – мучительно корректируется спектакль.
Премьера «Зойкиной квартиры» состоялась через три недели после мхатовских «Турбиных», 28 октября. Еще не улеглись страсти и не все противники Булгакова-драматурга высказались о «белогвардейской» пьесе, как подоспел спектакль вахтанговцев, подкинувший дров в огонь газетно-журнальных обвинений.
Режиссер-постановщик А. Д. Попов стал первым интерпретатором пьесы. От его видения (понимания) вещи многое зависело. Активно делал предложения по переделке готовой (как казалось автору) пьесы еще и художественный совет театра.
Перед началом репетиций Попов, выступая перед труппой, сформулировал свое понимание героев так:
Что это за пьеса? Есть ли она комедия нравов или комедия о нэпе? Мы на это ответим отрицательно. Сердцевина пьесы в другом. Пошлость, разврат и преступление являются тем жутким треугольником, который замыкает в себе персонажей этой пьесы. <…> В «Зойкиной квартире» каждый актер должен быть прокурором своего образа212.
Попов стремится усилить сатирическое звучание пьесы, отстраняя от себя героев с их мучениями и драмами, вовсе не замечая возникающей в «Зойкиной» теме искушения и соблазна, ирреальности видений… Хотя устойчивый образ поэтики Булгакова – замкнутое, «волшебное», способное к неожиданным трансформациям пространство – рождается именно в «Зойкиной квартире» (по ремарке автора, свободно меняющего ракурсы видения зеркала сцены, от «крупного плана» персонажей – до точки зрения небесного наблюдателя городских площадей и дворов, «московский двор играет, как страшная музыкальная табакерка»). Позже «волшебная камера» зазвучит в комнате Максудова («Записки покойника»).
Небольшая, но очень информативная и напряженная переписка автора и режиссера сохранилась213.
16 июля 1926 года Попов пишет Булгакову о необходимости сократить пьесу, сделав из четырех актов три, подчинившись предложениям совета. Ответ Булгакова нескрываемо раздражен: «Я полагал, что я продал Студии пьесу, а Студия полагает, что я продал ей канву, каковую она (Студия) может поворачивать, как ей заблагорассудится». Автор объясняет сложившуюся структуру вещи и, ссылаясь на отзывы «квалифицированной, отборной, лучшей публики», обвиняет Попова в том, что 3‑й и 4‑й акты попросту не сыграны. Тем не менее обещает внести определенные изменения в текст. И заканчивает письмо:
Сообщите мне, наконец, будут Вахтанговцы ставить «Зойкину» или нет? Или мы будем ее переделывать до 1928 года? Но сколько бы мы ни переделывали, я не могу заставить актрис и актеров играть ту Аллу, которую я написал. Ту Зойку, которую я придумал. Того Аллилуйю, которого я сочинил. Это Вы, Алексей Дмитриевич, должны сделать214.
Попов отвечает драматургу по пунктам его упреков продуманным и спокойным, «увещевательным» письмом, сожалея, что «переутомление, нервность, а главное, Ваше недоверие к театру, в который Вы отдали пьесу, мешает деловой и продуктивной работе». Режиссер обещает, что пьеса «будет кончена в обычный для нас срок (три с половиной – четыре месяца)»215.
11 августа драматург пишет:
Переутомление, действительно, есть. В мае всякие сюрпризы, не связанные с театром, в мае же гонка «Гвардии» во МХАТе 1‑м (просмотр властями!) <…> в июле правка «Зойкиной». В августе же все сразу. Но «недоверия» нет. К чему оно? Силы Студии свежи, вы – режиссер и остры, и напористы (совершенно искренне это говорю). Есть только одно: вы на моих персонажей смотрите иными глазами, нежели я, да и завязать их хотите в узел немного не так, как я их завязал216.
Но режиссер смотрел на рассказанную Булгаковым историю принципиально по-иному.
Попов добавит неприятностей автору, когда за два дня до премьеры выступит в печати с критической оценкой «Зойкиной квартиры», сообщив, что
общественно-политические вопросы в пьесе недостаточно четко поставлены. Все, что говорят и думают действующие лица пьесы, не возвышается над «слухами», а подчас и просто анекдотом217.
Но хотя в этом спектакле не произошло слияния режиссера и автора, как это было с «Турбиными» во МХАТе, и А. Попов не был склонен искать доброго в злом, а напротив, подчеркивал и усугублял «отрицательность» героев – в частности, шаржировал образ главной героини, акцентировав ее национальность («А героине, Зойке, нос наклеили…»218), а в измененном Булгаковым (по настоянию театра) финале появлялись муровцы, арестовывавшие и предприимчивую хозяйку, и ее «гостей», – все же с привлекательностью, жизненной энергией, узнаваемостью действующих в пьесе персонажей поделать ничего было нельзя.
Обрушиваясь на спектакль, критика, кажется, помимовольно отмечала и остроумный авторский текст, и превосходную игру актеров (Ц. Мансуровой – Зойки Пельц, Р. Симонова – Аметистова, В. Поповой – Манюшки, А. Горюнова – Херувима), и выразительную, сложную музыкально-шумовую партитуру спектакля А. Козловского (он же играл графа Обольянинова), и завораживающие парижские платья Зойкиного «ателье» от Н. Ламановой.
Ю. Соболев (сам поставивший пьесу в Киевском театре русской драмы) писал, что пьеса – «пример поэтизации нравов, подлежащих бичеванию»219. Но даже противники Булгакова-драматурга, резко высказывающиеся о «Днях Турбиных», сбиваясь и противореча сами себе, то и дело сообщали о достоинствах премьеры вахтанговцев. О том, что «работа художника С. Исакова над оформлением спектакля очень интересно задумана и выполнена»220, что Мансурова, Симонов и Горюнов «прямо превосходны»221. Ж. Эльсберг писал:
Мансуровой удалось фарсовый персонаж поднять трагическим волнением. <…> В самом деле – эта сводня руководится в своей преступной деятельности главным образом желанием помочь любимому человеку. В своей «работе» она виртуозна. Зойка смеется, в сущности, надо всеми. Как глупы перед ней председатель домкома (несомненный, по Булгакову, представитель «комиссародержавия» – малый чин Аллилуйи только удобная ширма), коммерческий директор Гусь, которому советская власть платит 200 червонцев в месяц…
И уж совершенно неожиданная параллель приходит критику на ум:
Булгакову в превосходной игре Мансуровой удалось Зойку показать более сильной женщиной, чем театру ВЦСПС – Дашу в «Цементе»222.
Зоя Пельц, затеявшая свое предприятие на неуничтожимом стремлении людей к эросу, привлекшая влиятельного Гуся (который может обеспечить ей и ее возлюбленному, графу Обольянинову, заграничные визы) надеждой, что в Зойкином «ателье» появится кто-то, кто поможет ему справиться с тоской по любимой и не любящей его женщине Алле, сравнивается с фанатичной, кажется, вовсе отрекшейся от своего пола коммунисткой Дашей.
В самом деле, на фоне множества женщин-работниц, женщин-крестьянок, рабфаковок и комсомолок Булгаков и здесь идет наперекор привычному, делая главной героиней пьесы Зойку Пельц, женщину «прежнего времени». Ее не занимают ни производственные, ни идеологические проблемы, ее поступками движет любовь. Трезво оценивающая представителей новой власти («Чего хочет эта ваша шайка?» – с небрежной презрительностью спрашивает она у управдома), энергичная и обольстительная, Зойка свободно ориентируется в новых обстоятельствах, используя для достижения цели слабости нужных ей фигур.
Вахтанговцы играли спектакль о людях, сочувствуя и симпатизируя им. Сохранился характерный отзыв актера О. Н. Басова, написавшего:
Обрадовал бы меня О. Ф. Глазунов (игравший коммерческого директора Гуся-Ремонтного. – В. Г.), если бы смело, с момента обнаружения в модельщице своей невесты и до конца, перевел роль в драматическую плоскость. <…> Почему мы ни в одном почти спектакле не ценим возможности использовать драматическое положение или достичь хотя бы мгновенного обнажения человеческого существа?223
Симонов вспоминал, как азартно он репетировал Аметистова224, и зрители восхищенно отзывались о его герое как об «эликсире жизни».
Все это сообщает о том, что установка режиссера, пусть она и осталась прежней, актерами поддержана в полной мере не была. «Зойкину квартиру» играли актеры, вносящие в жесткую режиссерскую схему собственное отношение к персонажам, тем самым исподволь ее меняя.
Сведение человеческой сущности к ярлыку, не столь существенно какому именно, обозначение персонажа как «коммуниста» либо «нэпмана» никогда не было определяющим для актеров русской школы. И если критика обвиняла автора и театр в том, что темы «Зойкиной квартиры» «подсмотрены через окно притона, кабака, пивной»225, то актеры видели в своих героях человеческую боль, вызывающую сочувствие. Вызывал сострадание даже набитый червонцами коммерческий директор Гусь, чья история поворачивалась «такой человечески душевной драмой (уход от него глубоко любимой женщины), которая <…> как бы оправдывает и его гульбу, и презрение к деньгам»226. О лиризме в трактовке Зойки и Гуся позже вспоминала М. О. Кнебель227. В ожидании премьеры в Ленинграде, где «Зойкину» должен был впервые сыграть театр, писали, что и пьеса, и работа над ней в Студии имени Евг. Вахтангова «высоко расцениваются в театральных кругах»228.
Туго закрученная интрига пьесы (с понятной многим целью – вырваться из большевистской Москвы в чаянный, вымечтанный, сиреневый Париж), живые, а не ходульные герои, самоотверженность любви Зойки Пельц к потерявшему почву под ногами, слабому человеку древнего рода, чья семья живет на Остоженке с 1625 года, графу Обольянинову, неистребимая витальность и артистичное обаяние плута и авантюриста Аметистова, остроумие диалогов – все это привлекало зрительские сердца. Чему немало способствовал фон, на котором расцвел этот пряный и яркий цветок Вахтанговской студии: пьес «серьезных», рассказывающих о революции и Гражданской войне, было множество, комедии же были редки.
К тому же сочинения пролетарских драматургов профессиональные театры принимать к постановке не хотели: уж очень беспомощны были эти первые попытки начинающих литераторов. Слишком свежи в памяти пьесы, с которыми привыкли работать режиссеры и актеры лучших столичных трупп. Известны истории с пьесами В. Билль-Белоцерковского, Вс. Вишневского, В. Киршона, которые сцены академических театров отвергали. Не помогали ни рецензии Буденного (на пьесу «Первая конная» Вс. Вишневского), ни кампании в поддержку, ни реклама этих сочинений, разворачивающаяся на страницах газет и журналов.
Всего один, но показательный и красноречивый пример. В 1927 году театры готовятся к юбилейной дате Октябрьской революции. Два автора, А. Ф. Мокин229 и В. А. Трахтенберг230, объявляют о репетициях своей пьесы (героико-батального представления, с точки зрения авторов, и «синеблузной поделки» – по мнению недоброжелателей). Рассказ о будущем спектакле начинается с краткой информации: «К X-летию октября в бывш. Мариинском готовится постановка „Штурм Перекопа“…»231 Сообщения о ней появляются почти в каждом номере журнала «Рабочий и театр», причем становятся все более развернутыми.
Академический театр оперы и балета готовит <…> «Штурм Перекопа», в 10 картинах, Мокина и Трахтенберга <…> Текст разработан на основе подлинных исторических документов противоврангелевской кампании <…> Первая попытка дать батальное представление в свете классовой борьбы <…> Художником приглашен академик В. А. Щуко232.
Отмечены «подлинность» источников, верность общей установки («в свете классовой борьбы»), наконец, участие авторитетного участника («академик»).
Далее шаг за шагом освещается работа театра. Помимо авторов, в рассказы о подготовке будущего спектакля включается режиссер В. Р. Раппапорт233.
Запыленный автомобиль подвозит нас к расположению одного из полков доблестной Перекопской дивизии, – пишет он о первой встрече с будущими зрителями. – Согласно приказу <…> полк будет собран для слушания читки пьесы. <…> Легко и радостно говорить этому составу слушателей. В первых же двух картинах отмечаю 18 реакций смеха. Каждая фраза центрального персонажа представления, красноармейца Озерова, явно шевелит слушателей, рассказ о взятии танка (эпизод называется «Танька в баньке») – подлинный эпизод Каховских боев – идет под непрерывный хохот, возгласы одобрения… Нет, тысячу раз неправы те, кто утверждает, что место «Штурму Перекопа» в цирке или на манеже…234
То есть подобные отзывы уже случались.
Детально и красочно описана Раппапортом вся автомобильная поездка, общение авторов пьесы с участниками боев, настойчиво повторена высокая оценка красноармейцами литературного текста предстоящего спектакля.
Следующий важный этап: «Штурм Перекопа» обсуждают рабкоры.
22 августа на рабкоровском объединении при журнале <…> состоялась читка. Необходимость и ценность возобновления в наши дни жанра героико-батального представления отмечалась решительно всеми участниками прений, – с такой оптимистической ноты начинается отчет. Но дальше следуют оценки негативные. Красная и белая армия показаны схематично <…> За исключением красноармейца Озерова и еще двух незначительных эпизодических персонажей, Красная армия представлена в лице ее верхушки – Фрунзе, Буденного <…> которые даны как голые схемы, лишенные человеческих черт <…> говорят казенными фразами воинских приказов —
и т. д. Показ же белой армии
ограничивается лишь генеральскими балами да сценами в церкви и в кабинете у Врангеля… «Штурм Перекопа», конечно, не драматическое произведение, это, скорее, инсценированная эпопея, воспоминания, мемуары <…> агитка, но агитка, прекрасная своей яркостью235, —
не совсем уверенно заканчивает автор заметки.
Но штурмовать Перекоп в 1927 году не представлялось актуальной задачей. Времена агиток миновали, и профессиональные театры их избегают. Тем не менее сочинение, создаваемое абсолютно верным путем, с соблюдением военной субординации и обсуждениями в среде участников описываемых событий, определение жанра которого рабкоры дать затруднились, поступает в театр.
Следующий номер журнала приносит читателям хорошо обдуманную, по-видимому, статью авторов будущего спектакля.
Мы писали с большим увлечением, – сообщают они, – потому что считали, что такая пьеса про Перекоп (независимо от художественных достоинств или недостатков) нужна советскому зрителю (выделено мною. – В. Г.).
Удачная, спасающая положение формула найдена. Она будет верно служить авторам беспомощных конъюнктурных произведений на протяжении всех десятилетий советской истории. Авторы продолжают: «В нашей пьесе нет отдельных героев <…> у нас в пьесе нет обычной фабулы… Мы отказались <…> от всяких внутренних переживаний». Далее следует ссылка на положительный прием пьесы бойцами 51‑й Перекопской дивизии, Буденным и Луначарским. Заканчивается статья характерным образом: «Теперь пусть нас судит зритель – но зритель, не отравленный эстетством и чванством, а настоящий, здоровый, чувствующий жизнь и ее радости»236. Нельзя не восхититься продуманностью действий авторов спектакля, не только умело выстроивших защиту своего творения, но и перешедших в нападение.
Пьеса вот-вот выйдет на сцену, далее ее скрывать ее невозможно, но кажется возможным и достижимым соответствующим образом настроить зал. По-видимому, трезво оценивая свое творение и предвидя неуспех спектакля, его авторы превентивно атакуют еще не пришедших в театр зрителей, пытаясь заклеймить и скомпрометировать публику, обвинив ее в нездоровом эстетстве.
Слово предоставляется режиссеру.
В спектакле нет фабулы и интриги, – продолжает Раппапорт сообщенное прежде авторами текста. – В работе я отказался от режиссерско-актерских трюков <…> без щеголяния паузами претенциозного «как» <…> Монтировка лиц и картин пьесы сведена мною к простейшему… Удара на портретность также нет…237
Картина нарисована полная и не оставляющая места для сомнений в результате.
46‑й номер журнала выходит с передовой «Блестящие итоги», где сообщается:
Четыре премьеры – четыре горящие страницы Великой Октябрьской революции <…> В художественной и величавой форме отражены основные моменты величайшей в мире революции <…> Театр победил зрителя238.
Чтение второй половины того же номера журнала со всей убедительностью свидетельствует о том, что две премьеры из четырех потерпели провал. «Штурм Перекопа» не спасла и сцена «Таньки в баньке». Передовая же, по-видимому, писалась заранее, и ее победные интонации уже не могли быть откорректированы.
Как писал Булгаков, «выяснилось то, что я знаю давно, а некоторые еще не знают: для того, чтобы что-то сыграть, надо это что-то написать». Не написанное – не сыграешь.
Попав в неловкое положение, рецензент начинает издалека: «Пьесе с самого начала повезло…» Далее вкратце напоминает читателям, как она была принята наркомами и красноармейцами. И только потом переходит к сути: «И лишь когда присмотрелись внимательно <…> когда на большой сцене <…> обрисовались существеннейшие недостатки пьесы – многие руками развели…»239
Из четырех премьер, о которых шла речь, успешными стали «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова в Художественном театре и «Разлом» Б. Лавренева в БДТ.
В «Зойкиной квартире», напротив, как в старину, увлекала фабула и жила интрига, создавались «режиссерско-актерские трюки», а драматург вовсе не собирался отказываться «от внутренних переживаний». Комедия рассказывала о сегодняшнем дне, позволяла сочувствовать героям, при этом изобиловала остротами и шутками, не требовала натужного пафоса. И театр – играл, радуя зрителей.
Опираясь на свидетельства мемуаристов, в том числе актеров (М. Д. Синельниковой, Р. Н. Симонова, М. О. Кнебель), и судя по долгой, несмотря на все помехи и запрещения, жизни спектакля, тревога автора за судьбы героев и сострадание им до зрительного зала доходили и благодарно им разделялись. Один лишь режиссер, кажется, воспринял успех спектакля со смешанными чувствами, не разделив радости от успеха спектакля с его участниками.
Б. В. Щукин (в «Зойкиной» он играл второстепенного, но запоминающегося персонажа – «Ивана Васильевича из Ростова») оставил замечания по спектаклю, многое проясняющее в его успехе. 19 октября 1927 года он смотрит спектакль впервые:
На меня он произвел впечатление очень крепкого <…> по ансамблю, интересного театрально и совершенно блестящего местами по актерскому мастерству.
Сцены: Аллы с Зойкой, Аметистова с Ивановой, приход Гуся и до конца акта <…> дуэль китайцев, сцена Аметистова с графом (вершина блеска спектакля), сцена с момента убийства Гуся и до выхода гостей доставляют настоящее наслаждение четкостью, легкостью, серьезом, сочностью рисунка; словом, здесь истинное мастерство и прекрасный вкус.
Далее Щукин говорит об отдельных ролях, сообщая свои соображения актерам.
Б. Е. Захава (Аллилуйя). Не играть взяточничество так многозначительно. Ведь он берет взятки везде, поэтому привык и делает это мимоходом.
Р. Н. Симонову по 1 акту советую крепче взять задачу устроиться всеми правдами и неправдами в должности администратора и только во имя этого так или иначе вести себя в квартире Зойки.
А. Д. Козловскому – не надо графу замечать юмора своего положения <…> мягче и меньше мелких движений.
Ц. Л. Мансурова везде серьезна и прекрасно играет.
В. Ф. Тумская (Алла) – хорошо. Советую к темпераментным местам подбираться заранее и не бояться их. «Ах!» – встреча с Гусем и «Сдохну, а сбегу!» – не звучат.
И. М. Рапопорт (толстяк). Следовало бы включить в образ (добродушия и покоя) местами острый глаз и острую фразу. Это подчеркнуло бы профессию (сотрудника органов, пришедшего арестовывать гостей Зойкиного «ателье». – В. Г.)240.
После стенограммы разбора Щукина оставлена краткая запись А. Д. Попова: «Со всеми замечаниями Б. В. Щукина согласен»241.
Хотя в 1926 году был выпущен секретный циркуляр за подписью П. И. Лебедева-Полянского, в котором сообщалось, что «пьесы Булгакова „Белая гвардия“ („Дни Турбиных“), „Зойкина квартира“ разрешены только в определенной трактовке для города Москвы, для постановки в провинции запрещены категорически»242, в отличие от «Дней Турбиных», «Зойкина» шла во многих городах страны: в Ленинграде, Тифлисе, Баку, Симферополе, Риге, Свердловске, Киеве и др. В Баку она прошла около 50 раз, в Тифлисе – 36, что для провинциальных театров было большим успехом. Писали же о ней с презрительно-опасливой интонацией: «скользит по поверхности современных бытовых явлений»243, «играет на низменных инстинктах массы»244. Но эта пошлая «зарисовка накипи НЭПа»245 тем не менее расценивалась как «далеко не безопасная вещь в смысле своего идеологического воздействия на зрителя»246. В спектакле герои жили своей жизнью, имели свои цели, отличные от провозглашенных властью, позволяли себе рискованные шутки и, уворачиваясь от обстоятельств, любили, мучались и радовались.
Говорить о каких-либо содержательных дискуссиях по поводу «Зойкиной квартиры» не приходится. Общим мнением стало то, что на сцену выплеснулась мутная накипь нэпа. Критики сошлись в том, что комедия написана в стиле «пошлейших обывательских анекдотов и словечек»247. «Знакомая московскому зрителю насквозь мещанская идеология этого автора здесь распустилась поистине в махровый цветок»248, – так оценивал спектакль вахтанговцев В. А. Павлов. Н. Д. Волков отозвался о премьере как о «несчастье молодого театра»249. Все мыслимые пределы, допустимые на страницах печати, перешло выступление С. Якубовского: «Литературный уборщик Булгаков ползает по полу, бережно подбирает объедки и кормит ими публику…»250
Под заголовком «Париж на Арбате» К. Минский писал:
Таможенная стража зорко охраняет границы СССР, а в то же время в Москве, на сцене государственного академического театра, актеры разыгрывают пьесу, контрабандой проникшую на советскую сцену…251
А. Глебов обвинял Булгакова в том, что он приглашает зрителя «посочувствовать бедным приличным дамам и барышням, в столь тяжелое положение поставленным большевиками»252.
И точно так же, как и в случае с «Днями Турбиных», упреки в мещанстве и пошлости соседствовали с обвинениями в контрреволюционности. О «Зойкиной» высказываются энергично и недвусмысленно:
Горьким смехом смеется Булгаков. Таким, каким смеются перед лицом своей политической смерти, – сообщал Н. Боголюбов. – В смысле социально-политическом булгаковские пьесы – это <…> попытка проехаться по лицу советской власти и коммунистической партии253.
Блюм подхватывал: Театр им. Вахтангова «успешно спекульнул на весьма двусмысленной в идеологическом отношении пьесе „Зойкина квартира“»254.
Если понимать «политику» как то, что, пусть опосредованно, определяет повседневную жизнь людей, то, бесспорно, она прочитывалась и в рискованных репликах Аметистова, и в упоминаниях о недавних, нашумевших на всю страну событиях (вроде расстрела 26 бакинских комиссаров, о котором ходили темные слухи), либо – в угрозах ссылки на Колыму, либо, еще ближе и проще, – в осведомительской функции обычного управдома Аллилуйи, который, презрев приватность частной жизни обывателя, «всюду может проникнуть».
Подводил итоги и делал выводы Мейерхольд. В докладе, прочитанном в Главполитпросвете, он заявил: «„Зойкина квартира“ гораздо опаснее „Дней Турбиных“»255.
Спектакль (но не пьесу) пытаются защитить. Как и в случае с «Турбиными», прибегают к приему отстранения драматурга от своего детища на сцене. В обзоре «По московским театрам» сообщается, что «артисты играют очень хорошо, создавая выпуклые фигуры в этой дешевой и пошлой хронике происшествий»256. В другом журнале читаем:
…потенциально-остренькую, псевдосовременную тему, изготовленную приемами газетного фельетона, для обывателей <…> режиссура пыталась спасти, но потерпела крушение257.
Но отзыв сопровожден неожиданной врезкой:
Мнение М. Загорского о постановке «Зойкиной квартиры» является его индивидуальным мнением, которого редакция не разделяет. Взгляд редакции на пьесу будет напечатан в следующем номере.
И в самом деле, в следующем номере печатается рецензия, отделяющая идеологически сомнительного и пошлого автора от усилий театра:
…После напряженной работы молодого коллектива <…> пьеса в конце концов нейтрализована от тонкой недоброжелательности к современности <…> изумительное мастерство коллектива <…> покрывает своей работой почти никчемный, ненужный и отчасти даже вредный сюжет «Зойкиной квартиры». Спектакль проникнут правдой чувств258.
Положение, как можно предположить, усугублялось тем, что «Зойкина квартира», как и «Турбины», пользовалась устойчивым зрительским успехом, что сказывалось на суммах авторских гонораров. О. С. Бокшанская сообщает Немировичу-Данченко: «…в Москве сейчас сборы делают только пьесы Булгакова»259. И продолжает: «Из 3‑й Студии <…> мне сказали, что дела их очень хороши. „Зойкина квартира“ дает им аншлаги»260.
По кассовым сборам в эти месяцы конкурентом Булгакову выступает один только Тренев с «Любовью Яровой», но «пьеса-победительница – „Зойкина квартира“»261, – констатирует критик. Центральная комиссия по изучению зрителя московских театров проводит анкетный опрос и выясняется, что среди «наиболее понравившихся» спектаклей прошедшего сезона «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира»262.
В афише Театра им. Вахтангова «Зойкина квартира» появляется так же часто, как и «Турбины» в Художественном. Система проката спектакля близка к бродвейской, его играют чуть ли не через день, так что когда 13 мая 1927 года вахтанговцы закрывают сезон, спектакль «Зойкина квартира» идет в 90‑й раз263.
Безусловно, как и в случае с «Днями Турбиных», существовало множество частных точных и глубоких откликов – но они оставались в письмах и дневниках, о которых автор, осыпаемый оскорблениями и упреками, знать, скорее всего, не мог.
По-моему, это блестящая комедия, богатая напряженной жизненностью и легкостью творчества, особенно если принять во внимание, что тема взята уж очень злободневная и избитая и что игра и постановка посредственны. Жаль, что его писательская судьба так неудачна, и тревожно за судьбу его человеческую264, —
писала приятельница М. А. Волошина О. Ф. Головина. Интересно, что этот отзыв о «блестящей комедии» содержал оценку работы театра как «посредственную». Это подтверждало реплику замученного автора, сказавшего о «Зойкиной» на сцене: «Пьеса выхолощена, оскоплена и совершенно убита»265. Но, по-видимому, это было не совсем так.
Арлекин советского времени – Аметистов, его Коломбина – Зойка Пельц, наконец, печальный Пьеро, граф Абольянинов (так изменит фамилию персонажа Булгаков во второй редакции пьесы 1935 года), – это трио героев, в которых преобразились классические маски старинной комедии, вызывало у зрительного зала живые, сегодняшние чувства сопереживания и радости узнавания. Между тем пьеса затрагивала темы совсем не смешные. Она рассказывала о приключениях обывателя, вынужденного спасаться от притязаний на его жизнь и свободу властей любого сорта, выразительно запечатленных и в повествованиях неунывающего Аметистова, и в словесных дуэлях Зойки с управдомом Аллилуйей (в редакции 1935 года сменившем фамилию на Портупею), корыстным и беспринципным соглядатаем, должностным лицом при исполнении.
Частная жизнь пыталась вырваться из-под контроля и насилия, давления государственных установлений. Вечные типы – Арлекин, Пьеро, Коломбина – влюблялись и страдали, шли на обман и жертвовали собой и радовались жизни вопреки обстоятельствам.
Но критики Булгакова-драматурга не сдавали позиций. Споря с П. Марковым, полагающим, что каждый художник познает мир своими путями, В. Блюм вопрошал: «Но сейчас – неужели значительны и ценны были бы пути познания современности какого-нибудь <…> нового Булгакова?»266 На что строптивая театральная публика не только ответами на анкеты, но и очередями в кассу давала безусловно утвердительный ответ.
В те же осенние недели Рыков обращается к Сталину:
Коба! Вчера был в Театре Вахтангова. Вспомнил, что по твоему предложению мы отменили решение реперткома о запрещении «Зойкиной квартиры». Оказывается, что это запрещение не отменено267.
И 21 февраля 1928 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение:
Ввиду того что «Зойкина квартира» является основным источником существования для Театра Вахтангова – разрешить временно снять запрет на ее постановку268.
Интересно, что эта выписка из протокола заседания идет под грифом «Строго секретно».
И в тот же день, 21 февраля 1928 года, Булгаков подает прошение о заграничной поездке (поясняя, что это нужно ему для работы над «Бегом», где один из «снов» протекает в Париже). А 22 февраля в ОГПУ поступает донесение:
Непримиримейшим врагом Советской власти является автор «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры» М. А. Булгаков, бывший сменовеховец. Можно просто поражаться долготерпению и терпимости Советской власти, которая до сих пор не препятствует распространению книги Булгакова (изд. «Недра») «Роковые яйца». Эта книга представляет собой наглейший и возмутительнейший поклеп на Красную власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча родились грызущие друг друга гады, которые пошли на Москву. Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице.
Как эта книга свободно гуляет – невозможно понять. Ее читают запоем. Булгаков пользуется любовью у молодежи, он популярен. Заработки его доходят до 30 000 р. в год. Одного налога он заплатил 4000 р.
Потому заплатил, что собирается уезжать за границу.
На днях его встретил Лернер269. Очень обижается Булгаков на Советскую власть и очень недоволен нынешним положением. Совсем работать нельзя. Ничего нет определенного. Нужен обязательно или снова военный коммунизм, или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, должен сделать крестьянин, который наконец-то заговорил настоящим родным языком. В конце концов, коммунистов не так уж много (и среди них много «таких»), а крестьян, обиженных и возмущенных, десятки миллионов. Естественно, что при первой же войне коммунизм будет вымещен из России и т. д.
Вот они, мыслишки и надежды, которые копошатся в голове автора «Роковых яиц», собравшегося сейчас прогуляться за границу. Выпускать такую «птичку» за рубеж было бы совсем неприятно270, —
заканчивает донос осведомитель.
Важно отметить, что агентурные донесения – это не голос власти, а голос среды, окружения, нередко – ближнего, писательского круга271. Это всего лишь мнения либо советы, но их интонации устойчиво обвинительные, подозревающие, уличающие.
Приведенные агентом слова Булгакова поразительны и вновь подчеркивают безусловную включенность писателя в проблемы страны. Он, который не раз говорил, что не знает крестьянской жизни и потому не может о ней писать, видит реальную угрозу новой власти именно со стороны «обиженных», обманутых крестьян, не получивших обещанного. Рассуждать о том, что коммунистическую власть хотят и могут уничтожить, о возможном новом, крестьянском, перевороте накануне коллективизации было опасно. И если все это говорилось писателем на публике – значит, опасность не была им по-настоящему осознана. Прозвучала и еще одна нежелательная тема – немногочисленность коммунистов. Их и впрямь было немного. Когда годом позднее сотрудников ГАХН обвинят в «некоммунистичности», руководители сообщат, что коммунистов в Академии, насчитывающей около ста сотрудников, всего-то шесть. А в беседе с украинскими писателями 12 февраля 1929 года Сталин приведет точную цифру, объясняющую соотношение сил: «У нас стосорокамиллионное население, а коммунистов только полтора миллиона»272.
За границу Булгакова не выпускают, в театральные дела вмешивается Главрепертком, и «Зойкину» снимают. Ненадолго.
В следующем сезоне новый председатель Главреперткома Ф. Ф. Раскольников писал:
Решительную борьбу нужно вести против нездоровых течений, развращающих вкус широких масс театральных зрителей и дающих ложную установку в работе театра, например, постановок типа «Зойкиной квартиры»273.
Не успокаивалась и пресса, пьесу и ее автора продолжали ругать, переходя от поношения спектакля к выводам о губительном общественном влиянии ее автора.
Булгаковщина – нарицательное выражение буржуазного демократизма, сменовеховства в театральном творчестве – составляет ту классовую атмосферу, в которой сейчас предпочитает жить и дышать буржуазный интеллигент в советском театре274, —
констатировал И. Дорошев. Нет, кажется, такого оскорбительного и пугающего ярлыка, которого не пытались бы использовать по отношению к драматургу. Авербах даже отнес его к «черной сотне», что вызвало отповедь интеллигентного А. К. Воронского (еще возглавлявшего журнал «Красная новь»)275.
Год за годом Булгаков пишет историю современной России, фиксируя события, меняющие лицо страны и человеческие типы. Воспринимавшаяся многими некогда пьеса как сатира на нэп, пустой смех пересмешника, сегодня видится по-другому. Пьеса, появившаяся одновременно с «Днями Турбиных» и предваряющая «Бег», – все о той же сломанной жизни, о тех же утративших почву под ногами людях. Если «Бег» рассказывал о тех, кто уехал, то «Зойкина» – о тех, кто остался. В комедии проступали устойчивые булгаковские темы: беззаветность чувства (Зойка) и верность себе (Обольянинов), артистический дар прирожденного шута, соединенный со стремлением выжить, увернувшись от любых сверхидей (Аметистов276), наконец, искренние человеческие привязанности поверх социальных барьеров (отношения Манюшки и Зойки).
Но любя своих героев, Булгаков тем не менее видит их со всей трезвостью. Во имя любви – Алла идет в публичный дом. Пытаясь сохранить честь – граф принимает чаевые. Стремясь к свободе, Зойка и граф кончают тюрьмой. По глубинной своей сути «Зойкина», как и «Бег», – размышление о взаимосвязи средств и целей. Зойка совращает Аллу ради спасения Обольянинова, Хлудов в «Беге» казнит во имя «единой и неделимой» России. Но начав с репрессий, оправдываемых серьезностью, даже величием цели, Хлудов кончает тем, что вешает солдата за слова правды о себе. А Зойка, устроительница сравнительно безобидного «салона», приходит к невольному соучастию в убийстве.
В 1929 году И. М. Нусинов оценивал творческий путь писателя в целом:
Реабилитацию прошлого Булгаков дополнил дальнейшим диаволизированием советского настоящего, одновременно с драмой «Дни Турбиных» он ставит комедию «Зойкина квартира». Драма – последние дни Турбиных, трагически погибающих под звуки «вечного Фауста». Комедия – притон, где ответственные советские люди проводят свои пьяные ночи, и носитель рабочей демократии – представитель домкома берет взятки и укрывает притон277.
Критик оставлял за скобками вопросы, очерняет ли драматург непорочных «ответственных советских людей» и берет ли на самом деле взятки «носитель рабочей демократии». Интонационно фраза прочитывается как отрицание этих явлений в реальности («диаволизирование» упомянуто не зря).
И в том же году вновь вспоминает о булгаковских пьесах Ф. Раскольников:
Огромным плюсом минувшего сезона является сильный удар, нанесенный по необуржуазной драматургии запрещением «Бега» и снятием Театром Вахтангова «Зойкиной квартиры»278.
Время менялось, катилось, уходило, прошлое переставало помниться. Все дальше отлетало «буржуазное», «старорежимное» прошлое, с отзывами вдумчивых рецензентов (имена А. В. Амфитеатрова, Л. Я. Гуревич, А. Р. Кугеля, А. М. Эфроса знают театралы), в которых рассказ о художественной ткани спектакля соединялся с естественным уважением и интересом к творящим сценическое зрелище людям. Упрощался самый ход рассуждений, наступала эпоха биполярных суждений о явлении: полезное – вредное, советское – антисоветское…
«Зойкина квартира» будто попала в щель между двумя более громкими булгаковскими сочинениями – «Днями Турбиных», волнение по поводу которых у зрителей и рядовых, и высокопоставленных не утихало, – и уже написанным «Бегом».
Следующая пьеса, «Багровый остров», отодвинула «Зойкину квартиру», многим показавшуюся обычным вышучиванием злободневной повседневности и всем известных нэповских персонажей, на третий план.
Несвоевременное напоминание о свободе творчества
«Багровый остров»
В 1927–1928 годах нэп движется к концу. При чтении пьес в хронологическом порядке хорошо видно, как «осерьезнивается» видение мира, как уходит комизм, исчезают сатирические элементы, нарастает пафос и все жестче становится структура драмы.
В атмосфере непрекращающейся газетной травли Булгаков пишет «Багровый остров» – как ответ всем противникам сразу. Он переводит конфликт в сферу художественной театральной игры, но игры отважной и опасной. Пьеса предлагает взглянуть на себя в зеркале сцены людям серьезным и шутить не любящим, то есть драматург переходит из обороны в нападение. Отыскивает и вызывающее название: «Багровый остров» – остров, залитый кровью.
Пьеса предназначена для Камерного театра.
Третья заметная московская сцена завоевана драматургом.
Булгаков как-никак надежда русского театра. Нет театра, который бы не собирался поставить его пьесу. От Художественного до Камерного через Третью Студию лежит триумфальный путь этого драматурга. Театры, не получившие его пьес, чувствуют себя наказанными, как дети без сладкого279, —
иронически, но, кажется, будучи не в силах скрыть реальное положение вещей, пишет рецензент.
Договор на «Багровый остров» подписан задолго до премьеры «Дней Турбиных» во МХАТе, 30 января 1926 года280, и в феврале «Новый зритель» подтверждает, что в планах Камерного – постановка «Багрового острова», хотя пьеса существует пока что в виде идеи (правда, уже написан фельетон по мотивам жюльверновских произведений, из которого и вырастет комедия281). Это означает, что А. Я. Таиров в полной мере оценил нового автора и спешил заручиться его будущим сочинением. Любопытно, что в печати проскользнуло сообщение, что Камерный театр отклонил приглашения на гастроли в США и страны Европы – в связи с «большой внутренней работой»282, в частности, связанной с постановкой «Багрового острова». Это не помешало режиссеру критически отозваться о «Днях Турбиных», сообщив, что
«Белая гвардия» МХАТа контрреволюционна не благодаря политически-слащавому отношению к нашим классовым врагам, а за ее мещанскую сущность, за специфически-вульгарный привкус под Чехова283.
(и Булгаков хранил вырезку с этой фразой в своем домашнем архиве, она вклеена в «Альбом газетных вырезок»). Мнение было высказано осенью 1926 года во время диспута «Перспективы театрального сезона»284, но никак не повлияло на решение драматурга заключить и исполнить договор. Можно предположить, что при прямом контакте с Таировым произошло нечто, заставившее Булгакова поверить в режиссера. Да и как будет сказано Максудовым в «Записках покойника», «писать пьесы и не играть их – невозможно», а сцена Камерного театра была одной из самых заметных в Москве.
В сентябре Таиров рассказывает о работе над будущим спектаклем в жанре «современной буффонады»285 по пьесе «Багровый остров», которую, как сообщает режиссер, завершил автор. Ну, или почти завершил.
«Багровый остров» – второй булгаковский опыт самоинсценировки: он использовал свой старый рассказ, насытив его фразами и реалиями из двух открывшихся ему важных сфер – театрального закулисья и цензурного вмешательства. Теперь в центре сюжета – цензура и приспособленчество.
Пьеса написана с какой-то задорной, задиристой интонацией. После «Бега» (уже отданного МХАТу) театру предложены никакие не сны, а самая что ни на есть явь. Явь, вызывающая иронию и даже насмешку, с которой сцена обращается к цензуре, высмеивая ее простодушную примитивность. Здесь нет ни мистики, ни видений – вот он, Савва Лукич, во плоти и крови, объемное и самовлюбленное воплощение угрозы всему живому. На его фоне, из‑за тупости его реакций, реплик и поступков, даже не самый лучший театр с не самыми благородными актерскими индивидуальностями выглядит ярким и дышащим, переливается и сверкает остротами и (присвоенными) репликами литературных персонажей. Театр – создает зрелище, Савва Лукич ничего создать и придумать не может, зато в его силах возвращать рожденное – в несуществующее, то есть убивать. Бывалому и тертому, предприимчивому и энергичному директору театра нетрудно обвести старика-зануду вокруг пальца и купить грубой (хотя и находчивой) лестью, но ведь придет еще один, и еще… В «Багровом острове» демонстрируются две реальности: одна – живородящая, творческая, другая – распространяющая мертвечину. Так, будто шуткой и легкой безделкой, в драматургию Булгакова входит тема творчества и его невольного и органического противостояния омертвляющему надзору.
Конъюнктурный сочинитель Дымогацкий и опытный режиссер Геннадий Панфилович срочно должны показать генеральную репетицию еще не читанной актерами пьесы цензору, вечером отбывающему в отпуск. Ну что ж, бывает и такое. Но драматический и острый смысл придает пародийной по замыслу и сути пьесе не спешно пересочиненный финал с непременной мировой революцией, а неожиданно вырвавшийся у незадачливого драматурга вопль о своей жизни. Взмывая над собственной судьбой, он обнаруживает человеческое страдающее лицо и, кажется даже, высокие замыслы. Во вполне комическом повествовании открывается щель в драму, в рутину актерских привычно-чужих реплик врывается клочок настоящего, реального чувства. Будто в пародию случайно входит персонаж совсем другой пьесы.
Заметим, что ко второй половине 1920‑х годов пародия, строящаяся на иронии, то есть сильнейшем субъективистском приеме, изгоняемая из актуальной отечественной литературы как самостоятельный жанр, отыскивает себе место во второстепенных эпизодах. В пьесах усложняются фигуры периферии, смысл произведения смещается на обочину фабулы. Но в «Багровом острове» пародия выведена в центр комедии, именно она организует сюжет.
Рукопись комедии передана в театр 4 марта 1927 года286. К этому времени Таирову хорошо известны многочисленные высказывания о политическом лице Булгакова-драматурга. Но судя по всему, театр и автор надеются, что все обойдется. Весной 1927 года Таиров выступит с речью, в которой защитит и «Дни Турбиных», и «Зойкину квартиру»287. А через полгода, в ноябре, переживет скандал из‑за другого своего спектакля – постановки пьесы М. Ю. Левидова «Заговор равных», снятой через неделю после премьеры.
Решив принять в репертуар пьесу изруганного автора, Таиров идет даже на то, чтобы надавить на худсовет театра (по-видимому, состоящий из непрофессиональных людей), пригласив к голосованию актеров. И эта история благодаря обиженному маневром режиссера рабкору А. Данилову становится достоянием прессы288.
Как складывается в летние недели 1927 года общественная и историко-политическая ситуация в России?
На пленуме исполкома Сталин заявляет о начавшемся за границей «походе против коммунистов», и 1 июня ЦК ВКП(б) призывает трудящихся готовиться к войне. (За границей подобным обвинениям немало изумляются.) Но кампания затеяна не для обороны от мифической угрозы извне, она направлена на разгром внутрипартийных сталинских противников. «Чтобы укрепить тыл, надо обуздать оппозицию теперь же, немедля»289, – ставит задачу вождь. Начинаются аресты «бывших людей» – оставшихся в России дворян, промышленников и оппозиционеров.
О вреде цензуры и необходимости свободы мысли и слова говорить совсем не лучшее время. Тем более спектакль стал неуместным спустя полтора года, осенью 1928 года, когда реалии нэпа исчезали с пугающей быстротой.
В СССР растет безработица, а вместе с ней – число забастовок и подпольных кружков.
В 1927 году, году начала агонии нэпа, ситуация постепенно становилась все серьезнее и серьезнее. Осенью, в то время как партия, раздираемая конфликтом между сталинским большинством и единой левой оппозицией во главе с Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым, готовилась к торжественному празднованию десятой годовщины Октябрьской революции, признаки кризиса и неблагополучия стали множиться по всей стране290.
В декабре (2–19) пройдет XV съезд ВКП(б), закрепивший победу Сталина. На нем объявлен курс на коллективизацию, осужден троцкистско-зиновьевский блок и утверждены директивы по первому пятилетнему плану. Вскоре грядут кардинальные перемены в общественно-политическом и культурном климате страны.
Задуманный еще в 1926 году, напитавшийся богатым материалом драматургических псевдохудожественных поделок и критических баталий, «Багровый остров» был разрешен лишь спустя полтора года, в сентябре 1928 года, угодив в резко изменившуюся за прошедшие месяцы общественно-политическую ситуацию. Цензурное разрешение вызывающей пьесы удивило самого автора, отозвавшегося о нем в письме к Замятину (написанном на следующий день после информации о разрешении) как о «мистике»:
Написан «Бег». Представлен.
А разрешен «Б<агровый> остров».
Мистика.
Кто? Что? Почему? Зачем?
Густейший туман окутывает мозги291.
Спектакль сильно запоздал с выходом к публике, и жизни ему было отпущено совсем немного.
Хорошо зная наличный театрально-пародийный арсенал, Булгаков включился в литературно-эстетическую и общественную борьбу и открыто напал на влиятельный в 1920‑е гг. «Левый фронт»292, а еще больше – на ту общую запретительную политику бюрократического централизма, которая набирала силу и грозила великими бедами настоящему искусству в целом. Начиналась эта запретительная политика <…> с привычки к однозначному лозунгу и штампу, к обязательному канону и догме, которые силой обязательств обращаются в общий закон для всех293.
Отметим еще одно привходящее обстоятельство. Помимо главной цели пьесы – протеста против цензуры и цензоров, утверждения свободы художественного высказывания, – она задевала и личности, живых и самолюбивых людей, драматургов и режиссеров.
Размышляя, о чем и для чего был написан «Багровый остров», А. А. Нинов справедливо напомнил, что
среди оппонентов Булгакова на «левом фронте» искусств вообще, и особенно в театре, самой крупной фигурой был Всеволод Мейерхольд – именно он более других экспериментировал на сцене своего театра с сугубо «идеологическими» пьесами. <…>
Сделав Дымогацкого автором современной «идеологической» пьесы, Булгаков метил, конечно, не в одно конкретное лицо <…> Он пародийно очертил целое явление, которое возникло в советской послеоктябрьской драматургии и особенно широко разрослось под сводами «левого театра». В. Бебутов, «советизировавший» Верхарна для Театра РСФСР-1, С. Третьяков, переписавший под названием «Земля дыбом» пьесу М. Мартине «Ночь» по схеме революционных событий в России и ожидавшейся «перманентной революции» во всем мире, М. Подгаецкий, соединивший сюжеты Эренбурга, Келлермана и проч. под знаком театральной агитации за военную победу пролетариата в мировом масштабе над прогнившей и обреченной буржуазией Запада («Д. Е.») – все они могут рассматриваться как вполне реальные предшественники и прямые литературные наставники Василия Артуровича Дымогацкого. <…> После «Зорь» Мейерхольд «мечтал поставить в современной революционной переделке „Гамлета“ и искал подходящих соавторов для Шекспира»294.
Отдав пьесу Камерному театру, Булгаков не только вступал в драку с политической цензурой, но и становился участником театрального противоборства Таирова и Мейерхольда.
А. А. Нинов писал о ближайших к премьере «Багрового острова» театральных событиях:
Театр им. Мейерхольда возобновил «Д. Е.», 24 октября этот спектакль прошел в новом варианте. К Октябрьской годовщине заново была поставлена «Земля дыбом». <…> Больше всех пародией Булгакова был задет так называемый «левый фронт»295.
В месяцы, когда в Камерном идут репетиции «Багрового острова», критика не забывает об одиозном авторе. В ноябре 1928 года О. Литовский выстраивает в ряд все четыре написанные пьесы (газетно-журнальная кампания против «Бега» в разгаре) и заявляет, что на сценах московских театров происходит «обулгачивание» советского репертуара296. Запоздавшие обвинительные формулы в связи с «Турбиными» нагоняют новые булгаковские драмы, получают свежий материал.
Накануне премьеры Таиров дает несколько интервью газетам, разъясняя смысл спектакля и опасность приспособленчества, называя автора единомышленником.
Савва Лукич <…> уверовав, как папа римский, в свою непогрешимость, вершит судьбы <…> и плодит уродливые штампы псевдореволюционных пьес, способных лишь осквернить дело революции и сыграть обратную антиобщественную роль…297
2 декабря он беседует с корреспондентом «Рабочей Москвы»:
Поскольку любовь к штампам <…> часто заслоняет от нас четкие перспективы революционного строительства, пьеса Булгакова имеет глубокое общественное значение, далеко выходящее за границы театральной жизни298.
11 декабря проходит первое представление, а уже 13 декабря возобновляется кампания против «булгаковщины», получившая новую пищу для идеологических обличений. Два первых отзыва в центральных печатных органах страны корректны и убийственны. «Правда»: театр ошибся, выбрав «слабую и скучную пьесу», которой свойственна «драматургическая и литературная неубедительность»299. «Известия» сообщали об «отсутствии сюжета, проблемы и четкой мысли в пьесе и спектакле»300. Рецензент «Комсомольской правды» выразился резче, сообщив о спектакле, что это «явный, очевидный, недвусмысленный провал»301. Правда, похоже, что все три отзыва принадлежат перу одного и того же рецензента – И. И. Бачелиса.
Казалось бы, если дело обстоит так, то не о чем и говорить.
Однако говорить, писать и печатать все новые и новые отзывы не прекращают, убеждая читателей в «явном и очевидном провале» «Багрового острова». Бис (Бачелис И. И.) писал:
Провал в известной степени симптоматичный, ибо он вызван ставкой на «модное» имя драматурга Булгакова и – не побоимся это сказать вслух – спекуляцией на этом одиозном имени <…> «Багровый остров» прежде всего развенчивает Булгакова как драматурга. В этой трафаретной пьесе нет не только таланта – в ней нет даже того политического яда, который придавал другим булгаковским пьесам характер сомнительной сенсации. Писатель одной темы и одной идеи – белого движения, Булгаков в «Багровом острове» демонстрирует глубочайшее, нищенское бесплодие своей мысли. «Вампука» на советский театр – по форме, пасквиль на революцию – по существу, «Багровый остров» поражает убогостью своего замысла и воплощения302.
Критик «Нашей газеты», не забыв упомянуть «белогвардейские симпатии» Булгакова, сообщал:
У автора было намерение осмеять псевдореволюционные пьесы, но таков уж Булгаков, что, имея намерение осмеять псевдореволюционные пьесы, он осмеивает революционные. <…> Плохо, М. Булгаков! Начав громом белогвардейских литавр в «Днях Турбиных» и тонной порнографией «Зойкиной квартиры», вы спустились до «Багрового острова», с его балаганом и пустозвонством. Какой удар для ваших почитателей из числа московских нэпманов и злопыхательствующих мещан!303
И несколько неожиданно в слабой, скучной, трафаретной и «нищенски бесплодной», лишенной мысли пьесе тем не менее видят политический памфлет.
Вин:
Пьеса М. Булгакова – памфлет на театральные темы и вместе тем памфлет политический. <…> Булгаков «свел счеты», отомстил реперткому, который не позволяет ему распоясаться вовсю, дать простор тем обывательским тенденциям, всей той несомненной правой опасности, которую представляют пьесы Булгакова.
Спектакль Камерного театра «мелок, скуден и скучен»304.
В выражениях рецензенты не стесняются.
[Булгаков] хотел, видимо, пропитать свою пьесу злой сатирой на советские учреждения, ведающие разрешением пьес к постановке в театрах. Но беда автора заключается в том, что при создании пьесы он руководствовался не соображениями художественного порядка, а исключительно личной злобой, что и привело пьесу к катастрофе. У автора с языка вместо слов брызжет слюна, которой, видно, у него предостаточно, и он мог бы поделиться ею еще с десятком обиженных авторов. Но если в первом акте некоторые любители «созерцают» плевки рассерженного сменовеховца, то в последующих актах это уже становится скучным даже для поклонников Булгакова. Злоба мещанина Булгакова победила художника Булгакова, и получилось с его пьесой печальное зрелище.
Режиссура «не смогла вывести пьесу из безнадежного состояния»305.
«Против факта не попрешь – сатирического таланта у Булгакова нет. Есть слюна, даже бешеная пена… Все банально, стерто и дешево»306, – уверял И. С. Туркельтауб.
В уже цитировавшейся статье Бачелис настаивает:
«Багровый остров» по форме – пародия на театр, по существу – пасквиль на революцию. Булгаков – писатель одной темы, одной – белой – идеи. Эта идея – художественно бесплодная, политически мертвая, общественно изолированная идея! – дает убогие всходы, гибнущие тут же на сцене от холодного, замораживающего равнодушия зрительного зала. <…> Трагедия автора пьесы не нашла лучшей аргументации, как в крушении его мечты о зернистой икре и трости с набалдашником!»307
Переходя со страниц одного издания на страницы другого и третьего, он продолжает высказываться: «Багровый остров» – «активное выступление в защиту „свободы творчества“»308. И развернет мысль в следующей статье:
Белую идею постановщики <…> постарались внешне разукрасить всеми цветами радуги <…> В одном только месте Таиров сделал неожиданное и странное ударение. Разворачивая весь спектакль как пародию, он в последнем акте вдруг внезапно акцентирует «трагедию автора» запрещенной пьесы. Линия спектакля ломается и с места в карьер скачет вверх, к страстным трагическим тонам. Из груди репортера Жюля Верна рвется вопль бурного протеста против ограничения <…> «свободы творчества». Злые языки утверждают, что автора-репортера Булгаков наделил некоторыми автобиографическими чертами <…> что ж, тогда нам остается принять к сведению эти движущие пружины его творчества.
Но как бы ни звучал авторский вопль на сцене, характерно уж то, что Камерный театр выпятил именно этот момент. Это был пробный выпад театра – выпад осторожный, с оглядкой, – но выпад. Театр солидаризировался с автором. Таиров солидаризировался с Булгаковым в требованиях «свободы творчества»309.
Отметим, что впервые режиссер не отодвинут от злокозненного автора, а объединен с ним. Спектакль признан их общим, согласным, художественным и общественно значимым высказыванием. Отдельного комментария заслуживает употребление кавычек. Критик отмежевывается от самого стремления драматурга и режиссера заявить о необходимости свободы художественного высказывания, кавычки заявляют о безусловной неправомерности подобных умонастроений.
«Багровый остров» не уходит из центра внимания, а с начала 1929 года возмущение критиков нарастает еще и в связи с обсуждавшимся в те же месяцы в театральных, и не только, кругах «Бегом». Не один лишь Бачелис обличает «скучный и никому не интересный» спектакль. В. Манухин пишет, что спектакль Камерного театра – это «обывательское брюзжание мещанина, ущемленного советской цензурой»310. В. М. Млечин возмущен тем, что появление в Камерном театре «Багрового острова» «вдохновило правых на новые „подвиги“: начата борьба за постановку в МХАТе „Бега“»311. О. Литовский в докладе, посвященном итогам первой половины театрального сезона (на методическом совете при недавно организованном Главискусстве), сообщает, что «Багровый остров» – «бездарная, пустая пьеса, литературно беспомощная, драматургически слабая»312. Н. Макаров выступает от лица рабочего зрителя: «Багровый остров» – «никчемный спектакль», а Булгаков – «человек, очень злой на революцию»313. П. Новицкий:
Неуверенно он (Камерный театр. – В. Г.) показал клеветнический памфлет М. Булгакова «Багровый остров», пародирующий с холодным злорадством революционный процесс Октября под предлогом обличения бездарной, фальшиво современной, тенденциозно скороспелой литературы314.
И хотя М. Загорский утверждал, что Камерный театр в «Багровом острове» выстрелил по «общипанному воробью» и «пародия на пустые постановочные и актерские штампы просто неостроумна и метит в пустое пространство»315, вряд ли «пустое пространство» смогло бы отвечать столь энергично, эмоционально и продолжительно. Отклики на спектакль продолжались не только весной и летом 1929 года, вспоминали его и позднее.
С. Дрейден сообщал: «Булгаковское обличение р-р-революционного подхалимажа имеет мало общего с подлинной самокритикой», пропитано «отвратительным злобствующим душком»316. На майской конференции зрителей Камерного театра «Багровый остров» упомянут в перечне спектаклей, говорящих об «уходе театра от действительности», но при этом – «льющего воду на чужую мельницу»317. Р. Пельше, не вдаваясь в детали и частности, просто назовет «Багровый остров» «довольно четкой антисоветской пьесой»318. С ним согласится Литовский:
В этом году мы имели одну постановку, представлявшую собой злостный пасквиль на Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным нам силам: речь идет о «Багровом острове»319.
Среди рецензентов, тратящих свое время на сочинение ругательных отзывов о булгаковских пьесах и их постановках, были авторы, выступившие с целой серией статей. И в эти месяцы 1929 года В. Блюм и И. Бачелис, О. Литовский и П. Новицкий, А. Орлинский и Р. Пикель, сами того не зная, превращаются в литературных персонажей, поставляющих писателю (уже работающему над своим главным и самым важным, «закатным» романом) готовые формулы. Напомню, что Мастер, размышляя о странных ему критических пассажах в связи с неопубликованным романом о Понтии Пилате, цитирует реально звучавшие со страниц журналов обвинения: «богомаз», намеревающийся «протащить в печать апологию Иисуса Христа», призывы бдительных рецензентов «ударить по пилатчине» и проч.
В сентябре 1929 года Р. Пикель в статье «Перед поднятием занавеса» подведет итоги. Подтвердив очевидность таланта драматурга, он заявит: «…такой Булгаков не нужен советскому театру»320. Но «другого» Булгакова нет. И той же осенью Мейерхольд в связи с пьесами «Багровый остров» и «Бег» назовет Булгакова в числе писателей, «опошляющих советскую драматургию»321.
Цитирование можно продолжать и продолжать, но общая направленность и смысл высказываний определены.
Еще и в 1930‑е годы нет-нет да и вспомнят таировскую постановку. «Багровый остров» – «злокачественная» пьеса «на теле эстетствующих театров», – напишет А. Глебов, отчего-то назвав Булгакова, этого «реакционного активного драматурга-попутчика», «советским Аристофаном»322.
Снимают то «Турбиных» (до первой новой постановки театра), то «Зойкину» (с тем же обязательством). Спектакль Таирова продолжают поносить, отыскивая все новые и новые доказательства его «серости» и бездарности. Изредка все же прорываются, промелькивают и оценки режиссерской работы вовсе не как «скучной» и провальной.
Так, Туркельтауб, заметив, что «сатирического таланта у Булгакова нет», а сам спектакль «Багровый остров» «сплошное издевательство над всем советским театральным строительством»323, сообщит о прекрасных хореографических номерах, ярком оформлении (художник В. Рындин) и удачных ролях (директор театра, Жюль Верн, он же – Дымогацкий, полководец краснокожих и дирижер Ликуй Исаич).
Б. А. Вакс, не забыв охарактеризовать пьесу как «незадачливую драматургическую стряпню»324, скажет и об остроумном музыкальном монтаже, и об удачном макете, и об интересных актерских работах. П. Марков в начале 1929 года позволит себе написать (правда, не в столичном органе печати, а на периферии советской империи) о «мастерстве и изобретательности», проявленной Таировым при постановке «психологической пародии»325 Булгакова. В хроникальной заметке о выставке театральных макетов в ГАХН будет упомянут «хорошо выполненный макет „Багрового острова“ в стиле Камерного театра»326, и даже Бачелис отметит «великолепную выдумку»327 Рындина.
А что же зритель? Несмотря на множество уничтожающих автора, режиссера и спектакль рецензий, публика «первые дни валила валом в театр»328, и за полгода, ко времени запрещения спектакля (июнь 1929 года), прошло больше шестидесяти представлений. То есть расстановка сил остается прежней: официоз утверждает, что пьеса (и спектакль) бездарны и скучны, а зрители, платя деньги за театральный вечер, сообщают о своем несогласии.
О сути пародийного сочинения первым всерьез задумывается П. И. Новицкий. Он сообщает, что пьеса «очень театральна и драматургически выразительна», хотя для провинциальной сцены «рискованна». Почему?
Пародирован революционный процесс, революционный лексикон, приемы советской тенденциозно-скороспелой драматургии. Шаблоны стопроцентных, «выдержанных идеологически» пьес высмеяны зло и остро. Но пародия и ирония автора, как всегда, двусторонни… Встает зловещая тень Великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимски нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя.
Идеологические финалы надо высмеивать. <…> Приспособляющихся подхалимов надо гнать. <…> Но надо также различать беспощадную сатиру преданных революции драматургов, не выносящих фальши, лжи и тупости услужливых глупцов, спекулирующих на революционном сюжете, и грациозно-остроумные памфлеты врагов, с изящным злорадством и холодным сердцем высмеивающих простоту услужающих и политическое иго рабочего класса.
Режиссер, конечно, может перенести центр тяжести на пьесу Василия Артуровича. <…> И выйдет памфлет против бездарной фальши современных драматургов. Но дело не в илотах, а в зловещей мрачной силе, воспитывающей илотов, подхалимов и панегиристов. <…> Если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазией драматурга оправданно. Если нет, то драматург снова оказывается в роли клевещущего врага, ловко маскирующего свои удары329.
Критиком сформулирована проблема, задан вопрос, существует ли в стране «зловещая мрачная сила», подминающая правду. Но отвечать на него возможно лишь одним-единственным образом: в стране нет и не может быть никакой «зловещей мрачной силы». Откуда бы ей взяться?
1 февраля 1929 года в ответном письме драматургу Билль-Белоцерковскому Сталин выскажется и по поводу пьесы, и по поводу Камерного театра:
Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра330.
Хотя напечатан ответ Сталина Билль-Белоцерковскому был лишь спустя двадцать лет, в 1949 году, в собрании сочинений вождя (и вряд ли стал массовым чтением даже и тогда), можно предположить, что тем не менее ответ этот стал известен достаточно быстро благодаря изустному распространению в писательской среде.
Пьесы и их постановки были введены в контекст политической борьбы. Художественность, талант и прочие «буржуазные» вещи перестают быть сколь-нибудь важными. Новицкому приходится спешно уточнять и изменять формулировки. Теперь он использует совершенно иную лексику:
…враги достаточно солидно представлены в нашей драматургии, откровенные и прямые враги. Они великолепно пользуются нашей беспринципностью в вопросах искусства, барским либерализмом и художественным консерватизмом государственных органов, заведующих и начальствующих над искусством, и проводят на сцену государственных театров политические памфлеты, заостренные против пролетарской диктатуры. До сих пор не сходит с репертуара Камерного театра клеветническая пьеса М. Булгакова «Багровый остров», с холодным злорадством высмеивающая политическое иго рабочего класса и пародирующая ход Октябрьской революции331.
5 января 1929 года на страницах «Дойче альгемайне цайтунг» обозреватель напишет:
Это драматическое каприччио, неразрывно связанное с атмосферой советской жизни, где каждое свободное слово – одухотворенный поступок, каждая шутка против правящих – выражение храбрости. <…> На багровом острове Советского Союза, среди моря «капиталистических стран», самый одаренный писатель современной России в этой вещи боязливо и придушенно, посредством самовысмеивания, поднял голос за духовную свободу. Он нашел у публики восхищенный отклик332.
Вскоре автору сообщат о запрещении и снятии со сцен театров всех пьес, и «Дней Турбиных», и «Зойкиной», и «Багрового острова» (о том, что прекращены репетиции «Бега», стало известно раньше). В феврале в журнале «Книга и революция» появятся портреты Булгакова и Замятина в качестве иллюстраций к статье В. Фриче «Маски классового врага»333. А прекраснодушный президент ГАХН (которая с весны 1929 года тоже стала мишенью идеологических обвинений) П. С. Коган выступит с предложением «перевоспитать Булгакова в пролетарского писателя»334, предварительно, конечно, запретив его пьесы.
Жизнь страны, уступившей право на смех, становилась беззащитной. Комедиографы серьезнели либо вовсе уходили из профессии, комедии уступали место трагикомедиям. Десятилетие завершат «Самоубийца» Эрдмана, булгаковская «Кабала святош», свидетельствующие о потерянности отдельного человека и ханжестве убийц, и удивительным образом прошедший в сотнях театров страны афиногеновский «Страх». «Ложь» Афиногенова, запрещенная Сталиным лично, откроет 1930‑е годы.
Пьесы, сочинявшиеся в годы близящегося перелома, передают эволюцию общественных умонастроений и в перемене жанра (от комедии к трагикомедии и психологической драме), и в задумывающихся героях (от «Ржавчины» В. М. Киршона и А. В. Успенского, «Партбилета» А. И. Завалишина к «Самоубийце» Н. Р. Эрдмана, «Списку благодеяний» Ю. К. Олеши и поразительно современной афиногеновской «Лжи»).
«Багровый остров» стал третьей и последней премьерой пьесы Булгакова на московской сцене (если не считать инсценировки «Мертвых душ» и нескольких представлений «Мольера»), увиденной автором.
«Я не читал, но я хочу сказать…»
«Бег»
Обсуждения «Бега» открывают новую страницу в способе работы критиков конца 1920‑х годов. Теперь для высказывания собственного мнения не нужно ни читать пьесу, ни видеть поставленный по ней спектакль.
Если газетно-журнальные поношения прежних пьес Булгакова основывались на знакомстве со спектаклями, которые можно было самостоятельно оценить, то с «Бегом» развернулась принципиально иная история. Повторим еще раз: пьесу никто не читал (кроме нескольких облеченных властью людей вроде П. М. Керженцева либо А. И. Свидерского335. По-видимому, ее прочел вождь). Были еще актеры, репетировавшие пьесу в Художественном, – но они в печати не выступали. Спектакль же к зрителю не вышел. Это значит, что кампания травли, вспыхнувшая с новой силой в связи с новым сочинением драматурга, разворачивалась теми, кто принял на веру отзывы других. Схожая история повторится спустя тридцать лет в связи с романом Пастернака «Доктор Живаго», не изданном в СССР, о котором на собраниях и в печати массово высказывались не знакомые с произведением люди.
В «Беге» Булгаков рассказывает о переломных моментах истории России и их отражении в судьбах людей.
Талантливый военачальник Хлудов оказывается в ситуации проигрыша не сражения, а идеи, когда его военный талант ничего не может изменить. Будучи выброшен в эмиграцию, мучается из‑за собственного превращения из военачальника – в палача, запоздалого осознания несостоятельности белой армии, во имя победы которой он вешал в тылу штатских людей. Генерал Чарнота, храбрый, азартный и авантюристичный вояка с добрым сердцем, тоскует о «неописуемом воздухе, неописуемом свете» днепровских склонов, увидеть которые ему уже не придется. Сын профессора-идеалиста, университетский приват-доцент Голубков мечтательно вспоминает зеленую лампу в своем кабинете. Благополучная петербурженка, бездумно вышедшая замуж за крупного чиновника Корзухина, с легкостью оставившего жену в трудную минуту, бросает в лицо Хлудову слова, рискуя жизнью. «Дочь губернатора», авантюрная и по-своему отважная Люська спасает больную тифом Серафиму… Все булгаковские герои сложны и способны совершать поступки, им не свойственные. Что движет всеми этими героями в решающие, самые страшные мгновенья выбора? Что придает им силы и позволяет выжить, не потеряв себя?
Оказывается, неутраченное умение сострадать – и человеческое достоинство.
В профессиональном военном Хлудове побеждают чувства, не востребованные ранее в его жизни. Разжалованный и нищий, он отдает Голубкову медальон, единственную дорогую ему вещь, которая делает возможным игру в карты Чарноты с Корзухиным и феерический выигрыш. «Неприспособленный» Голубков обнаруживает не только мужество и стойкость, но и решимость, заставив Хлудова подчиниться его просьбам. Жена товарища министра, безгрешная Серафима отправляется на панель, узнав, что живет на деньги «распутной Люськи». Люська, превратившаяся в Париже в «Люси Фрежоль», спасает выигравшего состояние Чарноту от угроз Корзухина.
Герои не то что меняются, но проявляют дремлющие в прежней рутинной жизни качества. Все они понимают: та жизнь кончена. Но кончена и эта.
Булгаков приступает к работе над «Бегом» в 1926 году (в машинописном экземпляре пьесы проставлено: 1926–1928). В апреле 1927 года подписывает договор со МХАТом. Пьеса еще называется «Рыцарь Серафимы» («Изгои»)336. Оба названия свидетельствуют об ином, нежели законченный, варианте вещи: ключевыми героями должны стать двое интеллигентов, Серафима и ее «рыцарь» (Голубков). Рукопись автор обязуется предоставить не позднее 20 августа 1927 года. В Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) сохранен документ, в котором среди прочего указано:
Аванс в размере 500 рублей, который был получен М. А. Булгаковым по ныне аннулированному договору, который был заключен с дирекцией МХАТа 2 марта 1926 года о постановке пьесы «Собачье сердце», должен считаться выданным в счет его авторского гонорара по пьесе «Рыцарь Серафимы»337.
«Бег» закончен ранней осенью 1927 года. Но в театр два экземпляра рукописи поступают лишь 16 марта 1928 года.
В конце того же года Булгаков переходит из МОДПиКа в Союз драматургов (обе организации – и Московское общество драматических писателей и композиторов, и Союз драматургов, находящийся в Ленинграде, занимаются сбором поспектакльных отчислений, что необходимо любому автору театра). Переход бурно обсуждается сразу в двух отделах ОГПУ, Секретном и Информационном. Агентурная сводка подробно излагает разговор писателя с членом правления МОДПиКа:
– Почему вы ушли из МОДПиКа? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в Драмсоюз будет всячески комментироваться, и имя ваше будет трепаться.
– Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том обществе, почетным председателем которого состоит Луначарский, не как Анатолий Васильевич, а как Наркомпрос, который всячески ставит препятствия к продвижению моих пьес <…> Во-вторых, в правлении МОДПиКа имеются коммунисты, а они – мои враги, не могу я с ними состоять в одном обществе. <…>
Вся современная литература пишется из-под кнута, и я так не могу работать338.
Осведомитель сообщает:
Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правления как политический акт339.
Закончив «Бег», одна из сцен которого проходит в Париже, 21 февраля 1928 года Булгаков подает прошение о поездке в Европу, в Берлин и в Париж – в связи с работой над пьесой. Разрешения на поездку Булгаков не получает. Не выпущенный за границу автор в апреле читает пьесу в Ленинграде, в Александринском театре, откликнувшись на просьбу Ю. М. Юрьева340.
Пьесу хотят поставить и в Одесском русском драматическом театре (в августе ее включат в репертуар). И 21 апреля 1928 года Булгаков покидает Москву, разрешив себе передышку после трех лет сумасшедшей работы: в 1925–1927 годах он сочинил четыре пьесы, три из них идут, репетиции же четвертой вот-вот начнутся.
16 апреля 1928 года К. С. Станиславский говорит об «очень затруднительном положении» театра в связи с интересом публики к современным пьесам.
А таких пьес мало, при этом они еще слабы в драматургическом отношении, – сетует режиссер. <…> В настоящее время в театр представлена только одна современная пьеса – «Бег» М. А. Булгакова341.
Ситуация предельно ясна: «…фаланга попутчиков дружно и весьма успешно завоевывает театр»342, – мрачно сообщает А. Глебов вывод, сделанный в результате анализа театрального репертуара.
Но 9 мая 1928 года проходит заседание ГРК, на котором принимается резолюция о «Беге» как произведении «неприемлемом»343. Причины решения разъясняются:
Пьеса «Бег» может быть охарактеризована как талантливая попытка изобразить белогвардейское движение <…> в ореоле подвижничества русской эмиграции. Бег от большевиков для героев пьесы – это голгофа страстей и страданий белых в эмиграции, приводящая отдельных представителей ее к убеждению необходимости возврата на родину. Однако подобная установка не может быть оценена даже как сменовеховская, ибо автор сознательно отходит от какой бы то ни было характеристики своих героев, принявших Советы, в разрезе кризиса их мировоззрения и политического оправдания своего поступка. Серафима возвращается в СССР потому, что хочет попасть «опять на Караванную, видеть снег, все забыть…», Голубков – чтобы «жить дома…»
Все это – агония больших героев, легендарных генералов, и даже Врангель по характеристике автора «храбр и благороден». Напротив, эпизодическая фигура буденновца в 1 картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе, еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения344.
В начале лета 1928 года новым руководителем Главреперткома назначен Ф. Ф. Раскольников. Он-то и станет главным противником «Бега». Но в мае этого ни театр, ни автор еще не знают.
Марков посылает телеграмму Булгакову, путешествующему по местам, где он провел месяцы окончания Гражданской войны (Тифлис, Батуми), прося разрешения вступить в переговоры с Главреперткомом. И летом, судя по еще одному письму Маркова от 25 августа, в самом деле какие-то переговоры происходят.
Судаков рассказывал мне летом о твоем свидании с Реперткомом, которое укрепило мои надежды на постановку «Бега». Думаю, что если вы действительно нашли какие-то точки соприкосновения с Раскольниковым, то за эту работу приняться необходимо, и как можно скорее345.
Информации о прямом контакте, да еще дружественном, Булгакова с Раскольниковым нет. Возможно, имеется в виду визит Замятина и Булгакова в Союз писателей 7 июня, где Федерация объединений советских писателей (ФОСП) устраивала встречу с Горьким, появившимся в Москве в связи с празднованием своего 60-летия. Горький, пристально следящий за новыми талантливыми литераторами в России, после встречи говорил с Раскольниковым, председателем только что созданного Худполитсовета при Главреперткоме, о делах Замятина и, возможно, о булгаковской пьесе346.
11 августа 1928 года Булгаков пишет Горькому. Он просит его помочь в возвращении из ГПУ рукописей, изъятых во время майского обыска 1926 года:
Есть только один человек, который их может взять оттуда, – это Вы. И я буду считать это незабываемым одолжением.
Я знаю, что мне вряд ли придется еще разговаривать печатно с читателем. Дело это прекращается. И я не стремлюсь уже к этому.
Я не хочу.
Я не желаю.
Я желаю разговаривать наедине и сам с собой. Это занятие безвредно, и я никогда не помирюсь с мыслью, что право на него можно отнять347.
Эти строчки – яркое свидетельство того, что понимал Булгаков о себе и своем писательском будущем в месяцы борьбы за постановку «Бега». Но театр все еще был настроен оптимистически.
28 августа 1928 года Марков сообщает Станиславскому, что «Горький передал через Н. Д. Телешова о разрешении „Бега“ – известие, еще не подтвердившееся, но дающее большие надежды на включение „Бега“ в репертуар»348. Но еще и спустя месяц Немирович телеграфирует Станиславскому в Берлин: «Хотим приступить к репетициям <…> разрешаемый „Бег“»349. Это значит, что судьба пьесы, уже год живущей в театральных планах МХАТа, в сентябре все еще остается подвешенной. Похоже, что нетерпеливый И. Я. Судаков, скорее, выдавал желаемое за действительное.
Не оставляя хлопоты о пьесе, МХАТ предпринимает важный шаг: обращается к «тяжелой артиллерии» – Горькому, с интересом и симпатией относившемуся к Булгакову. Горький пьесу читал (21 сентября баронесса М. И. Будберг, Мура, близкий друг Алексея Максимовича, просила в письме привезти или прислать пьесу «Бег», то есть знала, что у Горького она есть350).
27 сентября Булгаков пишет Замятину о статье «Премьера» (которую Замятин намеревался включить в альманах Драмсоюза):
…все 30 убористых страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в <…> печке <…>. И хорошо, что вовремя опомнился. При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого opusa речи быть не может351.
И мы никогда не узнаем, что и о ком писал автор, по-видимому, позволивший себе выплеснуть эмоции на бумагу. Отметим лишь, что мысль о публицистическом (по-видимому) очерке была отвергнута автором, не редактором. Что могло бы принести Булгакову прямое выступление в печати в эти месяцы, не так сложно представить.
30 сентября «Новый зритель» сообщает о шести постановках следующего сезона. «Бег» упомянут в их числе352. Подтверждает включение «Бега» в репертуар и «Правда»353.
4 октября, в четверг, дежурящий на спектаклях МХАТ милиционер Гаврилов записывает в дневнике: «Разрешена постановка „Бега“ Булгакова; с субботы уже начнутся репетиции»354, то есть с 6 октября.
Через несколько дней, 9 октября 1928 года, дипломатичный и опытный Немирович-Данченко устраивает специальное обсуждение пьесы на заседании худсовета с участием В. П. Полонского и А. И. Свидерского. Пьесу читает артистичный автор.
Полонский оценивает пьесу как очень талантливую, проницательно отметив неправдоподобность хлудовского возвращения в финале355. Свидерский еще раз подчеркивает верность избранного Булгаковым пути:
Хотят увидеть именно Караванную, именно снег – это правда, которая понятна всем. Если же объяснить их возвращение желанием принять участие в индустриализации страны – это было бы неоправданно и потому плохо.
Свидерский выскажет еще один принципиальной важности тезис: отвечая Полонскому на его замечание, что пьеса «не советская», он скажет: «Если пьеса художественна, то мы как марксисты должны считать ее советской. Термины „советская“ и „антисоветская“ нужно оставить»356.
Судаков обещает выполнить все требования ГРК (изменение первой картины с буденновцем, доработку образа Хлудова, внесение иного смысла в возвращение Голубкова и Серафимы – они будут возвращаться «для того, чтобы жить в СССР»).
Позицию полной и безоговорочной поддержки Булгакова занимает Горький: «Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это – превосходнейшая комедия, я ее читал три раза…» Горький подкрепляет свое мнение о «Беге» еще и тем, что он читал пьесу «А. И. Рыкову и другим товарищам», которые тоже видят пьесу как драматургическую удачу автора. «„Бег“– великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас»357.
Волшебное, пьянящее слово «успех», обещанный Горьким, придает оптимизма театру. Театр незамедлительно начинает репетиции. Объявлен актерский состав, режиссеры (И. Я. Судаков и Н. Н. Литовцева), руководитель постановки – Вл. И. Немирович-Данченко358. Среди «художественников» идут радостные толки. 19 октября новая запись в дневнике Гаврилова: «Про новую пьесу Булгакова „Бег“ говорят, что она еще сильнее и лучше, чем „Дни Турбиных“»359. В тот же день из Берлина возвращается Станиславский.
Но 13 октября Горький покидает Москву. И уже через несколько дней председатель ГРК Раскольников разворачивает кампанию против пьесы.
20 октября 1928 года на заседании коллегии Главискусства обсуждается отчетный доклад о деятельности МХАТ. Раскольников обвиняет МХАТ в том, что театр выполняет и революционный, и контрреволюционный заказ (называя во втором случае булгаковские пьесы «Дни Турбиных» и «Бег»), Свидерский вновь заявляет, что «Бег» «художественно и идеологически приемлем»360.
В ОГПУ отправляется следующая информация:
Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гублита и Реперткома, приходилось слышать, что пьеса «Бег» несомненно идеализирует эмиграцию и является, по мнению некоторых ленинградских ответственных работников, глубоко вредной для советского зрителя. В ленинградских реперткомовских кругах на эту пьесу смотрят глубоко отрицательно, ее не хотят допустить к постановке в Ленинграде, если, по их выражению, не будет давления со стороны Москвы.
Вообще, газетная заметка о том, что пьеса «Бег» была зачитана в Художественном театре и произвела положительное впечатление и на Горького, и на Свидерского, вызвала в Ленинграде своего рода сенсацию.
В лит. и театр. кругах только и разговоров, что об этой пьесе. Резюмируя отдельные взгляды на разговоры, можно с несомненностью утверждать, что независимо от процента антисоветской дозы пьесы «Бег», ее постановку можно рассматривать как торжество и своеобразную победу антисоветски настроенных кругов361.
Московские осведомители тоже не оставляют появление нового сочинения Булгакова без внимания.
Замечается брожение в литературных кругах по поводу «травли» пьесы Булгакова «Бег», иронизируют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают о ней отзыв рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут…362
Но это означает, что рабочим пьеса нравится?
22 октября проходит новое, расширенное заседание политико-художественного совета ГРК363. Вновь читается и обсуждается «Бег».
Отчет о заседании был опубликован М. Загорским.
Первую половину пьесы «Бег» читал режиссер МХАТ-1 тов. Судаков, будущий ее постановщик, вторую – председатель Главреперткома тов. Раскольников. Уже в самой манере их чтения <…> определилась разница в подходе к этому произведению. Для Судакова смысл пьесы, ее главное зерно – в «тараканьем беге» людей, несомых по белу свету… Наоборот, тов. Раскольников в очень иронической подаче текста остро вскрывает всю условную <…> фальшивую фразеологию белогвардейских мучеников364.
Напрасно Свидерский объяснял, что «нельзя судить о пьесе по урокам бывших учителей словесности, раскладывая героев по полочкам „положительных“ и „отрицательных“ типов». Напрасно и Судаков, выступавший последним, пытался по-своему интерпретировать булгаковский текст. В. М. Киршон, Л. Л. Авербах, А. Р. Орлинский и П. И. Новицкий высказываются против пьесы. Я. С. Ганецкий365, А. И. Свидерский, И. Я. Судаков защищают ее, но оказываются в меньшинстве. Судаков говорит горячо и резко: «…вы душите театр, не даете ему работать. <…> Если вы запретите эту пьесу, то это будет подлинным душительством»366.
В его (Судакова. – В. Г.) представлении сложилась какая-то иная, другая пьеса, не та, которую написал Булгаков, – сообщал Загорский. – Он стремится в разборе пьесы вскрыть «шелест раздавленных тараканов» <…> Полит.-худ. совет не может рассматривать то произведение, которое еще не написано и находится пока только в воображении режиссера.
Загорский продолжает:
Судаков обещал в процессе работы убрать «мнимый героизм отдельных персонажей». Соломоново решение худ-политсовета при Главреперткоме: не исключать «Бег» из списка запрещенных произведений, но позволить МХАТу попытаться ее переделать в процессе репетиций, «если это окажется возможным»367.
Совет Главреперткома, согласно отчету, единогласно одобрил запрещение пьесы в настоящем ее виде, о чем 24 октября сообщила «Правда».
Режиссер Судаков, прочтя свое выступление в пересказе Загорского, прислал Булгакову письмо.
Я выступал в конце заседания в атмосфере совершенно кровожадной и считаю, что искренне и честно заступился за театр и за автора, и только. Выводы репортера, что я рассказывал свою пьесу, а не Вашу – я за них не могу отвечать, как не могу и бороться с изворотливостью мышления ловких людей, которые черт знает что говорят и пишут, пока сверху не стукнут их по башке.
Я имел удовольствие читать и комментировать Вашу пьесу в совсем другой, очень высокой аудитории, где пьеса нашла другую оценку, я там говорил то же, что и в Главреперткоме, с той только разницей, что центральной моей мыслью было не «душительство», а выражение признательности от имени театра за внимание к пьесе, к автору и к театру368.
Упомянутая Судаковым апелляция к «очень высокой инстанции» давала надежду на успех в развернувшейся драке. Никто из противников не собирался сдаваться. Выскажу предположение, что «высокая аудитория» была та же, что и у Горького, а именно «Рыков и другие товарищи». Но для Рыкова уже наступали трудные времена369.
25 октября 1928 года в очередном донесении осведомитель ОГПУ сообщал:
У Булгакова репутация вполне определенная. Советские (конечно, не «внешне» советские, а внутренне советские) люди смотрят на него как на враждебную соввласти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией. Критически и враждебно относящиеся к соввласти буквально «молятся» на Булгакова, который будучи явно антисоветским литератором, умудряется тонко и ловко пропагандировать свои идеи370.
Не остается в стороне и пресса, продолжая предлагать автору звучащие как пародия лексические формулы персонажей будущего романа.
Булгаков назвал «Бег» пьесой в «восьми снах». Он хочет, чтобы ее восприняли как сон; он хочет убедить нас в том, что следы истории уже заметены снегом; он хочет примирить нас с белогвардейщиной. И усыпляя этими снами, он потихоньку протаскивает идею чистоты белогвардейского знамени, он пытается заставить нас признать благородство белой идеи <…> И хуже всего то, что нашлись такие советские люди, которые поклонились в ножки тараканьим «янычарам». Они пытались и пытаются протащить булгаковскую апологию белогвардейщины в советский театр, на советскую сцену, показать эту, написанную посредственным богомазом икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю (выделено мною. – В. Г.)371.
Еще один вариант отчета о заседании ГРК публикует журнал «На литературном посту»: «Почему мы против „Бега“ М. Булгакова», передавая смысл выступлений Авербаха и Киршона372.
Но все равно Свидерский в докладе «Задачи Главискусства» (октябрь 1928) на пленуме ЦК Всерабис, отстаивая «Бег», говорит о пьесе как лучшей изо всех прочитанных, показывающей «в художественной форме <…> банкротство эмиграции»373. То есть окончательное решение не принято, но время работает против булгаковских пьес, рассказывающих о людях из «бывших».
27 октября празднуют 30-летний юбилей Художественного театра. МХАТ не прекращает репетиций, надеясь на успешность хлопот по разрешению «Бега».
В октябре же скандал случается в ФОСП, где тоже упоминается Булгаков – в связи с готовящимся юбилеем МХАТ, на котором представитель писательской организации должен был произнести двухминутное поздравление. Представитель РАПП в ФОСП С. Канатчиков374 допускает два идеологических промаха: голосует за пьесу «Бег» и не согласовывает кандидатуру выступавшего. Киршон на заседании комфракции РАПП возмущен: «Странно, рапповский работник голосует за помещение „Бега“ (в 12‑м номере „Красной нови“. – В. Г.) – явно контрреволюционной вещи…» А «несогласованный» поздравитель Полонский, выступивший на мхатовском юбилее, по мнению Киршона, «говорил совершенно антикоммунистические вещи». Результатом случившегося стало появление специального документа: «Об инциденте с т. Канатчиковым в связи с юбилеем МХАТа»375. РАПП обратилась к ЦК с просьбой освободить легкомысленного Канатчикова от представительства РАПП в ФОСП, что и было выполнено.
По инициативе редакций газет «Правда», «Комсомольская правда» и журнала «Революция и культура» проходит совещание коммунистов, работающих в области искусства, посвященное вопросам борьбы с правым уклоном и примиренчеством. А. Верхотурский, рассказывая о совещании, сообщает: «Теория уступок, так называемый нэп в области идеологии – опаснейшее явление нашей жизни»376. Примерами идеологических промахов служат вещи И. Бабеля, К. Вагинова, Л. Леонова, К. Федина и М. Булгакова. Это они виновны в проникновении «враждебной идеологии» в общество. Наказуемы и перегибы «со стороны соответствующих руководящих органов и некоторой части печати в вопросе так называемой охраны старых культурных ценностей и в либеральной поддержке „свободного“ развития творческих усилий писателей…»377 (Заметим, что если ранее кавычками отмечались эпитеты «контрреволюционный» и «антисоветский», то теперь в осуждающе-отмежевывающиеся кавычки заключается слово «свободный», а «охрана старых культурных ценностей» сопровождена специфическим предупреждением «так называемая».) Верхотурский продолжает: «Так было в вопросе о „Днях Турбиных“, так оно имеет место в настоящее время в вопросе о „Беге“ <…> Речи носили разоблачительный характер»378, – констатирует автор отчета.
Положение Булгакова усугубляется еще и тем, что в эти недели осени 1928 года газеты и журналы ругают все четыре его пьесы, так что статьи сливаются в единое целое: тотальный разгром драматурга. Ширится борьба с «правой опасностью», и имя Булгакова склоняется теперь в связи с этой, новой, кампанией.
Меняющаяся ситуация тревожит многих. А. И. Свидерский отправляет секретное письмо секретарю ЦК ВКП(б) А. П. Смирнову, где стремится объяснить суть происходящего в искусстве в результате энергичного вмешательства Главреперткома. Толчком к этому опять-таки становится булгаковское произведение, борьба вокруг которого приводит Свидерского к мыслям общего плана. Речь – о «Беге», но и не только о нем.
В своих оценках драматических произведений Главрепертком нередко скатывается к простому противопоставлению «советских» и «не советских» пьес на основании крайне грубых признаков. Если автор – коммунист, или почти коммунист, если пьеса имеет революционную тему, если белые и буржуазия показаны в отрицательном освещении, а красные в положительном, и если пьеса имеет благополучный в социалистическом смысле конец, то такая пьеса признается советской. Если пьеса принадлежит перу попутчика и в особенности перу заведомо буржуазного писателя, если пьеса не написана на непосредственно революционную тему, если белые и буржуазия обнаруживают кое-какие положительные свойства (не насилуют женщин, не крадут, рассуждают о благе общества и т. д.), если красные показаны в сероватых тонах в каких-либо отношениях, и если пьеса не оканчивается непосредственным «хорошим» концом, то такая пьеса рискует быть объявленной «не советской»379.
Свидерским детально обрисованы сознание и мотивировки запретительной инстанции. В принципиальных чертах сознание это схоже с сознанием дикаря, полагающего, что если в ритуальных действиях он совершит нечто, волшебным образом изменится и реальность. «Хороший в социалистическом смысле конец» произведения, по всей видимости, должен был вести за собой те же события и в жизни. Будучи не в силах исправить действительность – разбивали зеркало, отражающее ее черты.
Свидерскому (в те месяцы – начальнику Главискусства) противостояли заведующий театральным отделом Главискусства Новицкий, председатель ГРК Раскольников и другие влиятельные деятели, занимающие ответственные посты. Если письмо Свидерского секретарю ЦК ВКП(б) «Секретно», то послание Новицкого идет под грифом «Совершенно секретно» и также адресовано в ЦК ВКП(б). Именно на этом уровне – руководства страны – обсуждаются и решаются вопросы текущего театрального репертуара, среди которых центральное место занимает «Бег».
Новицкий прежде всего возмущен тем, что Свидерский, намечая путь, по которому должно следовать Главискусство, «не замечает» установок, данных партсовещаниями по вопросам художественной политики. Далее его изумление растет:
С каких пор стало позволительным для марксиста высокую художественную форму считать единственным критерием при определении социальной полезности художественного произведения? И это-то вот старческое гурманство и этот сановный либерализм выдается за пролетарскую политику в искусстве! —
негодует Новицкий. Вывод критика однозначен:
Свидерский с увлечением отстаивает свободу «индивидуального творчества» против органов пролетарского политического контроля380.
Что именно скрывается за безупречным в идеологическом отношении понятием «пролетарского контроля», чьи конкретно интересы защищает Новицкий, становится ясным из того же секретного письма Свидерского секретарю ЦК ВКП(б), в котором он окончательно расставляет все точки над i:
…провозглашается, что мы «так выросли», что можем обойтись с продукцией своих драматургов, Киршона и Билль-Белоцерковского, и нам не надо гоняться за продукцией «не наших» драматургов. Чудовищность такого рода заявлений очевидна, мимо нее нельзя пройти, так как подобные заявления не могут не вести к соответствующим «делам»381.
Как скажет со свойственной ему грубостью еще в 1925 году Демьян Бедный, «[п]усть три сопливеньких, но свои»382. (Так, журналист сообщает, что когда стоит выбор, принять ли в репертуар «Бег» Булгакова или «Шахтер», театр, естественно, выбирает «пусть и сырую, но советскую пьесу Билль-Белоцерковского»383.)
За неумелых, ринувшихся в литературу, энергично заступались. Скажем, призывами ни в коем случае не смешивать халтуру «профессионального писаки» с «сырой и неумелой вещью молодого писателя»384. Другими словами, «сырая и неумелая вещь» как объективный, хотя и печальный факт реальности должна была рассматриваться по-разному в зависимости от субъективных возможностей создателя, а точнее – в зависимости от его социального происхождения. Если автор был «профессиональным писакой» – интеллигентом, вещь должна была быть оценена как халтура. Если же автор происходил из рабочих и иначе писать попросту не мог, то его беспомощное творение… уже не было халтурой?
М. Исаковский в статье «Литература или беда? О крестьянских писателях» рассказывал об одном (по-видимому, типичном) из многочисленных писем к нему:
Я написал пьесу – в виде оперы, – обращался к Исаковскому один из новичков, искренне уверовавший, что писательское дело не хитрее прочих занятий и ремесел. – Наш драмкружок отказался ставить ее, говорит, «дрянь». А какая же может быть дрянь, если я настоящий писатель и меня печатают?385
«Попутчиков больше в журналах, пролетарских писателей – в редакционных корзинах», – еще год назад меланхолически констатировал автор обзора «По страницам журналов», скрывшийся за инициалами Н. Н.386 Вот в чем суть.
В октябре – ноябре 1928 года газетная кампания против пьесы становится все энергичнее. Под общей шапкой «Бег назад должен быть приостановлен»387 печатаются передовая статья в «Комсомольской правде» («Не сдавать позиций!») и заметка И. Бачелиса «Тараканий набег». С серией статей выступает О. Литовский, вопрошая: «Булгаковщина всех видов или полнокровная советская тематика?»388; а в статье «О некоторых больных вопросах театра»389 сопоставляет взгляды на белое движение Булгакова и генерала А. И. Деникина (автора «Очерков русской смуты» в 5 томах, вышедших в Берлине в 1919–1920 гг.).
Проходят публичные диспуты в Доме печати390, Политехническом музее, устраиваются митинги – в ТРАМе391 и на заводах, организовываются заседания и совещания, еще проще и вполне действенно – рабочие собрания392, и повсюду выносятся осуждающие пьесу резолюции.
Случаются и неожиданности. Выступая с докладом на совещании коммунистов, работающих в худсоветах театров, Н. Масленников, напоминая о принятии пьесы «Бег» «одиозного» Булгакова, возмущается тем, что «наши партийцы – члены совета – поздравляли Булгакова с крупным художественным успехом»393. Пьеса собирала сторонников даже там, где, казалось бы, не могла рассчитывать на понимание. На основании того, что под обаяние булгаковской вещи попадают даже коммунисты и неискушенные члены политико-художественных советов, делаются оргвыводы о неверном комплектовании художественных советов: «…необходимо увеличить число представителей партийных и общественных деятелей за счет сокращения представителей театра»394.
В обсуждение судьбы пьесы вступает П. М. Керженцев, заместитель заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). 13 ноября 1928 года он читает доклад на совещании в Московском комитете партии «Мелкобуржуазные тенденции в нашем искусстве»395. В докладе вновь говорится, что пьеса «Бег» – попытка оправдания белого движения и генерал Чарнота «до конца остается идеологом белогвардейства», хотя генерал Хлудов «готов искупить свои жестокости». Выдержки из доклада перепечатываются журналами «Новый зритель», «Рабочий и театр», «Революция и культура».
В тот же день «Комсомольская правда» напоминает: «Полтора года на одном месте: решения партсовещания по вопросам театра повисли в воздухе»396, – имеется в виду весеннее совещание при Агитпропе 1927 года. Почти на каждой странице этого номера газеты упоминается имя драматурга: в разделе «Искусство» ругают Главискусство за разрешение постановки «Бега», далее в заметке «Пролетарская общественность и театральный фронт» сообщено о требовании запретить и «Бег», и «Зойкину квартиру», в следующем разделе пугают угрозой «обулгачивания» репертуара театра («Четыре пьесы Булгакова в одной Москве!»), и даже в разделе «М. К. Х. Реклама» находится место для сообщения о возмущении и протесте, вызванных у общественности контрреволюционными пьесами «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира».
Газетная кампания, поддержанная верховной властью (ЦК партии), получает новый импульс.
И. Кор призывает: «Ударим по булгаковщине! Бесхребетная политика Главискусства»397. В публикации под общей шапкой «В атаку против враждебных вылазок в искусстве»398 излагается содержание выступлений на собрании коммунистов и комсомольцев, работающих в области искусства, – против «Дней Турбиных», «Зойкиной квартиры» и «Бега». Сотрудник Наркомпроса Чичеров399 возмущен «нежеланием Главискусства прислушаться к „голосу общественности“». Раскольников призывает «шире развернуть и активизировать кампанию против „Бега“»400.
В декабре 1928 года, после премьеры «Багрового острова» в Камерном театре, переполнившей чашу гнева (ведь на столичных подмостках идут и «Дни Турбиных», и «Зойкина»), группа пролетарских драматургов отправляет письмо Сталину.
Уважаемый товарищ Сталин, – обращаются к вождю авторы, – хотели бы знать Ваше мнение по следующим вопросам, волнующим не только специальные круги, но, бесспорно, имеющим общекультурное и общеполитическое значение. <…>
Диктуется ли какими-либо политическими соображениями необходимость показа на крупнейшей из московских сцен белой эмиграции в виде жертвы, распятой на Голгофе?
4. Как расценивать фактическое «наибольшее благоприятствование» наиболее реакционным авторам (вроде Булгакова, добившегося постановки четырех явно антисоветских пьес в трех крупнейших театрах Москвы, притом пьес, отнюдь не выдающихся по своим художественным качествам, а стоящих, в лучшем случае, на среднем уровне)? <…>
Органы пролетарского контроля над театром фактически бессильны по отношению к таким авторам, как Булгаков. Пример: «Бег», запрещенный нашей цензурой, и все-таки прорвавший этот запрет…401
Среди подписей – имена драматургов В. Билль-Белоцерковского, Е. Любимова-Ланского, Б. Вакса, А. Глебова, Ф. Ваграмова, П. Арского.
Помимо, вполне возможно, искренней преданности коммунистической идее, немалую роль играла и простая человеческая зависть идеологически выверенных и стопроцентно лояльных авторов к совершенно нелояльному, но при этом возмутительно успешному сочинителю, за чьими пьесами охотились театры, на спектакли по которым ломилась публика. Частный и государственный интерес счастливым образом совпали.
Немедленного ответа не последовало: адресат был занят более важными делами. В конце января – начале февраля 1929 года проходит заседание Политбюро ЦК и Президиума ЦК, на котором прозвучат резкие политические обвинения Н. И. Бухарина и «правого уклона». Курс на уничтожение «старой гвардии», с ее идеалистической преданностью революции, ознаменовал перелом в политической и общественной жизни страны.
В начале января 1929 года Керженцев отправляет в Политбюро отзыв о пьесе, настаивая на ее политической тенденциозности. Подробный разбор он начинает с главного: «Автор идеализирует руководителей белогвардейщины и пытается вызвать к ним симпатии зрителей» и анализирует пьесу в целом (проводя параллели с Толстым и Шекспиром). Этот развернутый разбор «Бега», по-видимому, был призван заменить чтение пьесы целиком – для последующего обсуждения на Политбюро, четырежды (!) возвращавшегося к «Бегу».
В документе утверждалось, что «Бег» – это «апофеоз Врангеля и его ближайших помощников». Рассказано обо всех центральных персонажах: Хлудове, Чарноте, Врангеле, Корзухине, Голубкове, Серафиме, не забыта и Люська. Автор обвинял Булгакова в том, что Хлудов показан как блестящий военачальник, «волевая личность», Чарнота «великодушен, добр, прямолинеен и всегда поможет товарищу в беде» и со сцены безусловно «подкупит всякого зрителя и целиком расположит на свою сторону»; Голубков – «чистейшей воды идеалист», в его образе Булгаков показал нашу интеллигенцию такой, «какой она ему кажется: чистая, кристальная в своей порядочности, светлая духом, но крайне оторванная от жизни» и т. д.
Крайне опасным в пьесе является общий тон ее. Вся пьеса построена на примиренческих, сострадательных настроениях, какие автор пытается вызвать и, бесспорно, вызовет у зрительного зала к своим героям. <…> Все вожди белого движения даны как большие герои, талантливые стратеги, благородные, смелые люди, способные к самопожертвованию, подвигу и проч. <…> На три, четыре часа длительности спектакля классовая сознательность пролетарского зрителя будет притуплена, размагничена и порабощена чуждой для нас стихией. <…>
Необходимо воспретить пьесу «Бег» к постановке и предложить театру прекратить всякую предварительную работу над ней (беседы, читка, изучение ролей и проч.)402.
Протест вызывали такие, казалось бы, «внеклассовые» качества булгаковских персонажей, как готовность к состраданию, великодушие, доброта, дважды помянутое благородство… В стране нарастающей и культивируемой агрессии, всеобщей подозрительности, запрета на сочувствие ближнему пьеса возмущала не собственно фабулой, а скорее интонацией, видением персонажей как людей, заслуживающих понимания.
Булгаковский «Бег», возмутивший цензурные органы объемным изображением белых генералов, в центре которого – безумный больной Хлудов, сегодня может быть прочтен как пьеса о любви. Хлудов – этот бог войны, «офицерская косточка» – вдруг говорит: «Никто нас не любит, никто». Любовь превращает тихого приват-доцента с говорящей фамилией (Голубков) в отчаянно смелого человека, интеллигент-книжник обретает мужество, оказывается способным оплатить идеализм реальными и нелегкими поступками.
Парадоксальным образом пьеса о военном отступлении, боевых операциях с участием генералов и конников, главкома и контрразведки рассказывала о вполне «штатских», гражданских, общечеловеческих чувствах: любви и сострадании, ответственности и самопожертвовании, адресованных не «организации» и «массе», не далекой абстракции («завтрашнему дню», «будущему») – а отдельным, частным, конкретным и живым, любимым людям.
14 января 1929 года Политбюро передает вызвавшую нестихающую критическую бурю пьесу «на окончательное решение тт. Ворошилова, Кагановича и Смирнова А. П.». И 29 января Ворошилов (под грифом «Секретно») отправляет записку: «По вопросу о пьесе Булгакова „Бег“ сообщаю, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием (полагаю, что по разбору Керженцева. – В. Г.) и признали политически нецелесообразным постановку этой пьесы в театре»403. Само же принятое путем опроса членов Политбюро решение «о нецелесообразности постановки» от 30 января 1929 года отправляется под грифом «Строго секретно»404. Похоже, что не хотели огласки, кто именно поставил подпись под запрещением пьесы. И показательно, что под запрещением «Бега» будет стоять подпись не Луначарского или Воронского, Свидерского или Смирнова, а бывшего лихого конника Клима Ефремовича Ворошилова.
31 января милиционер Гаврилов записывает, как были распределены роли в «Беге», – уже зная о запрещении405.
7 февраля на письмо драматургов (но адресуя ответ одному лишь В. Билль-Белоцерковскому) отвечает Сталин:
«Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатии, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать либо полуоправдать белогвардейское дело. «Бег» в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я не имел бы ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы изобразил внутренние социальные пружины Гражданской войны в СССР406.
Это – прямые редакторские указания вождя, которые останутся неисполненными.
5 февраля «Комсомольская правда» сообщает: «„Бег“ поставлен не будет»407.
В печати всё те же люди – Бачелис, Блюм, Литовский – вновь напоминают о «правой опасности», грозящей расколом в партии. Одной из враждебно настроенных и влиятельных фигур назван драматург Булгаков.
В статье «Борьба с правым уклоном в искусстве» А. Гайсинский заявляет: «Нэп в области идеологии – опаснейшее явление», а суждения некоторых представителей Главискусства о пьесах «Дни Турбиных» и «Бег» – пример «миролюбивого отношения» к враждебной идеологии408. Журналист, скрывшийся за инициалами И. К., на страницах «Рабочей Москвы» дает изложение доклада Авербаха: «С кем и за что мы будем драться в 1929 году». «На посту» «даст отпор <…> тем, кто пытается протащить булгаковщину на сцену наших театров»409. Недавно рожденное словечко «булгаковщина» освобождено от кавычек, что сообщает о том, что оно укоренилось и стало будто бы общепризнанным. Все чаще стал употребляться и глагол «протащить», обвиняющий кого-то в преступном намерении, – он появится позже на страницах романа о «Мастере и Маргарите».
В начале 1929 года в Москве проходит Неделя украинской литературы, и 12 февраля Сталин принимает группу украинских писателей, требующих снятия «Дней Турбиных». Среди прочего, вождь сообщает:
Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие мерки: нереволюционная и революционная, советская – несоветская <…> Но требовать, чтобы и литература была коммунистической – нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая, там изображена правая опасность. Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе. Или, например, «Бег», его запретили, – это правая опасность. Это неправильно <…> Правая и левая опасность – это чисто партийное. <…> Гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие.
<…> У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины – Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и проч. И никак нельзя понять, за что же их собственно гонят большевики, – ведь и Серафима, и этот приват-доцент, оба они беженцы, по-своему честные неподкупные люди, но Булгаков – на то он и Булгаков – не изобразил того, что эти, по-своему честные люди сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. <…> Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает410.
Так видит вождь роль интеллигенции – как прослойки, «сидящей на шее» у рабочих. Но уже в 1930‑х годах стране понадобятся инженеры, врачи, ученые и писатели. Их будут поощрять, предоставляя щедрые пайки, квартиры, дачи, машины, награждая орденами и обустраивая быт.
В конце февраля В. Ф. Плетнев выступит с докладом, в котором напомнит, что вопрос о запрещении пьесы «Бег» был решен «только после большого шума со стороны советской общественности»411.
Так завершился первый круг борьбы вокруг пьесы. «Бег» нашел свое место в писательском столе. Финальной фразой прозвучала полученная автором официальная бумага:
Гражданин М. А. Булгаков, ввиду запрещения Главреперткомом постановки пьесы «Бег», Дирекция МХАТ просит Вас на основании п. 6 заключенного с Вами договора, возвратить полученный Вами по этой пьесе аванс в сумме 1000 рублей412.
А 7 декабря 1929 года драматург получит официальную справку:
Дана члену Драмсоюза М. А. Булгакову для представления Фининспекции в том, что его пьесы 1. «Дни Турбиных», 2. «Зойкина квартира», 3. «Багровый остров», 4. «Бег» запрещены к публичному исполнению413.
В обществе укрепляется (в нем укрепляют) мысль, что в органах власти должна работать армейская дисциплина, принятые решения не могут обсуждаться. И весной 1929 года Керженцев обвиняет Свидерского в том, что тот, находясь за границей, дал корреспонденту «буржуазной газеты» интервью, в котором выразил несогласие с запрещением «Бега», тем самым заявив, что власть в стране Советов – не монолит, и даже она состоит из людей с разными мнениями414.
Ругают не только «Бег» – не оставляют вниманием ни прежние пьесы, ни автора, хотя с начала 1929 года сообщения о «Беге» (запретить! обуздать! не дать протащить!) все заметнее теснят брань по адресу и «Турбиных», и «Зойкиной», и «Багрового острова».
На поверхности бушует мрачная публичная буря. А что происходит в глубине общества, все ли согласны с инвективами идеологов? Еще раз обратимся к агентурным сводкам. Оказывается, «Булгаков получает письма и телеграммы от друзей и поклонников, сочувствующих ему в его неприятностях»415. Упрямый автор не одинок, имеет поддержку, хотя далеко не все проявления человеческой солидарности становятся ему известны.
9 марта 1929 года одна из читательниц Булгакова, Софья Сергеевна Кононович416, набравшись храбрости, отправляет письмо любимому драматургу. Незадолго до этого в «Литературной энциклопедии» вышла статья о Булгакове, где о юморе писателя говорилось, что это «юмор дешевого газетчика», а сам он – типичный выразитель «внутренней эмиграции», враждебный советской действительности. Статья подтолкнула тонкого и глубокого почитателя творчества Булгакова высказать ему свое восхищение и поддержку. Письмо Кононович было перехвачено ОГПУ, и, похоже, Булгаков его не прочел.
Многоуважаемый Михаил Афанасьевич!
Давно хочется написать Вам. Да все не могла начать… Думать о Ваших произведениях невозможно без мыслей о большом, о России и, следовательно, в конечном счете и о собственной жизни.
Вас хвалят и ругают. Есть худшее – Вас нарочито замалчивают, Вас сознательно искажают, Вас «вытерли» из всех журналов, Вам приписывают взгляды, которых у Вас нет. <…> Ваши произведения выше тех небольших преград, которые называются баррикадами и которые сверху кажутся такими маленькими. Не могу без сердечного движения, без трепета, не укладывающегося в мои грубые и слабые слова, вспомнить сон Алеши Турбина и эти слова: «Для меня вы все одинаковые, все в поле брани убиенные». Эти слова рождают чувство глубокой и светлой благодарности к тому, кто их написал…
Не могу похвастать хорошим знанием современной литературы. Но не думаю, что ошибусь, если скажу, что между Вами и всеми прочими писателями расстояние неизмеримое. Разумеется, главным образом шкурный страх перед большим талантом и заставляет упрекать Вас в «монархизме», «черносотенстве» и бог ведает еще в чем. Впрочем, тут есть и многие другие, быть может, еще более глубокие причины, о которых не стану распространяться…
Вообще мне кажется, что Вас будут читать и читать, когда уже нас давным-давно не будет, и даже розовые кусты на наших могилах засохнут и погибнут, это первое.
Второе еще важнее. Русская литература, после великих потрясений, должна сказать свое великое и новое слово. Думается, это слово скажется или Вами, или кем-нибудь – кто пойдет по пути, Вами проложенному. Потому что манера Ваша есть нечто новое и настоящее, нечто соответствующее темпу нашего времени. <…>
Мысль не успевает и не хочет, и не должна успевать оформить впечатления и образы; мелькая, соединяясь и скрещиваясь – они дают тот воздух, дыша которым дышишь современностью, но не ежедневной, а в художественном преломлении, чуешь и чувствуешь не только ее поверхность, но и те взволнованные волны вопросов, которые под этой поверхностью мечутся.
То, что есть в Ваших произведениях своего, кроме своей, особенной манеры, – выражаясь схематически: их содержание (в противоположность форме) тоже так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его. Ведь я пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискренней и повторять общие места. <…>
…Теперь – к Вашим произведениям. Один из важных вопросов, ими поднимаемых, – вопрос о чести и тесно связанный с ним вопрос о силе, сильном человеке, о тех требованиях, которые в этом отношении предъявляются главным образом к мужчине, – где граница между трусостью и естественным страхом за свою жизнь? Впрочем, такая постановка вопроса по-женски пассивна. У Вас – больше: когда человек должен и может быть активен, во имя чего и как обязан он бороться? Дело тут не в «рецепте», не в указаньи идеала и пути к нему – дело тут в огромном вопросе, поставленном один на один самому себе, вопросе о праве на самоуважение, о праве гордо носить голову. До какой степени может дойти унижение?
Ответ – в «Дьяв<олиаде>». И последняя эта фраза – «Лучше смерть, чем позор» – новым светом озаряет весь трагикомический, фантастически-реальный путь героя; и видишь ясно, что в его униженьи – гордость, и в пассивности – активность (хотя бы в отказе от «удобного» выхода из тупика) <…> Русский героизм не похож на французский: слишком трудна и спутанна, слишком непонятна была всегда наша жизнь. <…>
В том-то и беда, что с одной стороны – практическое, жизненное, а с другой – знанья, культура, высота духа. И моста нету. <…> Хочется пожелать – нам прежде всего, – чтоб Вы писали и печатались, чтоб голос Ваш доходил до нас. Тяжкая вещь – культурная разобщенность, отсутствие спаянного общества, разрозненность и подозрительная враждебность людей. Грустное, грозное, трудное время417.
А что в те же месяцы пишут о Булгакове издания печатные?
М. Г. Майзель в «Кратком курсе советской литературы» ставит «Дьяволиаду» и «Белую гвардию» в ряд произведений новобуржуазной литературы, искажающих смысл Гражданской войны, показывающих «вандализм» новой власти и проч.418 В. М. Саянов в книге «Современные литературные группировки» повторяет характеристику писателя как «новобуржуазного», сообщает, что «в лице этого писателя мы имеем врага, а не союзника», и утверждает, что у советской общественности пьеса «Дни Турбиных» «встретила широкий отпор»419.
Казалось бы, все пьесы запрещены, в том числе не вышедший к зрителю «Бег», и говорить, собственно, не о чем. Печатного текста нет, репетиции остановлены – а пьесу и ее автора продолжают обсуждать как в закрытых, секретных документах, так и в открытой печати. Обвинения все тяжелее, автор ответить на них, по всей видимости, возможности не имеет.
Это диковинное литературоведение, с анализом персонажей и прочим, переместившись в пространство кабинетов и канцелярий высших учреждений государственной власти (Политбюро, ГРК и т. д.), приобретает новое качество прямоты в мотивировках запретов, скрытых под грифом «Секретно». Осколки не предназначенных для обнародования обсуждений временами долетают до Булгакова – в пересказах, намеках, с неминуемыми искажениями и двусмысленностями.
В конце 1920‑х об авторе «Бега» все чаще говорят как о классовом враге. Л. Авербах так и называет очередную свою статью: «Классовая борьба в современной литературе»420. Б. Волин продолжает: «Вылазки классового врага в литературе („Красное дерево“ Б. Пильняка, Союз писателей и прочее)»421, утверждая, что «Бег» – «глорификация белого движения»; П. Петров подытоживает: пьеса Булгакова сглаживает «грани классовой ненависти пролетариата к белой эмиграции и буржуазии»422.
Сохранилось свидетельство близкого друга писателя, литературоведа и философа П. С. Попова о том, что летом 1929 года писатель делал попытки «обратиться к историко-литературному заработку». 12 августа Попов пишет Булгакову:
Очень интересуюсь Вашими литературоведческими работами над текстами Тургенева. Не забудьте, что кроме редакторских комментариев Вам нужно составить предисловие. Проверили ли Вы текст?423
(Несколько ранее Булгакову предлагали писать скетчи для ГОМЭЦа, то есть для эстрадно-цирковых представлений, но от этого он отказался сразу.) Эти попытки отыскать иную, незаметную нишу для все-таки литературного заработка – свидетельства отчаянного положения отвергнутого литератора во второй половине 1929 года.
Автор обратился к иному жанру. Сменив драматургический на эпистолярный, он пишет письма наверх.
30 июля 1929 года Булгаков отправляет письмо человеку, на чье заступничество у него есть основания надеяться, – начальнику Главискусства А. И. Свидерскому. Напоминает о конфискации во время обыска ОГПУ рукописи «Собачьего сердца» и дневников. Начав с сообщения о запрете на сочиненные им пьесы, далее затравленный сочинитель сообщает:
Я должен сказать, что в то время, как мои произведения стали поступать в печать, а впоследствии на сцену, все они до одного подвергались в тех или иных комбинациях или сочетаниях запрещению. <…>
По мере того, как я писал, критика стала обращать на меня внимание, и я столкнулся со страшным и знаменательным явлением:
Нигде и никогда в прессе в СССР я не получил ни одного одобрительного отзыва о моих работах, за исключением одного, быстро и бесследно исчезнувшего газетного отзыва в начале моей деятельности, да еще Вашего и Горького отзывов о пьесе «Бег».
Ни одного. Напротив: по мере того, как имя мое становилось известным в СССР, пресса по отношению ко мне становилась все хуже и страшнее.
Обо мне писали как о проводнике вредных и ложных идей, как о представителе мещанства, произведения мои получали убийственные и оскорбительные характеристики, слышались непрерывные в течение всех лет моей работы призывы к снятию и запрещению моих вещей, звучала открытая даже брань.
Вся пресса направлена была к тому, чтобы прекратить мою писательскую работу, и усилия ее увенчались к концу десятилетия полным успехом: с удушающей документальной ясностью я могу сказать, что я не в силах больше существовать как писатель в СССР.
И отчаявшийся литератор заканчивает письмо просьбой выпустить его за границу «на тот срок, который будет найден нужным»424.
Это, первое из известных нам обращений «наверх», Булгаков адресует влиятельному человеку, симпатизирующему ему, пытавшемуся отстоять «Бег», и оно значительно жестче, прямее, да и попросту короче, нежели широко известное сегодня письмо правительству 1930 года, о котором будет идти речь позже.
Свидерский в тот же день устраивает встречу с драматургом и пишет после нее секретарю ЦК ВКП(б) А. П. Смирнову:
Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. <…> При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым425.
Смирнов с этим не согласен. Он отправляет письмо Булгакова вместе с запиской Свидерского В. М. Молотову – с просьбой «разослать их всем членам и кандидатам Политбюро» под грифом «Секретно», от себя добавив, что просьбу о выезде за границу надо отклонить, так как «выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличивать число врагов»426.
В том же июле 1929 года Булгаков отправляет письмо, адресованное нескольким влиятельным лицам: Сталину, М. И. Калинину, А. И. Свидерскому и М. Горькому:
…К настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещенными. <…> Не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться больше в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства <…> прошу Вашего ходатайства перед правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР <…>427
Ответа на этот отчаянный крик не последовало.
И видимо, тогда же очередное донесение осведомителя сообщает: «Писатель Булгаков говорит, что занимается правкой старых рукописей и закрывает драматургическую лавочку»428.
3 сентября он отправляет еще два письма, секретарю ЦИК А. С. Енукидзе и Горькому, в которых вновь просит выпустить его за границу «на тот срок, который Правительство Союза найдет нужным назначить мне»429. 28 сентября пишет Горькому (попросившему через Замятина о копии прежнего письма), повторяя просьбу «вынести гуманное решение – отпустить меня!»430.
Ответов ни от одного из адресатов не будет. Другие страны Булгаков так и не увидит.
В разговоре со мною 18 марта 1979 года П. А. Марков рассказывал, что во МХАТе существовала версия о том, что, излагая Рыкову свою позицию по отношению к пьесе, Сталин сказал: «В „Беге“ я должен был сделать уступку комсомолу». В той же беседе П. А. Марков объяснял мне:
Рыков покровительствовал Константину Сергеевичу и МХАТ. Руководитель театра Станиславский в 1927 году еще имел громадное влияние. И секретарь Рыкова говорила со Станиславским по прямому проводу, без промежуточных инстанций431.
В Театре им. Вс. Мейерхольда идет спектакль «Клоп», и со сцены звучит хлесткая фраза Маяковского о словаре умерших слов: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…» Весной 1929 года Булгаков задумывает драматургическую реплику – пьесу «Блаженство», ответ на сатиру Маяковского. Пьеса будет написана несколькими годами позже, но на машинописном тексте 3‑й редакции будет поставлена дата: 1929–1934.
После полутора лет газетно-журнальных поношений, заседаний худполитсоветов, ГРК, Главискусства, ОГПУ и Политбюро пьеса «Бег», кажется, убита. Представляется, что самое точное объяснение глубинных причин изгнания булгаковских сочинений со сцены дал один из внимательных рецензентов, объяснивший социальную роль старых «художественников» и их любимого драматурга: в спектаклях МХАТ
улавливался образ нашей массовой интеллигенции, тех верхушек «образованных классов», по выражению Н. Добролюбова, которые претендовали на место в истории общественной и политической жизни своей страны. Это наша либеральная, оппозиционная демократия432.
В конце 1920‑х годов на «место в истории» опороченная, высмеянная интеллигенция, по мнению печатавшихся рецензентов, претендовать никак не могла. Дни ее были сочтены.
По иронии судьбы, автор этих строк, старый большевик, революционер по профессии и бунтарь по характеру, Михаил Владимирович Морозов433, написавший о судьбе «либеральной оппозиционной демократии», спустя год возглавит Театральную секцию ГАХН, оплот этой самой буржуазной интеллигенции, и при разгоне ГАХН станет энергично защищать ее сотрудников, увлеченных профессией профессоров-либералов.
«Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров» сняты, «Бег» не пропущен. Гоголевские «Мертвые души», превращенные Булгаковым в пьесу, могут служить иронико-драматическим комментарием к происходящей смене репертуара. К 1930 году когорта пролетарских, «правильных» драматургов завоевывает МХАТ. Вишневский с «Первой Конной», Киршон с «Хлебом», Погодин с «Дерзостью». Правда, до премьер дойдут не все.
История с попыткой поставить «Бег» на сцене на этом не окончится. В 1930‑х годах МХАТ еще дважды вернется к пьесе, размышляя над судьбами персонажей в меняющейся историко-культурной ситуации.
Но самым удивительным становится то, что автор четырех запрещенных к исполнению пьес, превратившийся в драматургического изгоя, приступает к сочинению пятой.
В декабре 1929 года Булгаков сдает во МХАТ рукопись «Кабалы святош».
«Автор хочет бить нашу цензуру, наши порядки…»
«Кабала святош»
Стоит вдуматься: только что запрещены четыре пьесы, результат работы нескольких московских лет, нельзя открыть газету, чтобы не встретить оскорбительный выпад, едкое сравнение, обвинение в бездарности и примитивности художественного мышления. И в этой обстановке в месяцы октября – декабря 1929 года Булгаков создает одну из лучших своих пьес, драму «из музыки и света», рассказывающую о горестях и бедах такого же сочинителя, французского комедиографа, имеющего несчастье «родиться с умом и талантом» в государстве, где правят бал лицемеры Кабалы.
В сюжете переплетены две истории: рассказ о перипетиях разрешения и запрещения «Тартюфа», в котором Мольер осмелился поднять голос против ханжества и лжи, – и событиях личной, приватной жизни драматурга, в которой и поздняя любовь к юной актрисе, омраченная изменой, и преданность верного слуги, и предательство (с последующим раскаянием) ученика, и горе оставленной стареющей жены. В «Кабале» плетутся интриги, сочиняются доносы, частная жизнь превращается в средство давления и шантажа.
Действие пьесы стремительно. Начавшись с удавшегося представления и королевской похвалы, через угрозы членов Кабалы Священного Писания, приема комедиографа королем Франции и доноса испуганного юного актера, оно вновь возвращается на сцену, где будет сыгран последний спектакль по-настоящему, а не мнимо больного Мольера.
На страницах ранней редакции пьесы остался рискованный диалог двух братьев Кабалы.
СИЛА. Зададим себе такой вопрос: может ли быть на свете государственный строй более правильный, нежели тот, который существует в нашей стране? Нет! Такого строя быть не может и никогда на свете не будет. Во главе государства стоит великий обожаемый монарх, самый мудрый из всех людей на земле. В руках его все царство, начиная от герцога и кончая последним ремесленником, благоденствует… И все это освящено светом нашей католической церкви. И вот, вообразите, какая-то сволочь, каторжник, является и, пользуясь бесконечной королевской добротой, начинает рыть устои царства <…> Он голоштанник, он ничем не доволен. <…> Герцог управляет, ремесленник работает, купцы торгуют. Он один праздный. Я думаю вот что: подать королю петицию, в которой всеподданнейше просить собрать всех писателей во Франции, все их книги сжечь, а самих их повесить на площади в назидание прочим.
ВЕНЕЦ. Проект сильный, но едва ли выполнимый434.
Что означало создание «Кабалы святош», наивность или отчаяние?
8 января 1930 г. датирован отзыв рецензента ГРК Исаева на пьесу «Кабала святых» (так! – В. Г.):
Пьеса является злой и резкой сатирой против духовенства, против власти. Очевидно, автор не без тайного замысла в такой скрытой форме хочет бить нашу цензуру, наши порядки. Об этом свидетельствует эпиграф к пьесе («Для его славы уже ничего не нужно…»). Однако полагаю, что «переключение» в нашу эпоху слишком замаскированно [и] трусливо.
Выводы: пьеса бьет по духовенству, по царскому двору. Дает превосходную исторически-бытовую картину эпохи Людвига (так! – В. Г.) XIV.
Вместе с тем пьеса обладает исключительными художественными достоинствами: превосходный язык, театральность, яркость и выпуклость изображаемых лиц, занимательность действия, драматургическое его напряжение и проч.
Предлагаю пьесу разрешить, рекомендовать ее для постановки или Малому театру или Театру Вахтангова.
Предложить автору включить картины положения крестьянства435.
Запрета пьесы еще нет, но он витает в воздухе.
16 января Булгаков пишет брату в Париж:
Сообщаю о себе: все мои литературные произведения погибли, а также и замыслы. Я обречен на молчание и, очень возможно, на полную голодовку. В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 г. я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами Москвы она признана самой сильной из моих пяти пьес. Но все данные за то, что ее не пустят на сцену436.
И все же 19 января 1930 года автор читает «Кабалу святош» во МХАТе. Театр пьесу одобряет. В середине января принимает пьесу в репертуар (и два месяца над ней работает).
Донесение, поступившее от коллеги-литератора, сохранило комментарий автора о том, как происходило обсуждение в Художественном театре:
…Что же до моей пьесы о Мольере, то ее судьба темна и загадочна. Когда я читал ее во МХАТе, актеров не было – назначили читку, когда все заняты. Но зато художественно-политический совет (рабочий) был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество, один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово maître («учитель», обычное старофранцузское обращение), принял его за «метр» и упрекнул меня в незнании того, что во времена Мольера метрической системы не было…
Я сам погубил пьесу! Кто-то счел ее антирелигиозной (в ней отрицательно выведен парижский архиепископ), а я сказал, что пьеса не является антирелигиозной…437
Булгаков видит в Мольере собрата по несчастью и профессии, в его судьбе прочитывает собственную. Пьеса повествует о Мольере, человеке и комедиографе, нажившем благодаря острому взгляду и неуемности характера множество врагов из числа сильных мира сего, блистательном авторе театра и комическом актере, познавшем взлеты и падения, признание и забвение, преданность и предательство, ненависть прототипов комедий и приязнь собеседников и друзей.
Но не только о судьбе Мольера рассказывала «Кабала святош». Не меньшее место в пьесе отводилось силе и власти тайной полиции, корыстных людей, окружающих монарха и творящих свои черные дела под сенью якобы религии, будто бы веры.
К этому времени уже многое сказано о том, что коммунистическая идея утопична и схожа с новой верой, что портреты вождей по сути сменили старые божницы и лики святых в бесчисленных клубных «красных уголках» и т. д., а ОГПУ стало всесильным. Органы «компетентны», кажется, во всех вопросах жизни страны, их сотрудники ведут наблюдение за подозрительными личностями, вынашивающими враждебные планы, ведают пропиской, оценивают настроения в обществе, цензурируют художественные произведения, решают, выпускать из страны того или иного гражданина либо нет. Сотрудники органов видятся обывателю как воплощение силы пугающей и чуть ли не таинственной (тем более что изображение в художественных произведениях их работы не приветствуется).
Но автор, в чьей искренности трудно усомниться, пишет брату о новой вещи, что «современность в ней я никак не затронул»438.
Важно осознать, что то, что сегодня мы понимаем о ситуации конца 1920‑х, о «великом переломе» и его последствиях для страны, о рождении и реализации идеи Архипелага ГУЛАГа (название позднейшее, оно появилось после публикации книги А. И. Солженицына)439, – все это происходило впервые и заранее никому известным не было. Доносы, аресты, пытки на допросах, ссылки и расстрелы без правовой процедуры, работавшей прежде в России, с адвокатами и публичным состязанием обвинителя и защиты, – все это входило в повседневность страны неделя за неделей, месяц за месяцем. И несмотря на всю художническую интуицию, острое и цепкое внимание к происходящему вокруг – подобного опыта ни у Булгакова, ни у кого из окружающих не было, просто не могло быть.
Провидец и чтец человеческих душ, похоже, не до конца понимает, как за месяцы 1927–1928 годов меняются, сжимаясь, границы дозволенного, как шаг за шагом людьми овладевают страх и ложь. Рожденный иным веком, повзрослевший и ставший зрелой личностью до 1917-го, литератор Булгаков остается с прежними представлениями о норме социального поведения, возможностях свободного высказывания.
Иначе трудно объяснить, как уже после того, как была создана и упрочилась одиозная репутация писателя, свершилось его отлучение сначала от печатного станка, а затем и от сцены – и публично многократно объяснено, отчего и за что, – он пишет пьесу, которая из‑за точности и глубины писательского взгляда много опаснее и острее и «Турбиных», и «Бега». Сочиняет пьесу, в которой говорит о бессилии творческой личности перед сплоченностью членов мрачной Кабалы и способами их действий: шантажом, доносом, угрозами пыток, планирующимся убийством. Позднее, уже в 1935 году, на возобновленных репетициях пьесы, Булгаков говорил, что зрителя на спектакле должна охватить боязнь за жизнь Мольера, он должен быть в напряжении – «а вдруг его зарежут»440. Современный биограф писателя А. Варламов находит точную формулу происходящему: «Булгаков, как и созданный им Мольер, изо дня в день, из года в год жили свои жизни, словно на войне»441.
В «Кабале святош» останется реплика униженного Королем Мольера, обращенная к слуге: «Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. <…> Не унижайся, Бутон! Ненавижу бессудную тиранию!»442 И перед выпуском спектакля проницательный интерпретатор литературных текстов Вл. И. Немирович-Данченко объяснял актерам:
Не может быть, чтобы писатель мог мириться с насилием. Не может быть, чтобы писатель не насиловал свою свободу. Таких пьес не бывало, чтобы весь высказался <…> У писателя всегда есть чувство, что он в себе что-то давит. Вот это чувство я считаю одним из самых важных элементов в образе Мольера443.
11 февраля 1930 года Булгаков читает «Кабалу святош» в Союзе драматургов, а уже на следующий день приходит донесение осведомителя.
Агентурная сводка:
Обычно оживленные вторники в Драмсоюзе ни разу не проходили в столь напряженном и приподнятом настроении большого дня, обещающего интереснейшую дискуссию, как в отчетный вторник, центром которого была не только новая пьеса Булгакова, но и главным образом он сам – опальный автор, как бы возглавляющий (по праву давности) всю опальную плеяду Пильняка444, Замятина445, Клычкова446 и Ко.
Собрались драматурги с женами и, видимо, кое-кто из посторонней публики, привлеченной лучами будущей запрещенной пьесы. В том, что она будет обязательно запрещена, почему-то никто не сомневался даже после прочтения пьесы, в цензурном смысле вполне невинной. Останавливаться на содержании пьесы не стоит. Это, в общем, довольно известная история «придворного» творчества Мольера, гибнущего в результате интриг клерикального окружения Людовика XIV…447
Осведомитель продолжает:
Формально (в литерат. и драматург. отношении) пьеса всеми ораторами признается блестящей, первоклассной и проч. Страстный характер принимала полемика вокруг идеологической стороны. Ясно, что по теме пьеса оторвана от современности, и незначительный антирелигиозный элемент ее не искупает ее никчемности в нашу эпоху грандиозных проблем соц. строительства.
Правые, защитники необходимости постановки пьесы (Потехин448, Кошевский449, Берестинский450, отчасти Поливанов451, особенно Осенин452), считают, что пьеса нужна современному театру как мастерски сделанная картина наглядной разнузданности нравов и притворного раболепства одной из ярчайших эпох империализма. Левые, считающие пьесу вредной как произведение аполитического искусства, как безделушку, в которой даже антирелигиозные моменты (пополам с мистикой) ничего не прибавляют к уже известным предыдущим антирелигиозным постановкам других пьес…453
Но «исключительные художественные достоинства» не могут быть важнее крамольной сути пьесы. И 18 марта автор получает записку из Главреперткома: «По распоряжению Председателя ГРК сообщаю, что пьеса Ваша „Кабала святош“ к постановке не разрешена»454.
Репетиции пьесы прекращены. В творческом сознании актеров живут роли уже трех спектаклей – турбинцев, участников «Бега», а теперь еще и французских собратьев по актерскому цеху из «Кабалы святош».
Итак, все сочиненные Булгаковым пьесы от сцены отлучены, не печатается проза. Но все равно имя драматурга не сходит с газетно-журнальных полос, память о спектаклях, уже снятых, жива, знание о еще не выпущенных вызывает споры, а уничтоженный, казалось бы, автор не лишился почитателей его творчества. Когда ГОТОБ (Государственный театр оперы и балета – прежнее название Большого театра) выпускает оперу С. Потоцкого «Прорыв», ему указывают на недопустимость совершенно явных «турбинских ассоциаций»455, и это обвинение повторяется на страницах не одного и не двух изданий. Булгаков продолжает оставаться действенным участником театрального и литературного процесса, пусть и в качестве мишени обличений.
Хорошая новость: имя Булгакова всем известно, и что он талантлив, не отрицает никто. Новость плохая: репутация нелояльного сочинителя тоже известна всем. И хотя драматургический голод театров никуда не делся и Булгакова хотят ставить, его пьесы запрещены. Многое зависит от изменений идеологической конъюнктуры в стране и настойчивости мхатовских заступников за своего автора.
6 октября появляется еще один отзыв о застрявшей в литчасти МХАТа «Кабале святош» (уже под названием «Мольер»):
Типичная буржуазная пьеса без классового подхода. Сделана хорошо в сценическом отношении. Если есть какие-либо еще возможности улучшить классовый подход в пьесе, то это следует сделать в виде развернутых реплик и диалогов между действующими лицами.
К постановке пьесы особых возражений нет, т. к. она содержит в себе в значительной мере отрицательную критику феодального гос. строя, феодальной церкви и проч.
Литеровать рекомендую буквой «Б» с оговоркой в протоколе ГРК по существу пьесы456.
Литера «Б» в реперткомовском перечне хотя и комментировалась как «произведение, вполне идеологически приемлемое и допускаемое беспрепятственно к повсеместному исполнению»457, тем не менее на практике трактовалась как запрещение к постановке в рабочих кварталах и скорее настораживала, чем привлекала театры.
Начинается чистка Главискусства. Новый руководитель Ф. Ф. Раскольников обвиняет прежнее руководство в том, что оно держало «курс на пьесы Булгакова <…> и на заведомое пренебрежение революционным театром»458. Либерал Свидерский отправлен послом в Латвию.
Повторю: снятие со сцен всех булгаковских пьес вовсе не означает, что их перестали ругать. Имя Булгакова продолжает мелькать на газетно-журнальных полосах. В конце 1929 – начале 1930 года Р. Пикель выпускает несколько статей вдогонку уже совершившемуся разгрому драматурга, приветствуя «очищение репертуара от булгаковских пьес»459. Но и об уже снятых пьесах споры продолжаются.
В связи с оценкой немецким критиком П. Гергардом Булгакова как «выдающегося драматурга» В. Полонский упрекнет того в неразборчивости460. А. Глебов продолжает ругать «Багровый остров» («злокачественная пьеса»), а в связи с «Бегом» сообщит, что пьесы Булгакова «дают пищу реакционным, демобилизующим классовую энергию трудящихся, настроениям»461. Упомянув три булгаковские пьесы («Зойкину квартиру», «Багровый остров» и «Бег») в передовой статье «Единство пролетарского театрального фронта», «Советский театр» пишет о «злобных политических памфлетах» и «идеологическом нападении»462 Булгакова. В 1930 году под редакцией неутомимого Авербаха выйдет сборник статей – самого Л. Л. Авербаха и В. М. Киршона «Почему мы против „Бега“ Булгакова», В. В. Ермилова «Правая опасность в области искусства» и др.463
Тем не менее когда Всероссийский союз советских писателей организует выставку «Писатели и Гражданская война», на ней «драматург занимает видное место»464.
Хотя основное внимание критиков сосредоточено на пьесах Булгакова, случаются попытки критического разговора о Булгакове-прозаике. Как ни удивительно, не забыты ни «Роковые яйца», ни «Дьяволиада». Г. Горбачев вспоминает о «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах» («издевательство над советским строительством» и «осмеяние новой власти»)465; «Литературная энциклопедия» помещает статью И. Нусинова, в которой он пишет о «диаволизировании революционной нови» в «Дьяволиаде» и «выражении тенденций «внутренней эмиграции» в «Белой гвардии»466.
Пространство для маневра все сужается. Отвечать через печать невозможно, вряд ли драматургу была бы предоставлена площадка, да и слишком многих оппонентов пришлось бы затронуть. И Булгаков вновь прибегает к средству крайнему, отчаянному. На этот раз (28 марта) он отправляет послание-манифест, с фактами и цитатами, не смягчая и затушевывая, а напротив, акцентируя суть своего творчества.
Это письмо хранится в архивах Лубянки в специальной папке (с грифом «Совершенно секретно» и надписью: «ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – МГБ – МВД – КГБ»): «Дело по Секретному отделу ОГПУ. Письмо драматурга М. Булгакова (автора пьесы „Дни Турбиных“), адресованное Правительству СССР об ограждении его от необоснованных критических нападок печати и о помощи в устройстве на работу».
«Начато – апрель 1930 г. Окончено – апрель 1930 г. Срок хранения – постоянный».
В папке записка рукой М. А. Булгакова:
2 апреля 1930 г.
В Коллегию Объединенного Государственного Политического Управления
Прошу не отказать направить на рассмотрение Правительства СССР мое письмо от 28 марта 1930 г., прилагаемое при этом. М. Булгаков467.
Далее – текст письма, занимающего несколько страниц, и даже разбитого на одиннадцать (!) подглавок. Булгаков сообщает наверх о своих принципах, которым намерен и впредь неукоснительно следовать. Письмо, похоже, должно было быть воспринятым как вызов. Оно сочиняется как манифест писателя, отстаивающего право свободно мыслить. Начиная с простой фразы, ранее промелькивающей помимо внимания: «Я не шепотом в углу выражал эти мысли» (должно было пройти много лет, нужно было повзрослеть и заметить, наконец, сколь привычным и уже незамечаемым людьми стало выражать свои мысли именно что в углу, без посторонних свидетелей, приглушенным шепотом), – и заканчивая отточенной формулой и вопросом: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?»
Кажется, что письмо не нуждалось в специальном обдумывании – у автора было достаточно времени, чтобы осмыслить происходящее. Противоборствующие стороны хорошо понимали, что и почему они отстаивают.
Рассказывая о многочисленных советах сочинить «коммунистическую пьесу» и обратиться «наверх» с «покаянным письмом», Булгаков сообщает, что навряд ли ему «удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет». Другими словами, каяться для писателя означает лгать.
Во второй подглавке Булгаков цитирует выразительные критические реплики в его адрес, в том числе и принадлежащую Луначарскому, и формулирует цель письма: с документами в руках показать, что вся пресса единодушно доказывала, что «произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать». После чего сообщает, что «пресса СССР совершенно права». В 3‑й подглавке он говорит, в связи с «Багровым островом», о свободе печати («я горячий поклонник этой свободы»). В 4‑й – об особенностях своей писательской индивидуальности, перечисляя самые важные ее черты: «черные и мистические краски» в сатирических повестях, «яд, которым пропитан язык», глубокий скептицизм в отношении революции и, кажется, самое главное – «изображение страшных черт моего народа».
Булгаков заявляет о том, что он «стал сатириком, и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима».
И заканчивает свое послание вождю исполненными достоинства словами:
Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном: за пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно468.
Булгаков называет лучшим человеческим слоем в отсталой стране интеллигенцию, что тоже было крамолой. Пролетариат и нищий крестьянин (зажиточный хозяин – это бесспорный враг) – вот кто был лучшим и опорным слоем нового государства: подверженная в силу своей необразованности воздействию провозглашаемых лозунгов и клише, сравнительно легко управляемая народная масса. Наконец, заявляет о бессмысленности революций, не делая секрета из своих, в общем, уже неуместных убеждений.
Нужно сказать главное: со Сталиным так не смел говорить никто. Без страха и фальши, реверансов в сторону идей большевизма и обещаний встать на путь исправления, – напротив, демонстративно настаивая на собственных представлениях о том, как должно быть устроено государство – и что составляет суть творчества.
На листках письма – пометки Г. Ягоды и резолюция: «Надо дать возможность работать, где он хочет. Г. Я. 12 апреля»469.
Сотрудник ОГПУ С. Гендин «в связи с письмом Булгакова к Сталину <…> составляет специальный Меморандум, обзорный документ о своем подопечном». Биографические сведения включают и участие писателя в «антисоветской нелегальной литературной группе „Зеленая лампа“» в 1923–1927 годах, и то, что некоторые пьесы он посылает для постановки за границей, и то, что поддерживает переписку с братом-«белоэмигрантом». Вывод наблюдателя:
После снятия с постановки пьес Булгакова его материальное положение сильно обострилось, он считает, что в СССР ему делать нечего, и вопрос о поездке за границу приобретает для него весьма актуальное значение…470
В июле 1930 года Булгаков вновь просит о выезде за рубеж. Нет ответа. И еще раз – осенью того же года пишет Енукидзе, Горькому.
Отчаянный шаг писателя был не только прочитан, но и повлек за собой неожиданные практические действия: его письмо попытались превратить в аргумент сталинской гуманности и человеколюбия. В той же папке хранится и третий документ из папки – донесение информатора на имя Агранова471 («Письмо М. А. Булгакова». Б. д., без подписи)472, пересказывающего (с неточностями) 24 мая 1930 года это письмо и завершающееся строчками о том, что говорят о вожде «в литературных интеллигентских кругах»:
Необходимо отметить те разговоры, которые идут про Сталина сейчас в литерат. интеллигентских кругах.
Такое впечатление, словно прорвалась плотина и все вдруг увидали подлинное лицо тов. Сталина.
Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, ненависти, мнений как об озверелом тупом фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий, недостатков, разрухи и т. п., как о каком-то кровожадном существе, сидящем за стенами Кремля. Сейчас разговор: «А ведь Сталин действительно крупный человек. Простой, доступный». <…> А главное, говорят о том, что Сталин совсем ни при чем в разрухе. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу.
Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, рассказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова473.
После нескольких отчаянных писем Булгакова наверх и самоубийства Маяковского, ошеломившего всех, Сталин звонит Булгакову.
Застигнутый врасплох, писатель остается недоволен собой в этом кратком разговоре. На провокативный полувопрос Сталина («Что, мы вам сильно надоели?») не отвечает просьбой покинуть страну. Мы никогда не узнаем, как могла бы сложиться его писательская жизнь, если бы он уехал (как близкий ему Евг. Замятин), но роман «Мастер и Маргарита» либо обрел бы иной вид, а возможно, и не был бы создан.
Булгакова срочно берут в штат МХАТа – режиссером-ассистентом и инсценировщиком. И первой порученной ему работой становится переложение для сцены «Мертвых душ»474.
Вместо репетиций своей пьесы драматургу предложена переделка чужой прозы. И тем не менее – это любимый Гоголь, это будущее сценическое действо, актерская игра – радость для автора театра. И приступая к превращению в пьесу гоголевской поэмы, Булгаков избирает (угадывает) самый центр вещи: образ автора, из далекой выси с любовью и горечью смотрящего на Россию и сограждан. Драматург создает героя (Рассказчика, Чтеца) из строк, пассажей и реплик самой поэмы, не дописывая собственного, нового текста, а свободно избирая нужное со страниц «Мертвых душ». Похоже, что Булгаков дает волю и режиссерскому дару. В структуре инсценировки выражена и работает устойчивая черта его авторской поэтики: соотнесение двух времен, двух точек зрения, вечной (Рима, облика Вечного города) – и земной, сегодняшнего человеческого роения, интриг и интрижек. Именно из этого противопоставления складываются и вырастают характеры и типы. Плюшкин как инвариант Скупого рыцаря и Собакевич, Коробочка, Манилов…
Идеями драматурга загорается В. Г. Сахновский475, их подхватывает Дмитриев476, и трое высоких профессионалов начинают обдумывать и сочинять образ будущего спектакля.
Но даже и невинная инсценировка гоголевской поэмы, текста которой еще нет, уже вызывает настороженность и превентивные идеологические опасения.
Взволнованный сотрудник тайной полиции отправляет донесение в Секретно-политический отдел ОГПУ (видимо, ранней осенью 1930 года):
…Булгаков известен как автор ярко выраженных антисоветских пьес, которые под давлением советской общественности были сняты с репертуара московских театров. Через некоторое время после этого сов. правительство дало возможность Булгакову существовать, назначив его в Моск. Худож. театр в качестве пом. режиссера. Это назначение говорило за то, что советское правительство проявляет максимум внимания даже к своим идеологическим противникам, если они имеют культурный вес и выражают желание честно работать.
Но давать руководящую роль в постановке особенно такой вещи, как «Мертвые души», Булгакову весьма неосмотрительно. Здесь надо иметь в виду то обстоятельство, что существует целый ряд писателей (Пильняк, Большаков477, Буданцев478 и др.), которые и в разговорах, и в своих произведениях стараются обосновать положение, что наша эпоха является чуть ли не кривым зеркалом николаевской эпохи 1825–1855 гг. Развивая и углубляя свою абсурдную мысль, они тем не менее имеют сторонников среди части индивидуалистически настроенной советской интеллигенции.
Булгаков несомненно принадлежит к этой категории людей, и поэтому можно без всякого риска ошибиться сделать предположение, что все силы своего таланта он направит к тому, чтобы в «Мертвых душах» под тем или иным соусом протащить все то, что он когда-то протаскивал в своих собственных пьесах. Ни для кого не является секретом, что любую из классических пьес можно, даже не исправляя текста, преподнести публике в различном виде и в различном освещении. И у меня является опасение, что Булгаков из «Мертвых душ», если он останется в числе руководителей постановки, сделает спектакль внешне, может быть, очень интересный, но по духу, по существу враждебный советскому обществу.
Об этих соображениях я считаю нужным сообщить Вам для того, чтобы Вы могли заранее принять необходимые предупредительные меры479.
Булгаковская идея инсценировки, оцененная и поддержанная Сахновским и Дмитриевым, режиссером и художником, – Немировичем-Данченко отвергнута. «Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил exposé. И Рима моего мне безумно жаль!»480 – с горечью писал Булгаков П. С. Попову. Кто знает, только ли из‑за стремления к обучению мхатовцев актерскому мастерству «Мертвые души» в режиссуре Станиславского превратились в школярскую систему диалогов, пусть и представившую яркие актерские работы, но уничтожившую самый воздух вещи, ее распахивающийся горизонт «поэмы» о человеке в мире. Не встревожился ли режиссер опасениями прессы?
Можно предположить, что отталкивал от неожиданных булгаковских идей и шокирующий опыт «Ревизора» Мейерхольда (воспринятый Станиславским по пересказу зрителя).
Образ Первого (Рассказчика, Чтеца) к декабрю был удален, а действие возвратилось из Рима в Россию. Станиславский укоренял гоголевскую фантасмагоричность, чудовищность русской повседневности, рождающей монструозные образы, в быте, его почти ритуальном течении. Но Гоголь насквозь метафизичен. Его ощущение жизни пронизано токами чего-то большего, чем человеческое существование, – ощущением мироздания как арены борьбы добра и зла. Мертвые души – не мертвые люди (покойники, трупы – тела), а недовоплощенные, неодухотворенные потенции. За этим стоит высокое представление о человеке как подобии Божьем, его безграничных возможностях, безнадежно пропавших, скукожившихся, обратившихся в прах, тлен и убожество выведенных на авансцену российских типов…
«Мертвые души» как неизбывная божественная комедия к концу 1920‑х годов никак не коррелировала с идеями о «новом человеке», гоголевскому высокому пессимизму чуждыми. В России наступали годы запрета на трагическое, в том числе и в прочтении классических произведений, годы настойчиво провозглашаемого социального оптимизма, который не мог почувствовать и разделить Булгаков.
«…Ведь я не совсем еще умер, я хочу говорить настоящими моими словами!»
1931–1934
К 1931 году, казалось бы, публичные инвективы в адрес Булгакова могли бы уже и прекратиться. Но этого не происходит.
Один за другим появляются энциклопедические издания и сборники статей о новой советской литературе и ее течениях, и в этих изданиях творчество писателя комментируется формулами из газетных статей.
Малая советская энциклопедия называет несколько вещей Булгакова, присовокупляя их краткие оценки («Роковые яйца» – «памфлет против советского строительства», «Дьяволиада» и «Зойкина квартира» – тенденциозное изображение отрицательных сторон советского быта, «Белая гвардия» – идеализация белых офицеров). Сам же автор – «один из ярких выразителей новобуржуазной идеологии»481. В Советском энциклопедическом словаре формула несколько уточняется («представитель правого буржуазного крыла в современной литературе»)482. В «Кратком очерке истории русской литературы XIX и XX веков» о повестях «Дьяволиада» и «Роковые яйца» говорится как о «дискредитации всего социалистического строительства»483. Эту точку зрения поддерживает Г. Е. Горбачев: повести и рассказы Булгакова не что иное, как «осмеяние новой власти»484.
Воспроизводя общий официальный ход рассуждений, утвердившийся в России рубежа 1920–1930‑х годов, литературные критики сопоставляют художественные вещи – с «социалистическим строительством», «строем», властью, по умолчанию сообщая писательству функцию пропаганды и агитации.
В. М. Саянов формулирует еще жестче: «…в лице этого писателя мы имеем врага», «Роковые яйца» – «издевка над нашим строем»485, А. Афиногенов в статье «Творческий метод театра»486 в связи с «Турбиными» упрекает Булгакова в отсутствии объективного взгляда на белое движение. Раскаивается в ошибочном своем шаге И. С. Гроссман-Рощин, заявив, что впал в «недопустимое заблуждение»487, причислив Булгакова к попутчикам.
Мягче оценивает творчество Булгакова М. Г. Майзель, сообщая в «Кратком очерке современной русской литературы» об «облагораживании» героизма белых, «опоэтизировании» их быта в «Белой гвардии» и называя «Дьяволиаду» и «Похождения Чичикова» «фантастическими памфлетами»488.
Продолжают высказываться и театральные критики. Н. Волков, напомнивший в газетном обзоре, что театральный дебют беллетриста Булгакова вызвал политическую бурю»489, в ответ получает отповедь на страницах «Советского искусства» за то, что не дает политической оценки вещам Булгакова и «начисто смазывает крупнейшее значение в жизни советского театра первой враждебной нам вылазки в драматургии» (выделено мной. – В. Г.)490. С. Амаглобели в связи с «Турбиными» и «Багровым островом» возмущенно пишет об изображении Булгаковым «оголтелых врагов пролетариата <…> как честных, добрых, благородных людей»491. С. Л. Цимбал в «Заметках о гастролях МХТ» еще раз повторяет, что «Турбины» – «репертуарная ошибка МХАТ» и свидетельство «печальных булгаковских заблуждений театра»492.
В 1931 году «Дни Турбиных», которых почти два года нет на сцене, называют «прямой вылазкой» классового врага, не забывают отметить «упадочничество и порнографию»493 давно снятой «Зойкиной квартиры». С этим согласны С. Мокульский (который заявляет о «порочности объективизма» и «ретроспективной нейтральности», превративших «Дни Турбиных» в «апологию белогвардейщины»)494 и Н. Оружейников (заявивший, что в спектакле «Зойкина квартира» «пасквилянтство драматурга помножилось на сочное обыгрывание деталей разложения»)495.
Дискуссии по поводу Булгакова окончены, положительные отзывы о любой его вещи к началу 1930‑х стали невозможными, – но имя прозаика, которого несколько лет не печатают, драматурга, у которого не идет ни одна пьеса, превратилось в устойчивый фон. Кажется, о чем бы ни писали критики, они отталкиваются от творчества Булгакова, в общественном сознании оно превратилось в определенный смысловой образ, фокус, в котором сконцентрированы запретные и притягательные идеи.
В размышлениях о Булгакове в эти месяцы (в связи с гастролями Пражской труппы МХТ в Париже) принимают участие такие яркие фигуры эмиграции, как А. И. Куприн496, Е. Д. Кускова497, П. Н. Милюков, отметивший в «Очерках по истории русской культуры» усиление советской цензуры, в связи с чем «поневоле замолчал М. Булгаков»498.
Спустя год после звонка Сталина, 30 мая 1931 г., Булгаков отправляет ему еще одно письмо, которое начинается пространной цитатой из «Авторской исповеди» Гоголя:
Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. <…> мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее.
Писатель пытается объяснить свое психологическое состояние, сообщает вождю, что в нем «с неудержимой силой загорелись новые творческие замыслы», и просит дать ему возможность их выполнить, отпустив в трехмесячный, до осени, заграничный отпуск.
Булгаков жалуется на то, что результатом многолетней травли стала тяжелая форма неврастении, с припадками страха и предсердечной тоски, будто надеется на сочувствие. Отчитывается о том, что сделано им за год, понуждая вознесенного над людьми властителя входить в его «жизни мышью беготню». Пишет о том, что ему закрыт горизонт, «отнята высшая писательская школа», он лишен возможности «решить для себя громадные вопросы». «Привита психология заключенного»499.
Какие вопросы до сих пор не способен решить возомнивший о себе сочинитель? Как смеет он, живущий в самой свободной стране, говорить о психологии заключенного?
Ответа на письмо не будет.
Современный исследователь А. Варламов высказывает предположение, что именно болезненное состояние Булгакова, которое почувствовали и о котором встревоженно писали в докладных внутрипартийных записках Смирнов и Свидерский в 1929 году, стало одной из причин отказов в выезде за рубеж. Оно делало Булгакова «в глазах власти человеком непредсказуемым, неуправляемым. И никто не мог поручиться, что, оказавшись в Европе, он не <…> скажет своего „Обвиняю“»500.
О том же можно сказать и по-иному. В письмах, отправленных наверх, Булгаков высказывался искренне, эмоционально и прямо – так, как ему было органично, изменить себе не мог. Что, собственно, и сделало его тем художником, которого спустя полвека полюбил мир.
Лето приносит неожиданную радость: ленинградский Красный театр заказывает Булгакову антивоенную пьесу. Возможность сочинить свое, а не переделывать написанное кем-то, воодушевляет. 29 июня 1931 года он пишет Вересаеву: «А тут чудо из Ленинграда – один театр мне пьесу заказал. Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич!»501 А спустя месяц уже сообщает П. А. Маркову, что «пьеса будет готова, по-видимому, гораздо ранее оговоренного срока. В конце августа я рассчитываю ее сдавать. <…> Я нашел ключ к пьесе, который меня интересует»502.
Фантазия взрывается, мгновенно мобилизуя коллизии, образы, фразы. Кого же делает героями антивоенной пьесы «Адам и Ева» драматург?
Фанатичный коммунист Адам, аполитичный пацифист, отрешенный от быта гениальный химик Ефросимов, двое сотрудников ГПУ, давно взявших под наблюдение ученого, конъюнктурный беллетрист Пончик-Непобеда, перед смертельной угрозой сознающийся, что он не верит в коммунизм, и пытающийся найти спасение у Бога, военный летчик Дараган и «человек из народа», выпивоха-сосед Маркизов, «изгнанный из профсоюза» за дебоши, – причудливая компания персонажей выписана на жутко-реалистичном фоне картин облученного газом мертвого города.
В пьесе проявлена устойчивость мировоззренческой позиции автора, по-прежнему не совпадающей с «единственно верной». «Неизвестная книга», отысканная невежественным, но любознательным Маркизовым, – это Библия, разорванная и сожженная, как мир вокруг. В «Адаме и Еве» работает ключевая черта булгаковской поэтики, заявленная уже в двух эпиграфах, предваряющих пьесу: сопоставление двух времен, актуального и вечного – и двух систем ценностей. Вот эти эпиграфы.
«Участь смельчаков, считавших, что газа бояться нечего, всегда была одинакова – смерть!» («Боевые газы»).
«…и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся» (Из неизвестной книги, найденной Маркизовым)503.
Герои пьесы ведут разговоры, мимоходом отмечая бытовые мелочи (в стране не хватает простых вещей – нельзя купить стаканы), спорят о глобальных мировоззренческих проблемах.
Конъюнктурный беллетрист Пончик-Непобеда вдруг сознает:
Вот она, наша пропаганда, вот оно, уничтожение всех ценностей, которыми держалась цивилизация… Был СССР и перестал быть. Мертвое пространство загорожено и написано: «Чума. Вход воспрещается». Вот к чему привело столкновение с культурой.
Ефросимов, только что создавший аппарат, который спасет людей от смертельного газа, размышляет вслух – кому нужно передать изобретение. И решает, что – «правительствам всего мира». Подобная мысль ужасает Дарагана, немедленно отправляющегося за сотрудниками «органов».
Темы, которые обсуждают герои, их рискованные диалоги не могут не испугать первых слушателей пьесы.
ДАРАГАН. Мы не имеем врагов.
ЕФРОСИМОВ. Ты в заблуждении. Пока ты живешь, всегда найдется кто-нибудь, кого, по-твоему, надо истребить.
По-видимому, дело в том, что наше поколение пишущих (взрослеющих в середине 1960‑х гг.) выросло в подцензурных условиях, и полуосознанно, если не интуитивно, ощущало очертания тех границ, за которые нельзя переступать. Мало что зная об опыте 1930‑х или 1940‑х годов, мы видели процессы 1960‑х и 1970‑х. Но у булгаковского поколения подобного опыта не было. И в каждой своей вещи драматург следовал убеждениям и мыслям, которые в Советской стране были запретными. Для Булгакова, похоже, это все еще не было понятным.
Пьеса о газовой войне, уничтожившей СССР и полмира, была написана, принята театром, но на сцену не вышла. «Адам и Ева», как и следовало ожидать, не прошла цензуру.
В конце сентября парижская газета сообщает о приеме Сталиным пролетарских писателей, пересказывая газетную заметку, посвященную этому приему «стопроцентных коммунистов, которые <…> вели бешеную кампанию против Пильняка, Булгакова, гр. А. Н. Толстого»504.
Осенью 1931 года МХАТ переходит в ведение ЦИК, получая иную степень свободы (договариваться всегда удобнее «напрямую», не через цепь посредников, стремящихся проявить власть). В том же году снимают А. И. Рыкова (Сталин – Горькому: «не поспевает за движением, отстает чертовски <…>, путается в ногах. Думаем заменить его т. Молотовым»505). Благоволящего театру и Булгакову человека в коридорах власти теперь нет.
10 октября 1931 года О. С. Бокшанская пишет Немировичу в Берлин:
Разрешена к постановке в Москве и Ленинграде пьеса Булгакова «Мольер», с некоторыми изменениями (чрезвычайно немногими, и то почти всюду, за исключением двух случаев, не в тексте, а в ремарках), и с условием замены заглавия «Кабалы святош» «Мольером». Ее в Москве берет наш театр, в Ленинграде за ней охотится Большой Драматический для Монахова506 – Мольера507.
12 октября Булгаков заключает договор с БДТ на монопольное право постановки «Мольера», и уже 5 ноября пьесу читают на репертуарно-производственном секторе худполитсовета. Пьеса нравится и директору театра Р. А. Шапиро, и главному режиссеру К. К. Тверскому – но вызывает резкие возражения у молодого журналиста И. М. Зельцера508, недавнего матроса Балтийского флота и теперешнего члена ЛОКАФ509.
11 ноября в «Красной газете» появляется заметка Вс. Вишневского. Он атакует руководство театра, заявляя:
Идейно-творческая позиция Булгакова известна по «Дням Турбиных» и «Дьяволиаде». Может быть, в «Мольере» Булгаков сделал шаг в сторону перестройки? Нет, это пьеса о трагической судьбе французского придворного драматурга (1622–1673). Актуально для 1932-го! <…> Зачем тратить силы, время на драму о Мольере, когда к вашим услугам подлинный Мольер? Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества?
Финальная реплика автора заметки не только завуалированно угрожала театру, но и вводила новую тему: «Что же идейно-творчески защищает ГБДТ, который, кстати, предложил дать ему мою новую пьесу?»510
Словосочетание «идейно-творчески», употребленное с верной интонацией, по-видимому, действует как безотказная отмычка. 19 ноября датирован протокол заседания репертуарно-производственного сектора ГБДТ, в котором говорится: «Художественно-политический совет Большого Драматического театра считает невозможной постановку в театре пьесы Булгакова „Мольер“» – и объясняет почему.
Пьеса не отражает подлинной, исторической сущности мольеровской эпохи… ни в какой мере не показывает Мольера как борца…
И наконец:
Художественные и литературные достоинства «Мольера» Булгакова и его ценность, высококачественный материал для работы актера не может являться решающим моментом к постановке пьесы…511
Руководство театра отступает под натиском Вишневского.
Пьесу <…> запретила репутация Булгакова в глазах советской общественности. <…> Общественность в СССР в начале 1930‑х годов была еще трусливее, чем должностные лица. Если в конце 1920‑х театры только и ждали разрешения Главреперткома, чтобы ставить обещающие успех пьесы <…> то теперь цензурный яд поступил в составы и кровь тех, кого автор всегда считал своими союзниками в противостоянии цензуре – режиссеров, актеров, театральную администрацию512, —
так оценивает ситуацию современный исследователь.
Точнее – не «цензурный яд», а его причина – страх, распространявшийся в стране.
Когда Булгаков писал П. С. Попову, что «убило Мольера частное, не ответственное, не политическое, кустарное и скромное лицо»513, – он, по-видимому, был недостаточно осведомлен. В письме к В. М. Киршону Вс. Вишневский сообщал:
…С 1929 года моя работа пошла по линии литературы. Главное внимание я обращаю на войну, оборону. Ты это знаешь – и знаешь, зачем я специально поставлен на это дело514.
Единственным утешением автору остаются «Мертвые души», премьера которых намечена на ноябрь.
12 ноября Горький пишет Сталину. Начав с нелицеприятной аттестации Вл. Ходасевича515 («человек физически и духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на всех людей»), продолжает:
…на мой взгляд – он прав, когда говорит, что именно советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу. Булгаков мне «не брат и не сват», защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но – он талантливый литератор, а таких у нас – не очень много. Нет смысла делать из них «мучеников за идею». Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. В данном случае я за то, чтоб перевоспитать. Это – легко. Жалобы Булгакова сводятся к одному: жить нечем. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в м<еся>ц. Он очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, это было бы полезно не только для него лично, а вообще для литераторов – «союзников»516.
Трудно поверить как в то, что признанный «инженер человеческих душ» на самом деле полагает, что «перевоспитать» человека «легко», так и в то, что Булгакову кроме денег ничего не надобно. Либо Горький в этих строчках по каким-то соображениям кривит душой, либо он не писатель.
В докладе Секретно-политического отдела ОГПУ «Об антисоветской деятельности интеллигенции» за 1931 год приведены строки из дневниковых записей А. Белого:
…Все окрасилось как-то тупо-бессмысленно. Твои интересы к науке, к миру, искусству, человеку – кому нужны в «СССР»?.. Чем интересовался мир на протяжении тысячелетий <…> рухнуло на протяжении последних пяти лет у нас. Декретами отменили достижения тысячелетий, ибо мы переживаем «небывалый подъем». <…> Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов, с наслаждением щелкая нашими жизнями, с тем различием, что мы – не клопы, мы – действительная соль земли, без которой народ – не народ517.
Первые дни 1932 года не обещают писателю Булгакову, кажется, ничего нового. 4 января И. Нусинов отправляет в «Литературную газету» «Письмо в редакцию», в котором, вспоминая старую статью 1929 года о творчестве Булгакова, кается в собственной «крупной ошибке»518. Заметим, что и та, прежняя статья была сугубо отрицательной, все без исключения вещи Булгакова признавались идеологически неприемлемыми, ошибка же заключалась в том, что Нусинов позволил себе утверждение, что класс буржуазии «до конца осознал свою гибель».
«Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» написаны «чуждым нам автором», напоминает Ю. Н. Либединский, с их появлением «классовая борьба вторглась в театр»519.
И вдруг в конце января Сталин предлагает (неожиданно и для автора, и для МХАТа) возобновить «Дни Турбиных». Булгаков узнает об этом от домработницы.
История возвращения на сцену Художественного театра «Дней Турбиных» хорошо известна. После почти трех лет отсутствия пьесы на афишах (снята в апреле 1929-го, возобновлена 18 февраля 1932-го), по легенде, Сталин во время одного из посещений театра спросил, почему он не видит спектакля. И находящиеся в ложе вождя руководители обещали немедленно его восстановить. С чем было связано это решение, неясно и сегодня. Автор описал свои чувства и сам спектакль в письме другу, ставшем образцом настоящей художественной прозы520.
Сводка Секретного отдела ОГПУ № 181 сообщает:
21 января 1932 года во Всероскомдрам зашел Булгаков. На вопрос о разрешении постановки его пьесы сказал: «Я потрясен. Сейчас буду работать так, как и раньше. В настоящее время я утром работаю над „Мольером“, днем над „Мертвыми душами“, а вечерами над переделкой „Дней Турбиных“. Играть в пьесе буду я сам, так как со мной могут выкинуть какой-нибудь новый фортель и я хочу иметь твердую профессию».
«Актера» – добавляет для ясности «источник»521.
Новость разлетелась по литературно-театральной Москве, обросла деталями, подробностями. Спустя месяц, 21 февраля, писатель Ю. Л. Слезкин записывал в дневнике:
В театральных кругах с определенностью говорят, что МХТ-1 не хлопотал о возобновлении «Д. Т.». Установка одного из актов (лестница) была сожжена за ненадобностью. На премьере «Страха»522
