Рассказы о временах Меровингов
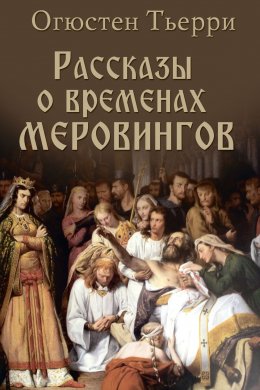
© Сеничев В.Е., составление, комментарии, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Вече», 2024
Огюстен Тьерри – историк народов
Жак Николя Огюстен Тьерри родился 10 мая 1795 года в Блуа, расположенном между Орлеаном и Туром, в семье библиотекаря Жака Тьерри и Катрин Леру. Огюстен приходится старшим братом историку Амадею Тьерри. В детстве он быстро обнаруживает значительные таланты к учебе и получает множество наград в колледже Блуа, в который поступает в 1811 году. За два года Тьерри получил степени бакалавра по литературе, а также общего бакалавра наук, а вместе с этим – лицензию на преподавание.
В 1813 году он был направлен в Компьень преподавать гуманитарные науки, но быстро вернулся в Париж. Молодой ученый с энтузиазмом принял идеи Французской революции, идеальное видение общества, отстаиваемое графом Сен-Симоном, и даже работал его секретарем с 1814 по 1817 год. Сам он называл себя «приемным сыном» утописта. В отличие от большинства учеников Сен-Симона, которые занимались при нем только теоретическими или практическими вопросами, Огюстен Тьерри сосредотачивает все свое внимание на истории. В 1817 году он присоединился к газете «Le Censeur» и активно отстаивает либеральные идеи своей эпохи. С 1819 года он пишет по статье в неделю: его целью становится поиск исторических аргументов, необходимых для опровержения современной политики, направленной на реставрацию монархии и отказ от завоеваний Французской революции. Он излагал свои руководящие идеи, прослеживая их развитие через эпохи Великого переселения народов, норманнского завоевания Англии, образования коммун в средневековых городах, утверждая постепенный подъем наций к либерализму и развитию парламентских институтов.
По замечанию Плеханова, Огюстен Тьерри «принадлежит к замечательной группе тех известных ученых, которые, в эпоху Реставрации, возобновили во Франции исторические исследования»[1]. Тьерри принадлежал к новой школе историков, которую часто называют политической, хотя на деле он и его коллеги ставили во главу угла не личности вождей и законы, ими принимаемые, а само общество, и всю политику, культуру и экономику выводили из общественных устоев и изменений, происходящих с ними. Этот новый подход, сместивший акцент с личности монархов и полководцев на народные массы, сделал Тьерри одним из первопроходцев новой эпохи в исторической науке. История народов не есть история его правителей. Поставив во главу историописания социум как таковой, во всей его полноте, историк смог наконец решить некоторые задачи истории, недоступные его предшественникам в XVIII веке.
Огюстену Тьерри и его близкому другу, Франсуа Гизо, мы обязаны также и появлением понятия классовой борьбы. Именно они первыми начали описывать борьбу угнетенного большинства и угнетающего его меньшинства. С точки зрения Тьерри, история творится народами, их желанием лучшей жизни и борьбой с внешними угрозами. Особое внимание он уделяет тому, как происходил переход от выборной монархии к наследственной и каким насилием по отношению к населению он сопровождался. Это новое видение исторического процесса для своего времени можно назвать в прямом смысле слова революционным. Отношение к церкви, особенно католической, в работах Тьерри также далеко не благосклонное. Он видит в ней жестокий инструмент в руках элит, идущих на любые преступления для удержания или приумножения власти.
В работе, посвященной периоду превращения бывшей римской провинции Галлии в королевство франков, Тьерри с большим интересом исследует взаимоотношения новых правителей-германцев с местным, как он порой выражается, «туземным», населением. Население провинции состояло из галло-римлян – особого этноса, сформировавшегося из большого числа кельтских племен и переселившихся на их земли потомков латинов после завоевания Римом кельтских областей севернее Альпийских гор. Галло-римляне, забывшие кельтские языки и в повседневной жизни перешедшие на латынь, казались захватчикам-германцам образцами высокой культуры, жившими в роскоши. От них германцы переняли некоторые привычки и впоследствии – язык. Для этого периода в истории Франции, прозванного меровингским, характерны и такие необычные нововведения, как параллельное существование двух законодательных систем: римской – для местного населения и германской, или салической, – для пришлого правящего класса.
Кто же такие Меровинги? Это – правящая семья и, соответственно, первая династия королей, впервые появившихся как «короли франков» в римской армии Северной Галлии.
Уже к началу VI в., а точнее, к 509 году, они объединили всех франков и северных галло-римлян под своей властью. Вскоре под власть Меровингов попадает большая часть Галлии, от вестготов до бургундов и рециев. Германские племена алеманнов, баварцев и саксонцев также присягают Меровингам, королевство которых в результате становится самым крупным и могущественным государством Западной Европы.
Характерной чертой представителей рода Меровингов, коренным образом отличавшей их от франков, была традиция носить длинные волосы. Этот обычай окружен множеством легенд, которые до сих пор порой всплывают в популярной литературе. Современники иногда называли Меровингов «длинноволосыми королями» (лат. reges criniti). Лишенный отросших волос Меровинг не мог оставаться у власти, потому и соперников порой отстраняли от престолонаследия путем пострижения с последующей отправкой в монастырь.
Название династии восходит к предполагаемой франкской форме, которая сродни древнеанглийскому Merewīowing с типично германским окончанием отчества – ing, на средневековой латыни оно приобрело вид Меровинги или Мерохинги (т. е. «сыновья Меровея»). Его связывают с салическим королем Меровеем, персонажем множества средневековых легенд. Впрочем, здесь надо отметить, что представители династии никогда не заявляли о своем сверхъестественном происхождении – вопреки тому, что пытаются приписать им порой современные авторы исторической поп-культуры.
Не обходит Тьерри стороной и отношения между правителями франков и церковью, часто конфликтные, так как церковь, управляемая из Рима и во всем согласная с волей епископа Вечного города, регулярно стояла на пути решений и своеволия франкских королей. Формальная христианизация еще не означала принятия над собой власти Рима, а возможность использовать в своих целях богатства церкви часто приводила новых королей Галлии к монастырям и соборам с совсем не мирными намерениями. Также Тьерри отмечает, что именно в это время для борьбы с политическими врагами начинает активно применяться заточение в монастыри и насильственное пострижение в монахи.
Труд «Рассказы о временах Меровингов» приглашает нас окунуться в бурную, полную ярких событий эпоху Великого переселения народов и становления нового государства на осколках Римской империи. Сохранены примечания автора и переводчика, дополненные составителем.
В.Е. Сеничев, историк
Рассказ первый
Четыре сына Хлотаря I. – Нрав их и браки. – История Галесвинты (561–568)
В нескольких лье от Суассона, на берегах небольшой реки, лежит деревня Брень. В VI веке она была одной из тех огромных ферм, в которых короли франкские держали свой двор, предпочитая их лучшим городам Галлии. Королевское жилище не представляло воинственного вида замков Средних веков: то было обширное строение, окруженное портиками римской архитектуры, иногда деревянное, тщательно выстроганное и украшенное довольно щеголеватой резьбой[2]. Вокруг главного здания располагались в порядке жилища дворцовых чинов, или из варваров, или римского происхождения, и тех начальников дружин, которые, по германскому обычаю, вступили со своими воинами в службу короля на особых условиях подчиненности и верности[3]. Другие дома, меньшего размера, заняты были большим числом семейств, в которых мужчины и женщины занимались всякого рода ремеслами от мастерства золотых дел и выделки оружия до тканья и кожевенного дела, от вышивания шелком и золотом до самого грубого прядения льна и шерсти.
Семейства эти большей частью происходили от галлов, родившихся или на том участке, который присужден был королем себе на долю при дележе завоевания, или насильно переведенных с женами и детьми из какого-либо соседнего города, для заселения королевского поместья. Однако, судя по собственным именам, в числе этих семейств были также германцы и другие варвары, которых предки пришли в Галлию вслед за победоносными дружинами, в качестве работников или слуг. Впрочем, эти семейства, без различия ремесла или происхождения, все считались в одном разряде и носили одно имя литов, на языке германском, и фискальских, т. е. приписанных к фиску, или казне, на языке латинском[4]. Сельские хозяйственные строения, конские заводы, хлевы, овчарни и житницы, лачуги земледельцев и избы поместных рабов дополняли королевскую усадьбу, совершенно подобную, хотя в большем размере, волостям Древней Германии. Самое положение этих королевских местопребываний несколько напоминало зарейнские виды: усадьбы эти большей частью были расположены на опушке, а иногда и в самой средине обширных лесов, впоследствии истребленных, но остаткам которых дивимся мы еще и поныне.
Брень была любимым местопребыванием последнего из сыновей Хлодвига, Хлотаря, даже и тогда, когда смерть троих его братьев доставила ему королевскую власть на всем протяжении Галлии. Там сберегал он, в потаенной комнате, огромные сундуки за тройными замками, в которых хранились сокровища его: золотая монета, сосуды и драгоценности; там совершал он важнейшие свои государственные дела: созывал соборы епископов галльских городов, принимал чужестранных послов и председательствовал на больших собраниях франкского народа, за которыми следовали пиры по образцу сохранившихся в преданиях тевтонского племени, пиры, на которых зажаренные кабаны и дикие козы целиком подавались на стол, а по четырем углам комнаты стояли откупоренные бочки[5]. Пока война с саксами, бретонами или септиманийскими готами не отзывала Хлотаря вдаль, он катался из одного поместья в другое, переезжал из Брени в Атиньи, из Атиньи в Компьень, из Компьени в Вербери, уничтожая поочередно запасы, заготовленные в каждом из королевских поместий потешаясь со своими франкскими людьми, leudes[6], охотой, рыбной ловлей или купаньем и вербуя многочисленных любовниц между дочерями фискальских семейств. Нередко эти женщины из ряда наложниц переходили, без малейшего затруднения в звание его супруг и королев.
Таким образом, Хлотарь, которого браки трудно распределить и перечислить, женился на Ингунде, девушке самого низкого рода. Впрочем, он не покинул своих распутных привычек, которые она, как жена и рабыня, переносила с величайшей покорностью. Он очень любил ее и жил с ней в совершенном согласии; однажды она ему сказала: «Король, господин мой, сделал из рабыни все, что ему было угодно, и призвал меня разделять с ним ложе; он довершил бы эти великие милости, если бы исполнил ее просьбу. В числе слуг твоих у меня есть сестра, по имени Арнегунда; дай ей, прошу тебя, мужа храброго и богатого, дабы не терпела я за нее посрамления». Просьба эта, подстрекнув любопытство короля, возбудила его сластолюбивые вожделения; он в тот же день отправился в поместье, где жила Арнегунда, занимаясь изготовлением и крашением тканей, ремеслами, предоставленными в то время женщинам. Хлотарь, найдя, что она по крайней мере так же красива, как и сестра ее, взял ее с собой, водворил в королевских покоях и возвел в сан своей супруги. Через несколько дней он пришел к Ингунде и сказал ей с лукаво-добродушным видом, равно свойственным его собственному и вообще германскому характеру: «Я не забыл о милости, которую ты так откровенно у меня просила: искал для сестры твоей мужа богатого и разумного, но лучше себя никого не нашел. Узнай же, что я сделал ее своей супругой; я думаю, тебе это не будет противно». «Да исполнится воля государя моего; как будет ему угодно, – отвечала Ингунда, – нисколько не смутившись и отнюдь не выходя из своей покорности и супружеского смирения: – Лишь бы меня, рабыни своей, не лишил он милости»[7].
Франки времен раннего Средневековья глазами художника XIX в.
В 561 году, после похода на одного из своих сыновей, которого в наказание за возмущение Хлотарь приказал сжечь с детьми и женой, возвратился он в свои бренские хоромы, спокойный духом и совестью. Он занялся тут приготовлениями к большой осенней охоте, бывшей у франков особенным торжеством. С толпой людей, лошадей и собак король отправился в Кюизские леса, от которых Компьенский лес в нынешнем его виде составляет последний, ничтожный остаток. Там, среди этих тяжелых упражнений, несвойственных его летам, он заболел лихорадкой, приказал перенести себя в ближайшее свое поместье и умер там после пятидесятилетнего царствования[8]. Четыре сына его, Хариберт, Гунтрамн (Гонтран), Хильперик и Сигеберт, проводили отцовский гроб в Суассон, пели псалмы и несли восковые факелы.
Едва погребение было совершено, как третий из четырех братьев, Хильперик, поспешил в Брень и заставил стражей королевского поместья выдать себе ключи от сокровищ. Овладев богатствами, собранными отцом его, он начал с того, что роздал часть их предводителям дружин и воинам, жившим в Брени и ее окрестностях. Они клялись ему в верности[9], пожимая его руки, провозгласили его конунгом и обещали следовать за ним всюду, куда бы он ни повел их[10]. Тогда, предводительствуя ими, он пошел прямо на Париж, старинное местопребывание Хлодвига I, а впоследствии столицу королевства старшего сына его, Хидельберта.
Может быть, с обладанием города, бывшего некогда местопребыванием завоевателя Галлии, Хильперик соединял мысль о первенстве; может быть, он имел в виду только присвоение императорского дворца, занимавшего строениями и садами своими обширное пространство на левом берегу Сены[11]. Предположение это весьма правдоподобно, потому что честолюбивые замыслы франкских королей не простирались далее личного и немедленного стяжания. Впрочем, Хильперик, все еще сохраняя резкий отпечаток германского варварства, необузданные страсти и безжалостную душу, отчасти полюбил уже и римскую образованность: охотно строился, потешался зрелищами в деревянных цирках и в довершение всего имел притязание быть грамотеем, богословом и стихотворцем. Его латинские вирши, редко подчинявшиеся правилам метра и просодии, находили восторженных поклонников между благородными галлами, которые рукоплескали им с трепетом, восклицая, что знаменитый сын Сикамбров превзошел изяществом языка сынов Ромула и что река Вагал послужит образцом самому Тибру[12].
Хильперик вступил в Париж без всякого сопротивления и разместил своих воинов в башнях, защищавших мосты этого города, в то время окруженного Сеной.
Но прочие три брата, узнав о таком внезапном нападении, соединились против того, который самовольно хотел захватить долю отцовского наследия, и быстрыми переходами пошли на Париж с большими силами[13]. Хильперик не дерзнул противостать им и, отказавшись от своего предприятия, подчинился условиям полюбовного раздела. Этот раздел всей Галлии и значительной части Германии совершен был по жребию, подобно тому как полвека назад поделились между собой сыновья Хлодвига. Составлено было четыре доли, соответствовавшие, с небольшими изменениями, четырем участкам, носившим наименования королевства Парижского, королевства Орлеанского, Нейстрии и Австразии.
На долю Хариберта выпал участок дяди его Гильдеберта, то есть королевство, названное по имени города Парижа; оно простиралось полосой от севера к югу и заключало в себе Санли, Мелён, Шартр, Тур, Пуатье, Сент, Бордо и города пиренейские. Гонтран получил, с Орлеанским королевством, уделом дяди своего Хлодомира, всю землю бургундов, от Соны и Вогезских гор до Альп и Прованского моря. Долю Хильперика составило владение отца его – королевство Суассонское, которое франки называли Неостер-рик (Neoster-rik) или Западным королевством, граничившее к северу Шельдой, к югу течением Луары. Наконец, Восточное королевство, или Остер-рик (Oster-rik) досталось на долю Сигеберта, соединившего таким образом в своем участке Оверн, весь северо-запад Галлии и Германии, до рубежей саксов и славян[14]. Впрочем, города, кажется, считались отдельно, и только число их послужило основанием в составлении этих четырех участков, потому что, независимо от странности подобного поземельного раздела, встречается много чересполосных владений, образование которых невозможно объяснить иначе. Таким образом, Руан и Нант причислены к Хильперикову королевству, а Авранш – к королевству Хариберта, владевшего Марселем; Арль принадлежал Гонтрану, а Авиньон – Сигеберту. Наконец, Суассон, столица Нейстрии, был как бы окружен четырьмя городами, Санли и Мо, Ланом и Реймсом, принадлежавшими двум королевствам, Парижскому и Австразийскому.
Когда жребий определил каждому особую часть городов и поместий, братья, присягнув на мощах святых угодников, обещали довольствоваться своей долей и не захватывать лишнего ни силой, ни хитростью. Клятва эта скоро была нарушена: Хильперик, воспользовавшись отсутствием брата своего, Сигеберта, воевавшего в Германии, напал врасплох на Реймс и овладел как им, так и многими другими соседними городами. Но он не долго пользовался этим завоеванием: Сигеберт, возвратившись победителем из-за Рейна, отнял один за другим свои города и, преследуя брата до самых стен Суассона, разбил его и овладел столицей Нейстрии.
Имея общий характер варваров, у которых горячность пылка, но не продолжительна, братья примирились и снова поклялись не предпринимать ничего друг против друга. Оба они были буйны, заносчивы и мстительны; напротив того, Хариберт и Гонтран, будучи старше и не так пылки, любили мир и спокойствие. Вместо грубой и воинственной осанки своих предков Хариберт любил принимать спокойный и несколько мешковатый вид властей, которые в галльских городах творили суд по римским законам. Он даже имел притязание слыть знатоком в законоведении, и никакая лесть не была ему так приятна, как похвала его судейской ловкости в разборе запутанных дел или искусству, с каким он, германец по языку и происхождению, изъяснялся и спорил по-латыни[15]. В характере короля Гонтрана, обыкновенно кроткое и почти патриархальное обращение, по странной противоположности, соединялось с порывами внезапной ярости, достойной лесов Германии. Однажды за потерянный им охотничий рог он предал пытке многих свободных людей; в другой раз велел умертвить благородного франка по подозрению в убийстве буйвола в королевском поместье. В минуты хладнокровия он показывал некоторое чувство порядка и законности, особенно выражавшееся в его религиозном усердии и покорности епископам, которые в те времена были живым образцом благочиния.
Напротив того, король Хильперик, будучи полудиким вольнодумцем, подчинялся только своей прихоти, даже в тех случаях, когда дело касалось церковных догматов и католической веры.
Власть духовенства для него была нестерпима, и он находил особенное наслаждение уничтожать завещания, составленные в пользу монастыря или церкви.
Нравы и поведение епископов были главным предметом его застольных острот и шуток; одного он честил безмозглым, другого – бесстыдником, того – болтуном, а этого – сластолюбцем. Возрастанию несметных богатств, которыми обладала церковь, влиянию в городах епископов, воспользовавшихся со времени владычества варваров большей частью прав прежнего муниципального управления, – всему завидовал Хильперик, не находя средств присвоить их себе. Вырывавшиеся у него жалобы были не без основания, он говаривал часто: «Наша казна беднеет, достояние наше отходит на церкви! Истинно царствуют в городах одни епископы»[16].
Все вообще сыновья Хлотаря I, кроме Сигеберта, самого младшего, были в высшей степени невоздержанны: они почти никогда не довольствовались одной женой, покидали супруг своих без всякого сожаления, тотчас после брака и потом снова возвращали их к себе по минутной прихоти. Благочестивый Гонтран менял жен своих почти так же часто, как и оба других брата, и, подобно им, тоже держал наложниц, из которых одна, по имени Венеранда, была дочь галла, приписанного к фиску.
Король Хариберт разом взял себе в любовницы двух сестер, удивительных красавиц, бывших в числе прислужниц супруги его, Ингоберги; одна из них называлась Марковефа и была в монашестве; другая звалась Мерофледой; обе они были дочери ремесленника, занимавшегося выделкой шерсти, родом варвара, и притом лита королевского поместья[17].
Ингоберга, ревнуя своего мужа к двум этим женщинам, употребляла все возможные старания, чтобы отстранить его от них, но не успела. Не смея, однако, ни оскорбить своих соперниц, ни прогнать их, Ингоберга придумала хитрость, посредством которой надеялась отвратить короля от недостойной связи. Она призвала отца этих молодых девушек и заставила его на дворцовом дворе расчесывать шерсть. Когда он работал, трудясь изо всех сил, чтоб выказать свое усердие, королева, стоявшая у окна, призвала мужа: «Поди сюда, – сказала она, – посмотри, какая тут новость». Король подошел, поглядел во все глаза и, не видя ничего, кроме чесальщика шерсти, нашел, что шутка никуда не годится, и рассердился[18]. Затем произошло горячее объяснение между супругами и произвело действие, совершенно противное тому, которого ожидала Ингоберга: она была отвергнута, а король женился на Мерофледе.
Вскоре, найдя, что одной законной жены ему не довольно, Хариберт торжественно возвел в сан супруги и королевы бедную девушку по имени Теодегильда, дочь пастуха. Спустя несколько лет Мерофледа скончалась и король поспешил вступить в брак с сестрой ее Марковефой. Этим он впал, по церковным законам, в двойное святотатство – как двоеженец и как супруг женщины, принявшей монашество. Решительно отказавшись от требования парижского епископа, святого Жермена, расторгнуть второй брак, он был отлучен от церкви. Но тогда не настало еще время, когда дикая гордость наследников завоевания склонялась пред строгостью церкви: Хариберт не устрашился такого приговора и оставил при себе обеих жен своих[19].
Из всех сыновей Хлотаря, современные рассказы приписывают Хильперику наибольшее число королев, то есть, жен, сочетавшихся с ним по французскому закону, кольцом и динарием. У одной из таких королев, по имени Авдовера, была в услужении молодая девушка, франкского происхождения, по имени Фредегонда, одаренная такой примечательной красотой, что король полюбил ее с первого взгляда. Эта любовь, столь лестная для служанки, ставила ее, однако, в опасное положение, потому что подвергала ревности и мщению госпожи. Но Фредегонда этого не страшилась: будучи столько же хитра, как и честолюбива, она задумала, не подвергая себя опасности, подвести законные причины для разлучения короля с Авдоверой. Если верить преданию, ходившему сто лет спустя, она в том успела, благодаря потворству епископа и простоте королевы. Хильперик, соединившись с братом своим, Сигебертом, отправился за Рейн, против народов Саксонского союза; он оставил Авдоверу беременной уже несколько месяцев. Королева родила дочь прежде его возвращения и, не зная, крестить ли ее в отсутствии мужа, советовался с Фредегондой, которая, вполне обладая искусством скрытничать, не возбуждала в королеве ни подозрения, ни недоверчивости. «Государыня, – отвечала служанка, – когда король, господин наш, возвратится с победой, увидит ли он радостно дочь свою неокрещенной»[20]. Королева послушалась совета, и Фредегонда начала готовить тайными происками сети, в которых хотела уловить ее.
Когда наступил день крестин, в час, назначенный для совершения обряда, крестильня украшена была тканями и цветами; епископ, в святительских ризах, уже дожидался; но восприемница, благородная франкская женщина, не являлась, и ее ждали напрасно. Королева, смущенная такой помехой, не знала, на что решиться, как вдруг Фредегонда, стоявшая близ нее, сказала: «Что беспокоиться о крестной матери? Нет никого достойнее вас быть восприемницей вашей дочери; послушайтесь меня, будьте ей сами крестной матерью»[21]. Епископ, вероятно, подговоренный заранее, совершил таинство крещения, и королева удалилась, не поняв, какое последствие имел для нее духовный обряд, ею исполненный.
По возращении короля Хильперика все молодые девушки королевского поместья вышли встречать его, с цветами и пением хвалебных стихов. Фредегонда, подойдя к нему, сказала: «Возблагодарим Господа за то, что король, господин наш, одержал над врагами победу, и что Бог даровал ему дщерь! Но с кем господин мой проведет эту ночь? Королева, госпожа моя, – теперь кума твоя и крестная мать дочери своей, Гильдесвинды!» – «Если не могу ночевать с нею, то лягу с тобой», – весело отвечал король[22]. Под портиком дворца Хильперик встретил жену свою, Авдоверу, с младенцем, которого она с горделивой радостью подала мужу; но король сказал ей с притворным сожалением: «Жена, в простоте ума своего ты совершила преступление; отныне не можешь быть моей супругой»[23]. И, как бы строгий блюститель церковных законов, король наказал ссылкой епископа, крестившего его дочь, а королеву заставил немедленно с собой разлучиться и, как вдову, принять монашество. В утешение он подарил ей многие земли в окрестностях Манса (Mans), принадлежавшие фиску, и затем женился на Фредегонде; отверженная королева при шуме пирований этого нового брака отправилась в обитель, где через пятнадцать лет была умерщвлена по приказанию прежней своей служанки.
Между тем как трое старших сыновей Хлотаря жили таким образом в распутстве и совокуплялись браками с служанками, самый младший, Сигеберт, не подражая их примеру, питал стыд и омерзение к разврату. Он решился иметь только одну супругу, и притом избрать ее из королевского рода[24]. Атамагильд, король готов, водворившихся в Испании, имел двух дочерей на возрасте, из которых меньшая, по имени Брунгильда, особенно славилась красотою; на нее-то пал выбор Сигеберта. Многочисленное посольство с богатыми дарами отправилось из Меца в Толедо, просить у короля готов руки его дочери. Глава посольства, Гог, или правильнее Годегизель, палатный мэр Австразии, человек искусный в переговорах, успешно исполнил возложенное на него поручение и привез из Испании невесту короля Сигеберта. Всюду, где ни проезжала Брунгильда, во время долгого путешествия своего на север, она прославилась, по свидетельству одного современника, прелестью обращения, красотой, благоразумием речей и приятным разговором[25].
Сигеберт полюбил ее и в продолжение всей своей жизни сохранил к ней страстную привязанность.
Торжество бракосочетания совершено было с великой пышностью в 566 году, в королевском городе Меце. Вся знать Австразийского королевства приглашена была королем принять участие в празднествах этого дня. Съехались в Мец, со своими людьми и конями, графы городов и правители северных провинций Галлии, патриархальные вожди прежних франкских племен, оставшихся за Рейном, и герцоги алеманнов, баваров и торингов, или тюрингов[26]. На этом оригинальном сборище встречались разные степени образованности и варварства. Тут были и благородные галлы, вежливые и вкрадчивые, и благородные франки, надменные и суровые, и настоящие дикари, одетые в звериные кожи, поражающие грубым видом и обращением. Брачный пир был великолепен и оживлен весельем; столы уставлены были золотыми и серебряными блюдами с резьбой, плодами воинственных грабежей; вино и пиво беспрестанно лилось в кубки, украшенные дорогими каменьями, и в буйволовые рога, из которых обыкновенно пивали германцы[27]. В обширных покоях дворца раздавались заздравные крики и приветствия пьющих, громкий говор, хохот, все шумное выражение тевтонской веселости. За удовольствиями свадебного стола последовала другая, более утонченная забава, доступная лишь немногим собеседникам.
При дворе австрийского короля находился тогда итальянец Венанций-Гонорий-Клеметиан Фортунат, путешествовавший в то время по Галлии и всюду принимаемый с великим почетом. Он был человек ума поверхностного, но приятного, занесший из своей родины остаток той римской утонченности, которая тогда почти уже утратилась по ту сторону Альп. Представленный королю Сигеберту теми из австразийских епископов и графов, которые любили еще прежнюю образованность и о ней жалели, Фортунат удостоился милостивого гостеприимства при полуварварском мецском дворе. Управляющим королевской казной приказано было отвести ему помещение, снабжать продовольствием и лошадьми[28]. В изъявление своей благодарности он сделался придворным стихотворцем и посвящал королю и вельможам латинские стихотворения, которые, правда, не всегда были для них понятны, хотя они и принимали их с удовольствием и хорошо за них отплачивали. Брачные празднества не могли обойтись без эпиталамы: нунций Фортунат написал ее в классическом вкусе и прочел перед странной толпой, его окружавшей, с таким же важным видом, как будто он всенародно читал ее на Траяновой площади в Риме[29].
В этом произведении, единственное достоинство которого заключается в том, что оно есть последний и слабый отблеск римского остроумия, Венера и Амур, два неизбежные лица всякой эпиталамы, являются с своей принадлежностью стрел, факелов и роз. Амур поражает стрелой прямо в сердце короля Сигеберта и спешит поведать своей матери это великое торжество. «Мать, – говорит он, – я кончил битву!» Тогда богиня и сын ее летят по воздуху в град Мец, вступают во дворец и убирают цветами брачную комнату. Тут возникает между ними спор о достоинстве обоих супругов; Амур стоит за Сигеберта, которого называет новым Ахиллом, а Венера отдает предпочтение Брунгильде, изображая ее следующим образом:
«О дева! Удивление мое и обожание супруга! Брунгильда, ты светлее и блистательней эфирной лампады! Игра алмазов уступает блеску лица твоего; ты – другая Венера, и приданое твое владычество красоты. Ни одна из нереид, плавающих в морях иберийских, в источниках Океана, не может с тобой сравниться; нет Напеи прекраснее тебя, и нимфы речные склоняются перед тобою! Млечная белизна и ярчайший багрянец – цвет лица твоего: лилии, перевитые с розами, злато, сотканное с пурпуром, не могут с ним сравниться и уступают ему поле битвы. Побеждены сапфир, алмаз, кристалл, изумруд и яшма; Испания произвела на свет новую жемчужину»[30].
Эти общие места из мифологии и трескотня звонких, но почти без всякого смысла слов, понравились королю Сигеберту и тем из франкских вельмож, которые, подобно ему, кое-как понимали латинские стихи. В сущности, главные вожди варваров не питали решительной вражды к образованности. Они охотно принимали то, что принять были способны; но этот наружный лоск утонченности встречал такие закоренелые, дикие привычки, характеры до того свирепые, что не мог глубоко укорениться. Притом, за высшими лицами, которые только одни, из тщеславия или по аристократическому инстинкту, подражали обращению прежнего местного дворянства, происходящего из галло-римлян, и искали его беседы, следовала ватага франкских воинов, подозревавших в подлости всякого, кто умел читать, если только он не был испытан ими на деле. Они при малейшем поводе к войне тотчас снова принимались грабить Галлию, как будто во времена первого вторжения; похищали и плавили драгоценные церковные сосуды, и в самых гробницах даже искали золота. В мирное время главнейшее занятие их состояло в изобретении разных козней, с целью обобрать своих соседей галльского происхождения, или в нападениях по большим дорогам, с копьями или мечами, на тех, кому желали отомстить. Самые миролюбивые проводили время в чистке оружия, охоте или пьянстве. Угощая их вином, у них все можно было выманить, даже обещание покровительствовать посредством короля тому или другому искателю на открывшееся епископство.
Беспрестанно тревожимые такими пришельцами, никогда не покойные ни за себя, ни за свое имущество, члены богатых местных фамилий теряли душевное спокойствие, без которого погибают науки и искусства, или же, увлеченные примером и каким-то инстинктом грубой независимости, которую даже образованность не может искоренить из человеческого сердца, они обращались к варварской жизни и, презирая все, кроме физической силы, становились буйными и заносчивыми. Подобно франкским воинам, они нападали на своих врагов по ночам, в их жилищах или на дорогах, и никогда не выходили из дому без германского кинжала, называвшегося скрамасакс, то есть «защищающий нож». Таким образом, от одной силы обстоятельств исчезли в Галлии в течение полутора веков и умственное развитие и утонченность нравов, без всякого участия в этой плачевной перемене какой-либо злобной воли или систематической вражды против римской цивилизации[31].
Брак Сигеберта, его пышность и особенный блеск, приданный ему высоким саном молодой супруги, произвели, по свидетельству современных сказаний, сильное впечатление на ум короля Хильперика. Ему казалось, что в кругу своих наложниц и жен, с которыми сочетался он, по обычаю древних германских вождей, без больших церемоний, он ведет жизнь не столь благородную, как младший брат его. Подобно ему, Хильперик решился избрать себе супругу высокого рода и, желая во всем подражать брату, отправил посольство к королю готов просить руки старшей его дочери, Галесвинты. Но это искание встретило препятствия, каких не было для послов Сигеберта. Слух о распутствах нейстрийского короля проник в Испанию; будучи образованнее франков и более тверды в евангельском учении, готы громко говорили, что король Хильперик живет язычником. Со своей стороны, старшая дочь Атанагильда, от природы робкая и грустная, характера кроткого, трепетала при мысли ехать так далеко и принадлежать подобному человеку.
Мать ее, Гоисвинта, нежно ее любившая, разделяла отвращение, страх и печальные предчувствия дочери. Король колебался и откладывал решительный ответ со дня на день. Наконец, торопимый послами, он отказался от заключения с ними какого-либо договора, пока король их клятвенно не обяжется удалить всех своих жен и жить с новой супругой по закону Божию. Гонцы отправились в Галлию и возвратились с положительным обещанием короля Хильперика оставить всех королев и наложниц, если только он получит достойную себя супругу и дочь короля[32].
Двойной союз с королями франков, естественными соседями и врагами короля Атанагильда, обещал ему столько политических выгод, что он перестал колебаться и, обнадеженный уверениями Хильперика, приступил к заключению условий брачного союза.
Держава Меровингов на карте
Тогда начались споры, с одной стороны, о приданом, которое принесет с собой будущая супруга, с другой – о том, что она получит в утренний дар от своего мужа после первой ночи брака. По обычаю, принятому у всех народов германского происхождения, действительно, супруг, при первом пробуждении новобрачной, делал ей какой-либо подарок в замену ее девственности. Сущность и ценность этих подарков были весьма разнообразны: дарили то деньгами или драгоценными вещами, то упряжкой волов или коней, скотом, домами или землями; но, что бы ни было предметом подарка, он всегда назывался одинаково утренним даром, morgen-gabe, или morgana-ghiba, смотря по разным наречиям германского языка. Переговоры о браке короля Хильперика с сестрой Брунгильды, замедляемые пересылкой гонцов, длились до 567 года; они еще не были приведены к окончанию, когда случившееся в Галлии происшествие облегчило их заключение.
Хариберт, старший из четырех франкских королей, оставил окрестности Парижа, обыкновенное свое местопребывание, и переехал в одно из своих поместий, близ Бордо, насладиться климатом и красотами полуденной Галлии. Там он скоропостижно умер; смерть его произвела в государстве франков новый переворот в поземельном разделе. Лишь только закрыл он глаза, как одна из жен его, Теодегильда, дочь пастуха, захватила королевские сокровища и, желая сохранить титул королевы, отправила к Гонтрану предложение на ней жениться. Король очень милостиво принял послание и отвечал с видом искреннего чистосердечия: «Скажите ей, чтоб поспешала прибыть со своими сокровищами, ибо желаю вступить с ней в брак и возвеличить ее в глазах народов; я хочу даже, чтобы она пользовалась при мне большим почетом, нежели при покойном моем брате»[33]. Обрадованная таким ответом, Теодегильда велела нагрузить повозки мужниным богатством и отправилась в Шалон-на-Соне, местопребывание короля Гонтрана. Но по приезде ее король, вовсе не занимаясь ею, осмотрел клад, пересчитал повозки и велел взвесить сундуки; потом сказал окружавшим его: «Не лучше ли сокровищам этим принадлежать мне, нежели этой женщине, которая не стоила чести, какую оказал ей брат мой, приняв на свое ложе?»[34] Все были согласны с этим мнением; сокровища Хариберта сложены были в сохранное место, а ту, которая нехотя сделала ему такой прекрасный подарок, король велел под охраной проводить в Арльский монастырь.
Никто из братьев Гонтрана не оспаривал у него обладания деньгами и драгоценностями, которые он присвоил этой хитростью; им предстоял спор с ним и между собой о предметах более важных. Вместо четырех частей надлежало раздробить галльскую землю на три доли и с общего согласия разделить города и области, составлявшие королевства Хариберта. Это новое распределение сделано было еще страннее и беспорядочнее первого. Париж разделен был натрое, и каждый из братьев получил по равной части. Во избежание опасности от нечаянного нападения ни один из них не должен был вступать в город без согласия двух других, под страхом потери не только своей доли Парижа, но и всей части Харибертова королевства. Это условие было утверждено торжественной клятвой на мощах трех уважаемых угодников, Илария, Мартина и Полиевкта, гнев которых призывался в здешней и будущей жизни на голову того, кто изменит своему слову[35].
Подобно Парижу, был разделен город Санли, но только на две части. Из других городов, вероятно, по расчету взимаемых с них повинностей, но, впрочем, без всякого внимания к их взаимному положению, составлено было три доли. От этого географическая запутанность увеличилась еще более прежнего; чересполосные владения умножились; королевства были между собой, так сказать, перебиты. Король Гонтран получил, по жребию, Мелен, Сент, Ангулем, Ажан и Периге. Мо, Вандом, Авранш, Тур, Пуатье, Альби, Консеран и нижнепиренейские округи выпали на долю Сигеберта. Наконец, Хильперику, кроме многих городов, которых историки не называют, достались Лимож, Кагор, Дакс в Бордо с разрушенными ныне городами Бигор и Беарн и округами Верхних Пиренеев.
Восточные Пиренеи не входили тогда в состав земель, подвластных франкам, а принадлежали испанским готам и служили сообщением с их землями в Галлии, простиравшимися от реки Оды до Роны. Таким образом, нейстрийский король, не имевший до того времени ни одного города к югу от Луары, сделался ближайшим соседом короля готов, своего будущего тестя.
Это взаимное их отношение положило новое основание брачному договору и вслед за тем повлекло окончательное его заключение.
В числе городов, доставшихся Хильперику, некоторые были на границе Атанагильдова королевства, другие рассеяны в Аквитании, области, отнятой у готов Хлодвигом Великим. Выговорить для своей дочери, в случае ее вдовства, эти города, утраченные предками Атанагильда, было делом ловкой политики, и король готов не упустил этого из виду. Хильперик, по недостатку соображений более дальновидных, чем временная выгода, а может быть, из желания заключить во что бы ни стало брачный союз с Галесвинтой, обещал, нимало ни колеблясь, подарить на случай вдовства и в виде утреннего дара Лимож, Кагор, Бордо, Беарн и Бигор с их округами[36]. При тогдашней сбивчивости понятий германских народов о праве поземельной собственности и верховной власти города эти могли со временем отойти из-под франкского владычества; но нейстрийский король не предусматривал так далеко. Думая лишь об одном, он желал только выговорить себе в замену своих уступок богатое приданое деньгами и драгоценными вещами. Когда статья эта была окончательно условлена, то не представлялось более препятствий, и брак был порешен.
При всех обстоятельствах этих долгих переговоров Галесвинта не переставала питать сильного отвращения к человеку, которому ее предназначали, и тревожилась смутными опасениями насчет своей будущности. Ее не могли успокоить обещания, данные франкскими послами от имени короля Хильперика. Когда ей объявили, что участь ее решена невозвратно, она в ужасе подбежала к своей матери, и, обвив ее руками, как дитя, ищущее спасения, более часа держала ее в объятиях и безмолвно плакала[37]. Франкские послы явились приветствовать невесту своего короля и испросить приказаний ее насчет отъезда; но, увидев двух женщин, рыдающих на груди друг у друга и обнявшихся так крепко, как будто они были связаны одна с другой, послы, при всей своей суровости, были тронуты и не смели говорить о путешествии. Два дня они обождали, а на третий снова явились к королеве, объявив в этот раз, что спешат отъездом, и напомнив о нетерпении своего короля и продолжительности странствия[38]. Королева плакала и просила для своей дочери еще два дня отсрочки. Но на другой день, когда ей сказали, что все готово к отъезду: «Еще денек, – отвечала она, – и больше просить не буду; знаете ли, что там, куда вы везете дочь мою, там у нее не будет матери?»[39] Но уже все возможные задержки были истощены; вмешался Атанагильд, как король и отец, и, несмотря на слезы королевы, Галесвинту сдали на руки тем, которым поручено было отвезти ее к будущему супругу.
Длинная вереница всадников, колымаг и повозок с кладью проехала по улицам Толедо и направилась к северным воротам. Король, верхом, проводил поезд своей дочери до моста, устроенного на Таго, в некотором расстоянии от города; но королева не могла вернуться так скоро и захотела провожать далее. Оставив свою колесницу, она пересела к Галесвинте, и, день за днем, от привала до привала, невольно проехала более ста миль расстояния.
Всякий день она говорила: «Вот до того места хочу доехать», – но, достигнув его, ехала дальше. По приближении к горам дороги сделались трудны, она этого не заметила и хотела продолжать путь. Но, так как сопровождавшие ее люди, увеличивая поезд, умножали путевые затруднения и опасности, то готские вельможи решились не пускать свою королеву ни одной мили дальше. Надлежало покориться неизбежной разлуке, и новые трогательные сцены, однако более спокойные, нежели прежде, повторились между матерью и дочерью. Королева нежными словами выразила свою горесть и материнские опасения: «Будь счастлива, – сказала она, – но я страшусь за тебя; берегись, дочь моя, берегись…»[40] При этих словах, столь согласных с собственными предчувствиями Галесвинты, она заплакала и отвечала: «Так Богу угодно; я должна покориться», – и они расстались.
Многочисленный поезд раздвоился; всадники и повозки разделились: одни продолжали следовать вперед, другие возвращались в Толедо. Не входя в колесницу, которая должна была отвезти ее обратно, королева готов остановилась на краю дороги и, устремив взоры на повозку дочери, стояла неподвижно и все на нее глядела, пока повозка не скрылась в отдалении за изгибами дороги[41]. Галесвинта, грустная, но покорная своей доле, продолжала путь свой на север. Ее свита, состоявшая из вельмож и воинов обеих наций, готов и франков, проехала Пиренеи, потом города Нарбонн и Каркассон, все еще не выходя из пределов Готского королевства, владения которого простирались до этих мест; потом, через Пуатье и Тур, она направилась к городу Руану, где предназначено было совершить бракосочетание[42]. Перед воротами каждого большого города поезд останавливался, и все готовилось к торжественному въезду: всадники сбрасывали с себя дорожные плащи, снимали оружие со своих коней и вооружались щитами, привешенными к седельной луке. Невеста нейстрийского короля оставляла тяжелую дорожную повозку и садилась в парадную колесницу, окованную серебром и возвышавшуюся в виде башни. Современный стихотворец, у которого заимствованы эти подробности, видел восшествие Галесвинты в Пуатье, где она несколько дней отдыхала; он говорит, что все удивлялись пышности ее экипажа; но о красоте ее[43] он не упоминает.
Между тем Хильперик, верный своему обещанию, развелся с своими женами и распустил любовниц. Даже Фредегонда, самая красивая и наиболее любимая из всех, которых он возвел в королевский сан, не могла избегнуть общего изгнания; она покорилась с притворным самоотвержением, с такой готовностью, которая могла бы обмануть человека более хитрого, ежели король Хильперик. Она, казалось, искренно сознавала и необходимость развода, и непрочность союза короля с такой женщиной, как она, и обязанность уступить место королеве, действительно достойной этого сана. Она только выпросила, как последнюю милость, не покидать дворца и вступить по-прежнему в число женщин, составлявших королевскую прислугу. Под этой личиной смирения скрывались глубокое коварство и женское честолюбие, которых нейстрийский король нисколько не стерегся. С того дня, как ему припала мысль жениться на королевской дочери, ему казалось, что он уже более не любит Фредегонды и не замечает красоты ее; душа его, как и всех вообще варваров, не была способна к восприятию вдруг разнообразных впечатлений. Итак, без всякого тайного умысла, вовсе не по слабости сердца, но просто от недостатка рассудительности, он дозволил прежней своей возлюбленной остаться при себе и в том же доме, где должна была поселиться новая его супруга.
Бракосочетание Галесвинты было отпраздновано с такой же пышностью и великолепием, как и сестры ее, Брунгильды, и даже оказаны были новобрачной необыкновенные почести; все нейстрийские франки, вельможи и простые воины, клялись ей в верности, как самому королю[44]. Став полукругом, они обнажили мечи и, потрясая ими в воздухе, произнесли старинную языческую клятву, обрекавшую острию меча того, кто нарушит слово[45]. Наконец сам король торжественно повторил обещание супружеской верности и постоянства; и, возложив руку на раку с мощами, он поклялся никогда не разводиться с дочерью короля готов, и, пока жива она, не брать себе другой супруги.
На брачных празднествах Галесвинта в обращении с гостями отличалась любезностью и добротой; принимала их, как будто давно была с ними знакома; одним предлагала подарки, других приветствовала кроткими, ласковыми речами; все уверяли ее в преданности и желали ей долгой и счастливой жизни[46]. Эти желания, которым не суждено было сбыться, провожали ее до самой опочивальни: встав на другой день, она получила утренний дар, с обрядами, установленными германскими обычаями. В присутствии избранных свидетелей король Хильперик взял правой рукой руку новой своей супруги и, бросив на нее из левой руки соломину, произнес громким голосом имена тех пяти городов, которые отныне должны были принадлежать королеве. Вслед за тем составлена была на латинском языке дарственная запись на вечное и неоспоримое ими владение; она не дошла до нас; но, руководствуясь принятыми формами и обыкновенным складом других памятников времен Меровингов, легко можно представить себе ее содержание:
Меровингская фибула. VII в.
«Поелику Бог повелел, да оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут оба в плоть едину, и да не разлучаться те, кого соединил Господь, – я, Хильперик, король франков, муж именитый, тебе, Галесвинта, возлюбленная жена моя, сочетавшаяся со мной по закону Салическому[47], солидом и динарием, дарую ныне, по нежной любви моей, яко вечно и утренний дар, города Бордо, Кагор, Лимож, Беарн и Бигор, с их землями и жителями[48]. Почитай их от сего дня своей собственностью и владей ими вечно; вручаю их тебе, передаю и утверждаю за тобой этой грамотой, как ознаменовал уже я соломиной и рукопожатием (handelang)»[49].
Новая королева провела первые месяцы брака если не счастливо, то по крайней мере спокойно; кроткая и терпеливая, она с самоотвержением переносила все, что было грубого и строптивого в характере ее мужа. Притом сам Хильперик питал к ней некоторое время настоящую привязанность; сначала полюбил он ее из тщеславия, имел в ней супругу столь же высокого рода, как и братнина, потом, пресытившись удовлетворенным самолюбием, любил ее из корысти, за огромные суммы денег и большое число драгоценностей, которые она принесла за собой[50]. Но, натешившись перечислением всех этих сокровищ, он перестал находить в них удовольствие, и тогда ничто уже не привязывало его к Галесвинте. Он не мог пленяться нравственной ее красотой, смирением, благотворительностью к бедным, потому что душой и телом предан был только красоте телесной. Таким образом, вскоре наступило время, когда, вопреки собственной решимости, Хильперик ощущал при жене своей только холодность и скуку.
Фредегонда ждала этой минуты и воспользовалась ею с обычной своей ловкостью. Ей стоило только встретиться, будто случайно, с королем, чтобы наружное сравнение ее с Галесвинтой вновь воскресило в сердце этого чувственного человека прежнюю страсть, не заглушенную слабой вспышкой самолюбия. Фредегонда была взята в наложницы и огласила новое торжество свое; в обращении с отвергнутой супругой она обнаружила даже презрение и высокомерие. Вдвойне обиженная, как королева и супруга, Галесвинта сперва плакала молча; потом осмелилась жаловаться и говорить королю, что в доме его нет ей никакого почета, а только позор и обиды, которых она переносить не может. Она как милости просила развода и предлагала оставить все, что принесла в приданое, лишь бы дозволено ей было возвратиться на родину[51].
Такой добровольный отказ от драгоценных сокровищ, бескорыстие гордой души были чужды для короля Хильперика; не имея о них ни малейшего понятия, он не мог им поверить, и слова Галесвинты, несмотря на их искренность, возбудили в нем только мрачное подозрение и боязнь потерять открытым разрывом богатства, обладание которыми почитал за счастье. Смирив свои чувства и с лукавством дикаря скрывая мысли, он вдруг переменился в обращении с Галесвинтой, стал говорить с ней кротко и ласково, изъявлял раскаяние и любовь, обманувшие дочь Атанагильда. Она перестала говорить о разлуке и утешалась уже искренней взаимностью, как однажды ночью по повелению короля введен был в ее комнату преданный ему слуга и задушил ее сонную. Увидев ее мертвую на постели, Хильперик притворился удивленным и огорченным, даже сделал вид, будто плачет, а через несколько дней возвратил Фредегонде права жены и королевы[52]
