О чем говорят клиенты. Путеводитель по психологическим проблемам
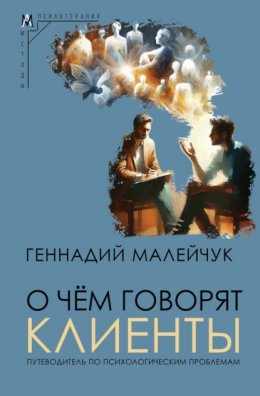
© Малейчук Г., 2024
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
Предисловие
Выходит очередная книга Геннадия Малейчука, психотерапевта с многолетним стажем и моего коллеги по гештальт-сообществу. Насколько я знаю, десятая. С чем, конечно, хочется его поздравить и выразить искреннее уважение.
Это полезная книга. Сейчас общепринято говорить, что «текст может быть полезен и профессионалам, и всем интересующимся читателям». Все так, но, мне кажется, адресация своей книги самим автором психотерапевтам в начале пути – особенно верная.
Так сложилось, что я, как и автор, многие годы занимаюсь подготовкой гештальт-терапевтов. Представление о психотерапии в нынешнем мире, прозвучавшее в 1990 г. в Страсбургской декларации о психотерапии и определившее ее, терапию, как особую гуманитарную деятельность, несводимую либо к медицинской, либо к психологической нише, привело и продолжает приводить и к различным важным «продвижениям», и к специфическим сложностям.
В частности, связанным с тем, как именно люди чаще всего приходят в программы подготовки и, соответственно, в профессию.
С одной стороны, все большее число людей либо делают частную терапевтическую практику своим основным делом, либо используют знания и навыки в сфере, скажем, той же гештальт-терапии в самых разных областях. Психотерапевтическая культура вообще все больше интегрируется в жизнь современного общества.
С другой – такой, например, феномен. В привычном, академическом, обучении человек вначале довольно долго и кропотливо осваивает большие объемы знаний и навыков в разных областях выбранной специальности (врача или практического психолога), а затем специализируется в каком-то подходе. В нынешней ситуации часто – ровно наоборот: участники программ подготовки терапевтов различных направлений осваивают прежде всего свое «конфессиональное пространство». Уже потом, если продолжают развиваться в профессии, интегрируют в своем понимании практики достижения различных школ и направлений, осваивают так называемые общетерапевтические проблемные зоны.
И вот здесь, я думаю, «О чем говорят клиенты» сослужит отличную службу. Не претендуя на всеохватность, Геннадий Малейчук обращается к полутора десяткам рабочих тем, значимость и определенная универсальность которых ведома каждому практическому психологу. Зависимость и созависимость, нарциссические тупики и опустошенность, аспекты сепарации, травма и посттравма и проч. Многие поля проблем просто и удачно означены авторски («Клиенты “Хочу” и “Надо”», «Мертвые отношения», «Дефицитарный клиент»). Это – во втором разделе книги.
А в первом – опять-таки простым языком (но без какой-либо примитивизации) ведется разговор о важных «надконфессиональных» аспектах любой настоящей терапии. О том, как пациент становится (или не становится) клиентом, об уровнях готовности клиента к терапевтическому процессу, о динамике этого самого процесса, о типологии клиентского поведения и пр.
А еще хочется сказать, что нынче во многих текстах, посвященных практической психологии и психотерапии, очень не хватает столь важной именно в начале обучения терапевтической работе структуры, последовательности и определенного алгоритма изложения. В этом смысле книга Г. Малейчука выгодно отличается. Размышляя о каждой из шестнадцати проблемных категорий и завершая свои размышления главой о человеческих кризисах в целом, автор обоснованно движется от изложения сути проблемы через ее звучание и проявленность к собственно переживаемому клиентом и терапевтом и вытекающим из этого терапевтическим рекомендациям.
И еще одно соображение о книге, о том, почему стоит ее читать, особенно тем, кто терапии обучается, тем, кто переживает первые годы практики.
Иллюстрируя различную клиентскую проблему и то, как проходит терапия в самых различных обстоятельствах жизни клиента, автор раз за разом обращается к тому, что происходит в этих случаях с самим терапевтом, к его тревогам, соблазнам и сопротивлениям, к его феноменологии и контрпереносным реакциям. Известно, что это – богатейший диагностический ресурс терапевта и во многом ключ к пониманию стратегий работы. А еще – важный инструмент самосохранения, профилактики собственного эмоционального выгорания. Но как раз способности, навыка обращения к себе и самонаблюдения, а часто и понимания необходимости этого очень недостает начинающим терапевтам. Так что здесь у книги специфическая ценность.
Приятного и полезного чтения, коллеги. Ну и, как принято и как уже говорил, – все, кому интересен мир человеческих отношений и человеческой души.
Андрей Валамин,
гештальт-терапевт, супервизор,
ведущий тренер МГИ
Введение. Путеводитель по проблемам клиента
Когда я собираюсь писать очередную книгу, то всегда задаю себе один важный вопрос: будет ли мой труд кому-то интересен и полезен? «О чем говорят клиенты» не является исключением.
В какой-то момент мне захотелось поделиться терапевтическим опытом, накопленным за более чем двадцать пять лет работы с клиентами. Возникло желание систематизировать и обобщить приобретенные в качестве психотерапевта знания и написать ясным, доступным языком о тех проблемах, которые клиенты чаще всего приносят на сессии, а также о путях и способах их решения.
Эти часто звучащие в моей терапевтической практике проблемы также появляются в моей супервизионной работе и при обсуждении с коллегами-терапевтами. Многие из них названы традиционно (созависимость, кризисы, психическая травма), в именовании других отражается их авторское видение (комплементарные отношения, клиент «Надо», клиент «Хочу»).
Конечно, вы не найдете здесь освещения всех-всех проблем, с которыми клиенты приходят на терапию. Я и не ставил перед собой такой задачи. Кроме того, проблема может быть комплексной, не вписывающейся в рамки какой-то определенной темы; она может трансформироваться по ходу знакомства с ней, по-новому звучать, выходить на иные, более глубокие уровни.
В основу данной книги легли статьи, написанные мною за последние десять лет практики. В них я пытался отрефлексировать и проанализировать различные феномены, всплывающие в ситуации терапии, которые впечатляли меня и побуждали взяться за перо. Описание их по горячим следам было своеобразной самосупервизией, позволяло лучше ухватить суть феномена, рождало диагностические терапевтические гипотезы об их происхождении и механизмах развития, заставляло размышлять о путях их решения.
Естественно, что книга не является простым набором этих статей: пришлось приложить немало усилий, чтобы подчинить их единому замыслу. Весь материал нанизан на общую идею и унифицирован, следуя логике издания. Проделанная работа позволила мне по-новому взглянуть на собственный опыт, зафиксированный в тексте, где-то его подкорректировать и по-иному структурировать.
Чтобы охватить необходимый материал, я разделил книгу на две неоднозначные по объему части.
В первой – теоретической (небольшой) – представлено мое видение клиента, его готовность и динамику в терапии, сути терапевтического процесса и специфика терапии как одной из форм психологической помощи.
Во второй части рассматривается собственно перечень возможных проблем, с которыми чаще всего обращаются клиенты, и пути их решения с помощью терапии. Описание клиентских запросов подчинено следующей структуре:
• суть проблемы – как она представлена в своем общем виде, в чем ее сущность;
• как звучит проблема – как она озвучивается клиентом при первой встрече с терапевтом;
• как проявляется проблема – посредством каких феноменов она находит выражение в жизни клиента;
• основные характеристики клиента – каков психологический портрет клиента, его основные психологические проявления;
• феноменология клиента – особенности переживания клиентом проблемы, его внутренний мир;
• феноменология терапевта – с какими переживаниями встречается терапевт в области этой проблемы и как он с ними обходится;
• терапия и терапевтические отношения – как осуществляется терапевтический процесс с такого рода проблемой, его основные задачи и этапы.
Поскольку я являюсь адептом феноменологического подхода в психотерапии, то при описании проблемы клиента в фокусе моего внимания чаще оказывались проявления проблемы – как она звучит, как ее можно обнаружить, как она откликается в переживаниях клиента и терапевта.
• О проблемных отношениях с собой – тревоге, внутренних конфликтах, низкой самооценке, депрессии, проблемах выбора.
• О проблемных отношениях с Другим – конфликтах, обидах, вине, разочарованиях, невозможности расстаться, сложности встретиться.
• Об отношениях со своей жизнью – потере смысла жизни, страхе старения, кризисах идентичности, неспособности радоваться.
Как они об этом говорят? Чаще словами, иногда – слезами, снами, телесными симптомами, сопротивлениями. Все это феномены души, а душа говорит разными языками.
Думаю и уверен, что книга будет полезна прежде всего начинающим терапевтам. Она поможет им сориентироваться в запросе, позволит четче увидеть суть проблемы и ее проявления, даст возможность лучше понять клиента, сможет направить на путь ее решения. Определенный интерес она может вызвать и у потенциальных клиентов, позволив им осознать и озвучить порой не совсем ясные чаяния и потребности своей души. Для опытных терапевтов будет полезно сравнить с автором свое видение проблем и пути их решения.
Хотелось бы поблагодарить коллег-друзей, в работе и общении с которыми у меня часто возникали интересные инсайты: Бориса Дробышевского, Наталью Олифирович, Ольгу Осипову, Анжелику Мерсиянову, Александра Сунцова, Тимура Аширбаева, Елену Ким.
С признательностью обращаюсь к моим клиентам, верящим в мой профессионализм, открывающим и доверяющим глубины своей души. Их истории вдохновляли меня описывать важные психологические феномены, проявившиеся в терапии. Без них не было бы этой книги.
Благодарю также Андрея Валамина, написавшего предисловие к моей книге.
И особую благодарность хочу высказать моей жене – Татьяне Малейчук, первому читателю, критику и редактору моих публикаций – за идею книги и за ее название.
Немного теории о сути терапии
Сломанный компьютер
Нет таких путей, как твой.
Все другие пути обманывают и искушают тебя.
Ты должен исполнить тот путь, что в тебе.
Карл Густав Юнг
Когда ко мне на терапию приходит очередной клиент, я, глядя на него, фантазирую: «Какой он музыкальный инструмент? Как он “изначально звучал”, какова “мелодия его души”, данная ему изначально, от рождения? Что было с ним такого сделано, что он перестал звучать? И что нужно сделать, чтобы он зазвучал снова?»
В такие минуты я всегда вспоминаю своего друга юности, который, считая себя великим радиотехником, покупал новенький магнитофон, смотрел его паспорт и, не включая, вскрывал пломбы, начинал его разбирать, что-то в нем менял, орудуя отверткой и паяльником. На мое предложение хотя бы включить и послушать, как проигрыватель звучит изначально, мой друг авторитетно и безапелляционно заявлял, что ему необязательно его слушать, он и так знает, что тот звучит недостаточно хорошо и его непременно надо усовершенствовать.
Мне представляется вполне уместной данная аналогия с воспитанием детей некоторыми (и это я очень скромно) родителями, которые, подобно моему другу юности, уверены, что они лучше знают, каким должен быть их ребенок и как он должен «звучать». Их уверенность подкрепляется следующими аксиомами:
• каждый родитель хочет добра своему ребенку (исключительно из чувства любви к нему);
• каждый родитель уверен, что знает, «что лучше» и «как надо» его ребенку (педагог живет в каждом из нас априори).
Руководствуясь исключительно благими намерениями, такие родители, ни минуты не сомневаясь, уверенно «усовершенствуют» свое чадо, не затрудняя себя необходимостью прислушаться к его изначальному звучанию. Они активно начиняют свой новенький «компьютер» (еще одна метафора) разными навороченными суперпрограммами, плохо совместимыми с его изначальными возможностями, попутно занося различные вирусы.
Сопротивление при этом крайне затруднительно – установке любви и добра и родительскому авторитету практически невозможно противостоять! Да и силы далеко не равны. Робкие попытки противиться такого рода родительскому вмешательству со стороны ребенка активно подавляются чувствами вины и стыда – этими неизбежными орудиями манипуляции родительского воспитания.
В результате насильственного вмешательства наш «компьютер» все чаще и чаще зависает и не может демонстрировать многие свои изначально заложенные возможности: родительские программы не являются «родными» и плохо совместимы с оригиналом.
И вот он оказывается в кабинете у психолога…
И тогда начинается непростая работа по реконструкции программ, установленных «заводом-изготовителем», очистка его от многочисленных вирусов и ненужных, перегружающих память и затрудняющих его работу программ.
Иногда на это уходит немало времени и усилий. Но, поверьте, оно того стоит!
Кто такой клиент?
Каждое общество создает свои характеры…
Вильгельм Райх
Какой он – современный клиент? С какими проблемами чаще всего обращается? Как он относится к психологам/психотерапевтам и психологической помощи?
В настоящее время бытует мнение, что клиент – это человек, у которого есть проблемы. Однако здесь не все так просто. Далеко не всякого человека, у которого есть какие-либо трудности, можно отнести к категории клиентов. Даже если признать тот факт, что проблемы есть у всех нас, то, пожалуй, не все они относятся к проблемам психологического уровня: бытовые, педагогические, медицинские, юридические и т. п. В свою очередь, среди людей, имеющих именно психологические сложности, далеко не каждый осознает их как таковые.
Таких людей мы (психотерапевты) можем считать условными, или потенциальными, клиентами. И даже если такой человек окажется в кабинете, то еще не факт, что он автоматически перейдет в разряд клиентов.
Человек как клиент
Есть еще несколько условий, помимо проблемы именно психологического характера, которые позволят определить человека, находящегося на приеме у психолога/терапевта, как клиента.
1. Добровольность.
2. Признание авторства своих проблем.
3. Признание своих проблем как проблем психологических.
4. Признание того факта, что терапия помогает (наличие элементов психологической картины мира у человека, обратившегося за помощью).
5. Признание психолога/терапевта как профессионала.
Только наличие всех вышеперечисленных условий дает нам основание считать человека клиентом. То, как сложится терапевтический контакт, зависит уже в бóльшей степени от мастерства психолога/терапевта.
Рассмотрим примеры недостаточности (дефицитарности) вышеперечисленных условий.
1. Недобровольность обращения за психологической помощью.
Ситуация. Кто-то другой приводит (отправляет) человека к терапевту (родители – ребенка; супруг – супруга; педагог – ученика и др.). Послание. «С ним что-то не так… Сделайте с ним что-нибудь)».
2. Непризнание человеком авторства своих проблем.
Ситуация. Человек добровольно приходит к специалисту, но считает, что в его проблемах виновен кто-то другой (супруг, родитель, ребенок, начальник…). Послание. «Если бы не он…».
3. Непризнание своих проблем как проблем психологических.
Ситуация. Человек добровольно приходит к специалисту, но считает, что имеющаяся у него проблема вызвана непсихологическими причинами. Послание. «Дайте мне совет, рецепт…».
4. Непризнание факта, что терапия помогает.
Ситуация. Человек не обращается за психологической помощью. Послание. «Знаю я вашу терапию…».
5. Непризнание терапевта как профессионала.
Ситуация. Человек обращается к специалисту из конкурентных побуждений. Послание. «Я лучше знаю…».
И еще один, на мой взгляд, важный критерий: клиент должен сам за себя платить. Опыт показывает, что если клиент не оплачивает терапию самостоятельно, то он не принимает на себя ответственности за процесс и результат. Оплата, как известно, создает дополнительную мотивацию для работы, а также дает клиенту ощущение автономии от психолога/терапевта.
Таким образом, клиент – это человек, добровольно обратившийся за психологической помощью к специалисту, идентифицирующий свои проблемы как проблемы психологические, осознающий свой вклад в их возникновение, а также признающий психолога/терапевта как специалиста, который может помочь их решить.
Психологический портрет современного клиента
• Тревожный. В сознании у большинства людей психолог/терапевт пока еще ассоциируется с психиатром, и если человек обращается к психологу, то это вызывает у него чувство собственной неполноценности, стыда и страха. Стыд связан с ожиданием оценки, диагноза. Страх – с необходимостью «обнажаться», раскрывать душу. Соответствующее отношение часто можно увидеть и у окружающих. Мужчины более настороженно относятся к психологам/психотерапевтам, чем женщины. Но вместе с этим у них присутствуют и интерес, и любопытство. Больше доверия к психологу/терапевту возникает, если обратиться к нему рекомендуют знакомые, врачи, социальные работники.
• Образованный. Образованные люди с высоким уровнем рефлексии охотнее идут к психологу. Первыми моими клиентами и клиентами моих коллег были студенты либо выпускники психологических специальностей. И это неудивительно. В процессе профессионального обучения повышается уровень психологической культуры, появляются знания о душе, представления о психологических проблемах и способах их решения – формируется психологическая картина мира.
• Нетерпеливый. Нетерпеливость клиента проявляется в ожидании быстрого результата от психологической помощи. Это прежде всего связано с незнанием психологических механизмов действия терапии. В сознании клиентов часто присутствует представление о терапии как о некотором чудодейственном рецепте, спасительном совете, волшебной таблетке, эффективном перепрограммировании, перекодировании и т. п. Не обнаружив вышеперечисленных средств в арсенале психолога/терапевта, клиент часто оказывается разочарованным: «Мы будем разговаривать, и это всё?», «За разговор нужно платить?», «Психотерапия продлится несколько месяцев?», «Может, вы попробуйте со мной гипноз?» и т. д.
• Рациональный. Современному человеку все сложнее чувствовать, у него доминирует рациональная сфера при блокировании чувственной сферы. Ценность мышления в сознании современного человека значительно выше ценности чувств, переживаний. Душа становится некоторым атавизмом. Технологические установки распространяются и на область организма, тела. От него требуют безупречной работы, а переживания, чувства лишь отвлекают, становятся помехой. О них вспоминают, когда организм/тело дает сбой. Однако душа начинает прорываться в сознание человека в виде тягостных болезненных переживаний, навязчивых мыслей, преследующих страхов, неприятных телесных симптомов. Часто в качестве запроса клиенты просят терапевта избавить их от ненужных, мешающих, по их мнению, чувств, надеясь, что чувствами, как и мыслями, можно управлять, оставив только приятные, позитивные, и выбросив неприятные, причиняющие боль.
• Ожидающий чуда. Клиенты часто идут к психологу/терапевту с ожиданиями целительской помощи, надеждой на чудесное исцеление. В сознании современного человека образ психолога часто рисуется как образ целителя, мага, волшебника, гуру… При такой установке неизбежны разочарования либо в психологе/терапевте, либо в психологии/терапии. В первом случае клиенты не сдаются и продолжают поиски такого кудесника, который «разведет руками их боль», решит волшебным образом все их проблемы. Во втором – обесценивают и психолога/терапевта и психологию/терапию в целом.
Вышеперечисленные качества современного клиента с определенными установками на психологическую помощь в основном связаны с пока еще невысокой психологической культурой населения. До сих пор в сознании современного человека – потенциального клиента – присутствует весьма смутное представление о терапии как о профессиональной деятельности и о терапевте как профессионале. Тем не менее мой опыт психологической практики дает право утверждать, что в этом направлении наблюдаются позитивные тенденции. Потребность в терапии и терапевтах становится частью реальности современного человека.
Что такое психологическая проблема?
Проблема содержит в себе профессионально проанализированную жалобу
с попыткой понять то, что за ней стоит.
Говоря о психологической проблеме, я бы выделил в этом феномене следующие ее составляющие: жалобы, собственно проблема и запрос.
Жалобы и симптомы
Чаще всего клиент приходит на терапию с жалобами либо симптомами. В жалобе клиента содержится указание на то, что его не устраивает, тревожит, беспокоит, расстраивает, пугает, напрягает. Это феноменологический «кусочек его неудовлетворенной души». И это его субъективное, имплицитное видение проблемы.
Можно сказать, что жалоба или симптом – это клиентское видение проблемы, то, что он может, и то, как он может видеть, исходя из своего жизненного опыта. И задача психотерапевта «пойти за…» – дальше, глубже его переживаний, и уже на первой встрече увидеть за жалобами-симптомами психологическую проблему, чтобы донести до клиента понятным ему языком.
Проблема
Если жалоба или симптом – это субъективное переживание клиента, то проблема – это суть жалобы, ее психологическая причина, то, что создает жалобы-симптомы и поддерживает их. Проблема содержит в себе профессионально обработанную, проанализированную жалобу с попыткой понять, что за ней стоит.
Терапевту предстоит в процессе выслушивания и диалога с клиентом:
1) перевести субъективную проблему клиента на профессиональный язык – описать ее для себя профессиональными терминами;
2) обнаружить ее содержание и суть в рамках своего профессионального понимания динамики души человека, первоначально выдвинув гипотезу о ее сути;
3) перевести обратно содержание и суть проблемы на тот язык, который понимает клиент, объяснить ему суть его психологической проблемы, не прибегая к профессиональным терминам, общаясь с ним на том языке, который ему знаком и понятен. Это важно, поскольку иначе все может звучать как диагноз, стигматизирующий клиента, а также путающий и уводящий его от сути проблемы.
Например, клиент говорит терапевту о сложных отношениях с партнером, о том, что ему не хватает в них свободы, жалуется на постоянный контроль со стороны партнера, накопившееся раздражение, которое он удерживает, и т. д. За этими жалобами терапевт может предположить проблему эмоциональной зависимости, причину которой он видит в незавершенной психологической сепарации от родительских фигур. Можно сказать клиенту: «Похоже, вам сложно отстаивать себя в отношениях, говорить прямо о своих чувствах, заявлять о своих желаниях» и предложить ему вместе исследовать то, что мешает ему это делать.
Не все проблемы, которые может принести клиент терапевту, являются психологическими. Как уже говорилось, они могут быть бытовыми, материальными, педагогическими, юридическими, медицинскими и пр. Естественно, что терапевт работает с психологическими проблемами, а для решения иных есть другие специалисты. В том случае, когда клиент приносит терапевту не психологическую проблему, можно попробовать вместе с клиентом поискать в ней психологическую составляющую. Если этого не удастся сделать – необходимо направить клиента по адресу, к нужному специалисту.
Запрос
Запрос – это то, что человек хочет получить в результате терапии. Далеко не каждый клиент на первой встрече может четко сформулировать запрос. Он не всегда может ясно понимать свои ожидания от терапевта и что может дать ему терапия. Формулирование запроса – совместная задача. Терапевт, после того как объяснит клиенту свое видение сути проблемы, с помощью ряда вопросов помогает клиенту сформулировать запрос.
1. Что вы хотели бы получить в результате терапии?
2. Когда?
3. Реально ли это?
4. Что вам это даст?
5. Как вы себя видите после решения вашей проблемы?
6. Что бы вы, достигший результата, сказали себе сегодняшнему?
7. Что вам сейчас мешает быть таким, какие препятствия вы видите на пути к достижению результата?
Проявление запроса в виде цели или желаемого будущего является важным этапом на пути осознавания проблемы клиентом. В этот момент человек раскрывает свой потенциал в виде образа, чтобы затем соединиться с ним в настоящем, проработав для этого внутренние препятствия.
Не все проблемы клиента психолог может разрешить, не все запросы могут быть удовлетворены посредством терапии. Есть запросы, решением которых терапия не занимается. Например, запрос на то, чтобы изменить другого человека или решить проблему, не меняясь при этом самому. Задача терапевта на первой встрече четко и ясно прояснить проблему и сформулировать запрос, для того чтобы избежать в будущем возможных разочарований клиента.
Уровни анализа проблемы клиента
Всякий человек есть история,
непохожая ни на какую другую.
Алексис Каррель
Любая психологическая проблема может быть рассмотрена и проанализирована на разных уровнях, не исключающих, а дополняющих друг друга.
Можно выделить следующие уровни проблемы: симптоматический, характерологический, организации личности, взаимодействия, трансгенерационный.
Симптоматический уровень
Данный уровень характеризует специфику ситуативных (острых) проявлений.
Первая встреча с клиентом обычно начинается с предъявления им этого уровня проявления проблемы. Это то, что терапевт может наблюдать реально, а также слышать в рассказах-жалобах клиента.
Симптоматический уровень существования проблемы проявляется как острое реагирование на жизненную ситуацию посредством симптома. Симптом здесь выполняет защитную функцию, являясь способом совладания с проблемной ситуацией. Защитная функция симптома включается тогда, когда не срабатывает характерологический уровень защиты. Это происходит в ситуации острой травмы (психогении), которая и запускает симптоматическую реакцию.
Симптоматическая защита срабатывает и в том случае, когда ситуация является запредельной для устоявшейся характерологической защиты, подрывает ее, выходит за границы адаптационных возможностей клиента. В таком контексте рассмотрения симптом – это тоже способ адаптации.
Анализ жалоб клиента предполагает выяснение того, посредством каких симптомов проявляется его проблема. Чаще всего встречается (в моей практике) следующая симптоматика:
• созависимые отношения;
• тревога;
• низкая самооценка;
• депрессии;
• панические атаки;
• ощущение пустоты и бессмысленности жизни;
• фобии;
• навязчивости;
• бессонница;
• вина.
Оставаться в терапии на уровне симптома – значит работать лишь с внешними проявлениями проблемы, не выясняя причин ее возникновения. Неудивительно, что терапия, ориентированная на симптом, имеет краткосрочный эффект: истоки, корни проблемы оказываются непроработанными, и симптом опять начинает «прорастать». Зачастую в новом месте.
Начав работу с симптомом, практически всегда переходишь на более глубокие уровни анализа. Исключение составляют лишь ситуативно обусловленные проблемы. Это такие случаи, когда проблема клиента возникает из-за неожиданной, непривычной, нестандартной ситуации, справиться с которой ему не хватает знаний-умений-навыков. В данном случае речь идет не о терапии, а о консультации. Нет необходимости «откапывать» более глубокие причины проблемы такого клиента, достаточно предложить ему другой ракурс видения проблемы, показать иные возможные способы ее решения либо вооружить его недостающими навыками-умениями для решения возникшей необычной для него ситуации.
В том же случае, когда выясняется, что не ситуация, а сам человек является источником, автором своих проблем, мы обращаемся к следующему, более глубокому уровню анализа – анализу структуры его характера или личностной организации, и переходим на характерологический уровень.
Характерологический уровень
Данный уровень характеризует специфику структурных (хронических) проявлений проблемы клиента.
Определенные черты характера человека становятся акцентуированными, в связи с чем структура характера перестает быть гармоничной, сбалансированной, что может приводить к нарушению адаптации к миру и проявляться в виде психологических, поведенческих и иных проблем.
Характерологический уровень проблемы можно обнаружить в повторяющихся эпизодах в истории жизни клиента, в стереотипных, автоматических способах поведения, которые приводят к возникновению проблем.
Характер – это тоже способ адаптации, защита. Определенный тип реагирования, первоначально возникнув как творческое приспособление, с течением времени утрачивает свою творческую суть (ситуация, обстоятельства изменились) и становится устойчивой чертой личности, сузив возможные способы реагирования человека.
Анализ характера предполагает исследование типичных черт характера клиента с определением структуры личности, ее типологии. Наиболее часто в терапевтической работе встречаются следующие типы личности:
• зависимый;
• пограничный;
• нарциссический;
• травматический;
• диссоциативный;
• шизоидный.
В терапии также важно понимать, кроме описанной выше структуры личности, основанной на выделении типа личности, также уровень развития личностной организации или степень патологии.
Уровень организации личности
Здесь мы поговорим о том, что характеризует специфику глубинных нарушений проблем клиента.
Речь идет о системе наиболее устойчивых черт личности, которые могут вызывать проблемы психологического плана. Уровень организации личности характеризуется:
• качеством идентичности;
• характером психологической защиты.
Выделяют следующие уровни организации личности (по Н. Мак-Вильямс): невротический, пограничный, психотический.
Указанные варианты анализа (типы личности и уровни ее организации) не исключают, а дополняют друг друга. Так, к примеру, можно быть нарциссом (тип личности) на разном уровне организации личности: невротическом, пограничном, психотическом. Выделение уровня личностной организации позволяет лучше понимать степень «нарушенности» клиента и более адекватно планировать стратегию работы с ним, а также методы, приемы и способы контакта.
Работая на уровне анализа структуры характера, неизбежно попадаешь на уровень отношений.
Завершающим этапом диагностики является анализ взаимодействия клиента с его значимыми фигурами. Я называю этот уровень работы «уровень взаимодействия».
Уровень взаимодействия
Данный уровень характеризует специфику ранних детско-родительских взаимодействий клиента со значимыми для него объектами.
Эти нарушения проявляются в негативных установках клиента к миру, окружающим, самому себе. Они прочно врастают в его картину мира, картину себя и картину Другого и становятся причиной его психологических проблем.
Такого рода установки – результат нарушений в отношении родителей к ребенку. Наиболее типичные негативные нарушения этого плана следующие: отвержение, игнорирование, использование, соблазнение. В результате такого рода отношений оказываются фрустрированы базовые потребности ребенка – в безопасности, привязанности принятия, поддержке, безусловной любви. Результатом таких фрустраций являются следующие установки к миру и Другому у ребенка – обида, настороженность, озлобленность, вина, страх и др.
Анализ раннего детско-родительского взаимодействия включает в себя изучение специфики этого взаимодействия, содержание ранних фрустрированных потребностей клиента, изучение сформировавшихся установок клиента к миру, являющихся причиной его проблем во взрослой жизни. Данный этап в диагностико-терапевтической работе предполагает изучение истории жизни клиента, в первую очередь истории его детства.
В некоторых случаях терапия не останавливается на вышеописанных уровнях. Я думаю, что каждый терапевт встречался в своей работе с такого рода проблемами, которые невозможно объяснить исходя лишь из истории жизни клиента. Возникает необходимость обращения к исследованию родовых связей клиента, его генеалогии.
Трансгенерационный уровень
Этот уровень проблем характеризует специфику межпоколенного взаимодействия клиента.
Проявляется он в виде жизненных сценариев, психологических игр, приводящих к возникновению у клиента психологических проблем. Обращаясь к данному уровню анализа, мы выходим из зоны личного опыта клиента. Здесь мы имеем дело с такими проблемами, которые он неосознанно наследует по линии своего рода. Так терапевт попадает в достаточно мистическую область, населенную семейными тайнами, мифами, скелетами в шкафах.
Выделенные уровни суть разные проявления одной проблемы. Разные школы психотерапии работают, как правило, каждая на своем уровне. Но для меня здесь очень остро стоит проблема границ применения метода.
Далеко не все симптомы-проблемы так глубоко «прорастают». И далеко не всегда есть необходимость искать корни проблем на уровне межпоколенного взаимодействия. Часто бывает достаточно и уровня детско-родительского. Точно так же проблемы характерологического плана не всегда бывают обусловлены лишь нарушениями ранних детско-родительских взаимодействий. Есть еще более поздние травмы-фрустрации, не связанные с родителями, которые тоже проявляются как нарушения характера. А иногда достаточно и симптоматического уровня работы. Об этом сказано выше.
Обобщая вышеописанную модель анализа проблемы клиента, можно отметить, что он осуществляется последовательно по направлению от симптома к характеру и от характера к взаимодействию.
Модель анализа проблемы клиента (уровни)
Работа с феноменами клиента
Быть феноменологичным – значит работать с внутренними феноменами клиента и работать на территории клиента.
Что есть феномены клиента?
Предметом в феноменологии выступает переживание в том значении, в котором его понимал Л. С. Выготский – как «отношение человека к тому или иному моменту действительности». Феномены – это факты психической реальности человека, факты его души. Это его история жизни в его же интерпретации, его картина мира, или мировоззрение, его картина себя, или образ Я. Феноменами души клиента являются его чувства, мысли, фантазии, сновидения и метафоры. Все, что рождается в душе клиента и отражается в его сознании, окрашиваясь его переживаниями-отношениями, и есть его феномены.
Терапевт, стремящийся лучше понять проблему клиента, работает на «территории его души», внимательно вслушивается, всматривается в феномены клиента. Терапевт в этой работе занимает позицию «наивного собеседника», тщательно выясняя у клиента то значение, содержание, которое он вкладывает в понятия, которые озвучивает на терапии. «Что вы под этим понимаете?», «Что это для вас означает?», «Что вы вкладываете в содержание этого слова?» – вот те вопросы, с помощью которых терапевт раскрывает «коробочки понятий» клиента, пытаясь увидеть то содержание, которое тот поместил туда. В противном случае клиент с терапевтом могут находиться рядом, но при этом ходить параллельными тропами без шансов встретиться.
Что значит быть на территории клиента?
Быть на территории клиента – значит сохранять эмпатическую установку к нему. В терапии понятие эмпатии разрабатывалось К. Роджерсом и Х. Кохутом. Наиболее известное определение Роджерса звучит следующим образом: эмпатия – это способность встать в ботинки Другого, изнутри воспринимать внутреннюю систему координат Другого, как если бы терапевт был этим Другим, однако без потери условия «как если бы. В этом определении четко разводятся близкие понятия: «эмпатия» и «идентификация». Как только теряется описанное Роджерсом условие «как если бы, эмпатия переходит в идентификацию и специалист теряет терапевтическую позицию. Эмпатическая установка дает возможность терапевту оставаться в парадоксальной позиции нейтральной включенности, позволяет сохранить баланс между спасательством, с одной стороны, и безразличием – с другой.
Как работать с внутренними феноменами клиента?
Работа с внутренней феноменологией, следовательно, основывается на эмпатической установке к клиенту. Но одной лишь эмпатической позиции терапевта здесь недостаточно. При работе с внутренней феноменологией необходимо придерживаться следующих принципов: безоценочности, безусловного принятия, отсутствия интерпретаций, аккуратного обращения с гипотезами.
Безоценочно относиться к клиенту вовсе не означает оставаться безразличным к нему. Как раз наоборот. Терапевт остается включенным, реагирует эмоционально на феномены клиента, обнаруживает свое отношение-переживание к ним, но при этом воздерживается от оценочного суждения. Клиенту как человеку очень важно отношение терапевта как Другого – небезразличного к нему. Отношение наполняет Я клиента живым содержанием, форматирует его внутреннее пространство. Оценки же, по сути, пустые штампы, мертвые формы, заполняющие эго.
Безусловное принятие – это способность терапевта замечать в клиенте его уникальность, искренне удивляться этому, восхищаться этим. Терапевт, безусловно принимающий клиента, подобен любящему родителю, умеющему принимать ребенка и любоваться им только потому, что это его ребенок. Безусловно принимая клиента, мы подтверждаем его право быть! Быть в этом мире таким, какой он есть.
Интерпретации как таковые при феноменологической установке терапевта к клиенту заменяются терапевтическими гипотезами. В этом терапевтическом инструменте в большей степени, чем в предыдущих, присутствует профессиональная, а не личностная составляющая специалиста. С помощью гипотез терапевт пытается понять, как устроен внутренний мир клиента, как он функционирует, каковы механизмы этого функционирования. При использовании гипотез терапевту нужно быть очень аккуратным в их оформлении, всячески показывать клиенту, что гипотеза – это предположение и никак иначе, и быть готовым легко отказаться от нее, если она не находит отклика у клиента.
Еще одним важным моментом феноменологического подхода является включенность терапевта, его интерес к феноменам души клиента. Этот интерес проявляется и оформляется в виде вопросов, с помощью которых специалист пытается лучше понять клиента.
Уместными вопросами здесь будут следующие:
• как вы;
• что вы чувствуете;
• как вы это понимаете;
• что вы об этом думаете;
• как это у вас устроено;
• как вы это делаете;
• на что это похоже.
Кроме вопросов, в феноменологии для лучшего понимания клиента терапевт использует открытое слушание клиента и отражение-отзеркаливание феноменов его души.
При отражении феноменов клиента уместными будут следующие реакции терапевта:
• я замечаю…
• я вижу, что вы…
• я слышу, как вы…
• я чувствую…
Что нам дает работа с феноменологией клиента?
Благодаря внимательному, заинтересованному включенному взгляду терапевт «встречает» клиента с феноменами его души, т. е. с самим собой. Через терапевта клиент получает доступ к себе. Благодаря внимательному, заботливому отражению феноменов своей души душой терапевта клиент наполняет свое Я живым содержанием.
Терапия – это встреча двух феноменологий, встреча, в которой душа терапевта становится основным инструментом, способным исцелить душу клиента.
И здесь я солидарен с немецким психотерапевтом, специалистом в области психотравмы Ф. Руппертом, который в своей книге «Травма, связь и семейные расстановки» утверждает, что «исцеление происходит, когда с любовью прикасаешься к душе другого человека».
Терапия «между»: на границе контакта с клиентом
Работа на границе контакта позволяет терапевту и клиенту быть затронутыми друг другом и в этой «затронутости» пережить новый опыт и измениться.
Две стратегии работы клиента
В гештальт-подходе традиционно выделяют две стратегии работы с клиентом: работа с внутренней феноменологией и работа на границе контакта. О работе с внутренними феноменами клиента я писал в предыдущей главе.
При работе на границе контакта фокус терапевта смещается на специфику взаимодействия: «терапевт – клиент».
Работа на границе контакта – это про отношения двух людей, это точка встречи терапевта и клиента: терапевта-человека и клиента-человека.
При работе на границе контакта основным рефлексивным вопросом для терапевта будет следующий: что сейчас происходит в наших отношениях. И основными феноменами, на которые будет обращать внимание терапевт, будут феномены контакта. Если в работе с внутренней феноменологией терапевт будет работать «на территории клиента», то в случае работы на границе контакта это будет «территория между».
В каких случаях терапевт выбирает эту стратегию работы?
В том случае, когда основной фигурой в терапии становится не проблема клиента, а терапевтические отношения, когда фигура и фон меняются местами. На границе контакта «терапевт – клиент» появляются яркие феномены – феномены отношений, которые становятся более энергетически насыщенными, чем проблема клиента. А проблема в этот момент уходит в тень или фон. И в терапии возникает такая ситуация, когда, для того чтобы решить проблему, нужно разобраться с отношениями.
Эта работа отнюдь не бесполезная, как может казаться. Феномены отношений становятся своеобразными подсказками для терапевта решения проблемы клиента. Задача терапевта не «подчищать» эти феномены, не бороться с ними, а замечать и анализировать – делать их предметом терапии. Это один из многих парадоксов терапии: феномены сопротивления решению проблемы являются одновременно и ключиками к ее решению.
Способы «приглашения» клиентом терапевта на границу контакта
Что это за феномены контакта, которые начинают конкурировать с проблемой?
Речь идет о таких феноменах, известных специалистам, как перенос и сопротивление. Терапевтические отношения – это встреча двух людей. В процессе этой встречи у клиента могут возникать сильные чувства-переживания к терапевту как к человеку, как позитивного, так и негативного спектра: злость, обида, обесценивание, восхищение, влюбленность и т. п. По своему механизму эти эмоциональные реакции клиента проективны. Терапевт здесь оказывается под проекцией на него какой-то значимой фигуры клиента из его прошлого. Эти переносные реакции начинают активно «вмешиваться» в процесс терапии, затруднять ее, уводить в сторону. В результате этого, клиент, до этого интенсивно включенный в процесс работы над своей проблемой, начинает бессознательно сопротивляться этому процессу.
Таким образом, через перенос и сопротивление клиент «приглашает» терапевта на границу контакта.
Что это значит для терапевта?
В тот момент, когда в терапевтических отношениях ярко начали проявляться вышеназванные феномены – перенос и сопротивление, это значит, что в терапии настало время «отодвинуть» в сторону проблему клиента и сделать фокусом внимания отношения «между» – а именно эти феномены отношений. Все это «между» помещается терапевтом в фокус его профессионального внимания, выносится на границу контакта (в терминах гештальт-подхода) и становится ключиком к решению проблемы клиента. В психоанализе подобная стратегия работы аналитика называется работой с неврозом переноса.
Работая с феноменами отношений, которые привносит клиент в терапевтический процесс, терапевт может ориентироваться на следующие рефлексивные вопросы:
– что сейчас происходит с клиентом;
– зачем клиент приглашает меня на границу контакта;
– что он хочет мне сказать;
– какое послание он пытается передать мне таким образом;
– в какую историю он меня приглашает;
– что он через это хочет, может получить для себя;
– какой опыт он пытается таким образом избежать;
– как он это делает (сопротивление, проекции, провокации);
– к какой момент он это делает.
Эти вопросы помогут расшифровать и понять суть феноменов отношений клиента.
Терапевтические отношения – это «дорога с двухсторонним движением». В этих отношениях участвуют двое – терапевт и клиент. И терапевт, являясь человеком, тоже, в свою очередь, может привносить в эти отношения свои человеческие феномены. Можно, конечно, это отрицать или игнорировать, но это не лучший вариант. На самом деле разные клиенты могут вызывать у терапевта разные чувства, которые становятся своеобразной «добавкой» к профессиональному восприятию терапевта клиентом. Речь идет о таком феномене терапевтических отношений, как контрперенос.
В современной терапии контрперенос перестал быть страшилкой для терапевта. Он уже давно стал его помощником, подсказкой, позволяющей лучше понимать клиента и терапевтический процесс. Есть даже целые авторские направления в терапии, фокусированные на контрпереносе (О. Кернберг). Естественно, это касается тех случаев, когда речь идет об осознаваемом терапевтом контрпереносе. В противном случае терапевт просто теряет профессиональную терапевтическую позицию.
Анализ терапевтом его переносных реакций в отношении клиента позволяет ему лучше понимать клиента, его структуру личности, его типологические особенности. В современной терапии существуют описания типичных переносных реакций терапевта на клиента в зависимости от уровня его организации личности (невротический, пограничный, психотический) и типа его личности (нарциссический, истерический, психопатический, шизоидный и т. п.).
В работе со своими контрпереносными реакциями терапевту могут помочь следующие рефлексивные вопросы:
– какой я в контакте с этим клиентом;
– в чем его особенность;
– как мне, как человеку, с этим клиентом;
– какие чувства у меня к нему возникают;
– какие желания у меня возникают по отношению к нему;
– какие телесные феномены я замечаю в контакте с ним;
– чувствую ли я какие-нибудь ограничения, несвободу в контакте с клиентом.
Еще одним фокусом внимания терапевта в работе на границе контакта становится анализ содержания самого процесса отношений.
Здесь уместными будут такие вопросы:
– на что похожи эти отношения;
– какой метафорой можно их описать;
– в какую историю приглашает меня клиент;
– что это за пьеса, какая игра.
Терапевту в работе на границе контакта нужно постоянно работать с включенным внутренним супервизором, внимательно отмечать и анализировать возникающие в этом пространстве феномены отношений.
Как строить отношения на границе контакта?
Нужно. В случае появления в контакте между терапевтом и клиентом ярко проявленных феноменов отношений следует не игнорировать их, а выносить на границу контакта. Терапевт приглашает клиента к диалогу и предлагает ему обсудить то, что сейчас происходит между ними. Здесь важно не только расширять осознавание клиентом происходящего в его психической реальности, но и связывать это с его жизнью. Для этого периодически следует задавать клиенту вопрос: «Как это похоже на твою жизнь?» Фокусирование на этом вопросе позволит встретить клиента с идеей неслучайности происходящего с ним, запустит переживания ответственности за свою жизнь и своего авторства в ней.
Важно. Не обвинять клиента за его переносы и сопротивления. Непрофессиональной интервенцией терапевта здесь будет следующая: «Смотри, что ты делаешь? (проецируешь, сопротивляешься)», профессионально будет сказать: «Давай посмотрим и попробуем понять, что сейчас между нами происходит!»
Хорошим итогом такой работы будет появление возможности у клиента встретиться с терапевтом без проекций и фантазий, увидеть его как реального человека, а не как свой образ его.
Зачем мы применяем стратегию работы на границе контакта?
Работа на границе контакта – это терапия отношениями. Работа на границе контакта позволяет терапевту и клиенту быть затронутыми друг другом и в этой затронутости пережить новый опыт и измениться. Эта работа становится наиболее актуальной и уместной в том случае, когда психологические проблемы клиента являются итогом дисфункциональных отношений в паре «родитель – ребенок», в которых не происходит адекватного удовлетворения важных для ребенка потребностей. Здесь мы придерживаемся следующей аксиомы: проблемы, которые являются результатом неблагополучных отношений могут быть решены в другого рода отношениях. В данном случае речь идет о терапевтических отношениях «клиент – терапевт».
В пространстве этих отношений у клиента появляется шанс получить другой, иной опыт и «переписать» свои базовые настройки осознать и изменить свои интроекты, сценарные установки, автоматизированные паттерны отношений. Благодаря появлению у клиента в контакте с терапевтом нового опыта появляется возможность выбора, что позволяет ему творчески адаптироваться к реальности.
Получение такого опыта невозможно в партнерских отношениях, поскольку партнеры с нерешенными задачами развития склонны создавать комплементарные союзы (действуя по схеме уже имеющегося интроективного опыта). Они выбирают для отношений тех людей, которые рассматриваются ими как подходящие объекты для удовлетворения фрустрированных потребностей и решения нерешенных задач развития. У человека в описываемой ситуации формируются следующие бессознательные ожидания: «У партнера есть с избытком то, чего нет у меня, и наоборот. За счет партнера я дострою свою недостающую часть и стану условно целым». Но эта целостность имеет место лишь тогда, когда рядом партнер. Партнер здесь нужен для того, чтобы переживать эту целостность. Поэтому и такая к нему сильная тяга.
В отношениях же с терапевтом, осознающим и понимающим сложившиеся паттерны отношений клиента, у последнего есть возможность получить новый опыт отношений и достроить недостающие грани своей идентичности, сделать ее более дифференцированной и целостной. И тогда у него не будет нужды достраиваться за счет качеств партнера по отношениям, создавая с ним эмоционально зависимые формы близости.
Динамика клиента в психотерапии
Со мною вот что происходит…
Предлагаемая мною типология клиента основывается на уровне его осознанности и ответственности за собственную жизнь. Выделенные уровни выступают также как этапы или шаги, которые неизбежно проходит каждый клиент в процессе своей терапии. Закономерностью данного процесса является его последовательность: каждый клиент неизбежно в таком порядке поэтапно продвигается в терапии, но при этом необязательно начинает с первого. Чаще всего терапия начинается со второго этапа.
Параллельно с работой над проблемой клиента неизбежно происходят изменения в его личности, его картине мира. Эти изменения можно заметить по тому, как трансформируются характеристики клиента. Рассмотрим уровни динамики клиента с позиции его субъективных переживаний (феноменологической реальности) и объективных проявлений (онтологической реальности), используя для этого образы.
Тип 1. «При чем здесь психология?»
Для людей такого типа характерен низкий уровень психологической культуры. В их картине мира психологические факторы возникновения проблем либо отсутствуют как таковые, либо обесцениваются. Доминирующими же при этом оказываются материальные ценности – физическое здоровье, материальное благополучие.
Субъективные переживания людей такого типа можно описать в следующей позиции: «Было бы здоровье, побольше бы денег, и все проблемы решились бы. Собственно, здесь мы еще не имеем дела с клиентом как таковым. И магия психотерапии здесь оказывается бессильной.
Потребность в терапии у человека на описываемом уровне отсутствует, так как им еще не выделена психологическая реальность как таковая. Возможной формой психологического воздействия здесь может быть психологическое просвещение в целях формирования у потенциального клиента психологической культуры, в результате чего может появиться потребность в психологической помощи.
Тип 2. «Если бы не ты…»
В картине мира людей такого типа уже присутствуют элементы психологической культуры, выделяется наряду с другими реальностями и реальность психологическая, признается роль психологических факторов в возникновении проблем. Следовательно, уже принимается факт существования проблем психологического плана и имеется потребность в психотерапии как сфере профессиональной деятельности, занимающейся решением такого рода проблем.
Однако собственный вклад в проблемы психологического плана человеком еще не признается, ведущая роль в их возникновении отводится другим людям, случаю, судьбе. Для данной позиции характерна ярко выраженная экстернальность и эго-синтонность, проявляющиеся в установке зависимости от Другого, случая, судьбы и в отсутствии рефлексивности.
Субъективные переживания людей, принадлежащих к такому типу, можно выразить следующей установкой: «В моих проблемах виноваты Другие. Я в норме. Что-то не так с другими, с миром. Менять надо не меня, а другого». Другому человеку приписывается власть и ответственность за себя и за происходящее в своей жизни, в том числе и за собственные психологические проблемы. Такой клиент приходит на терапию не по собственной воле, а кому-то другого.
Это уровень пациента. Как в случае существования соматических проблем больной человек «приносит свое заболевшее тело» врачу, так и здесь он «приносит психологу свою страдающую душу» либо психологический симптом. Терапевта такой человек рассматривает как профессионального «спасателя», а терапию – как некую магию или «справочник полезных рецептов». От терапевта как от врача он ждет четких инструкций, упражнений, указаний, целительных рецептов. Всю власть и ответственность за процесс и результат терапии при этом он перекладывает на специалиста.
На этом этапе необходимо много внимания уделять работе с личностью клиента. Задачей терапии на данном этапе, помимо работы над запросом-проблемой клиента, будет формирование у него идеи ответственности за происходящее в его жизни, в том числе и за его проблемы психологического плана.
Тип 3. «Со мною что-то не то…»
Клиент данного типа, в отличие от предыдущего, осознает, что с ним что-то не так, однако при этом переживает неспособность самому это исправить, надеется, что это сделает за него кто-то другой. Субъективные переживания можно описать следующей позицией: «Во мне что-то не то, но что именно – неясно…». Красивой иллюстрацией переживаний клиента этого типа является стихотворение Евгения Евтушенко «Со мною вот что происходит…»:
- Со мною вот что происходит:
- ко мне мой старый друг не ходит,
- а ходят в мелкой суете
- разнообразные не те.
- Со мною вот что происходит:
- совсем не та ко мне приходит,
- мне руки на плечи кладет
- и у другой меня крадет.
- …………………………
- О, сколько нервных и недужных
- ненужных связей, дружб ненужных!
- Куда от этого я денусь?!
- О, кто-нибудь, приди, нарушь
- Чужих людей соединенность
- И разобщенность близких душ!
В этих приведенных строчках четко прослеживается, несмотря на ярко выраженную рефлексивность героя, его экстернальная направленность, зависимость от Другого, от судьбы, неспособность самому решать свои проблемы, ожидание того, что кто-то другой (что-то другое) решит их за него. Поэту удается это передать с помощью следующих выражений: «со мною происходит», «кто-нибудь, приди, нарушь…».
Для клиента этого типа, как и для клиента предыдущего типа, характерно перекладывание ответственности на терапевта, ожидание от него чуда. Терапевтическая задача в работе на этом этапе схожа с задачей предыдущего этапа: смещение у клиента локуса ответственности с экстернального на интернальный, формирование эго-дистонной позиции.
Тип 4. «Что я делаю не так?»
Клиент описываемого типа не только осознаёт, что с ним что-то не так, как и в предыдущей позиции, но уже понимает, что вносит определенный вклад в возникновение и поддержание своих проблем. Субъективные переживания можно представить следующей позицией: «Я что-то делаю не так, и у меня от этого проблемы. Помогите мне осознать мой вклад в проблему».
Такой клиент рассматривает терапевта как специалиста, профессионала, который может помочь разобраться. Он признает и принимает идею собственной ответственности за процесс и результат терапии. Наличие рефлексивности и эго-дистонности создает готовность к сотрудничеству с терапевтом с минимальным сопротивлением. Это уже уровень клиента.
Терапевтической задачей на данном этапе будет сопровождение клиента в осознавании собственного вклада в существующие у него проблемы психологического плана. Здесь фокус внимания уже смещается с личности клиента на собственно его проблемы.
Тип 5. «Я автор своей жизни»
Клиент, находящийся на этой позиции, активно участвует совместно с терапевтом в исследовании своих проблем психологического плана и личности в целом. Субъективные переживания клиентов этого уровня можно описать следующей позицией: «Это моя жизнь, я ее автор, мне ее писать, и я могу это делать!»
Это уровень личности. Собственно, достижение такого уровня развития клиента – это уже сам по себе хороший результат терапии. Клиент с такого рода переживаниями, как правило, уже перестает быть клиентом терапевта. Он сам для себя становится терапевтом, субъектом своей жизни.
Таким образом, основная задача терапевта в работе с клиентом не в том, чтобы решить за клиента (и даже не вместе с ним) его проблемы, а довести, дорастить его до состояния-переживания: «Это моя жизнь, я ее автор, мне ее “писать”, и я могу это делать!»
И в связи с этим терапевту, особенно на начальных этапах работы с клиентом, неизбежно приходится параллельно с его запросом-проблемой работать с особенностями его мировоззрения, формируя у клиента элементы психологической картины мира.
Уровни готовности клиента к терапии
Психотерапия – это дорога с двухсторонним движением, и магия психотерапии бессильна, если нет движения навстречу.
На этот раз у меня возникла метафора сада, позволяющая выделить и описать разные типы клиентов в зависимости от их установок и готовности к терапии. Представьте, что у каждого человека есть собственный сад. Люди будут по-разному относиться к этому саду и ухаживать за ним. Охарактеризуем данные типы клиентов опять же метафорически.
