Империя скорочтения
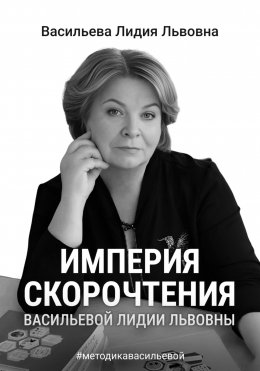
Предисловие
Есть люди, которые могут добиться невероятных успехов и за один день. Но лично я таких людей не знаю, и уж точно не являюсь одной из них. Шаг за шагом, отказав себе в отдыхе, приятном времяпровождении, сне, я двигалась к поставленной цели. Именно это решение научило меня не сворачивать под напором обстоятельств в сторону, работать не покладая рук, ночами, вести занятия по 10–12 часов ежедневно, создавать новые упражнения. Итог – успешный бизнес, учёное звание, десятки учебников, тысячи учеников и всё это – ИМПЕРИЯ СКОРОЧТЕНИЯ. Правило, которого я придерживалась всю жизнь, – безотлагательность, ответственное отношение ко всему, за что я берусь. Сохраняя привычки, человек достигает стабильных результатов во всём. Безграничные возможности – это результат.
Всю свою сознательную жизнь я шла к своей цели, в детстве через чтение развивала свой мозг, поступив в институт, изучала труды великих педагогов; став учителем, использовала полученные знания на практике. Но жизнь полна неожиданностей, которые помогли мне стать тем человеком, учителем, который торил день за днём свой путь, прежде чем выйти на тот уровень, который видят все. У каждой медали есть сторона, которая не видна другим. Но это и есть моя жизнь.
Я сегодня – произведение своих собственных амбиций, планов, желаний, я сумела воплотить в жизнь свою самую большую мечту – стать хорошей мамой, бабушкой.
Это главное. Но есть и побочные результаты, которыми я горжусь:
– состояться как учитель;
– посадить сотни деревьев;
– построить дом (в результате восемь);
– создать уникальную методику развития человека от двух лет (до любого возраста);
– стать автором третьей образовательной сферы – «трансформативно-развивающее обучение»;
– дать доступ к методике всем желающим в стране и за рубежом;
– иметь собственную школу (она включает три филиала);
– подобрать лучших профильных специалистов;
– создать учебные пособия для разных возрастных групп;
– защитить кандидатскую, потом докторскую диссертации.
Прочитали этот перечень за тридцать секунд? А это пятьдесят лет моей жизни!
Поскольку вы читаете эту книгу, я полагаю, что вы также хотите использовать во благо себе и своим близким данные от природы возможности. Могу сказать только одно: мечтайте, ставьте цели, реализовывайте свои планы, не отступая и не сворачивая в сторону при каждом возможном случае. У меня такое желание возникало неоднократно.
Я расскажу вам честную историю со светлой и тёмной сторонами, чтобы вы поняли, как складывается жизнь женщины в тех условиях, на которые повлиять на первый взгляд невозможно. Но я придерживалась правила «встала в колею, иди до конца», именно это качество помогло мне не сломаться, не отступить.
Я долго размышляла о том, зачем вам эта книга, и решила, что на фоне современной информации о нашем образовании, о бесконечном реформировании, от которого все устали, постоянно меняющихся программ, дисциплин, надо понять, что не всё так плохо, как кажется.
В этой книге я расскажу вам об удивительной системе скорочтения, которую я начала разрабатывать для России. Мне очень не хотелось писать серьёзный труд о системе скорочтения, поэтому в книге вы прочитаете не только об империи скорочтения, которую я создала, но и о моём пути к ней длиною в тридцать лет.
Я, как преподаватель, как мама, как бабушка, понимаю, что испытывают родители, помогая день за днём выполнять детям домашние задания. Но во все времена это было обязанностью родителей.
Сегодняшние родители порой спрашивают: «Это нормально, что восьмилетней дочери на каникулы задали 340 задач на закрепление, повторение материала? Разве каникулы даются не для того, чтобы дети отдохнули, восстановились? А это нормально, что задали написать реферат ученикам 2-го класса на тему «Жизнь и творчество Глинки», не рассказав ученикам, что это за вид письменной работы, какие требования к оформлению, к структуре, к языку, не сказав, где можно найти материал по теме, да и кто этот человек, что стоит заняться изучением его творчества?»
Когда я такое слышу, понимаю, что этот конкретный учитель не испытывает уважения к своим ученикам, забывает, что они пришли учиться, а он – учить. Учить, а не проводить эксперименты. Нельзя ставить в вину учителям то, что происходит в образовании в целом, но мы должны оставаться в любом случае нормальными думающими людьми. Таких учителей, поверьте мне, больше. И низкий поклон им, что они ещё не сбежали из школы.
Я всегда ученикам говорю: «Ты можешь, давай попробуем».
Причины ситуации в образовании лежат на поверхности:
– многие учителя не смогли встроиться в новый информационный мир;
– перегружены бумажной волокитой, цифровыми дневниками;
– не могут физически разобраться в ситуации из-за большой нагрузки, поэтому не видят талантов своих учеников;
– дети живут в смартфонах, разучились активно включаться в учебный процесс, саботируют уроки;
– в начальной школе родители держат на контроле детей, помогают им, в средних классах контроль становится эпизодическим. В 10–11-м классе ученики, судя по фотографиям с уроков, ходят на занятия в зависимости от настроения, и родители уже не могут на это повлиять. Если родители позволяют детям прогуливать уроки, они несут ответственность за их образование.
Мамы и папы, вам надо знать правду о состоянии дел в нашем образовании. И не надеяться на государство, не перекладывать ответственность на других людей, а брать всё в свои руки.
Жить в современном обществе сложно: продвинутые технологии облегчают, на первый взгляд, жизнь, но требуют от нас всё больших интеллектуальных затрат. Наш мозг вынужден приспосабливаться к тем условиям, которые диктует окружающий мир. Кто в этой ситуации проигрывает в первую очередь? Дети. Посещая множество кружков, секций, они, по сути говоря, неразвиты в плане памяти, внимания, мышления. А им жить в этом мире, вставать на ноги, быть для вас защитой и опорой.
Многочисленные гуру, психологи, экономисты ездят по городам и весям и обещают манну небесную, если человек их послушает и сделает под копирку то, что они рекомендуют, навязывают. И ни слова о том, на какие жертвы вам придётся пойти в первые годы, пока вы строите свой бизнес, ни слова о причинах, которые приводят 80 % стартапов к закрытию в первые годы. На примере близких и не очень близких мне людей я вижу ступеньки становления бизнеса, которые заканчиваются крахом мечты. Почему? Потому что современная школа не даёт целостного мировосприятия, только набор академических знаний, которые чаще всего нельзя применить в реальной жизни. Ученики, студенты заканчивают учебное заведение, не представляя, чем заняться, к чему стремиться. Но с явным желанием стать кем-то процветающим. Поэтому так важна для них сегодня возможность встретить человека, знающего и дающего не только рекомендации, но и реально помогающего определиться в этой жизни.
Методика интеллектуального развития, которую я начала разрабатывать 30 лет назад, дорабатывается и корректируется в соответствии с требованиями окружающего мира ежегодно. Новый раздаточный материал, новые приёмы запоминания, новые сроки формирования навыков. Я никогда не принимала популистских решений, потому что привыкла отвечать за результаты своего труда и понимала, что вывести на уровень навыка за восемь-десять занятий, обучить скорочтению за такое время невозможно. Как невозможно изменить и качество мыслительных процессов по мановению волшебной палочки. Главное правило в трансформативно-развивающем обучении – мозг должен быть постепенно приучен к работе. Качество жизни зависит от качества мышления, а качество мыслительных процессов от скорости мышления, скорости реакций и скорости действий.
Придёт время, и моя методика будет востребована не только отдельными людьми, но и заинтересует массовые образовательные заведения. Она не грузит учеников сведениями, она помогает построить фундамент для дальнейшего обучения в школе, в институте, открывает новые возможности в профессиональной деятельности. Выбор формата обучения, офлайн или онлайн, позволяет, не подстраиваясь под расписание, не тратя время и деньги на дорогу, комфортно заниматься в домашних условиях. Дети смогут выделить время для развития своего таланта, мамы найдут время на себя любимую. Предприниматели своевременно будут получать необходимую информацию и принимать правильные решения. Все будут свободнее и счастливее.
Я уверена, что моя книга будет интересна и среднему, и старшему поколению.
Глава 1. Я родом из «каменного века»
Да, да, именно из «каменного». Помню черные тарелки-радио, первую магнитолу, первый телевизор. В те годы мы считались самой читающей нацией. Читали все. Читали всё. Тянулись к классике. Купить книги было невозможно. И мы ходили в библиотеки. Так как отвлекающих факторов было меньше – по субботам театр, изредка поход семьёй в кино – мы читали запоем. Это был единственный способ познакомиться с окружающим миром, почувствовать колорит той или иной эпохи.
Великий чешский педагог Януш Корчак утверждал, что с четырёх до шести лет закладывается до 80 % интеллекта. Родители оценивают своего ребёнка на уровне поведенческих реакций и суммы знаний и не могут в большинстве случаев оценить зону ближайшего развития. Смотрим в интернете. Формулировок много, но суть одна: «Интеллект – это способность воспринимать информацию, сохранять эти знания, и впоследствии использовать в своей жизни, то есть переводить в практическую плоскость».
Попробую оценить себя с точки зрения Януша Корчака и высоты своих знаний. С раннего детства помню, что самое лучшее лекарство – это кагор. Мама – медик, и, видимо, поэтому нас практически никогда не лечили таблетками, микстурами. А может, тогда всех лечили натуральными средствами? Что помню? Чай с малиной, морс из клюквы, черной смородины, настои трав, которые собирали сами, подорожник при ранах и царапинах, полоскание тёплой водой с солью и капелькой йода, шиповник, листья малины и смородины в чай, тёплое молоко со сливочным маслом перед сном. Но кагор в этом списке на первом месте. Его нам давали, когда болел живот. Судя по воспоминаниям, это лекарство не вызывало у нас отторжения.
Сейчас дети остаются маленькими долго. И без присмотра их не оставляют. Когда росло моё поколение, мамы, как только ребёнку исполняется три месяца, шли на работу. Но во всех семьях были бабушки, связь поколений стала рваться позже. Бабушки умели ухаживать за детьми, мыть, стирать, варить варенье, печь подовые пироги, варить правильную уху, штопать, наводить порядок, лечить натуральными средствами, то есть были хранительницами очага. Но они не всегда были при детях. Иногда малышей просто закрывали дома одних: они хорошо знали, что можно, что нельзя, и наказы взрослых выполняли неукоснительно. Я была ярким тому подтверждением.
Это был вечер без бабушки. Брату 1 год 10 месяцев, мне плюс столько же. Посчитали? Брат приболел, мама лечила его уже несколько дней. Но днём его оставляли со мной. Наказов насчёт лечения мне не давали.
Родители возвращаются с работы, открывают дверь, заходят в дом. Спиной к ним их родненькие за важным делом. На полу две фарфоровых рюмки для сервировки стола (в них яйца подавали варёные). В руках дочери бутылка кагора, она осторожно разливает кагор, ставит бутылку. Берутся за рюмки, чокнулись, выпили. Помотали головой, и снова старшая сестра… На этом месте лечение закончилось по понятной причине: родители решили, что лекарство надо пить в меру, и со смехом спрятали бутылку. Судя по всему, я тоже для профилактики употребляла это лекарство.
С точки зрения сегодняшнего дня: проблема (болеет младший брат) осознана, цель (лечить, как это делает мама) поставлена, план (найдено «лекарство» и рюмки, какие были в зоне доступа) построен, реализация в самом разгаре. Если короче, принцип интеллектуальных действий (цель, план, реализация) налицо.
Через всё моё детство рефреном шли слова мамы, которые она неизменно проговаривала, когда я в очередной раз проявляла свой характер: «Вместо тебя можно воспитать десять мальчишек». Это сейчас я понимаю, что в своих глазах я была паинькой, а родители со мной, видимо, лиха хлебнули. Посудите сами.
Мне около пяти, брату три года. Зима. Мама работает в детской комнате милиции. Беспризорников ещё в стране много, поэтому дежурят сутками, чтобы незамедлительно принимать ребятишек, оформлять, поить-кормить и увозить в Свердловск в детприёмник (слово-то какое страшное!).
Папа на ночной смене. Мы одни. Это привычная для того времени ситуация. С чего мне пришла в два часа ночи идея погулять, никто не скажет. Но моих знаний, что раз за окном зима, надо одеться потеплее, и моих умений одевать себя и младшего брата нам хватило, чтобы серьёзно подготовиться к ночной прогулке. Оделась сама, одела брата. Как хорошо упаковала его и себя, я не знаю. Сколько мы погуляли, где оказались, неважно. Важно, что нас увидели с патрульной машины, загрузили замёрзших, обледеневших в машину и увезли в детскую комнату милиции. Оформили и передали… маме. Скучать родителям было некогда: благодаря мне жизнь им не казалась манной небесной.
На выдумки хитра
В городе практически не было легковых машин, но маленькие автобусы бегали по двум маршрутам. Я решила покататься на автобусе. Но на моем попечении был младший брат. Мне четыре с половинкой, ему на год и десять месяцев меньше. А теперь по порядку.
Цель поставила? Поставила? План в голове созрел? Созрел. Реализовала? Почти: обстоятельства помешали.
Несмотря на столь юный возраст, я хорошо понимала, что действовать надо незамедлительно, пока родители не пришли с работы. Ну, это ли не признак интеллекта? За руку брата – и на остановку автобуса. Я помню главное: когда автобус подошёл и взрослые все поднялись по ступенькам, настала наша очередь. Я приподняла брата, взяв его под мышки, и стала запихивать в автобус ногами вперёд. Когда ноги были уже там, дверца закрылась и автобус тронулся. Раздался крик. Нет, это кричали не мы. Мне было не до крика: я придерживала брата и начала движение вместе с автобусом. Кричали взрослые внутри. Водитель отреагировал молниеносно, остановился, выскочил, запихнул нас в автобус и… отвёз в милицию, так как она была по ходу маршрута. Нас снова сдали в детскую комнату милиции. Мама получила нас в очередной раз здоровыми и невредимыми, так как вокруг были нормальные, неравнодушные люди, которые не могли, просто не могли пройти мимо беспризорных детей. Мы ими не являлись, были домашними, любимыми, но я каждым своим поступком доказывала, что меня надо держать на коротком поводке.
Все мои попытки самостоятельно освоить окружающее пространство закончились в тот момент, когда я научилась читать. Читать, по современным меркам, я начала поздно, к школе. Лариса, старшая сестра, показала мне буквы. Мне стало интересно, как это из буковок получаются разные слова. Дело сразу сдвинулось с мёртвой точки, так как я отнеслась к этому занятию, как к увлекательной игре.
Мир съёжился до пределов квартиры. И у родителей началась спокойная жизнь. Почти спокойная.
Я часто говорю о своём детстве: единственное, что я умела делать, – это читать. Но это не совсем так. Ещё я умела лазить по заборам. Сколько себя помню в детстве, в юности, никогда не искала калитку. Через забор – и вперёд.
Купить что-либо детям было сложно, почти невозможно. Мне купили платье. Платье я не помню, видимо, эмоции особой оно у меня не вызвало. Помню итог. Меня нарядили, выпустили на улицу, чтобы под ногами не крутилась. Не успели родители выйти, как я уже вернулась. Вот с этой минуты я помню. Чувства вины я не испытывала. Я просто пришла переодеться, потому что платье, новое платье, я успела порвать. Ну, не совсем рассчитала: перелезала через двухметровый забор, спрыгнула неудачно и зацепилась за какой-то гвоздь.
С точки зрения сегодняшнего дня: критическим мышлением в этом возрасте и не пахнет. Мысль пришла, я, не задумываясь о последствиях, её реализовала.
Мама всплеснула руками. Слов у неё не было. У папы их тоже не хватило, чтобы как-то отреагировать. Налюбовавшись мной, мама сказала свою любимую фразу: «Вместо тебя одной можно воспитать десять мальчишек. На тебя уходят все силы».
Привычка – вторая натура
Моя привычка осваивать мир всеми доступными и порой недоступными средствами, стала доминирующей чертой характера. Недаром говорят, что привычка – вторая натура. Захочешь – не избавишься.
Я не помню, чтобы мне читала мама. Наверное, график её работы и домашние дела не оставляли времени на чтение. А папа любую минутку использовал для чтения мне. Мне было пять лет, когда он прочитал мне «Пиноккио». Ему и в голову не пришло, что я постараюсь, коль это не дали Кот Базилио и Лиса Алиса сделать Пиноккио, посадить денежное дерево.
Идея реализовать его мечту на практике мне не просто понравилась, она меня восхитила. В силу характера ждать я не могла и в тот же день очистила кошельки родителей, выгребла всю мелочь и, выбрав уголок в палисаднике, выкопала небольшую ямку, ссыпала туда мелочь и закопала. Сколько её было, не знаю, но папа к вечеру хватился. Проверила свой кошелёк мама, убедилась, что и там я похозяйничала. Судя по решению вырастить уже к осени денежное дерево, и, возможно, не одно, выгребла, видимо, я приличную сумму, по достатку семьи.
Пришла бабушка. Приказ деньги выкопать и вернуть родителям обсуждению не подлежал. Что тогда было в моей голове, не знаю, но я категорически была не согласна с ним: когда денежное дерево вырастет, они мне спасибо скажут.
Выход нашла: включила забывашку, якобы не могла вспомнить, где закопала. Ничего хорошего из этого не вышло: бабушка отступать не хотела, копала упорно во всех местах, указанных мною. Плюс этой ситуации я понимаю сейчас: мы с ней почти все грядки перекопали. Прошло столько лет, а я до сих помню, где закопала: я же ежедневно проверяла укромное место в палисаднике, взошло ли дерево.
Первый раз в первый класс
Начало сентября. Первый класс. Этот день для меня полон неожиданностей. Я не откликаюсь на имя. Вообще на него не реагирую. Когда пришла за мной мама, учитель Мария Александровна решила узнать причину. Когда выяснилось, что меня учитель называет Лидой, мама искренне удивилась. Представляете, папа меня регистрировал как Лилю, соответственно, в свидетельстве о рождении должно стоять полное имя ЛИЛИЯ. Сам не проверил, что вписали, пришёл домой, положил документ, и никто не посмотрел, кто же я по имени.
1 сентября 1958 года – знаменательная дата. Не для мира, для меня: я узнала своё имя. Долго привыкала, постоянно пропускала обращение учителя, то бишь не реагировала. Постепенно привыкла, но откликалась на новое для меня имя неохотно и только в школе! Дома я оставалась Лилей.
Второй учебный день. Иду по второму этажу в сторону старшей школы. Навстречу тётенька. Я её не знаю. Она внимательно посмотрела на меня и спросила, что я здесь делаю. Я спокойно рассказала, что устала заниматься, встала во время урока и стала завязывать шнурки на ботинках. Учительница предупредила, что вставать во время урока нельзя, а я ей ответила на это, что заниматься не могу больше, устала. И тогда Мария Александровна разрешила мне выйти из класса и немного отдохнуть.
Тётенька спросила меня, почему я отдыхаю в коридоре старшей школы. У начальной школы есть своё изолированное крыло.
Я пожала плечами и сказала:
– А где ещё отдыхать, там (я показала в сторону начальной школы) уже вчера отдыхала.
Завуч (а тётенька оказалась именно им) взяла меня за руку и отвела в класс, а по дороге рассказала о том, что в школе можно, что нельзя. Рассказала, на мой взгляд, доходчиво. Когда она спросила, поняла ли я, сказала, что поняла, завтра пойду отдыхать на берег.
На завтра погулять с урока меня не отпустила Мария Александровна. Поэтому после третьего урока я решила уйти сама. С переменки-то не надо отпрашиваться. Ровно через час мама шла на обед. Наш двухэтажный милицейский дом стоял на берегу реки. Вот на этом берегу она и увидела ученицу 1-го класса, свою дочь. Взяла за руку, увела в школу, сдала учителю и почему-то извинилась за моё поведение.
Безотлагательность
К урокам я относилась ровно: надо идти в школу – пожалуйста. Надо делать домашнее задание – пожалуйста. Но этим моё согласие подчиняться ограничивалось. Я ела, пила, шла в школу, обратно, в магазин с одной мыслью: «Скорей домой, читать, читать, читать». Дома книг было немного, и поэтому уже в 1-м классе мама записала меня в детскую библиотеку.
На просьбы мамы помочь ответ был одним:
– Сейчас.
Это могло продолжаться долго. И не потому, что я отказывалась что-либо делать, мне просто хотелось дочитать до конца странички, главы, рассказа. Однажды мама села напротив меня и сказала:
– Дочь, возьми за правило, как только я тебя о чем-то попросила, отложи книгу, сделай дело, на это уйдёт 5–10 минут. И ты свободна. Я нервничаю, что ты не реагируешь на просьбы. Ты внутренне напряжена, так как надо оторваться от приятного чтения.
Я её услышала. Не сразу, но стала придерживаться этой просьбы, и правда, стало полегче.
КОГИЗ
Детская библиотека была на первом этаже. На втором находилась взрослая. Через год я пришла в городскую библиотеку на второй этаж, так как на первом я прочитала всё! Во взрослой библиотеке меня записать по понятной причине отказались и посоветовали записаться маме, а читателем буду я. Это был один из самых значимых дней в моём детстве. Библиотека находилась рядом с моим любимым магазином. Название этого магазина я помню всю жизнь. КОГИЗ. Знаете, как эта аббревиатура расшифровывается? Вряд ли: это слово обозначает «Книготорговое объединение государственных издательств» и является устаревшим. Но суть не в этом. В этот магазин я ходила для поднятия настроения.
Первый отдел меня не интересовал. Ну, что интересного в отделе канцтоваров? Ничего. Моя душа рвалась во вторую комнатку. Там на полках стояли подписки. Они не предназначались для простых смертных. Я вставала у стены напротив и рассматривала корешки, читала фамилии авторов, названия. В руки мне их не давали, но и никогда не гнали. Наверное, я была единственной, кто мог стоять часами, созерцая это богатство и мечтая о том, что, когда вырасту, обязательно буду на все деньги покупать книги.
Родители уже и не рады были моей тяге к чтению: я нарушала все требования взрослых. По дороге куда бы то ни было я шла с открытой книгой в руке, не обращая внимания на окружающий мир. Благо, машины были редкостью. Если родители не проверяли утром мой портфель, то я приносила в школу художественную книгу, клала её на колени и… читала. На уроках! Ночью я закрывалась с головой, брала в правую руку «летучую мышь»… Ночью или под утро папа шёл нас проверять. Нет, наверное, не нас, а всё-таки меня. Откидывал одеяло и… ловил меня с книгой.
– Дочь, времени 6:20, скоро вставать, в школу идти, а ты ещё и не спала.
Фонарик прятали, я находила, прятали снова. У меня на него был нюх.
И мама нашла выход. Однажды сказала, что врач запретил мне читать, так как у меня начали возникать проблемы с адекватностью поведения, и я могу оказаться… в больнице. Я отнеслась с недоверием к этой информации, но три дня читала поменьше. А потом решила, пусть сойду с ума, но это будет потом, а сейчас читать, читать, читать!
Доверие
В период не различающего детства нам всем установили чужое программное обеспечение. И мы начали придерживаться придуманным для нас тысячелетия назад правилам «хорошо-плохо», «правильно-неправильно», «красиво-некрасиво». Знала ли я их? Конечно. Вот только в силу характера не хотела подчиняться. Какой параметр интеллекта свидетельствует о том, что ты развиваешься в нужном тебе направлении? Вариативность, гибкость мышления. В любой ситуации я старалась обойти требования взрослых.
Дети доверяют взрослым? Да, причём безоговорочно. Годы проходят, они вырастают и только тогда начинают понимать, что взрослые не всесильны и порой не объясняют чего-то или откровенно лукавят, добиваясь от нас безоговорочного подчинения.
Всё, 3-й класс позади. С родителями спланировали моё лето. В июне отработаю свои 24 часа общественно полезного труда в пришкольном саду. В июле ситуация не обсуждается, мы традиционно едем в пионерлагерь «Малиновка». В августе пойду в пригородное лесничество полоть грядки. Есть возможность заработать на книги. Я месяц прожила в предвкушении того, что я смогу купить! Знала бы, что такое заработать! В семь часов выход из дома, 5 километров дороги, в восемь утра начиналась работа. Грядка с маленькими сосенками была огромной, 40 метров длиной и 80 сантиметров шириной.
А стоила прополка такой грядки… 12 копеек! Целый день на жаре в три погибели! Работу сдали. Если что-то, на взгляд проверяющей, сделано некачественно, работа не будет принята. А теперь собрали последние силы – и 5 километров обратно. Домой добирались с подружкой без рук, без ног. Но передохнув, я тянулась к книге, о которой мечтала весь день.
В конце месяца мама получила заработанные мной 3 рубля 60 копеек… И купила на них то, что, на её взгляд, важнее: что-то из одежды к школе. Я долго не могла простить маме такой обман: она же знала, почему я вкалываю на этих грядках, о чём мечтаю.
«Девочка, мне нечего тебе предложить, ты прочитала всё»
В 10 лет эти слова я услышала от библиотекаря. Речь не о том, что я так много читала, а о том, как бедны были наши городские библиотеки.
Выход из создавшегося положения предложила моя одноклассница. Её папа был немаленьким начальником в нашем городе и имел доступ к книгам. Их библиотека меня всегда завораживала. Света стала тайком от отца брать по одной книге, я её заворачивала в газету, чтобы, не дай Бог, не запачкать. Каждый том брала на два-три дня. Одна книга сменяла другую. Появились новые для меня имена и произведения уже знакомых авторов: Эсхил, Эврипид, Чарльз Диккенс, Александр Дюма, Стивен Кинг, Жюль Верн, Даниэль Дефо, Уильям Шекспир. Именно тогда я познакомилась со многими писателями русской и советской классики. Годы праздника! Это она, моя подруга, открыла для меня огромный и прекрасный мир литературы. Страсть к чтению определила всю мою жизнь.
«Добро должно быть с кулаками»
Для меня всю жизнь правило «не можешь решить вопрос словами, бей» актуально. Это ещё одна из причин, почему мама говорила, что можно десять мальчишек воспитать вместо меня одной. Скорость мышления, скорость реакций, скорость действий для меня означало одно: встал на моей дороге, угрожаешь, раздумывать не буду, буду бить первой.
Осень. Учебный год начался. Но выходные-то наши. Телевизор, компьютер, телефон – это где-то в далёком будущем. Тогда для всех – книги, журналы, газеты. Мы не исключение. В гости пришла одноклассница. Немного поговорив, взялись за книги. Увлеклись. Капитально увлеклись. На улице начало темнеть. Светлана живёт в пригородном районе. Расставаться не хочется, надо обсудить прочитанное, поэтому я вызвалась её проводить. Шагаем, разговариваем вполголоса.
Свернули в её проулок. Перед нами выросли ребята, окружили нас кольцом. Их восемь, нас две девчонки-восьмиклассницы, маленькие, худенькие. На нашу просьбу пропустить отреагировали смехом. Меня в такие мгновенья охватывает холодная ярость. Я тихонько выпустила нож, зажала в ладони. Повторила просьбу. Ко мне потянулась рука. Нож вошёл в эту руку легко. Я его спокойно выдернула и так же спокойно спросила, кто следующий. Пострадавший вопил на весь проулок, что они только пошутили. Я знала, как бы ни сложились обстоятельства, ещё парочку подрежу. Парни расступились и исчезли в темноте.
Дома я маме рассказала, что произошло, и отдала нож. Она схватилась за голову: холодное оружие (именно так это тогда классифицировалось) в руках дочери-пигалицы её испугало не на шутку. Но у меня было оправдание: я Светку спасла и сама живой вернулась. Выяснив, откуда у меня нож, почему я его взяла с собой, мама вновь сказала любимую фразу: «Вместо тебя одной можно воспитать десять мальчишек».
Пример не для подражания
Об этом детям, внукам, ученикам не расскажешь: пример не для подражания. Идёт урок математики. Стук в дверь. Учительница приоткрывает её, обернувшись, бросает нам:
«Продолжайте работать», – и покидает кабинет. Я вполголоса: «В кинотеатре «Три мушкетёра», до сеанса 10 минут, пошли». И открыв окно, прыгаю со второго этажа на крышу пристроя, с неё на землю. Через минуту рядом со мной весь класс, 28 учеников. Фильм великолепен. Сейчас таких нет. Да и уровень современных актёров не оставляет в памяти даже имён. Как и сами фильмы-однодневки.
Что испытала учитель, вернувшись через минуту в пустой класс, я предположила, когда сама стала учителем. В такую, да и ни в какую подобную ситуацию, не попадала ни разу, но предположить, именно предположить, смогла.
С этим учителем я злые шутки играла не раз. В общем-то не хулиганка, девочка-книжница, я отыгрывалась за вполне конкретные вещи: за высокомерие, за звёздность, которую она регулярно демонстрировала нам, ученикам.
Став учителем, я всегда придерживалась одного правила: мы на равных с учениками, мы пришли учить и любим своё дело, они пришли учиться и любят это занятие. Нам нечего делить: мы звенья одной цепи, которая называется «образовательный процесс». Горишь сам, зажжёшь своих учеников. Другого не дано.
Страсть
Моя страсть к чтению порой играла со мной шутки.
Сегодня наша очередь дежурства, но сосед болеет, поэтому мальчишки принесли ведро воды и были таковы: а дальше сама-сама. Доску привела в порядок, парты протёрла, стулья подняла, теперь можно и пол мыть. Уложилась за 30 минут. Уйти не могу, обязана сдать кабинет классному руководителю. А у неё урок. Надо ждать. С огромным облегчением села за учительский стол и открыла книгу. Сколько времени прошло, не знаю. Очнулась от голоса преподавателя:
– Лида, стол где?
– Какой стол?
– Учительский. Ты когда садилась, то стол был? Ты же книгу на него положила?
Я кивнула головой.
– Так стол где?
– Я не знаю.
– С тобой всё понятно, опять с головой ушла в чтение. Пошли искать.
Стол мы нашли спустя двадцать минут под лестницей на первом этаже.
Это умение, взяв художественную книгу в руки, исчезать из окружающего мира, я сохранила на всю жизнь.
Находчивость ребят Галина Анатольевна оценила и только пошутила на следующий день, что благодарна им за то, что стол спрятали в доступном для глаз месте.
Дежурство
У мамы сердце давало порой себя знать. Работа в течение 11 лет в детской комнате милиции, сотни детей, прошедших не только через руки, но и через сердце, оставили свой след на всю жизнь. Мама в то время уже из органов ушла по состоянию здоровья и работала старшим администратором в кинотеатре. Огромный зал на 780 мест на первом этаже, маленький на втором, библиотека, холл. Плюс касса, кабинеты административные, операторская.
Вечер. Мама пожаловалась на сердце. А сторож по непонятной причине не вышел. И я предложила, чтобы мама не переживала, продежурить эту ночь. Она посомневалась, но я её успокоила, что ей не за что переживать: я не трусиха. Больше я никогда в жизни этого никому не говорила. Я трусиха, да ещё какая.
Про себя же я думала, как здорово: у меня целая ночь для чтения, никто не запретит, никто не потревожит. Когда закончился последний сеанс, контролёры всё закрыли, проверили и спокойно пошли домой, оставив меня на дежурстве.
Первые два часа я спокойно читала, радовалась, что ничего не отвлекает. Потом услышала глухой шум со стороны зала. Это не было слуховой галлюцинацией: там хлопали стулья. Думаете, пошла проверять? Нет. Закрылась в помещении кассы. Одну дверь припёрла стулом, напротив другой, которую закрыть невозможно, села сама с огромным ящиком в руках (там циферки, чтобы ставить печати в билетах). Понятно, для чего? Бить по тому, кто попробует войти. И, чтобы не слышать звуки из зала, стала в полный голос петь, чтобы окружающее пространство знало, что сторож на месте. К ужасу своему, кроме Интернационала и песенки «Цыплёнок жареный», ничего вспомнить не могла. Вот и голосила эти две песни одну за другой. С 11 вечера до 6 часов утра, когда пришла мама. Сторож соседнего магазина, встретив утром маму, сказал, что в кинотеатр кто-то пробрался и всю ночь орёт две песни.
Мама сменила меня, мы с ней прошли в большой зал. Оказалось, что кошка заскочила, когда выпускали зрителей. Она скакала по стульям, вот они и хлопали.
К 8 часам я пришла в школу на уроки уже без голоса. А к вечеру слегла с температурой 39º, видимо, от нервного потрясения. Жалко, что почитать всласть не удалось: сосредоточиться не дал ужас.
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Вечер не за горами. Надо сбегать к Лиде, не могу разобраться с математикой. Дороги-то минут пять. Лида сидит в кресле с книгой в руках. Кто бы сомневался! Пока разобрали задачу, узнали, кто что прочитал за эти дни, пришла с работы тётя Надя, её мама.
– Лида, всё, книгу на полку, пошли солить помидоры. Кстати, ты их собрала?
– Конечно, мама.
– Где они?
– Да вот, полный таз.
– Дочь, таз вижу. Где помидоры?
– Мама, я собрала полный таз. Я не вру.
– Я не говорю, что ты врёшь. Я спрашиваю, где помидоры?
Мы втроём стояли перед столом, на котором возвышался огромный таз. Пустой.
Первой пришла в себя мама Лиды. Она покачала головой и сказала:
– Девчонки, вас книги до добра не доведут: уничтожить целый таз помидоров и не заметить этого…
Я хотела сказать, что я к этим помидорам отношения не имею, но промолчала: с книгой в руках я тоже, возможно, слупила бы столько помидоров и не заметила.
Глава 2. Юность
В 1966 году родители решили переехать в Одессу, потому что там жили сёстры папы. Он уехал. Мама осталась, чтобы мы могли закончить школу. Сдав экзамены, я приняла решение ехать в Одессу. Надо было решать вопрос с поступлением в институт. У тёти была подруга, которая преподавала в политехническом. Предложение подать заявление туда я сразу отмела: ну какой из меня инженер? Пошла в университет на исторический. Два экзамена сдала на «пять», на третьем показала характер. Воспитание (всего надо добиваться честно) вылезло не вовремя и спутало все мои карты. На экзамене по иностранному языку я получила тему, которую на русском языке я бы сдала на отлично… А на немецком даже не понимала, с чего начать. Нас ведь натаскивали на определённые темы, а этой темы не было в списке. Преподаватель подошёл ко мне и тихонько спросил, почему не приступаю к работе. Я ему честно призналась. Он сел со мной и начал диктовать ответ. А мне вдруг так стало стыдно: за моей спиной сидят готовятся, а я…
Когда я вышла из аудитории, родители, чужие родители, когда я сказала, что отказалась отвечать, взяли меня в оборот:
– Ты что делаешь, мы за своих отпрысков огромные деньги платим (Одесса!), а ты характер свой показываешь. Тут твоя честность никому не нужна. Иди в деканат, говори, что перенервничала…
Этот год я потеряла. Читала, готовилась. И, конечно, работала. Кому нужна пигалица семнадцати лет, без образования? Пошла на швейную фабрику имени Котовского, потому что в школе на уроках труда учили шить, и этот опыт пригодился. А вечерами читала, читала, конспектировала.
Через год я поехала поступать в педагогический в Нижний Тагил. Почему? Ответ на поверхности: боялась в тех условиях не пройти по конкурсу в Одессе. Ехала на экзамены с тремя рублями в кармане! Поступать ехала на очное, но понимала, что родители не потянут, и зачисление прошла на заочное, чтобы себя содержать. На экзамене по истории был декан. Выслушав мой ответ, он спросил:
–Так хорошо знаешь всю историю или повезло с билетом?
Нашёл кого спросить!
– Надеюсь, всю.
Я действительно была уверена в своих знаниях: любимый предмет и год подготовки.
– Можно тебя погонять по всему курсу?
Вот я дура! Это же вступительный экзамен! Зачем ты киваешь головой?
Погоняли знатно. Но поставили четыре. Причём настоял сам декан! И предложил идти на исторический. Я отказалась. Но урок получила хороший: надо научиться говорить «нет» ситуации, которая может выйти боком.
Стала искать работу и квартиру. Работу нашла опять благодаря Люде: она устроила меня на фабрику. Чуть позже помогла с квартирой. Факультет и квартира находились в центре города в пяти минутах друг от друга. Во время установочной сессии и потом мне не надо было ездить за тридевять земель.
Дом, в котором я теперь жила, находился на улице Мира. Дом сталинский. Жители разношёрстные. Но…
Хозяйка квартиры, Максимовна, была колоритнейшей фигурой во всех смыслах этого слова. Рост около 180 сантиметров, вес за 100 килограмм, возраст… Я думала, что столько люди не живут. А жизнь… хватит на десяток других.
Максимовна была очень интересным собеседником. Эпоха за эпохой оживали в её устах. Я на неё смотрела и думала о том, что только Мельников-Печерский в своих романах так точно, так образно описывает те или иные события. Я уже и не скажу, кто из них учил меня печь подовые пироги, варить правильную уху.
Несмотря на свой возраст, на прожитую нелёгкую жизнь, войну, Максимовна имела светлый ум и умудрилась сохранить чувство юмора. Это она научила меня относиться к жизни, как к данности, не резонировать, не переживать, относиться ко всему спокойно. И смотреть вперёд.
Через полгода работы на фабрике меня выбрали комсоргом цеха. Освобождённым. Что это значит? Комсомольская работа стала моей основной. Числилась я, как и другие секретари комсомольских организаций, помощником мастера, то есть была подснежником. Снова непонятно? Ты числишься на определенной должности, а занимаешься общественной работой. В моей организации 550 человек. Работа, параллельная учёба. Читать приходилось ночами, другого времени не было. Через полгода мне дали комнату в общежитии гостиничного типа.
Электричка
Годы шли. Для меня мало что менялось.
Поехала в Свердловск на выходные к тёте в гости. В понедельник встала около пяти часов. Наскоро чай с бутербродом, приготовленные мне тётей. На прощание она говорит:
– Будь внимательна. Электричка на Дружинино в 6:01. Твоя идёт через две минуты.
Прибежала на станцию на ВИЗе (так называется район Екатеринбурга). Стоит состав. Спрашиваю мужчину (по одежде вижу, что железнодорожник), куда идёт эта электричка.
– А тебе куда надо?
– В Нижний Тагил.
– Быстрей запрыгивай, скоро отправление.
О чём говорит его ответ? О том, что первая электричка уже ушла, это вторая, моя. Запрыгнула. Забилась в уголок. Открыла книгу. И мир исчез!
Прошло пару часов. Зашли контролёры. Я по пути их следования первая.
– Девушка, ваш билет.
Я, не отрывая взгляда от книги, нашла билет в кармане и протянула им.
– Девушка, это не тот билет.
Продолжая смотреть в книгу, спокойно:
– Тот.
– Девушка, не тот.
– Тот, другого у меня нет.
– Оторвите взгляд от книги, нас послушайте.
Сделала одолжение, опустила книгу на колени, взглянула на женщин и сказала:
– Кому лучше знать, куда я еду? Вам или мне?
– Конечно, вам. Но вы едете в другую сторону.
– Как в другую?
– Сейчас будет станция. Выходите. Через четыре часа будет в сторону Свердловска электричка.
Мой ужас не передать словами. На последние копейки я купила билет. Добравшись до Свердловска, я решила позвонить и предупредить на работе, что меня не будет. То время было другим, требования к производственной дисциплине были строгими. Не вышел на работу, прогул обеспечен. Подошла к автомату, а в кармане ни копейки. Солдат, который стоял недалеко, подошёл и поинтересовался, что у меня случилось. Я рассказала. Он молча достал две копейки и протянул мне:
– Нашла из-за чего переживать. Ты не в лесу, вокруг люди.
На следующий день моя непосредственная начальница, узнав, что произошло, улыбнулась:
– Ты, когда книгу берёшь в руки, голову-то зачем отключаешь?
И даже сейчас, годы спустя, я, взяв в руки книгу, забываю об окружающем мире.
Глава 3. Семья
Я не собиралась стать учителем. Пошла на филологический, чтобы все от меня отстали: читать я буду должна по роду выбранной профессии. И никто мне тогда не указ. Это сейчас я понимаю, что мне очень повезло в жизни: страсть к чтению совпала с профессией – я учитель русского языка и литературы. Тогда я об этом не думала.
Проучилась два года. В 1972 году вышла замуж.
Так как у моего избранника нет образования, я повела его в вечернюю школу. Села перед директором школы и произнесла заготовленную речь:
– Я вышла замуж. Учусь в педагогическом институте. У мужа восемь классов. Это не тот вариант, который я для себя планировала. Прошу принять его в школу в 10-й. Я хочу, чтобы он за год прошёл 9-й и 10-й класс. Буду помогать.
Директор оказалась мудрой женщиной и ответила, что согласна, но если мой протеже будет пропускать занятия или не потянет, то меня вызывать не будут, сразу переведут в 9-й класс. На том и порешили. Муж справился. На следующий год поступил в техникум, и пять лет я писала за него контрольные и курсовые. Другого выбора не было: во время сессии завод платил из расчёта 80 рублей. Как прожить на эти деньги втроём? Не выжили бы!
Дипломная работа «Аппараты точечной сварки». Но это через пять лет! Ночи напролёт сижу за чертежами. Все вернули на доработку. Ну, откуда мне было знать, что существуют разные по толщине линии! Снова бессонные ночи. Диплом муж защитил на «четыре». Я удивилась, как же так, я даже ночью на «пять» отвечу. Но у него было оправдание: если бы он брал дни на сессии, то мы не выжили бы.
Когда сыну исполнился год, пошла работать в детский сад, чтобы получить место для малыша. Сил на маленького сына, порядок в доме, работу, свой институт и техникум мужа не хватило. Понимала, что, если муж вынужден будет бросить учёбу, он к ней не вернётся. Я взяла академический. Когда родился второй сын, взяла второй академический. Когда сыновья подросли, снова поступила в институт. Декан увидел меня спустя два года, очень удивился: «Подожди, ты же должна была уже закончить институт». Узнав, что произошло, удивился ещё больше: «Вместо того, чтобы восстановиться, предпочла снова поступать, и получается, что первый-второй курс прошла дважды?» Я кивнула головой.
От сумы и от тюрьмы не зарекайся
Ведомственный детский сад Уралвагонзавода я вспоминаю с огромным удовольствием. Это действительно было чудесное время: у тебя появилось сразу 24 подопечных. Няню звали Ольгой, за ней не надо было приглядывать, так как она любила тотальный порядок и поддерживала его без напоминаний. Об Ольге разговор особый в силу понятной причины. Однажды она не вышла на работу. Предполагаю, что не было дома телефона: их тогда мало кто в квартире имел. Заведующая детского сада сказала адрес и попросила после работы зайти к ней. Ольга, открыв дверь на мой звонок, пригласила зайти. Лучше бы она этого не делала! То, что предстало моим глазам, поразило: на кухне горы немытой посуды, в комнате, в прихожей валяется одежда, обувь, какие-то вещи, пол не мыт вечность. И это у моей чистюли!!! На мой вопрос, что это, она спокойно сказала:
– Все мои силы уходят на группу. Вы же не потерпите беспорядок. И медик постоянно берёт какие-то смывы… А работу я боюсь потерять, так как сына тогда могут отчислить.
Младшая группа – это малыши трёх-четырёх лет. А так как я училась до академического отпуска в пединституте и уже занималась со своим сыном, мне нравилось придумывать для детей разные игровые занятия, знакомить их с буквами, цифрами, рассказывать об окружающем мире, учила отвечать правильно на вопросы. Чтобы развить их память, мы постоянно играли в игру «Потеряшка». Не знаете, что это такое? Ребёнок, сегодня один, завтра другой, прятал в пределах группы свою вещь и говорил детям:
– Я потерял варежку, помогите мне её найти.
Надо было видеть восторг детей, когда они находили названную вещь и вручали её «потеряшке».
Были и варианты этой игры. Я утром убирала что-либо с привычного места. Принимала детей, они шли в группу и начинали искать, что же поменялось. Но переставляла или прятала в такие места, чтобы малыши могли найти и испытать чувство победы.
Дети росли. Мы перешли в среднюю группу. Я, с учётом их возраста, придумывала всё новые и новые игры. Особенно им нравились ролевые.
Не звёздочка
Так как дети имели привычку заболевать в самый ответственный для меня момент, я старалась сдать все зачёты и экзамены досрочно. Тогда для заочников работали по воскресеньям консультационные пункты. Все контрольные и курсовые делала сразу, как только нам раздавали темы и обычно к ноябрю сдавала все письменные работы. Это было очень удобно. На сессию выходила чистая, без долгов. Я ни разу не позволила себе прийти на экзамен, не выучив все билеты. У меня до сих пор хранятся шпаргалки. Составляя их, я училась выделять смысловую информацию, в активном режиме сбрасывая поясняющую, дополняющую, иллюстрирующую. Однажды декан спросил, до каких пор группа будет сдавать по моим шпаргалкам? Я удивилась, видел ли хоть раз кто-нибудь из преподавателей в моих руках шпаргалки? Он улыбнулся:
– Нет, ты себе этого никогда не позволяешь.
– Тогда откуда ваш вопрос?
– Если студент твоей группы (все годы обучения была старостой группы) отвечает чётко, лаконично, значит, в его руках твоя работа.
Порой испытывала недоумение: я готовилась, а получила «четыре», а по моим шпаргалкам кто-то выходил и рапортовал: «Пять!»
Это умение работать с информацией, удерживать её не на уровне суммы лексических слов, а на уровне мысли, пригодилось мне, когда я стала работать в школе, а потом разрабатывать методику скорочтения.
Однажды заместитель декана, наша преподаватель, в моё отсутствие дала мне характеристику, о которой мне сообщили девочки. Суть её высказывания заключалась в том, что я никогда не была и не буду звёздочкой, но добьюсь в жизни многого за счёт своей работоспособности и дисциплины. Я тогда немного удивилась, а теперь понимаю, что именно эти качества позволили мне стать хорошим учителем, разработать уникальную методику и посвятить свою жизнь тому, чтобы отвоёвывать людей у не очень умного социума.
Свой характер я всегда умудрялась проявить во всей красе. Сейчас порой думаю, почему не боялась, что возникнет конфликтная ситуация, что преподаватель впоследствии сведёт со мной счёты. Наверное, люди были другие, и такие мысли не могли даже возникнуть в голове. Тем более в голове преподавателя.
Держу в руках контрольную работу по практической грамматике. Её украшает двойка. Но я не могу получить двойку! Это один из предметов, где я и без подготовки всё сделаю на высший балл. Ни одного исправления! Перепроверила. И… пошла в деканат. Отдала декану работу и сказала:
– Две работы на отлично. Эта на «два». Значит, экзамен автоматом преподаватель мне не поставит. Для меня это важно: малыши не предупреждают, когда собрались заболеть, на носу сессия, я все предметы уже сдала.
Декан просмотрела работу, вызвала преподавателя. Меня попросили подождать за дверью. Через пять минут учитель вышла из кабинета и сказала, что работа выполнена на «отлично», но она её не проверяла, так как я писала мелким почерком в каждой строчке. Тетрадь в клеточку! Став учителем русского языка, ведя гуманитарные классы, я ночи напролёт проверяла тетради, писала каждому ученику за творческие работы отзыв… и год за годом теряла зрение. Когда ушла из школы, мне потребовалось десять лет, чтобы восстановить цвет белков. Они были розового цвета. Ничего не происходит в жизни просто так: я поняла, почему получила когда-то такой урок. Ученикам всегда говорила, что я не гадалка, просила писать чётко, все соединения прописывать согласно требованиям, если планируют получить хорошую отметку.
Сыновья. Великолепная возможность
Дети – это самая большая награда для женщины. Я не являюсь исключением. С появлением мальчишек вся моя жизнь сузилась до пространства, в котором находились они. Они были для меня всем, моими сыновьями, моими друзьями, моими товарищами по играм, моими учениками с первых дней их жизни. Я вставала в пять часов утра, добиралась к кровати не раньше двух часов ночи. Время, которые они отдыхали, уходило на учёбу, чтение. Как и все молодые мамы, я между делом успевала помыть, постирать, приготовить, погладить. А ещё и погулять! Когда подросли, кинотеатр, кукольный театр, цирк, поездки на спортивные семинары, участие во всех районных, заводских городских конкурсах «Папа, мама, я – спортивная семья». Вес 46 килограмм – это итог моей тогдашней жизни.
В те годы я шла в обучении детей чаще интуитивно. Сыновья подросли. У меня появилась великолепная возможность на практике испробовать всё, что знала, что умела и чему училась.
Ковров на стенах не было. Только полки с книгами. Свободные места не пустовали. Висели три карты:
– карта Свердловской области;
– карта Советского Союза;
– карта мира.
Эти карты и были для моих детей азбукой. Старший уже буквы знал, поэтому у него было задание конкретное – найти, к примеру, города на букву «М» и прочитать их.
Младший получал задание обязательно. Он должен был найти букву. Я ему показывала букву, произносила звук. Он должен был найти слова с данной буквой, проговорить звук и назвать порядковый номер буквы в слове. Он с удовольствием искал и говорил: «М – один. М – два. М – три». Потом я эти слова показывала, проговаривала. Он следил за карандашом, запоминал слово, как картинку, повторял. Через несколько занятий они уже начинали читать коротенькие слова сами, спрашивая порой название незнакомой буквы.
Так оба сына научились читать, считать. Но главное в другом – они научились радоваться своим победам, обучаться в поисковом режиме. А так как всегда были ограничены по времени на выполнение задания, у них развивалась скорость мыслительных процессов, скорость реакций, скорость действий.
Старшему четыре, младшему два. Настала пора учить игре в шахматы. Я в этой игре на самой низкой ступеньке. Но начинать-то надо. Взяла два урока по шахматам у знакомого. Чтобы заинтересовать сыновей чем-либо, всегда находила приз или «сюрприз». Приз – это, предположим, сказка на ночь. А сюрприз… Кто проиграл, моет посуду, прибирает в комнате. Но дело всегда конкретное, рассчитанное на определённое время и силы ребёнка. С планкой чуть-чуть выше возможностей.
Так продолжалось недолго: через несколько месяцев я проигрывала даже младшему. Соответственно, и все «сюрпризы» доставались мне. Да и мальчишки быстро потеряли интерес играть со мной, переключились на отца.
С папой им было намного интереснее, так как молодые отцы долго остаются в возрасте детей. Наглядные примеры есть в каждой семье. Наша не является исключением. А любовь к книгам они, по-моему, впитали с кровью матери, то есть с моей. Младшему было два-три года. Он выбирал книгу, вставал на колени перед диваном и начинал читать. Мог это делать часами. Порой заставала его спящим, стоя на коленях перед диваном, с головой, которая лежала на книге. Куда бы мы не приходили, они тут же вслух начинали читать все объявления, надписи.
Старшему четыре с половиной года, я диктую слова, он их пишет печатными буквами. Младший сидит на подоконнике возле стола и следит за работой брата. И вдруг смеётся и говорит тому:
– Ты неправильно пишешь.
– Почему это неправильно?
– Потому что МОЛОКО пишется с буквой О.
– А ты откуда это знаешь?
– Мы мимо этого магазина ходим в садик. Там написано МОЛОКО.
Вспоминаю мультфильмы, которые мы смотрели вместе с сыновьями, – умные, светлые, добрые. Они учили детей сопереживать, развивали эмоциональную сферу, а с ней связана память. Сравнивая современных детей, которые считают наши фильмы скучными, со своими сыновьями, внуками, учениками, вижу огромную разницу именно в том, что мы, родители, были активными участниками этого процесса.
Это мы возбуждали своей реакцией активную мыслительную деятельность детей, осознанно стремились развивать и совершенствовать их память. Тот образ жизни, который сейчас порой навязывается в семьях детям, я называю «растительным». Мы все рождаемся с абсолютной памятью. Дело родителей – не пускать развитие детей на самотёк: само по себе ничего не придёт. А такой образ жизни способствует затуханию памяти.
Дети пошли в школу. Я ушла из детского сада, чтобы принимать активное участие в их школьных делах. Их классы на экскурсии, в цирк, в кино, на лыжную базу – и я с ними. В классе у младшего, по просьбе учителя, стала после уроков вести занимательную математику, грамматику. То есть жила в школе. Директор предложила оформить меня на полставки воспитателем продлённого дня. Я убедила мужа разрешить мне устроиться в школу на продлёнку на полставки. Он недоверчиво посмотрел на меня и сказал:
– А ты туда совсем не переедешь?
Накаркал. На следующий год я стала завучем по воспитательной работе, диплом о педагогическом образовании пригодился.
Что является фундаментом для любого обучения, я знаю не понаслышке. Прошла этот путь с детьми, потом с внуками и ввела впоследствии конкретные упражнения в свою методику.
К этапу «я читаю» путь долгий:
1. До года в пассивном режиме чтение должно присутствовать в жизни малышей: родители читают сказки, рассказы, потешки.
2. С года – ребёнок вовлекается в процесс чтения с родителем: рассматривает картинки, сопоставляет рассказ и иллюстрации к нему, занимается по первым книгам раннего развития, где познает элементы окружающего мира: животных и звуки, которые они издают, предметы обихода и мебели, цвета, размеры. В этот период в мозгу ребёнка нарабатывается богатейшая нейронная сеть, которая впоследствии будет определять способности ребёнка к обучению.
3. С двух лет в наше время в «интеллектуальном рационе» ребёнка появляются мультфильмы в избыточном количестве, просыпается интерес к гаджетам, который поддерживается родителями. Таким образом, наработанная нейронная сеть постепенно ослабевает, ребёнок учится воспринимать информацию фрагментарно, яркими вспышками, что приводит определённым последствиям.
Глава 4. Крайний Север
В 1986 году мы переехали на Крайний Север. Причина была веская, я хотела преподавать, только преподавать. Мечтала стать просто учителем, но мне отказали.
В Комитете образования Ноябрьска посмотрели мою трудовую и сказали, что возьмут заместителем директора по воспитательной работе. Спасибо, дали класс как словеснику. Через год я стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Вы, наверное, даже не задумывались над тем, что все завучи по совмещению работают следователями.
Звонок с УГРО (специальная оперативная служба полиции, входящая в структуру органов внутренних дел). Слышу голос начальника отдела. Не вдаваясь в подробности, ставит перед фактом: в школе взлом, надо подойти! Через 5 минут я в школе. Выясняется, что топором вскрыли дверь входную, тем же способом дверь в кладовую-склад. Заместитель по хозяйственной части уже диктует, что пропало. По почерку понятно, это могли взять только подростки.
Попросила начальника УГРО дать мне сутки. Подошла к нашим десятиклассникам и попросила, чтобы нашли А. Он в ночь-полночь должен быть у моей двери.
День прошёл, его не нашли. В 2:30 ночи стук в дверь. Открываю. Стоит красавец. Спрашиваю:
– Твоя работа?
– Моя.
– Кто второй?
– Я буду один отвечать.
– Это мы с тобой потом решим. Сейчас мне имя.
Ответил. Назначила встречу на 8:45 и сказала:
– В 9:00 мы с тобой будем «сдаваться». Всё, что могу, сделаю, но вы тише воды, ниже травы.
В 9:00 «сдались». Оформили документы. Сейчас таких специалистов нет. Милиция превратилась в полицию, в карательный орган. Тогда мы сидели и решали, как ребят вызволить из этой беды: ошибки делают все, но это для них должно стать уроком, а не сломать им жизнь.
Разбирательство было, но мальчишки остались на свободе. Спустя 20 лет я, приехав в город, встретила А. Передо мной стоял взрослый незнакомый мужчина. Но глаза – глаза родные.
Он поздоровался, спросил, узнаю ли я его. Сказала про глаза.
На прощание я услышала главное, то, что окрыляет любого учителя:
– Мы, когда встречаемся, всегда с благодарностью вас с ребятами вспоминаем: некоторые бы точно сели, если бы вы нас не отстаивали. Никогда не промывали мозги, не читали нотаций, просто вставали рядом.
Те же лица
Прошло полгода с первого приключения. Звонок из наркологического отделения:
– Ваши дети в отделении, их доставил наряд милиции.
Я возмутилась, что за неуместная шутка: сыновья передо мной.
В ответ:
– Разве ученики не являются вашими детьми? Приезжайте.
Приехала. Первый раз в жизни в таком заведении. Один десятиклассник и три девятиклассника. Три парня и одна девушка. Поговорить не удаётся. Увидев меня, пытаются вставать – ноги не держат. Пытаются говорить – язык не слушается.
Подписала какие-то документы. Выслушала лекцию о том, как воспитывать.
На следующий день красавцы появились в школе. Нахожу А.
Рассказывает:
– Мы решили попробовать, что такое вино. Взяли четыре бутылки разного вина (на четверых!!!), пошли в парк.
– Закуску брали?
– Нет.
– Когда почувствовали себя плохо?
– Нам не было плохо, нам было весело… и смешно почему-то. Плохо нам стало уже в машине милиции, которую кто-то вызвал.
На каждом заседании главврач наркологического отделения считала своим долгом упомянуть нашу школу в связи с тем происшествием. Пока моё терпение не лопнуло:
– Если я правильно понимаю, вам больше не о чем нам рассказать: Вы целый год полощите имена ребят, надели на них ярлыки. Задача другая: не очернить их имена в глазах общественности, а сделать так, чтобы они поняли и никогда больше не попытались таким образом познавать окружающий мир.
Префронтальная кора созревает после 20–23 лет. Если учесть, что она отвечает за сложные поведенческие реакции, то есть за критическое мышление, понятно, почему подростки, молодые люди порой ведут себя неадекватно: они не предвидят, к каким последствиям может привести тот или иной их поступок.
У заместителя директора по учебно-воспитательной работе есть конкретные обязанности. Во всяком случае в моё время было так. Именно завуч отвечает за организацию учебного процесса, за выполнение школьных программ, за качество преподавания, за успеваемость и посещаемость учащихся, регулирует нагрузку учителей, осуществляет контроль за учебно-воспитательной работой, составляет расписание уроков. На первом месте, конечно, стоит методическая работа. Согласно номенклатуре должностей, руководители образовательного процесса, директор и его заместители, к категории педагогических работников не относятся. Но мы всегда и все вели уроки в закреплённых за нами классах. Мне посчастливилось работать с сильными, умными, думающими детьми, так как я вела большую часть моей работы в школе гуманитарные классы.
Посещение уроков – прямая обязанность завуча. Девять уроков в месяц – это норма. Я учитель русского языка и литературы, поэтому курировала уроки гуманитарного цикла. Но если цель посещения была отстранённой от предмета, например, решение организационных вопросов на уроке, то могла запланировать и решение других задач параллельно основной.
Эта часть моей работы и стала пусковым крючком для неутешительных выводов.
1. Мы окружили детей такой плотной сеткой опеки, заботы, желания их чему-то научить, что порой о самом ученике забываем, уравняли их всех.
2. Оцениваем работу ученика по раз и навсегда усвоенной практике (столько-то, к примеру орфографических, столько-то грамматических, одна пунктуационная – оценка такая-то). Но дети-то разные. Одним надо давать задания повышенной сложности и оценивать строже, учитывая их мощный потенциал. У других детей способности ниже, им надо подбирать другой уровень сложности и понимать, чего ему стоит тот или другой ответ. Поощрять, чтобы не потерял веру в себя, поверил, что он может выполнять учебные задания, но не давать расслабляться (только напряжение даёт толчок к движению, желанию становиться лучше, успешнее).
3. По результатам работы выставляем отметку и НИКОГДА не анализируем саму работу. Обязательно надо проговаривать, что в работе сделано отлично, что хорошо, а на что вам (учителю и ученику) надо обратить внимание, чтобы в следующий раз, выйдя к доске, знать, на какие знания, умения он может опереться, а какие являются ошибочными. Мы не на ринге, мы делаем общее дело: мы учим, делимся своими знаниями. Дети учатся, принимают эти знания. Знания неотторжимы. Качественно усвоив их, они могут пользоваться ими всю жизнь.
Порой, присутствуя на уроках, я наблюдала картину, которая меня ставила в тупик: было впечатление, что некоторые дети не могут предъявить свои знания, хотя тема не новая. Время потребовалось, чтобы понять, что у них доминирует кратковременная память. Даже если вчера они выполнили все домашние задания, сегодня они могут предъявить только их часть.
