Платон
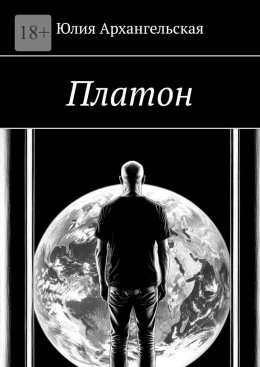
© Юлия Архангельская, 2025
ISBN 978-5-0065-9350-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Не первая глава
Дорогой Семь, я выполнил вашу просьбу и прилепил к своей истории финал. Плохая новость в том, что я сделал его реалистичным. Хорошая – я все еще жив. Надеюсь, теперь вы признаете, что ваша теория – чушь, а я не тот, кем вы меня вообразили. Перед тем, как отправить рукопись вам, я перечитал ее еще раз. Передо мной оказалась стена текста, ряды букв, черно-белый код, пропускающий сознание по ту сторону листа – в мир, который никто и никогда не увидит моими глазами. Мне захотелось переписать все заново от третьего лица, но я одернул себя, осознав самое важное: я утрачиваю с ним связь, перестаю дорожить переживаниями, забываю, и забываю с наслаждением. Говорят, у человека всего две жизни, и вторая начинается, когда он понимает, что жизнь одна. Вы единственный, кого я могу осчастливить в оставшиеся дни, и если я сделаю это, подарив вам свое сочинение, то тоже буду счастлив.
Душевную обнаженку выложу здесь, в этом письме, ведь не истории, а вам нужно мое признание. Вам любопытно знать, кто я такой и почему во мне теснились желания, столь противные человеческой натуре. Честно говоря, я никогда не был на исповеди и не в курсе, как правильно облегчать душу. Стоит ли сперва излагать факты, например, что меня зовут Платон Орос, что родился я на Крите в семье пресс-атташе, а вырос в Москве, и так далее, чтобы исповеднику было на что опереться, или сходу переходить к грехам? Думаю, если грехи с легкостью отпускают, то причины, приведшие к ним, никого не колышут. Но вы-то не прощать меня собрались, вам интересно все, поэтому расскажу о себе по порядку.
Детство мое прошло на Крите, в маленьком приморском городке. Я был одним из тех детей, кого днем растит улица и море, а по вечерам – бабушки. Родителей видел редко, и каждый их приезд превращался в праздник. Отец привозил книжки и наставлял, а мама плакала и заваливала подарками. На мой седьмой день рождения они сообщили, что их отзывают в Москву. Отец усадил меня за стол и веером выложил фотографии столицы, а мама просто сказала, что очень хочет домой. Она взяла меня за руку и объяснила, что я тоже буду тосковать по дому, но ничто не помешает мне вернуться, если я захочу. Я согласился, решив, что быстренько посмотрю мир и вернусь. Про железный занавес узнал через полгода, сидя на чемодане в прихожей и требуя вернуть меня туда, откуда взяли.
Я был единственным ребенком и ни в чем не нуждался. Мне много давали, не спрашивая, и столько же требовали взамен, не ожидая согласия. По настоянию отца я должен был окончить МГУ, стать журналистом-международником и построить карьеру в Европе. Предопределенность угнетала, и хоть учеба давалась легко, кем бы я ни представлял себя в жизни, любое занятие и тем более карьера казались мне нелепыми. Смотрел на родителей, на их друзей, бывавших у нас в доме, на сверстников, мечтавших стать кем-то и сделать что-то, и не понимал, что я делаю среди них, столь увлеченных и целеустремленных натур.
Медаль и красный диплом. Я сделал все, чтобы не огорчать родителей. Отец с гордостью отнес мои документы в ТАСС и улетел с Ма в очередную командировку. Я проработал ровно два часа. Новости они узнают первыми. Коллеги выразили соболезнования, редактор дал отгул. Я просидел дома несколько месяцев, не зная, куда себя деть, потом сдал квартиру, поехал на вокзал и запрыгнул в первую электричку. Она шла в Тверь. Спонтанный переезд спас меня от удушающей жалости многочисленных друзей семьи и клейма сиротства. В незнакомом городе я стал жить спокойно, размеренно, в бесшумной бессмыслице, не лишенной скрытого очарования.
Жизнь мне никогда не нравилась. Я приберег эту фразу для эпитафии. Кратко и правдиво. Жизнь я любил как особый вид искусства. Да, красиво. Живописно. Местами милен-ко. Но не мое.
Надеюсь, вы успели меня хорошенько узнать, чтобы не считать законченным меланхоликом и нигилистом, который не жил по-настоящему. Я жил как все и даже прослыл весельчаком. Несмотря на тайное желание, жизнь меня баловала. Вы видели мою жену, бывшую жену, и признайте, я ей не пара. Она само совершенство. И это ли не доказательство, что по меркам вселенной я попросту зажрался. У меня было все: семья, работа, я не был богат, но построил дом и выхватил из мира вещей те, что пришлись по вкусу. Не всем дорожил, не все сберег, и сейчас мне не на что жаловаться, но в том-то и парадокс моей натуры, что я не искал ни поводов, ни причин, а лишь подходящее время.
Ироничное и вместе с тем теплое отношение ко всему пришло ко мне рано, а вместе с ним – непокидающее ощущение ожидания подходящего момента, чтобы отсюда смыться. К слову, я не считал его недугом или дефектом. По прошествии лет я понял: все дело было в прощальном взгляде. Именно так я смотрел на жизнь и людей. Каждый раз – как последний, чтобы ухватить суть и запомнить. Запомнить только хорошее, лучшее, что есть в них и вокруг. Думаю, поэтому многие считали меня слишком мягким и наивным.
В пору студенчества был у меня приятель, страдавший депрессией. Однажды он поделился со мной переживаниями и сказал, что подумывает самоубийстве. Ему прописали таблетки, и вскоре он ругал себя за слабость характера и благодарил докторов, которые спасли ему жизнь, такую замечательную и складную во всех отношениях. Я поддерживал его и представлял, что бы было со мной, если бы жизнь приносила боль и мучения. Наверное, я бы тоже пил обезболивающее. Но я не мучился, мне не было больно, я просто жил в мире слишком простом и прозрачном, полном смыслов, созданных не для меня, и продолжал смотреть на него так, как привык: с улыбкой и иронией, скрестив на груди руки.
Подходящие моменты – образ из сказок. Когда нужно, они не подворачивались. Работа, друзья. Там и сям я был нужен, тех и сех не мог подвести и как-то незаметно увяз в рутине, а потом пришла любовь. Первая и единственная. С Верой мы познакомились в библиотеке. Стояли бок о бок и сдавали одинаковые книги, «Энеиду» Вергилия. Заметив это, мы переглянулись.
– Красивый язык, хоть и мертвый, – сказал я, чтобы хоть что-то сказать, потому что она уже скользила по мне взглядом. Одобрила кроссовки, пересчитала дырки на джинсах, подняла бровь, увидев пряжку на ремне в виде мальтийского креста, поджала губы от вида черепа на футболке, мельком взглянула на серьгу и умело скрыла удивление, обнаружив, что волосы, забранные в хвост, были седые и блестели, как начищенное серебро.
– Мертвый? Не драматизируйте, бедный рыцарь, ему еще долго не дадут умереть, – ответила она и улыбнулась. Я хотел пошутить про «Гаудеамус», решив, что она студентка, юная, изящная, в легком платье и туфлях на каблуках, но вовремя заткнулся. В ее зеленых глазах, подчеркнутых тушью и стрелками, читался опыт зрелой женщины и горел огонь, завидев который, и рожденный ползать отращивает крылья. Она призналась, что полюбила латынь в медицинском колледже, а Вергилия взяла, чтобы не отупеть от работы. Слово за слово мы оказались на набережной и гуляли до полуночи, потом стали встречаться. Отношения у нас были ровные, без бурь и всплесков. Ей нравились читари-ботаники, каковым она меня считала, а я упивался ее красотой и удивительной способностью вить из меня веревки. Лет пять жили на два дома и не думали съезжаться. В редких разговорах о семье она отшучивалась, что брак – дело гиблое, он портит фигуру и превращает нимфу в бабу.
Шутки кончились неожиданно. Мы были на свадьбе у друзей, и в разгар веселья она проговорилась, что беременна. Я схватил ее и закружил. Вмиг она стала прекрасней и восхитительней. Слова «выходи за меня» сами сорвались с губ, и она сказала: «Ну ладно». Шумное торжество продолжилось, а я опомнился и напился, ведь мне тоже предстояло долго и счастливо, но я не представлял как. Вернувшись домой, добрался до календаря, переправил даты и поставил крестик на первом ноября 2022 года, чтобы на время забыть о себе, о своих тараканах и прожить двадцать пять лет как суждено – достойно, без ощущения, что сидишь на чемоданах у кассы и каждый день сдаешь билет, чтобы купить другой, на следующий поезд, на который точно опоздаешь по независящим от тебя причинам. Предположил, что за четверть века управлюсь с тем, что обычно сваливается на человека, и освобожусь от обязательств, стану чист, как лист, и отпущу себя на все четыре стороны. Ну а если втянусь и привыкну к роли отца и мужа, то признаю, что жизнь прекрасна и удивительна, а я заблуждался, считая ее пустой тратой времени.
Дальше случилось то, что предполагал: жизнь превратилась в судьбу, и даже не мою собственную. Будто юность была лишь притоком бурной реки. Дело за делом, из кабалы в кабалу, подпрыгивал на порогах, несся в стремнине, пока не оказался в тихой заводи естественного увядания. Вокруг меня разыгрывались разные сценарии, и мой не был уникальным, и я так ясно ощущал это, что иногда становилось тошно. У нас было все для счастья, но я все думал, чего мне не хватает, и никак не мог понять. Веру безумно любил, в сыне души не чаял, работа была не в тягость, и деньги водились, но с каждым днем все чаще меня посещали мысли о крестике в календаре.
Отдушину нашел в книгах: одни читал, а другие писал, развлекал ими семью, друзей и бросал в ящики комода. Чтение и писательство были побегом от реальности. Этого не увидел бы только слепой. Но никто не увидел. Я говорил, это хобби. К нему относились как к странности, присущей многим, не сумевшим раскрыться в работе и не получившим признания в творчестве. Последние девять лет вечера я проводил в кабинете – самой уютной комнате в доме – среди коллекции книг, хранящейся в шкафах под стеклом, за отцовским столом с кожаной столешницей, от которой пахло перчатками. За ним я работал, а писал, лежа на диване, стоявшем посреди кабинета и, по мнению жены, нарушающем законы фэн-шуя. Я уже готов признать, что если бы послушал ее, подвинул диван к стене, лег головой на северо-запад, то, возможно, жизнь моя сложилась бы иначе и я не проснулся бы на нем первого ноября 2022 года в пустом доме наедине с давним намерением.
Искренне ваш, Платон.
09.06.2023 года.
Первая глава
Жирный крестик в календаре напомнил, что мне исполнилось пятьдесят. Я ждал этот день полжизни, поэтому давно спланировал до мелочей и точно знал, с кем встречусь, с кем отпраздную и каким будет мой последний вечер. Еще на грани пробуждения я испытывал смешанные чувства радости и страха. Час пробил. Предвкушение свободы должно было развеять душевные сомнения, но страх нарастал. Яркий, жгучий, животный, первобытный. И вдруг я понял, что боюсь. Боюсь себя. Мое отсроченное решение зазвучало приговором, который я должен был привести в исполнение, а впереди зияла пустота. Пустота, в которой не наступит второе ноября и третье и больше не случится ничего. В моем сюжете все обрывалось первого. Пятясь в душе от самого себя, я стал думать, что проснулся слишком рано, что стоило насладиться последним сном, поспать еще, поваляться, никуда не торопиться хотя бы сегодня.
За окнами густела ночь, уличный фонарь боролся с туманом, швырял на стены призрачные тени и заливал рабочий стол молочным светом. Я укутался в одеяло, поджал ноги и уткнулся лбом в холодную кожу дивана. На руке завибрировали часы – будильник, установленный на шесть утра, с надписью: «Вперед на рудники». Я отключил его, ведь накануне уволился, а сбросить настройку забыл. В полном смятении встал и пошел на кухню, вниз, варить кофе, по пути включая свет. В пустом доме каждый шаг сопровождал скрип паркета и ступеней, поэтому я побежал. Щелчок электроподжига, шипение газа, бряцание упавшей ложки, хлопок крышки банки с кофе и стук дверки шкафа – все привычные звуки раздражали. Я распахнул окно, чтобы впустить шум улицы: ветер, топот прохожих, рокот прогреваемых машин. Кофе по привычке пил с сигаретой, присев на подоконник и глядя, как соседи из коттеджа напротив уезжают на работу, ругаясь и сто раз проверяя, все ли выключили и заперта ли дверь. Налаявшись, они вышли на дорогу к заведенной машине, увидели меня в окне и помахали, я помахал им в ответ.
Налив вторую чашку, я открыл ноутбук и стал кропотливо перебирать почту с заурядными поздравлениями от друзей и коллег, ныне обитавших в интернете. Почти машинально я отправлял им в ответ душевное спасибо и лайкал открытки на своих страницах в соцсетях. От монотонной работы сердце и ум пришли в равновесие, и я сделал следующий шаг – открыл Word и приготовился писать прощальное письмо. Я знал, что раньше срока не вырвусь, и готов был остаться, будь у меня незавершенные дела, ведь я довожу начатое до конца и ухожу, когда никто не смотрит и не тянет ко мне руки. В последнем я мог быть уверен. Год, как я жил один и даже кота не завел.
Казалось, все пойдет как по маслу и последнее слово будет восхитительным. Но не тут-то было. Так и эдак я прикидывал, с чего начать, и никак не мог сосредоточиться. У меня не осталось ничего второстепенного: ни людей, ни вещей – все лишнее давно было выброшено за борт. Думая об оставшихся, я курил, смотрел на пустой экран и прикидывал, кому адресовать послание.
Допустим, я написал бы его Вере, одной из замечательных женщин на свете. Без преувеличения. Когда мы поженились, я понял, что любовь бывает без страданий. Конечно, о ней не напишут в книгах, потому что это нормально, а все нормальное скучно. Но нам скучно не было, пока она не сверилась с собственным календарем, где тоже, видимо, стоял крестик, и не уехала жить в Испанию. Написать ей – идея на миллион. Это была бы первая предсмертная записка в истории, накатанная в соавторстве. Представил, как она читает, не веря глазам, перечитывает, берет ручку и размашисто пишет: «Ну и дурак!»
Адресовать письмо Пашке у меня не хватало духу. Он человек с устоявшимися взглядами, довольно жесткий, и способен принять мое решение без лишнего драматизма, чего не скажешь о других. Но, конечно, есть одно но… Записки друзьям и женщинам пишутся в свободной форме, легко и непринужденно. Речь в них идет в основном о любви и дружбе, для которых смерть не преграда, а закончить их можно пожеланием встречи в новой жизни, при других, более веселых обстоятельствах. Письмо сыну – не записка, а монументальный труд всей жизни. Или я ни черта в них не смыслю.
Близких друзей у меня не осталось. Последний, Антон, умер от ковида год назад. Он работал со мной в отделе новостей, и десять лет мы сидели напротив, вместе ходили обедать в кофейню на углу, а по выходным, бывало, он выбирался ко мне на шашлыки. Мы могли говорить часами о чем угодно, кроме работы. Лежали на креслах в саду, пили вино, и это было прекрасно. С ним бы я попрощался. Но, к несчастью, он меня опередил.
Можно было уйти по-английски, но меня самого раздражает в людях такая привычка. Я считаю ее признаком невоспитанности. Нужно уметь говорить до свидания даже тем, к кому не собираешься возвращаться. А я как раз пытался покинуть мир без лишней суеты, просто сказав напоследок: «Всем спасибо, до свидания». Вот оно! Идеальное послание далеко не идеального человека, который мог, но не стал утруждаться.
«Всем спасибо, до свидания».
Впервые в жизни я остался доволен своим перфекционизмом. Однако перед тем, как откланяться, я хотел исполнить свое последнее желание – купить шляпу. Не абы какую, а английскую, созданную для носки в безветренную погоду и элегантного жеста приветствия. Несмотря на контекст, я по-прежнему считал это хорошей идеей. Поднялся в кабинет, распечатал записку и оставил ее на столе, как новый роман в завершенном виде. Даже если бы ее нашли, вряд ли прониклись бы смыслом и бросились на поиски. В конце концов, это просто слова на бумаге, пока к ним не прилагается все объясняющее тело в шляпе.
Привыкая к онлайн-магазинам, я все же не мог расстаться с привычкой ходить за покупками в торговые центры. Они как неомузеи еды и вещей. Яркое, скромное, пестрое, громкое собрано в одном месте и распределено по секторам, как гласит карта при входе. Кто бы ее читал. Потоки людей хаотично движутся, захлестывая распродажи, пульсируют под музыку, которую не замечают. Она задает ритм, разгоняет кровь, подстегивает желание купить то и это и унести это и то к себе. Мой сын, который со своими соплеменниками бьется над маркетинговыми технологиями, говорит, что я и мне подобные, замечающие музыку и то, что не должны замечать, просто занозы в заднице. Но и нас рано или поздно наука приравняет к общему знаменателю. Не знаю, в кого он такой затейник. Я прям чувствую себя двигателем научного прогресса, когда в его приезды отлучаюсь в супермаркет за коробкой молока и возвращаюсь с коробкой молока под скрежет зубовный. Сынуля думает. Орешки в кармане не в счет.
Я пришел к открытию. До музыки. До толп. Витрины зажигались одна за другой, как окна домов. На фуд-корте редким прохожим предлагали завтраки. Заработал дохлый фонтан. На перекрестках задвигались громоздкие фигуры драконов. Они как умели завлекали посетителей в кинотеатр на премьеру апокалипсиса со своим участием. Поплутав, я нашел наглухо закрытую шляпочную и устроился на лавочке под очередной фантастической мордой. Дракон угрожающе наклонялся, открывал пасть, из пасти выезжал мигающий смертоносный огонь, а сама атака сопровождалась жутким скрипом суставов и противным: «Э-э-э…». Испепелив все живое, он заваливался назад, чтобы снова напасть с неиссякаемым напором и безразличием в пластмассовых глазах. Дракон убивал бы меня и убивал, если бы не пришел продавец. Пухлый коротышка в шляпе и светлом плаще нараспашку поверх черного костюма-тройки повозился с замком у пола и отработанным пинком отправил трещотку жалюзи, закрывавшую вход, куда-то наверх. Нашарил выключатель, но витрина не вспыхнула, не обдала жаром, подобно соседним, и надпись: «Дело в шляпе» на белом фоне и вешалка с одинокой шляпой в конце предложения остались пребывать в аскетичной скромности, без иллюминационных излишеств. В самом магазине стало чуть светлее, чем хоть глаз выколи.
«Модные бутики, чего от них ждать», – подумал я, дал ему время раздеться и зашел.
Мы поздоровались, молча кивнув друг другу, и я отправился искать шляпу. По обе стороны от входа и по левой стене высились солидные полки вроде книжных. Шляпы там висели на высоких подставках в окружении софитов. Изогнутый деревянный прилавок, высокий, по виду напоминавший барную стойку, находился справа, а над ним на полках из стекла красовались наидрагоценнейшие шляпы. У дальней стены, задрапированной темными шторами, стояли венские кресла и столик в окружении трех элегантных манекенов. В их позах читалось: «Господа, что сидели здесь, отлучились по важному делу. Когда вернутся, мы продолжим». И дверь. По диагонали от входа в темной нише я заметил дверь – намного выше и шире той, в которую вошел.
Стою, глаза разбегаются. Спиной чувствую, что продавец смотрит на меня, и это раздражает. На самом деле шляп было многовато для определения одной методом тыка или исключения. К тому же они начинали казаться одинаковыми. А еще сверлящий взгляд на спине… Смирившись с тем, что ничего в них не смыслю, я повернулся. Продавец с интересом разглядывал меня, чему-то улыбаясь.
– Я не знаю, где находится шляпа, которая мне нужна, – сказал я и подернул плечом.
– Понимаю. Пока не знаешь где, это может оказаться где угодно, – ответил он серьезно, немного растягивая слова.
– Может, поможете мне ее найти? – спросил я.
– Конечно, помогу. Вспомните, где вы видели ее в последний раз, – мгновенно отозвался он.
– Вы издеваетесь? – возмутился я.
– Нет. А вы?
Это «а вы?» он умудрился проговорить, зевая, и достал пилку для ногтей.
На секунду я представил ситуацию со стороны и чуть не рассмеялся. Потом произнес по слогам:
– Я при-шел ку-пить шля-пу.
– Замечательно. Так бы сразу и сказали. Какую хотите? – затараторил он с дежурной улыбкой и напускной заинтересованностью. Пилка отправилась под прилавок, а он застыл с распростертыми объятиями, готовый поймать в них любое желание.
– Вашу.
Определенно, выбор за меня сделало подсознание. Толком не успел сообразить, как слово «вашу» грохнулось на прилавок. На нем была новая шляпа – не лучше, не хуже, но намного живее тех, что стояли на полках, как урны в колумбарии, или покоились на головах манекенов. Продавец удивился. Снял шляпу, вынул торчащую из-под канта бирку, посмотрел на нее, аккуратно вложил обратно, бережно водрузил шляпу на место и снова уставился на меня. Для такого крупного тела лицо у него было весьма привлекательным, почти изящным. Первое, на что я обратил внимание, – его выразительные темные глаза, возможно, карие, но в этом сумраке сказал бы, что черные. Второе – высокий лоб без залысин и тонкие губы, которые, смыкаясь или растягиваясь в улыбке, исчезали с лица.
– Она на мне, потому что не продается. Это брак. Ее недочернили. Вас не смущает, что она синяя? То есть она немного не черная и очень синяя, темно-синяя, так сказать, – доходчиво пояснил он и поднес шляпу к настольной лампе у кассы, чтобы я мог убедиться.
Лампа идеально вписывалась в мрачноватый интерьер. Видавшую виды латунную ножку венчал приплюснутый стеклянный абажур, матово-белый снизу, темно-зеленый сбоку и неопределимого оттенка серого сверху. Рядом с лампой все становилось зеленым, включая синюю шляпу.
– И все-таки она синяя, – не сдавался продавец, утягивая зеленую шляпу за собой, – пойдемте к свету, и я докажу. Он резко оттолкнулся от прилавка и поплыл в сторону двери.
«Что за…» – подумал я и вытянул шею, чтобы посмотреть, как это у него получается. Тут он оттолкнулся от стеклянной полки и продолжил движение, растеряв волшебство и усердно разгребая руками воздух.
«Чудак на чем-то катается», – дошло до меня. Я почти повис на локтях и увидел, что он едет на барном стуле. Обычном одноногом барном стуле, только с колесиками.
– Не стоит. Я куплю ее без доказательств. К тому же у меня есть синий костюм, – я оттопырил полы своего пиджака.
Он уже добрался до конца прилавка, навалился на него, подпер голову руками, будто приготовился слушать длинную-предлинную историю, и спросил учтиво:
– Вы школьный учитель, да?
– Слава богу, нет. А вы?
– А я да.
Таким тоном отвечают, что сейчас половина десятого. Мне стало интересно, и я спросил:
– А что вы делаете здесь?
– Шляпы продаю.
– Не в том смысле, – сказал я.
– А у этого занятия есть другой смысл? – спросил он и расплылся в улыбке.
Я был не готов к общению с людьми. Максимум, который себе представлял, – зашел, купил, вышел. И все. Выкрутился хуже некуда:
– Я хотел спросить, а как же дети?
– Ах, дети… – продолжил он мечтательно. – Дети не перестают рождаться, и новые учителя, кстати, тоже. Но кто-то должен продавать шляпы.
– Звучит трагично.
– Я думал, вы скажете – цинично.
– По-моему, трагично.
Одна фраза, одна эмоция, один взгляд – так в природе между людьми происходит процесс мгновенного узнавания. Ты еще не знаешь, что это за человек, а уже стоишь перед ним как вкопанный. С ним иногда происходит то же самое. Узнать же мы можем только тех, кого отчасти знаем, – отражение самих себя и родственную душу, что в принципе одно и то же. Самое интересное выпадает на первые минуты общения, пока вы не начали внутреннюю интеллектуальную игру «Найди десять отличий».
– Ладно, зато честно. В общем, однажды я ясно понял, что хочу продавать шляпы, – сказал продавец. – А вы чего хотите?
– Я бы хотел купить шляпу, – ответил я.
– А если честно? – спросил он шепотом, наклонил голову набок и подставил ухо.
– Рипнуться, – неожиданно для себя ответил я, но быстро смекнул, что, если что-то пойдет не так, я смогу обратить все в шутку.
– Противное слово. А когда, если не секрет? – спросил он серьезно.
– Сегодня, – ответил я.
– И зачем вам шляпа? – искренне удивился он.
– Это мое последнее желание, – сказал я.
– Вы хотите сказать, что на бракованной шляпе, – он покрутил ее перед собой, – ваши желания закончились?
– Именно так и сказал, – подтвердил я.
– Вы не сумасшедший? – хмыкнул он. – Не то чтобы я сомневался, просто любопытно.
– Кто знает… – ответил я.
– Итак, вы не сумасшедший, – он стал по очереди загибать пальцы. – По крайней мере, на вид. И одержимы идеей, диаметрально противоположной моей. Вы хотите умереть – я не хочу, наотрез отказываюсь, – загнув пятый, он шлепнул ладонью по прилавку.
– Рад за вас. Может, теперь продадите? Со скидкой, по специальной цене, по акции или как у вас принято, – разгорячился я.
– Видите ли, у меня тоже осталось одно желание, – продолжил он, не обращая внимания на мои слова. – Хотите знать какое?
– Догадываюсь, – ответил я.
– Ну, поразите меня, – сказал он, отклонившись назад и заранее торжествуя.
– Вы сказали, что отказываетесь умирать. Полагаю, планируете жить вечно, – ответил я и потянулся за кошельком.
– Тепло, но ближе к холодно. Когда встречаются два человека с двумя последними желаниями, одно из которых – шляпа, это сближает, – просиял он. – У вас две попытки.
– Э, нет… Я сюда не в игры пришел играть, – оборвал его я.
– И что мешает уйти? – он замолчал, будто сам обдумывал ответ на свой вопрос, огляделся, остановил взгляд на мне и сказал с легким упреком: – Все дело в шляпе. Только в ней. Что ж, так и быть. Вот, возьмите и пройдите к зеркалу.
Продавец указал на нишу. В ней стояло зеркало в раме, по форме напоминавшей дверной проем, поэтому я принял его за дверь, когда вошел. Сработали датчики. Вспыхнул свет: сверху, снизу, с боков, отовсюду. Кто-то разбирался в его игре и сделал так, чтобы в отражении покупатель не увидел ничего, кроме себя. Я наслаждался иллюзией и разглядывал свое отражение. Моя тощая длинная фигура в грифельно-серых джинсах, пиджаке поверх черной футболки с пылающим черепом с надписью: «Без паники» и шляпе на гладко выбритой голове будто парила в воздухе. «Если бог существует, сегодня я предстану перед ним в таком виде, он скажет мне: „Привет“, – а я… Я воспользуюсь шляпой», – подумал я.
Репетируя невозможное, я слегка поклонился самому себе и приподнял шляпу, проверив, годится ли она для джентльменского приветствия. Годилась. Сидела как родная. На ощупь была мягкая, приятная. Не так я ее представлял. Мне казалось, это нечто среднее между кепкой и цилиндром, жесткое, упругое, удобное, как картонная коробка. Я был доволен и немного сожалел, что не купил ее раньше. Подумаешь, вещь – пустяк… Может ли вещь что-то изменить в жизни? Выходит, может, если перестаешь ее хотеть. Последнее желание материализовалось, и больше хотеть было нечего. Ну, и ее я не то чтобы хотел, а скорее выдумал, чтобы было чего хотеть. Потому что… Боюсь, что признаться в истинной причине я не мог даже себе.
– Отлично. Беру. Сколько она стоит? – снова спросил я и полез во внутренний карман пиджака.
– Она стоит того, чтобы выпить кофе и поговорить. Цена окончательная. Можете не снимать. Черный или с молоком? – спросил продавец.
– Дороговато, не находите?
– Продать я ее не могу, но могу выменять. Полчаса – и она ваша, – объяснил он свое решение.
– Грабеж среди бела дня, – ответил я, сдавая позиции и в очередной раз отпуская кошелек.
– Сейчас утро, – напомнил он и постучал пальцем по запястью.
– Тогда черный, – выдавил я, понимая, что этот чудак от меня не отстанет, а шляпа мне нужна. Другую я не хотел, а эту прям до смерти.
Если люди предлагают поговорить, подразумевается, что вы будете слушать. Никогда не знаешь, каким будет последний день, даже если он запланирован. Что-то обязательно пойдет не так. Хотел купить себе подарок, приготовить ужин, отпраздновать, лечь и отъехать. А вместо этого потрачу час – надеюсь, что не больше, – на разговор о том, как хорошо жить вечно, не старясь, не умирая в самый неподходящий момент, и вообще. Мне заранее стало скучно.
Продавец был довольно прытким для своих габаритов, подпадающих под описание: что положи, что поставь. Костюм-тройка сидел на нем впритык, черные волосы были зачесаны назад с щедрой порцией геля и забраны в длинный хвост до лопаток. Все пальцы, кроме больших, украшали серебряные кольца, а на безымянном правой руки выделялась печатка. Он одновременно походил и на мафиози, и на гламурного байкера. Однако вполне вписывался в колоритную атмосферу магазина с полумраком, отчетливым запахом выдохшегося конька и дорогого табака. Не успел я подумать, что здешний антураж – тоже фишка маркетологов, продающих образ жизни под видом вещей, как в моих руках оказался бумажный стакан эспрессо. Продавец трижды подчеркнуто вежливо попросил не ставить его на очень редкий, очень старый и очень-очень дорогой ему столик, древность которого бросалась в глаза, а редкость вышибала слезу. Ноги столика были чуть стройней, чем у бульдога, страдавшего артритом, а столешница из янтаря с трудом умещала шкатулку для сигар и колоду игральных карт. Хрупкое кресло по соседству продавец пощадил. Он убавил высоту своего стула-самоката, перебирая ногами добрался до меня, припарковался напротив и стал пить кофе, оттопырив мизинчик. Возникла пауза, которую я намеренно игнорировал. Он покосился на свои остроносые ботинки и начал сравнительный анализ длины шнурков, потом как бы между прочим спросил:
– А причина ухода у вас не трагическая? Несчастная любовь, приговор врачей…
– Нет, – ответил я.
– И все близкие живы и здоровы? – продолжил он, изучая ботинок.
– Да, – ответил я.
– Может, бедствуете или проигрались?
Он подтянул левую ногу, потуже затянул шнурок, свел носки ботинок вместе и стал наклонять голову вбок в поисках нужного ракурса, и когда его тело и стул готовы были последовать за головой, он вернулся в исходное положение, явно довольный, скрестил ноги на подставке под сиденьем и услышал ответ:
– Нет.
– Значит, весомых причин нет. Ладушки.
– Вы считаете, что иных причин быть не может? – спросил я.
– Дайте-ка подумать, – он вытянул руку со стаканчиком перед собой и обвел им меня, прищурив оба глаза. – Вы разочарованы. Я угадал?
– Почти. Я никогда не был очарован, поэтому – нет. Мне надоело, – быстро ответил я.
– Не рановато ли? – удивился он. – В наши годы кризис среднего возраста не редкость, с ним справляются и идут дальше. Вы не первый и не последний. Сходите к мозгоправу и будете как новенький, – назидательным тоном произнес он.
– Я проскочил станцию среднего возраста и следую к конечной. Новеньким мне уже не стать, – я поднял стакан, намекая на тост.
– А сколько вам? – отпрянул он.
– Пятьдесят. Сегодня праздную.
– Святой Оскар Вай… – восторженно воскликнул он, разводя руками, но я не дал ему закончить.
– Ляпнете про Дориана Грея – и я вылью кофе на ваш неприкосновенный столик, – я угрожающе занес руку со стаканом над раритетом.
– Понял, понял, не дурак. Мысль ушла и не вернется. Кофеек держите над коленками, пожалуйста, мне так спокойнее. Вот спасибушки, так сказать, – он задумался. – Честно говоря, вы меня огорчили. Я-то хотел кое о чем вас попросить, раз уж вам терять нечего. А теперь неудобно. Извините, что развыступался и прикалывался. Думал, мы на одной волне. И вы тоже… рипнуться… Люди вашего поколения по-другому говорят. В общем, сами виноваты. Ну, и я хорош. Но я уже извинился, – выпалил он и уставился в пол.
– «Люди вашего поколения» звучит так же эпично, как «а я в твои годы». При этом беседуют обычно придурок и старый дурак. По крайней мере, таковыми они друг друга считают, – отмахнулся я от его извинений.
– Да ничего я не считаю. Просто вы поставили меня в тупик, так сказать. Честно, не знаю, как такому, как я, говорить с таким, как вы, – признался он и медленно поднял голову, стараясь не смотреть мне в глаза.
– С каким таким? – спросил я и сделал глоток кофе, который казалось продолжал кипеть в стакане.
– М-да… Человеком почти вдвое старше себя, – ответил он.
– По-вашему, я старый? – меня раздражала эта тема.
– Сейчас я в этом не уверен, – признался он.
– В таком случае без купюр можно, на «ты» нельзя. Вас устроит? – остановил его я.
– Вполне, вполне, – согласился он скорее сам с собой, залпом допил кофе и, извернувшись, опустил стакан на пол.
– Тогда слушаю вас внимательно. Договор есть договор, – подстегнул его я, устроился поудобнее, а сам продолжал пить маленькими глотками, обжигаясь и размышляя о том, как он выхлебал эту лаву.
– Видите ли, я люблю историю, – начал он издалека, глядя поверх меня и потирая колени. – Преподавать неинтересно. Из года в год одно и то же. Но и она, если заметить, – одно и то же, только однажды – бац! – и кончится. А мне стало интересно, когда это случится. Нет, не так… Мне захотелось это увидеть, – он посмотрел мне в глаза. – Что-то подсказывает, я не доживу. В общем, задумался, как дотянуть, так сказать, и начал бить по всем фронтам: соваться подопытным в разные эксперименты, на курсы инъекций, сеансы микрополяризации и, главное, – в биопринтинг. Знаете? Нет?
– Простите, не интересовался, – почесал за ухом я.
– Понятное дело, вам ни к чему… Через год мне напечатают печень, потом остальное. Все, кроме мозга и кожи, обновят. Но для кожи использую крема, а для мозга – продвинутые ноотропы и микротоки. Я на верном пути. И я не толстый! – встрепенулся он и провел рукой по животу, попутно пересчитав дрожащие от натяжения пуговицы. – Это результат тибетской гимнастики, она увеличивает объем легких и благотворно влияет на весь организм, так сказать. А побочный эффект – как у пения. Вы видели оперных певцов, они пузатые. Вот и я тоже. Это не жир, а резервуар для воздуха. А еще я, конечно, не курю, слежу за холестерином и пью чайный гриб. Вы пьете чайный гриб?
– Нет, – замотал головой я.
– Зря. Он продлевает жизнь на три года. Я подсчитал, что умру в двести пятьдесят два года – задолго до конца света. Удручающая перспектива.
– А я тут при чем? – спросил я, сдерживая смех.
– Вы мой последний шанс, – он сделал умоляющий жест.
– Од-на-ко…
Мои руки сами поставили стакан на шкатулку и заняли позицию на подлокотниках для старта. Начало нашего знакомства было интригующим, но продолжение утянуло в сюр. Шляпа резко упала в цене.
– Стойте! Вы же почти труп, ну что вам терять? – в отчаянии выкрикнул он, видя, что я собираюсь встать.
– Кто труп?
– Вы!
– Я?
– Да!
– Это уже слишком. Я попусту трачу на вас драгоценное время, – сказал я и протянул ему шляпу.
– Совсем забыл… Вы же торопитесь совершить креатив, – он внезапно сменил тон и отклонился назад, будто у его стула была невидимая удобная спинка. Я вернул шляпу на колени.
– Не могу сказать, что вы потрясли меня оригинальностью стремления, – резко ответил я.
– Я просто любопытный, – его губы медленно растянулись в улыбке и исчезли.
– Заметил, – я взял стаканчик со столика и допил кофе.
– Тогда заметьте, что ни разу не спросил вас, как вы собираетесь это сделать, – он стал крутиться на стуле вправо-влево.
– Пока не спросили, – грубо ответил я.
– И вам это не кажется странным?
– Кажется, – я протянул это слово, откинув голову назад и снова посмотрел на него.
– А мне кажется, вы вернетесь домой и у вас найдется одно маленькое и важное дельце. А завтра еще одно. Я никогда не видел самоубийц с таким благополучным лицом, – добавил он ехидно.
– И сколько самоубийц вы встречали? – парировал я.
Некоторым людям нравится искать ответы на потолке. Вот и он уставился в подвесные конструкции. Губы беззвучно бормотали, пальцы перебирали воображаемые четки. Я ждал. Внезапно его внешняя активность сошла на нет. Будто какая-то шальная мысль зацепила и утянула его в трясину воспоминаний. Я не ожидал такой реакции и снова зачем-то поборол желание уйти. После перепалки пауза тянулась, как товарняк на переезде. Прежде чем заговорить, он выдохнул, сглотнул и улыбнулся одним ртом, отчего мне стало жутко.
– Можно считать ни одного.
– Вот и поговорили, – я потряс пустой стаканчик и стал постукивать им по подлокотнику.
– Вот и поговорили. Да уж…
Сейчас он походил на сгорбившегося над лункой рыбака, который, сцепив руки в замок, то и дело подергивает ими от холода и что-то бормочет в темную воду проплывающим в глубине рыбам.
– В отличие от вас, – он замешкался, – я не способен на убийство.
– Я не убийца, – отозвался я.
– А кто, добрый эльф? – хмыкнул он. – Вы собираетесь убить себя – вы и есть убийца, – сказал он уверенно, и мне нечего было возразить. – А я – нет, и хоть к миру у меня большие претензии, я буду молчать. Мне бы увидеть, как он разлетится на запчасти, убедиться, что он никогда и никому не причинит вреда, и все. Неужели я много прошу?
Последний вопрос был риторическим, и я не стал отвечать. Чудак медленно восставал из печали и распрямлял плечи. Руки отряхнули друг друга и переплелись на животе.
– Как вас зовут? – спросил я, чтобы ускорить процесс его преображения.
– Семь тонн… Э-э-э, Семен Липатов, простите. А Семьтонн – это ник, в одно слово пишется. А вас?
– Платон, – ответил я.
– Тоже ник?
– Нет, имя.
Он предложил выпить за знакомство. Я открыл рот, чтобы запротестовать, но Семьтонн вскочил, побежал за прилавок. Нырнул, вынырнул, нырнул, вынырнул. Чем-то дзинькал, стучал, брякал. Обратно он бежал смешно, на цыпочках, неся на вытянутых руках два квадратных стакана. Осторожно, чтобы не расплескать.
– Виски со льдом, – прокомментировал он. – А много, чтобы сто раз не бегать. В качестве не сомневайтесь, я гурман, так сказать. Ну, за встречу! – он чокнулся с медлительностью космического челнока, совершающего стыковку, отхлебнул, наклонившись к руке, и только потом сел. – Небольшой тайм-аут – и продолжим. Я отдышусь.
– Не вопрос, – поддержал его я.
Виски и правда был хорош, но я не привык пить по утрам. Хотя сегодня можно было плюнуть на правила и позволить себе расслабиться. Жизнь напоследок решила посмеяться надо мной, высказать все, что думает, голосом случайного человека. Что ж, другой возможности у нее не будет, ей тоже сегодня умирать, а умирающих принято слушать не перебивая.
Не знаю, сколько пробыл у Семьтонна, полчаса или около того, но за это время нас никто не потревожил. Я поглядывал на дверь, к которой сидел вполоборота, как на раздражающий источник света и шума: то детский паровозик с песнями проедет, то зазывала выкрикнет тираду про лапшу удон по акции, то плач ребенка возвестит о том, что дракон не умеет позировать для фото с детьми. Ну и все в таком роде. На сей раз в проходе появилась угловатая фигура. Сначала ее трудно было рассмотреть против света. Определенно это было огромных размеров пальто, подобранное и подвязанное в нескольких местах, в котором ворочалась пожилая женщина. Левый рукав одежища раструбом доходил до колен и заканчивался прозрачным пакетом. Правый затерялся в тени, из всего этого модерна выглядывала тонкая шея с весьма подвижной головой в вязаной шапке на макушке. Я отвлекся, а спустя минуту нашел ее пританцовывающей у полки. Правая рука у нее была по-птичьи поджата к груди и дергалась у подбородка. Семьтонн заметил мое удивление, потом – ее, утиной походкой доковылявшую и остановившуюся под лампой. Она дотянулась подбородком до края прилавка и стала елозить по нему, осматриваясь. Неожиданно она выбросила вперед руку с пакетом, что-то схватила, зашуршала, сунула в пакет, повернулась и исподлобья покосилась на нас. На ее опухшем и страшном в свете зеленой лампы лице застыло детское выражение искренней радости. Им можно было бы умиляться, если бы открытый в широкой улыбке рот не обнажал редкие гнилые зубы, а из уголка рта на всклоченный меховой ворот не стекала слюна.
– Ай-яй! Вот де, Щемушка, – промямлила она, подергивая головой и крутя перед собой птичьей ручкой, торчащей из подвернутого рукава.
– Уходи скорей, не слюнявь стойку. Сколько раз говорить: вламываться не надо. Мне это не нравится. И воровать плохо. Плохо, Людочка, очень плохо. Я сам дам, – отчитал ее Семьтонн.
– А что она взяла? – поинтересовался я.
– Шоколадку, – спокойно ответил Семьтонн, будто это было вполне естественно, и пошел выпроваживать незваную гостью. Он что-то шепнул ей на ухо, развернул и повел к двери. Она послушно засеменила, но тут же вырвалась и вперила в меня свои воспаленные глазки.
– Ай-яй! Бедный, пропадешь! – крикнула она и оттопырила указательный пальчик на птичьей ручке, попыталась поднять ее и показать им куда-то наверх, но та завертелась, и пальчик запутался в волосах. Прядь намоталась, ручка потянула ее вниз, и Людочка ойкнула. Кое-как высвободившись, она натянула на лоб шапку, съехавшую на затылок, и продолжила идти, переминаясь с ноги на ногу и озираясь по сторонам. – Нишего от него не шкроешь. И тебе беда, и ему беда, да-да, да-да.
– Чего раскаркалась, хорошо же все, – Семьтонн бережно подталкивал ее к выходу. По пути он взял что-то с прилавка. – Что на тебя нашло, добрых людей оговариваешь, разве так можно? На, держи еще одну, она с изюмом, как ты любишь. И запомни, заходить ко мне можно, когда я один. Поняла?
– Поняла, и за кого вторая кофета, поняла. Имя шкажи, а то как молиться за него без имени-то? – вцепившись в его рукав, спросила Людочка.
– Платон он, – ответил Семьтонн и снял ее руку со своего плеча, как мертвого паука.
– Платон, Платон, Платон, – уходила она, бормоча мое имя.
Семьтонн закрыл стеклянную дверь, налил себе выпить и усеялся с видом, который с натяжкой можно было назвать виноватым.
– Подкармливаете сладкоежку? – поинтересовался я.
– Есть такое, – буркнул он, – ее весь центр кормит, она наш талисман – к деньгам приходит.
– А на самом деле? – спросил я. Это уже походило на игру.
Мой вопрос вызвал у него мимолетную улыбку. Так улыбаются те, кому нет смысла скрывать очевидное.
– Ну да, и здесь подстраховался, – он расстегнул ворот рубашки, вытащил серебряную цепочку, по которой дружно съехали вбок два крестика, звезда Давида, полумесяц со звездой, и убрал ее обратно. – Кольца тоже не простые, они с их молитвами, а печатка, – Семьтонн дыхнул на нее и протер о брюки, – с руной долголетия.
– Серьезно? – оживился я.
– Вполне. Не то чтобы я во все это верил, но в моей ситуации надо использовать любые ресурсы. Да, в чем-то я настойчив и целеустремлен, но не настолько, чтобы утешиться одной надеждой. Вы понимаете, о чем я? Просто боюсь оскорбить вас, согласно нынешним законам.
– Понимаю, – ответил я, – не бойтесь, в собеседники вам досталась абсолютно неоскорбляемая по этой части душа.
– Вера – дело тонкое, – продолжил он, – оно требует самоотдачи, а я человек вспыльчивый, могу и наорать. Подозреваю, богу не нравится, когда на него кричат, поэтому я доверился профессионалу. Людочка – божий человек. Она лопочет с ним на своем языке, а главное – она в него верит и он для нее существует безусловно. Через нее моя просьба скорее будет услышана, чем… ну вы понимаете…
– Через церковь дольше, вы хотите сказать, – уловил я его намек.
– Мне бы не хотелось об этом говорить: зыбко это, чувственно, но представьте, что, наоборот, все реально и материально, а наши чувства и желания предметны, и вам станет ясно, какая там толчея и опт. Церковь – что главпочтамт без обратной связи. И потом, поди угадай, какая из них на него работает, а в том, что Людочка к нему по своей козьей тропке шастает, я уверен. Года три назад с ней разговорился. Она в этом кресле, – он показал на соседнее, – сидела, обо мне плакала, а потом ласково так сказала: «Ничего, Семушка, я буду за тебя в церковь ходить, грехи замаливать. Жизнь вечная всем на небесах обещана, но, может, Он сделает для тебя исключение на земле, раз у тебя обстоятельства», – он замолчал, отхлебнул виски, поморщился и сказал: – Она не такая чокнутая, как считают. Мало говорит, но в точку.
– Немного отчаяния, мистического мышления – и безнадежный хроник в ваших глазах превращается в талисман. Радует одно – это дает больным людям общение и сытость.
– То есть вы не верите? – не унимался Семьтонн.
– Не верю во что? – я закинул ногу на ногу и подпер голову рукой.
– Для начала в бога, – спросил он прямо.
– Допустим.
– И в Людочку не верите? – он подался вперед, в его голосе прозвучали нотки возмущения.
– Семьтонн, я верю, что вы в нее верите и что эта вера поддерживает вас. Для этого мне не обязательно становится адептом, не так ли?
По его реакции я понял, что ответ его устроил. Он расслабился, задумался и вдруг удивился собственной мысли.
– Тем лучше. Если для вас жизнь закончится ничем, то и в самом деле вам нечего терять и вы можете мне помочь с одним делом, – проговорил он нерешительно, почти по слогам.
– Насколько небольшим? Помнится, я посвятил вас в свои планы на сегодня, – заметил я.
– С ними придется повременить, – сказал он более твердо и, заметив мое недоумение, протестующе замахал руками, расплескивая остатки виски по полу. – Прошу, дослушайте до конца, и вы поймете, как это важно. Я суюсь везде со своей идеей фикс, и в этом смысле я на грани помешательства, потому что стеснен во всем, и во времени в первую очередь. Но это моя жизнь, и я имею право. Имею право хотеть жить, сколько мне вздумается, как и вы – умереть хоть здесь и сейчас. На днях мне предложили действительно стоящую вещь… Что не так? Да не смотрите вы на меня как на дурака!
– Семьтонн, считай я вас дураком, был бы уже дома, а я все еще здесь и убегать не собираюсь. К тому же я ценю вашу прямолинейность, – я устал сидеть и попытался умоститься поудобнее, насколько позволяло деревянное кресло, привычным движением размял шею и вытянул ноги. – Продолжайте.
– Вы уверены? – с сомнением произнес он.
– Да, – кивнул я, давая понять, что заинтригован.
– Мне предложили год лонг-флоатинга – сна в невесомости. Это, так сказать, альтернатива крионике, когда ты здоров и хочешь поставить жизнь на перемотку. Предложение эксклюзивное, я его как бы заслужил. Я же блог веду, – запинаясь, начал объяснять Семьтонн. – «Спорим, я тебя переживу» называется. Ник – Семьтонн. Думал, вы слышали. В деле долголетия я вроде гуру, – он смутился, проверил карманы пиджака, достал из внутреннего буклет и протянул его мне.
Света от шляпных софитов едва хватало, чтобы разобрать шрифт подзаголовков, но иллюстрации говорили сами за себя. Я слышал, что флоатинг – модная процедура расслабления и депривации чувств, которую проводят в теплой соленой воде, имитирующей невесомость. Но год… не многовато ли? Я быстро пролистал буклет и вернул владельцу.
– Ну как? Нравится? – с надеждой спросил Семьтонн.
– Неплохая идея, но дрыхнуть год – кто на это решится? – спросил я.
– Ради молодости и здоровья? Да кто угодно, – он заметил мое скептическое выражение. – Кто угодно из тех, так сказать, у кого и то и другое стремится к нулю. Суть эксперимента заключается в том, чтобы организм как бы спал. Время для него пойдет вспять, клетки начнут омолаживаться, двадцать лет как рукой снимет. Так мне объяснили. Там будет специальное питание и процедуры, уход и тренировки мышц. В буклете все есть, но вы не прочитали. Я заметил. Представитель компании, набирающий группу, уверяет, что эту методику они разрабатывают для дальних космических перелетов, чтобы астронавты не старели.
– Простите, но кто будет тащить в космос тонны соленой воды, десятки ванн и простыней, когда невесомость существует там повсеместно? – съязвил я.
– Ну не знаю, может, суть в методике, а не в ваннах, как вы выражаетесь? К тому же я думаю, что их цель – бессмертие, а не полеты на Марс, – понизив голос, произнес Семьтонн.
– Так идите и дрейфуйте, кто вам мешает? – спросил я.
– Эксперимент серьезный. Прежде чем предложить методику правительству, надо доказать ее эффективность на практике, так сказать. Это частная научная лаборатория. Они занимаются вопросом долголетия давно и серьезно. У них солидные спонсоры. По факту участники эксперимента оплачивают только медицинский уход. Так мне сказали.
– И сколько они просят? – поинтересовался я.
– Девятьсот девяносто девять тысяч рублей, – робко ответил он.
– Сомнительная сумма.
– Чуть дороже, чем пышные похороны, простите за сравнение. А у меня за душой ни гроша.
– С чего вы взяли, что у меня он есть? – засмеялся я.
– Я продаю дорогие шляпы и могу отличить ротозея от покупателя. К тому же я знаю, сколько стоит ваша футболка, – отметил Семьтонн.
– Допустим. Но я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня, – сказал я и представил себя его спонсором. В деталях представил. Как перевожу ему на карту лям, провожаю на поезд, а через год встречаю с поезда мальчика лет десяти и узнаю его по особой примете – шапочке из фольги.
– Мне нужно, чтобы вы согласились на эксперимент, – он заерзал на стуле, – я хочу вас использовать, – ответил Семьтонн и впервые за весь разговор посмотрел на меня в упор.
– Я похвалил вас за прямолинейность, а теперь придется упрекнуть за наглость.
– Меня заверили, если я приведу клиента, то через год меня возьмут бесплатно, и там уже будет дольше и круче. А это мой шанс. Понимаете? – в его черных глазах разгоралось пламя надежды, он умолял меня, казалось, еще немного – и встанет на колени.
– И у вас нет ни тени сомнения в том, что я откажусь? – спросил я.
– А вы откажетесь? – его взгляд был невыносим.
Я встал, чтобы размять ноги, и прохаживался вдоль полок, сунув руки в карманы, избегая переступать черту на полу у зеркала, за которой врубался свет.
– Подумайте, – заговорил Семьтонн, – возможно, вам стоит полежать годик и хорошенько отдохнуть. Остальное успеется. Ну, как вариант. Кажется, вы слишком серьезный и никогда не совершали чудачеств, поступков приятных и бессмысленных, за которые ваша совесть обглодала бы вам кости. Неужели вы хотите хлопнуть крышкой, так и не побаловав себя напоследок?
– Думаю, одного подарка хватит, – я показал на шляпу оставленную на кресле.
– Я же говорил – вы сноб, – надулся он.
– Ну да, ну да… – я продолжал мерить шагами его магазин, который теперь казался крошечным.
Странная мысль закружилась в голове, как на дворовой карусели. Я отругал себя за выпитый виски. Подошел к зеркалу и дал свету стереть мир. Стоял и думал: может, я и правда чертовски устал и от жизни и от себя?..
– Когда надо дать ответ? – спросил я растерянного Семьтонна.
– Лучше завтра, – почти шепотом проговорил он, и я услышал его робкие шаги: один, второй, третий. – Или сейчас… – я не узнал его голос, он был напуган.
– Я соглашусь, – ответил я и отошел от зеркала. Свет погас.
– Почему?.. Нет, то есть я рад, так сказать… Ну, вы поняли… – сейчас он был похож на буддийского монаха: ладони сложены и поднесены к губам, а голова кивает в такт каждому слову.
– Вы знаете, что такое свобода, Семьтонн? – спросил я.
– Нет. То есть да. То есть нет. В общих чертах, так сказать… – он закрыл рот ладонью и замер. Его мечта казалась ему неосуществимой, но подвернулся я, и она замаячила на горизонте. Я стал мостиком, по которому он вот-вот пробежит к своему счастью. Осталось меня не спугнуть. Одно неверное движение – и все пропало.
– Вчера я уволился с работы, сходил к нотариусу, отписал дом жене, а квартиру с машиной – сыну. Распределил имущество по справедливости. Сегодня основательно прибрался и стер себя из соцсетей. Мне еще можно позвонить, домой ко мне заехать, только сделать это некому. Жена за границей, сын живет отдельно, у него своя жизнь. Найми я человека поддерживать свои аккаунты, никто бы не заметил моего ухода. Таков нынешний порядок вещей. Зря вы назвали меня убийцей, утром о себе я тоже так подумал. Зря. Двадцать пять лет верил, что смогу, и от этого жить было легче, будто дни считал до побега. Убийство: раз – и готово. Принуждать себя к жизни неизвестно ради чего – это ежедневное насилие и пытка. Я хотел ее прекратить, принести себе освобождение. Представлял, что погружу себя в вечный сон без сновидений, в покой. Но слова – пустой звук. Легко думается, как умрешь однажды. Сам или не сам – без разницы, но всякая решимость пропадает, когда однажды превращается в здесь и сейчас. Но я свободен. Нет, не потому что порвал со всем, а потому что оставляю за собой право пойти другим путем. Выбор и есть свобода. Я не верю в судьбу. Миром правит случай. Вы, сами того не зная, случайно указали на мою мечту. Глубокий сон без сновидений и чувств – вот чем зацепили и, возможно, уберегли. Я враг себе и так дорожил идеей, что мог закрыть глаза и шагнуть в бездну ради нее. Смотрите, как переплелись наши бредовые мечты. Подобное притянуло подобное, чтобы сбыться. Посидеть на дорожку – добрая примета, а прилечь на нее – может стать многим лучше. Пожалуй, мне стоит протестировать их безмятежный сон, похожий на смерть. Вдруг мне не понравится, и тогда придется задержаться… – Семьтонн не понял юмора, он стоял со стеклянным взглядом и протягивал буклет. – Кроме шуток, меня не покидает ощущение, будто я упустил в жизни нечто важное вроде не выключенного в доме света, воды или утюга, а значит, мне придется вернуться. Где, вы говорите, находится ваша потрясающая спа-усыпальница? – спросил я.
– Недалеко от Ясной Поляны. Это в… – он вышел из оцепенения и тыкал пальцем в сторону стеклянных полок.
– Я знаю, где это, я там отдыхал прошлым летом, – ответил я, взял шляпу и направился к выходу. – Полагаю, сделку можно считать успешной?
– Более чем, более чем, Платон. И все же я не понимаю, зачем такому, как вы, – начал он, подбирая нужные слова, и показал глазами наверх, – туда?
– Не туда, а туда, – я потопал по полу. – Земля внизу, Семьтонн. Опять клише. Может, я уже увидел достаточно.
Я вышел на улицу в стонущий ноябрь. За какой-то час погода испортилась. Налетела пурга, ветер кашлял в лицо снежной мокротой. Я запахнул пиджак, прикрыл глаза ладонью и побежал на стоянку по припорошенной жиже, которая быстро просачивалась в ботинки. Запрыгнул в машину, как брезгливый кот, согрелся и поехал домой.
В доме, насквозь пропитанном палочками сандала, жарко пахло жареной уткой и сочными апельсинами. Сын приехал. Он разжег камин и накрыл на стол.
– Здравствуй, отец мой, – сказал Пашка и воздел руки к небу.
– Здравствуй, сын мой, – ответил я, вешая пиджак в шкаф. – Дурацкое приветствие, не находишь?
– Норм. В нашем мире положено кого-то в открытую боготворить, я выбрал тебя. Ты мой бог, – подмигнул он.
– Прекрати издеваться. Что греешь? – спросил я.
– Утку по-пекински. В честь юбилея куплена и будет разделана на пятьдесят символических утей. Рис от шефа, нарезка, закусь всякая. Поляна благоухает. Мой руки, садись.
Я сел, как обычно, во главе нашего обеденного стола. Пашка рядом. Богатая трапеза занимала лишь четверть этой деревянной махины, что некогда вмещала толпу из двадцати гостей. В памяти воскресли образы давних друзей и жены, сидящей напротив, на расстоянии трех бросков солонки юзом, как мы любили говорить, бурные посиделки до утра и ее развеселые корпоративные девичники, на которых я выполнял роль официанта и таксиста. Я взял первую попавшуюся бутылку из четырех, поставленных для разнообразия, и спросил прямо:
– Бакарди? В кабинете спер?
– Представь себе, купил. Все три, четвертую выменял на ту, что спер в кабинете, но то был не Бакарди. Не отвлекайся, у меня тост.
Щуплый, с гоголевским каре, тонкими, почти женственными чертами лица, Пашка всегда был ухожен до кончиков ногтей и выглядел безупречно в своем неизменном черном френче. Ворот белой водолазки напоминал римский воротничок, и сам он в столь стильном, строгом одеянии походил на клирика. Прочистив горло, он встал и выпалил на одном дыхании:
– Отец, Па, предок и тэдэ, поздравляю тебя с днюхой. Тебя, самого сильного, доброго и прикольного представителя человечества, талантливого и небезупречного, как сама природа. Тебя, человека, который однажды не пожалел на меня генетического материала и, надеюсь, об этом не пожалеет. Будь рядом маман, она бы влепила мне подзатыльник за то, что я начал не со здоровья и долголетия и не закончу любовью с прилагающимися земными и неземными благами, положенными всякому по умолчанию. Но я говорю, что думаю, и хочу выпить за то, что ты есть. Просто классный, настоящий, без всяких но, если, и точка, – он чокнулся со мной, осушил стакан и с размаху поставил его на стол.
– Спасибо, красноречивый потомок.
Я был тронут и, выпив по инерции, смотрел на донышко и чувствовал на губах легкий привкус праздника. Во мне созрел ответный тост, но тут Пашка протянул первый подарок.
– От Ма открытка, держи.
На оборотной стороне видовой открытки побережья Испании беглым почерком было написано: «С днюхой, старый хрыч! Желаю тебе научиться-таки наслаждаться жизнью, как я. Поверь, аппетит приходит во время еды, и полтос – лучшее время переходить к десертам». В нижнем углу вместо подписи красовался перламутровый след, оставленный поцелуем накрашенных губ. Вполне в ее духе. Я положил открытку на стол и задумался.
– Ты расстроен? – спросил Пашка, вглядываясь в мое лицо.
– С чего бы? – соврал я. – Она не забыла обо мне, обозвала и поцеловала. Разве не повод для радости?
– И ты не ревнуешь ее к «десертам»? – он взялся за утку, положил себе в тарелку любимые крылышки, а мне – несколько кусочков грудки и полил их оранжевым соусом.
– Нет. Твоя Ма все же прелесть. Глупо говорить: подрастешь – поймешь, но это так. Иногда, чтобы спасти любовь и брак, надо развестись. Мы вырастили тебя, и каждый пошел своей дорогой, пока не поздно. Она влюблена в жизнь, а к жизни ревновать глупо.
– Никогда не мог ее понять и вряд ли смогу простить, – сказал он, отвинчивая крышку у бутылки с ромом.
– Простить за что? Тебе было почти восемнадцать, – возмутился я.
– Я не о себе, – он взял апельсиновый салат. – Как ты мог ее отпустить?
– Элементарно. Закрыл глаза и разжал руки, – показал я.
– Па, я серьезно. Она же была с тобой счастлива, – проговорил он, не отрывая взгляд от льющегося в стакан рома.
– Ключевое слово «была». Была счастлива со мной, а потом захотела быть просто счастливой, и она имела на это полное право. Я не стал мешать. Почему ты поднял эту тему сейчас? – спросил я.
– Из-за открытки, глупой открытки, Па. Она могла позвонить. Открытки – это ненормально. Ты и тут найдешь ей оправдание? – напирал он.
– Это обида. Ты влез в мою шкуру и все-таки говоришь о себе. Вылезай, ради бога, она тебе не по размеру. Разве я похож на человека, который горазд принести себя в жертву? Похож на того, кто отпускает любимую женщину и тут же сворачивается на полу, чтобы, сопя, состариться в уголочке? – сурово ответил я и сам себе поверил.
– Па… – отпрянул Пашка.
– Не папкай. Когда я говорил, что мы с мамой были вместе, пока растили тебя, это не значит, что мы замуровали себя в доме и не могли разбежаться, когда захотим. Могли. Еще как. Но нам нравилось жить вместе и с тобой. Мы были счастливы, и трудно было определить, где начинается один из нас и заканчивается другой. Это и называется семья. Женись, тогда и поговорим, теоретик. Ты вырос, но мы не перестали любить тебя как ребенка. Со взрослыми тоже случается подобное. Мы перерастаем отношения, но не перестаем любить, разлетаемся, но сохраняем душевное родство. Как-то так, Паш.
– Иллюзорное родство, – подметил он.
– Допустим, – хмыкнул я. – Но я рад, что у нее хватило смелости продолжить жизнь так, как ей хочется, в одночасье обрубив концы и отчалив от всего привычного. Я восхищаюсь.
– А как по мне, так она тебя кинула и сбежала. Повода для восторга не нахожу.
Я резко встал.
– Подожди, сейчас вернусь, – сказал я и пошел вглубь дома.
Во всех приличных домах семейные фотографии стоят на каминной полке. Мой дом не был приличным в этом отношении. Каминная полка пустовала. Фотографии хранились где-то наверху, в кабинете или в спальне. Я примерно представлял где. Терпеть не мог придурошных фоторамочек, выставленных напоказ в напоминание о том, как здорово было когда-то. К тому же они притягивают пыль и любопытные взгляды случайных людей, приходящих в дом явно не для знакомства с моей вышколенной биографией. Быстрым шагом поднялся в кабинет и пробежался по книжным шкафам, сунулся в комод и в нижнем ящике среди рукописей отыскал старый фотоальбом. Выдернул первую попавшуюся фотку Веры, спустился вниз и, показав Пашке фото, спросил сурово:
– Вот твоя мама, посмотри на нее и скажи, заслужила она старость со мной?
Пашка смотрел на нее так, будто видел впервые. Пристально, жадно. И вдруг отвернулся, а я не смог. Ее красота завораживала. Пашка унаследовал ее, и, если бы родился девочкой, я бы сдал его в монастырь. Недавно в витрине киоска на обложке журнала я увидел знакомое лицо и прильнул к стеклу. Это была прекрасная Галь Гадот, из-за нее я пропустил свой автобус. Точь-в-точь Вера в молодости. Я помню ее глаза и взгляд – то уверенный, дерзкий, то глубокий, нежный. Им она меня и зацепила, я пошел бы за ней на край света, но она осталась со мной, выбрала меня.
– Неважно, – сказал он и продолжил есть. – Ты не заслуживаешь жизнь без нее.
– Спорный вопрос. Если бы все повторилось, я бы отпустил ее снова, потому что нельзя человека сделать счастливым. Осчастливить на миг, на мгновение можно, а сделать счастливым против воли – нет. Сколько ни старайся, – сказал я и убрал фото вместе с открыткой на край стола.
– Вот тут ты ошибаешься, Па. Можно, еще как можно.
Он выпрямился, закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди, поправив пуговицы с гравировкой «ПАН» на рукавах. Я не понял, что она значит, но было не до того.
– И как ты себе это представляешь? – поинтересовался я.
– Я над этим работаю, – ответил Пашка.
– Стоп. Что?! – не сдержался я.
– Да-да, – продолжил он тоном лектора. – Я тебе не говорил, но это не то же самое, что врать. Мы общаемся раз в полгода, а события происходят чуть чаще. Да-да, я заработал на собственный проект. С прошлого мы свалили и лабораторию сняли. Миха Гений в ней безвылазно живет, циферки считает, перепроверяет мою догадку. Ошибаться нельзя, мы на себе пробуем – и, знаешь, работает. Кажется, мы нашли решение всех человеческих проблем. Тумблер нашли. Названия у проекта нет, не придумали, между собой зовем его «Счастьем». Знаю, ты не любишь спойлеры, одно скажу: ты будешь мною гордиться.
– Святые скептики, где-то я это слышал.
Теперь я принял его позу, скрестил руки и закинул ногу на ногу. Мы сидели напротив, как отражение друг друга.
– В этот раз будет иначе, – гордо заявил Пашка.
– Свежо предание. Ей-богу, почему ты не можешь работать без сверхусилий и сверхценных идей? Ты не похож на романтика. Прости, но я не вижу пользы для людей в твоих проектах вроде «Дудочки для крыс» в торговых центрах. Это чистой воды манипуляция, от нее выигрывают только торговые компании и банки, выдающие кредиты, – я сделал ход.
– Не только, и я не подорожник, чтоб быть полезным, – парировал Пашка. – Па, я необих, я изучаю поведение людей. И моя работа заключается в том, чтобы прогнозировать его, контролировать и незаметно им управлять. В этом я преуспел. Если бы нырнул в психологию, как Ма хотела, то заблудился в человеке на всю жизнь, потому что сознание – это лабиринт, а подсознание – лабиринт в лабиринте. Даже психиатрия, претендующая на точность карт головного мозга, – не наука, а богословие. Там бы я был полезным, с вашей точки зрения? – он сделал акцент на слове там.
– Сомневаюсь, – я плеснул себе рому.
– И правильно делаешь. Меня привлекали только толпа и поведение человека в толпе. Поэтому я пошел в нейромаркетинг и подался в технологи, будь они неладны. Здесь все заточено на механику мотив – стимул – реакция. Это научная магия. Да, сначала я очаровался силой. Казалось, мы подчинили природу и можем вертеть людьми как захотим, а потом испугался, что заиграюсь и замараю руки кровью. Уговаривал себя, что в любой момент выйду из игры, ведь таких, как я, тьма, и не я, так другой возьмет заказ. Потом взял последний, провел в Думу чемпиона, который двух слов связать не мог. Помнишь то чудо тупее паровоза, что веслами махал быстрее всех в стране? – я кивнул. – Очень важное качество в политике, но за него отвалили, а мне нужны были деньги на проект. Знаешь, я могу заставить весь город прыгать на одной ноге и кидать в проезжающий грузовик деньги. Меня не посадят, никто ничего не докажет. Мы шаманы, иллюзионисты, мы вне закона и работаем на тех, кто сами себе закон. Это круто и гадко, Па, – он сжал губы и умолк, налил до краев и выпил залпом. – Хватит фокусов. Мне скоро двадцать пять, и я до фига понял: и то, что сам себе не принадлежу, и то, что используют меня, и то, что мир – фальшивка. Все врут. Неважно, по какую сторону стоять, лжецов или обманутых, потому что каждый в итоге обманывает до кучи и самого себя. Чуешь, что мне остается? Уйти в утиль или создать последнюю иллюзию, которую не сможет разрушить никто. Надеюсь, после люди будут счастливы, а мои коллеги-долбоящеры останутся не у дел. Я тоже, но мне пофиг.
– Мне казалось, тебе нравится твоя работа, ты азартен и любишь побеждать, – сказал я.
– Любил, но победа победе рознь, – он опустил голову, и волосы закрыли его лицо. – Пусть я был наймитом и выполнял заказы – чем мне успокоить совесть? Тем, что я вышколенный киллер с М200, а не маньяк из переулка?
– Выходит, все-таки совесть… Любопытно. Людей пожалел? – спросил я.
– Чего их жалеть, им так удобно и выгодно. Это очевидно. Говорю же, я не фрейдист, чтобы искать истоки их инфантилизма. Мы работаем с готовым продуктом. Мы создаем им подложный мир, пичкаем образами и обещаниями, водим на поводке веры и надежды, рисуем завтра, куда они не попадут никогда. Наша цель – формировать стимулы, закреплять навыки, поведенческие реакции, которые передаются по наследству, во имя всеобщей кротости и послушания. Высокая, высокая цель, – сгримасничал он. – Не их я пожалел, себя пожалел, время убитое, способность видеть только видимое, черт бы ее побрал, ну и знания, которые, как меч самурая, в хозяйстве не пригодятся. А на войну я больше не пойду.
– Отвоевался, значит?
– Вроде того. На днях мне вручили губернаторскую грамоту за особый вклад в развитие общества региона. Я долго ржал над формулировкой, а потом напился и уснул. Приснился мне интересный сон. На холме стояли люди в белом, человек сорок, а я сидел поодаль на траве и читал ленту в телефоне. Им явно было от меня что-то нужно, но что – понять не мог. Видел, им скучно, и включил музыку. Она была грустная, и они заплакали. Взрослые, дети и старики утирали слезы. Они не утешали друг друга, а смотрели на меня с укором как на причину своей беды. Тогда включил веселую – и они бросились танцевать, как сумасшедшие, вскидывая руки, тряся головами, и прыгали, пока не выбились из сил. Я озадачился и нашел мелодию, которая вдохновляет меня во время работы, Uzh Melody. Они остановились, прислушались, привели себя в порядок и потом смотрели на меня долго, будто прощались. Взгляд их был ясный, светлый. Не сказав ни слова, они собрались и, взяв детей на руки, ушли. Видно, получили что хотели, подумал я и проснулся. Теперь этот сон преследует меня. Я долго думал и понял, зачем они потревожили меня, и хочу им это дать. Уверен, сон вещий и сбудется, – добавил Пашка.
– Сны и муки совести, толпа и музыка. Не знаю, но первая ассоциация, которая у меня возникла, – это твой проект с музыкой. Ты пробовал трактовать сон, а не воспринимать буквально? – спросил я.
– Иногда банан – это просто банан, Па. Люди вроде бы разные, но устроены одинаково, и в этом смысле мне подфартило. К тому же до них никому нет дела. Не то чтобы мне их жаль, нет, я все-таки эгоист, единственный ребенок и все такое… Когда я понял, что многое могу, я прислушался к тому, чего хочу, а хочу я выходить на улицу и видеть счастливые лица, а не унылые рожи. Фон хочу изменить – вот моя мотивация, – он криво улыбнулся и начал дирижировать стаканом, предлагая выпить. Я поддержал. – Представь, залез в сонник… – он увидел мою реакцию. – Нет-нет, подожди. Что-что, а человеческую наблюдательность я ценю высоко. Оказывается, видеть себя в черном – к смерти близкого. Типа траур. Белые одежды говорят о божественном вмешательстве в дела. Не нравится мне это, поэтому я буду понимать сон буквально: люди приходили ко мне за счастьем.
– И все-таки я не представляю. Это попахивает утопией, что-то совсем из рода фантастики, – я достал электронную сигарету и закурил за столом, чтобы не вставать к окну.
– Давай так: сначала сделаю, потом расскажу. Если испытания пройдут успешно, я осчастливлю целый город. Разве не здорово? Па, ну серьезно, разве ты не хочешь в одночасье стать счастливым? – спросил Пашка.
Я чуть не подавился.
– Что значит стать? Мне и так хорошо, – ответил я.
– Па, мы вроде теперь начистоту – и снова ложь. Кстати, я отдал пьесу, которую ты мне дал почитать, своим экспертам, и они сказали, что она написана человеком, находящимся в глубокой депрессии.
– Господи, ну хоть кто-то догадался, а я-то думал, помру нерассекреченным, – я выпустил дым в потолок. – Теперь можно признаться: никуда не уезжаю, это отмазка, скоро меня найдут с дыркой во лбу. Маски сброшены. Финита ля комедия.
– Не перебивай меня, – продолжил он. – Тогда я стянул из комода другую рукопись и тоже отнес им, разумеется, не сказав, кто автор. Второе заключение было таким же, но с небольшим нелицеприятным дополнением, – он оттянул ворот водолазки, поднял его вверх, склонил голову набок и вывалил язык. – Я сказал, что знаком с человеком, написавшим комедию, и он веселый и жизнерадостный, но они были непреклонны. И знаешь, я им верю.
– Все это интересно, и твои эксперты – молодцы, хорошо соображают. Только, видишь ли, в чем дело, со мной у них вышла промашка. Всякий мыслящий человек несет в себе страдание, но оно не имеет ничего общего с депрессией, которую с легкостью диагностируют у каждого второго и жадно лечат, – парировал я.
– Ты хочешь сказать, что люди, которые работают на крупнейшие корпорации, взяли и споткнулись на тебе?
– Уже сказал. Можешь поднимать их и уносить на исходные позиции. Я не противник анализа, более того, в чем-то они правы. Между «я устал» и «мне надоело» лежит пропасть. Так вот, я не устал и могу прожить еще столько же. Но стоит ли?
– Так ты не пошутил? – озадаченно спросил он.
– Нет. Мы не выбираем, когда рождаться, но у каждого из нас есть возможность уйти отсюда вовремя. Мы слишком зависимы от внутреннего завода и вынуждены ждать, когда он закончится, – Пашка повел бровью. – Когда я говорю «мы», то имею в виду людей, похожих на себя. Остальные, конечно, не ждут. Люди вообще жизнелюбивы. Они боятся умирать и просят других без конца проворачивать ключик у себя на спине, чтобы задержаться тут подольше. Я же сделал все, что хотел, и увидел достаточно, у меня не осталось ни желаний, ни стремлений, и поэтому не вижу смысла коптить небо. Признаюсь, не собирался об этом говорить, думал ограничиться запиской, – я вытянул из держателя прогоревший табачный стик и закатил его под тарелку.
Пашка встал и начал ходить по залу, заложив руки за спину и опустив взгляд. Иногда он останавливался, смотрел перед собой, с силой втягивал воздух, шумно выдыхал и шел дальше. Я смешал коктейль из рома и спрайта, выпил неспешно с обветренным икорным бутербродом и смешал новый. Какие-то черты характера в Пашке меня раздражали, но его привычку думать я обожал. Он никогда не говорил первое, что придет на ум, не заполнял паузы словесным мусором. Если ему нужно было время подумать, он его брал, и брал столько, сколько нужно. Он подошел к столу и облокотился на спинку стула.
– Я не вправе влиять на твое решение. Просто скажи, сколько у меня времени. Есть вещи, которые мы делаем из интереса, но есть и другие, они совершаются ради и во имя. Мой проект не забава. Я хотел удивить тебя, но не знал почему. Теперь понял. Ты говоришь, будто увидел все, тогда скажу тебе: ты ошибаешься. Уверен, когда увидишь мой мир, то останешься. И маленький спойлер: ты снова будешь не один.
– Ты продолжаешь говорить загадками. Делай что делаешь, и будь что будет. Ты уже меня удивил разительной переменой в себе. Мне на самом деле приятно, честное слово. Не торопись. Сам знаю, что такое дедлайн и как он нервирует и сказывается на результате. Не надо «ради» и «во имя», прошу. Утром мои планы изменились. Я пошел покупать шляпу и случайно наткнулся на типа, который сделал мне заманчивое предложение.
Я понимал, что утренняя история – полная шляпа, особенно если ее пересказать в сжатой форме, а как преподнести ее Пашке, не знал. Он бы меня высмеял. Смутившись, я достал буклет с визиткой из заднего кармана джинсов и положил перед ним на стол:
– Тут я собираюсь провести год, самозабвенно релаксируя в бесчувственном сне, а потом решу, что делать дальше, – мой голос не дрогнул, и, довольный собой, я переключился на салат.
Пашка изучал буклет с холодностью криминалиста. Он закинул ногу на ногу, используя верхнюю как перекладину, поставил на нее локти, вытянул руки перед собой, сгорбился и уставился в телефон, набирая в нем текст двумя большими пальцами со скоростью колибри. Мыслитель Родена, версия 2.0. Он что-то искал и параллельно с кем-то переписывался. Его телефон несколько раз пикнул. Читая сообщения, он удивленно морщил лоб, хмыкал, нукал и отвечал на сообщения, хитро прищуриваясь. В ожидании вердикта я подошел к окну. Ветер стих, валил снег и таял, долетая до земли. На дорожке собирались лужи. Отклонившись, в отражении я увидел огонь в камине, потом снова улицу, потом огонь и завесу снега одновременно. Какое-то необыкновенное ощущение посетило меня – забавное, что ли. Вдруг я заметил свою тень, заслонившую половину окна, отшатнулся и, отвернувшись присел на подоконник. Пашка прокашлялся.
– Значит, так. Их страница не актуальна. По факту был совковский санаторий. Какое-то время он проработал как спа-курорт, сейчас рекламы нет, но, судя по налогам, у конторы аншлаг. Поразительная честность. Однако мир слухами полнится, и весьма интересными. «Логос групп», «Логос групп»… Идиотское название даже для филиала. Вроде «Смысл компани». Па, ты в курсе, что будешь лабораторной крысой? – спросил он.
– Да, и меня это не смущает. К тому же элитной лабораторный крысой. За свой безмятежный сон я заплачу без рубля миллион. Мне понравилась идея полной отключки. Бонусом идет омоложение, оздоровление и прочая ерунда, которая не интересна, но может пригодиться, если я решу состариться, – сказал я непринужденным тоном.
– А о побочных эффектах процедуры тебя предупредили? С мозгом шутки плохи. Депривация чувств не проходит бесследно для психики. Не боишься проснуться молодым и чокнутым? – он постучал пальцем по виску.
– Не хотелось бы. Спрошу на месте. Люди знают, на что идут, я знаю, на что иду, но риск должен быть оправданным. Уточню. Посмотрим, – ответил я.
– На что ты собрался смотреть? Тебе скажут то, что ты хочешь слышать, ведь ты им нужен и твои бабки тоже. Ты на крючке из-за странного желания спать, а вернее, из-за нежелания уложить себя насовсем немедленно, если я правильно понял. Ты устал, Па. Настолько устал, что уже ничего не хочешь и решил взять паузу, – Пашка обхватил голову руками и сцепил их на затылке.
– Даже если так, что с того? – я хотел закурить, но моя сигарета разрядилась, и я отложил ее в сторону. – Чем я рискую?
– А как же Ма? – спросил он спокойно. – Как ей объясню, случись что?
– Никак. Записка на столе, – ответил я, чувствуя, как угольки стыда в душе занялись пламенем, но отступать не хотел.
– Понятно: не ты, так тебя. На их косорукость полагаешься. Если я попрошу тебя не ехать, ты откажешься от своей затеи? – он опустил руки и подался вперед.
– Прости, нет, – слова дались мне с трудом. Я знал, что, проснувшись утром и протрезвев, приду к тому же решению и разговор придется начинать сначала.
– Понятно. Теперь моя очередь отпускать. Когда едешь? – спросил Пашка.
– Завтра, – ответил я.
Он полез в карман и достал коробочку.
– Кажется, мой подарок неожиданно обрел актуальность, – констатировал он и отдал ее мне.
Я открыл ее и взял в руки серебряное кольцо. Кольцо Соломона. Гравировка знаменитых фраз «все проходит» и «и это пройдет» была выполнена на греческом. Для безымянного оно оказалось великовато, я надел его на указательный палец правой руки и тут, присмотревшись, увидел надпись на ребре: «Ничто не проходит».
– Спасибо, Паш.
– И кто все будет доедать, для кого я столько заказал? – он широко улыбнулся и погрозил. Серьезность и печаль улетучились, будто не было меж нами внезапных откровений и напряженной беседы. – Все, Па, я включаю кино. Бодрый боевичок, под него еда и бухлишко исчезнут без следа, и мои труды с микроволновкой не пропадут, – Пашка взял пульт и включил плазму, висевшую напротив стола. На экране появился поезд, летящий по ледяной пустыне прямо на нас. – «Сквозь снег». Годится. Едим. Внимаем, – он притянул к себе утку и, покривившись, сказал: – Фу, дохлая, холодная. Я пошел греть.
Комната без стен
На следующее утро я завтракал в самолете, летевшем рейсом Москва – Сочи. День спустя лежал, покачиваясь, на голубых простынях, облепленный датчиками, в мягком чепчике со встроенными электродами и говорил с доктором, который готовился закрыть мою капсулу, похожую на футуристический гроб. Конечно, я все подписал. Они были чертовски убедительны, а их аргументы железобетонны.
Маленький санаторий, расположенный не так высоко в горах, как предполагал, но далековато от города и селений, оказался доверху набит вооруженной охраной. Совершенно не страшной, напротив, красивой и безупречной, как президентский полк, но отбивающей всякое желание лезть на рожон. Стоя на проходной, я увидел среди зарослей кустов и бамбука пустоглазые корпуса бывшего санатория, обвитые плющом, а вдалеке – белый купол вроде тех, что устанавливают на спортивных аренах. Дернулся, чтобы уйти, но не тут-то было. Кто-то положил мне руку на плечо и шепотом объяснил, что охрана необходима, чтобы защитить секрет, важный для каждого из нас:
– Наивно полагать, что к нашей лаборатории ведут указатели от аэропорта, – сказал владелец тяжелой руки. – Волноваться можно, а паниковать – нет, а то придется отделить вас от группы и работать по индивидуальной программе, а это встанет дороже. Сохраняйте спокойствие – и сэкономите на дополнительных услугах, которые всем по вкусу, – рука отпустила плечо и слегка подтолкнула меня вперед, почти ласково. – Чувствуйте себя как дома, господин Орос.
Функцию денег в этой мутной истории я понял. Тот, кто платит, уверен, что держит все под контролем. Люди действительно вели себя непринужденно. Они предвкушали оплаченное чудо. После беглого медосмотра, на котором измерили температуру, давление, сатурацию, взяли кровь на анализ и установили катетеры для внутривенного питания, нас привели в капсульный зал. Выглядел он фантастично, все восторженно сравнивали его с космической станцией, а я – с навороченной палатой интенсивной терапии. Капсулы сна, их блеск, магический голубой свет и запах как от новеньких авто – все манило, завораживало, и никто не обратил внимания на инфузоматы. Я мог предположить, что через них нас собираются кормить, но, насколько мне было известно, глюкоза, витамины и белковое внутривенное питание не подавали через электронные капельницы. Значит, усыплять нас собирались не волшебными ваннами. Я насторожился. Группу вплотную подвели к центральной капсуле, открыли ее и еще раз подробно рассказали о процедуре флоутинга и дали потрогать водяной матрас. Рассказывая о нем, ординатор отметил различные его свойства, включая противопролежневые. Я сострил, что если сон будет медикаментозный, то лучше, чтобы и матрас оказался противопролежневым, ведь в коме не поворочаешься. Другие пропустили замечание мимо ушей, их интересовало, можно ли в виде бонуса сбросить несколько килограммов, несколько десятков килограммов и как это закрепить в дополнительном соглашении к договору.
Персонал улыбался и разговаривал с улыбкой. Видимо, она была дресс-кодом, и только бородатый доктор, крутившийся рядом, казался нормальным. Он услышал мою ремарку и быстро отвел меня в сторону, чтобы я не сеял панику, как он выразился. Оставшись с ним наедине, я подавил желание выпытать у него правду. Обстановка, продвинутое оборудование, обходительный персонал, безупречные договоры – все говорило о том, что они те, за кого себя выдают, – ученые-частники, мечтающие заполучить космический контракт, а я обычный параноик. Будь я чокнутый профессор с идеей разгадать секрет вечной молодости, разве я не поступил бы так же? Без возможности экспериментировать на людях не продавал бы богатым буратинам части достигнутого под видом омолаживающих процедур и прочей фигни? Прикинул, что и псевдоолимпийский комплекс – тоже удобная штука. После проведения эксперимента я бы сворачивал и переносил лабораторию в другое место. А по возможности переносил бы ее вместе с клиентами, во избежание проблем с законом. Мы стояли на открытой площадке второго этажа у лестницы, облокотившись на металлические перила, и смотрели на капсульный зал сверху вниз. Десять изящных капсул образовывали полукруг, они были массивные и явно тяжелые. К ним по полу тянулись разнокалиберные кабели и шланги, а сверху на кронштейнах спускались горизонтальные консоли.
– Тяжело, наверно, все время переезжать, – я удивился тому, что сказал это вслух.
– Непросто. Со временем привыкаешь, – ответил доктор и пригладил бороду.
Я взглянул на него, и надобность задавать вопросы отпала. Мы понимали, о чем молчим, и будто играли в гляделки. Он не отводил глаз, я искал в нем намек на сочувствие, но напрасно. Вдруг он спросил:
– Зачем вы здесь?
– Решил хорошенько выспаться, – я старался не моргать.
– Не поверю, что сами, – его бледно-серые, как мартовский лед, глаза начали оттаивать. Кого-то он мне напоминал, но я не мог вспомнить кого. Слишком холоден он был, а таких людей я не встречал.
– Один чудак уговорил на спонтанный поступок, и вот я перед вами.
Он наклонил голову, но не отвел взгляд.
– То есть вы здесь по чужому билету? – спросил он.
– Не совсем, у него не было денег на билет. Попросил прокатиться разок, чтобы его затем бесплатно взяли. Так он сказал. Хоть это правда? – мне захотелось отвернуться, внутри тикал таймер и говорил, что я иду на рекорд.
– Правда, – ответил доктор и отвел глаза.
За спиной пикнул магнитный замок двери. Из стеклянного куба управления, в котором сидел персонал за мониторами, к нам вышел сияющий ассистент и предложил последовать за ним в зал. Клиенты занимали капсулы, а моя, стоявшая с краю, пустовала. Доктор быстро сменил тему. Спускаясь по лестнице, он жестикулировал и воодушевленно рассуждал о том, что мои опасения по поводу побочных эффектов депривации чувств – полная чушь и я буду находиться на круглосуточном мониторинге. Если что-то пойдет не так, медики меня разбудят, а фирма вернет деньги и принесет извинения. Но все пойдет как по нотам. Осечек не бывает.
Из сложившейся ситуации я видел два выхода. В первом меня ждало возвращение домой после омолаживающей спячки, а во втором я мог сгинуть самым безгрешным способом. Терять, по сути, было нечего. Но я существо живое и в самый последний момент сдрейфил.
– Вам удобно, нигде не жмет, ничто не давит? – поинтересовался доктор, поправляя на мне шапку с датчиками.
– Нет. Все хорошо. Спасибо. А как быстро я усну? – спросил я, попытался сесть и плюхнулся на спину, по матрасу пошла волна.
– Мы же с вами все обговорили. Я закрою капсулу, и данный вопрос перестанет вас волновать. Вы расслабитесь, потеряете связь с реальностью – в этом вся прелесть, – его голос звучал монотонно и ласково, будто он успокаивал ребенка.
– А вдруг мне что-то понадобится? – мне захотелось вылезти и убежать.
Доктор закатил глаза и выдохнул.
– Если понадобится, постучите или помашите. Мы заметим, но я буду крайне удивлен, если у вас получится, – на его лице нарисовалась улыбочка.
– А вдруг я умру? – я перестал сражаться с водяным матрасом, лежал и не шевелился.
– Мы узнаем об этом первыми. По крайней мере, это не будет на вашей совести, – ответил он и подмигнул.
– И сколько таких, как я, на вашей? – спросил я.
– Вам соврать? – к нему вернулась невозмутимость.
– Нет, спасибо. Просто не подозревал, что в подобной ситуации открою в себе клаустрофобию и испугаюсь постельки с крышкой. Вполне здоровая ассоциация, но разволновался не на шутку. Ладно, поехали, – ответил я и заставил себя улыбнуться.
Доктор нажал кнопку на панели – и крышка моего футуристического гроба стала медленно опускаться. Внутри зажегся приятный голубой свет. Как снаружи, как на картинках из буклета. Я успокоился, прикрыл глаза и расслабился. В следующую секунду меня посетила мысль, что надо попросить воды, вдруг подумал, что лучше бы выжить, вернуться и предупредить Семьтонна, чтобы он не вляпался в это дерьмо, – парень-то он неплохой, жалко, если пропадет, – потом почувствовал жжение в руке, вспомнил, что мне установили катетер, но не мог припомнить, когда они успели его подключить, и вырубился.
Готов поклясться, что вначале я пребывал в полусне. Тишина и состояние невесомости доставляли удовольствие. Засыпал ли я или меня усыпляли, но черные ямы обещанного забытья сменялись красочными сновидениями. Сколько бы ни старался открыть глаза, ничего не получалось. Многажды мне казалось, что не сплю, а встаю, выхожу из капсулы, тайком покидаю базу, возвращаюсь домой, прошу прощения у Пашки, бегу к Семьтонну, рассказываю ему все и он обещает не ехать. Сны наслаивались друг на друга, забывались, и все повторялось по накатанному.
Я почти потерял связь с реальностью, пока однажды не произошло нечто странное. Вдруг я очнулся. Очнулся распятый на холодном столе в окружении кричащих людей в защитных костюмах и масках. Дернулся, понял, что привязан, попытался закричать, зашелся жалким хрипом и кашлем, подавившись интубационной трубкой, торчащей изо рта. Едва успел сообразить, что происходит, как мое тело сковала судорога, и в ту же секунду в голове взметнулось адское пламя. Больше ничего не видел и не слышал. Пламя поглотило все и вся. Отрезанный от мира неведомым пожаром, я только чувствовал. Чувствовал, будто падаю в ожившую темноту спиной назад, широко раскинув руки, долго-долго, ощущая тяжесть своего тела, невероятную тяжесть, стремительно несущую меня в пропасть. Я так и не узнал, чем закончилось падение.
Когда открыл глаза, понял, что нахожусь в комнате. Странной комнате без стен. Всюду был свет. Невыразимо яркий, сочный, первозданный и ровный. Воистину совершенный. Я смотрел по сторонам, искал мощные лампы и прожектора, но не нашел. Видимо, само место было светом. Потолка и пола тоже не было. Точь-в-точь как в примерочной у Семьтонна. Но здесь иллюзия вышла за пределы зеркала и захватила все пространство. Тем не менее я осознавал, что верх – это верх, а низ – это низ, и только мое зрение не позволяло увидеть его границы, ведь я практически ослеп. Очевидная догадка заставила меня рассмеяться. Я схватился за голову и тут же застыл в недоумении. Она пропала. Осторожно посмотрел вниз, опустил руки и ничего не почувствовал. Меня тоже не было. Тело исчезло.
Почему-то не запаниковал, не испытал страха потери или ужаса, а стоял и прислушивался. Тишина была как в безэховой камере, которая впитывает 99 процентов звуков, оставляя нам лишь стук сердца и приливной шум тока крови. Но я не услышал и их. И тут я понял, чего мне еще недостает. То была боль. Боль – вечный спутник человеческого тела. Она ушла, ее место заняла невероятная легкость. И сам мой дух был спокоен и чист, будто с него одним порывом снесло безумные нагромождения тревог, надежд и не осталось ничего, кроме меня. Вдруг почувствовал, что свободен. Наконец-то по-настоящему свободен. Я снова огляделся и оценил иронию момента. Неужели надо было оказаться здесь, чтобы понять и почувствовать, что есть свобода. У меня не было легких, но знаю, тогда я дышал полной грудью. Вместе со мной дышала комната без стен и свет, и я был этим светом. Я был счастлив и очарован.
Тут-то я и понял, что умер.
Смерть Платона
Что бы ни говорили о загробном существовании, все сходятся в одном – это навсегда. Мое «навсегда» выглядело как полдень в Антарктиде. От меня осталось сознание, внутренний голос и способность видеть, при том что смотреть здесь было абсолютно не на что. Будь у меня на чем сидеть, я бы сел и поразмышлял о том, что делать дальше, но последние телесные ощущения испарились. Я был ничем в нигде, и первое, что обнаружил, было время. Я сделал это открытие, когда исследовал комнату. Сначала я продвигался вперед робко, медленно, затем быстрее, еще быстрее, а потом летел стремглав, чтобы найти ее границы.
«Где скорость, там и время, а значит, вечность покажется вечностью», – подумал я и заметно огорчился.
Как бы далеко я ни забирался в своих путешествиях, видел лишь бескрайнюю пустоту, но даже в ней, безликой и однообразной, место, где появился на свет, оставалось каким-то притягательным и особенным. Я чувствовал с ним связь и не хотел его покидать.
Я не мог закрыть глаза и не спал, ослепленный светом, предоставленный сам себе, наедине с собой. Временами мне становилось скучно. Вскоре я научился молчать и наслаждался тишиной. В жизни бывали моменты, когда не хотелось вести бессмысленные беседы в голове. Я ложился на диван, слушал музыку, смотрел в окно на небо или дремал. В моей памяти, к счастью, хранилась богатая фонотека, и сейчас я врубал на всю катушку любимые мелодии. Скоро и это занятие надоело. По моим прикидкам, я болтался тут около месяца, может, больше, и шансы на спятить росли. Комната без стен не могла быть одиночной камерой, в которой меня заточили навечно. Что-то в ней было не так, и я должен был понять что.
И тут меня осенило. Музыка. Генделя в рок-обработке я воспроизвел у себя в памяти, но так хотел его слышать громко, что вскоре он сотрясал все пространство. То же было с другими мелодиями, и показалось, что свет стал мягче, пока играла соната. Я решил проверить догадку. Включил в башке «Слезу» Вагнера и, увеличивая громкость, стал наблюдать за происходящим. Свет не изменился, но определенно музыку я слышал снаружи, а не в себе, чем бы я ни был. Я представил, что она звучит из портативной колонки, и мысленно перенес ее влево. Она стала звучать оттуда, потом отправил ее за спину – и стал слышать позади себя. Представил, что выключаю ее, свою маленькую черную цилиндрическую колонку с потертым зеленым ремешком и встроенными часами, голосовой командой «спи» – и она затихла, пикнув на прощанье. От неожиданности я обернулся. Мне понравилось то, что я увидел. Метрах в пяти у меня за спиной стояла моя задрипанная колонка, и теперь у меня были часы, которые показывали 12:00 по полудню. Вопрос в том, что я не мог ни взять, ни потрогать ее, но то, как она здесь оказалась, стало ключом от всех дверей.
Долго я провозился со своей единственной игрушкой, но часы все еще показывали 12:00, и я решил, что они тормозят. Однако убедился, что она не галлюцинация, а в прямом смысле плод моего воображения. Плейлист на ней был короткий, и не знаю как, но я закачал в нее из памяти музыку. Перенес, как с устройства на устройство. Радио здесь не ловило, и мне пришла идея придумать радиостанцию. Я же слышал за свою жизнь много разных песен, звучавших фоном, и не запоминал их. Где-то же они должны были осесть. Наобум назвав радиостанцию «Свет», я включил ее, и, к моему удивлению, она действительно стала транслировать все подряд. Для первого раза это было неплохо, однако не идеально для перфекциониста. Я не поклонник радио, но тут сообразил, что музыку надо рассортировать по тематике, и скорее не из любви к искусству, а из нелюбви к его некоторым жанрам. Так появилось мое собственное «Русское радио», мои «Европа», «Ретро», «Шансон», «Рок», «Falk», «Рор-Music», «Классика». Только затем я отстал от колонки, выключил ее, погрузился в тишину, всем существом понимая, чего мне не хватает на самом деле. Без Генделя с Бахом из динамиков я бы прожил пару тысяч лет, проигрывая их в своем нигде.
Мне не на что было смотреть. Свет – это хорошо, во тьме я б загрустил. Во тьме пришлось бы сочинять свет, а так, можно сказать, мне повезло. Честно, не знаю, как вообразить свет, хотя кажется, это просто. Можно представить солнце, огонь, свечу, лампочку, в конце концов, а свет, обычный или такой, как здесь, я бы, наверно, представить не смог. Так и остался бы сидеть в темноте до конца времен или выудил из памяти ночник. Потом бы люди спрашивали: откуда берутся черные дыры, откуда берутся черные дыры?
Вспомнив, как обстояли дела с колонкой, вперился в условный горизонт и постарался представить небо и море. Как дурак, я буравил даль, привлек на помощь колонку, заставил ее воспроизводить шум моря, крики чаек, дельфинов и касаток, но напрасно. В жизни я бы уже психанул, но сейчас у меня было совершенно иное состояние души, очаровательно пришибленное в своей вселенской гармоничности, а еще, что немаловажно, миллиард миллиардов попыток взломать систему. Я редко испытывал страх перед чистым листом, с чего бы ему появиться здесь.
«Буду сочинять свой мир с нуля и учиться в нем жить, раз уж так обернулось, и смерти нет, и я теперь в общепринятом смысле то, чего вообще не может быть. Не сидеть же тут сложа невидимые руки», – подбодрил себя я.
Немного пофланировав в полной тишине, я предпринял отчаянную попытку, граничащую с безумием, – обратился к свету. Ну а что? Должен был попытаться, чтобы раз и навсегда поставить точку в теологическом споре.
– Уважаемый свет, – сказал я, – ты прекрасен во всех отношениях, и я готов любоваться тобой вечно, тем более, как я понимаю, ты не оставляешь мне выбора. Но не мог бы ты для разнообразия подарить мне вид на море? Я бы предпочел смотреть на закат, если тебе интересно. Подойдет рассвет, и ночь сгодится. Если море для здешних условий – явный перебор, сойдет вид на пустыню, но тоже предпочтительнее в предрассветное или вечернее время. Видишь ли, я человек, и моим глазам нужен отдых от бесконечности. Опять же, если я прошу много, то подели мир пополам и верни тьму, чтобы у меня было место, где бы я мог отдохнуть. Слышишь меня, свет? Эй, тут есть кто-нибудь?!.
Я почти поверил, что был услышан. Ждал часов шесть, отсчитывая время по трекам, называл свет тугодумом и оправдывал тем, что в масштабах вечности для обработки сумбурного заказа это недолго. На девятом часу ожидания я устал и смирился с тем, что свет – это просто свет, а не живое существо, не высший разум, и в глаза мне не светит никто волшебный и всемогущий. Это чертовы фотоны – бездушные волны или частицы в зависимости от настроения или наличия наблюдателя, согласно квантовой теории.
«Здесь нет никого, кроме меня, вернее, того, что от меня осталось. Или это и есть я. Просто я и ничего лишнего», – пришел к выводу я.
Понимание, что ты один, – был один, есть один, будешь один, и помощи ждать неоткуда, – резко облегчает задачу. Я снова прокрутил ситуацию с появлением колонки и попытался ответить на вопрос: почему она появилась внезапно? Я же не специально представил ее, а будто вспомнил случайно: услышал, ощутил ее тепло и запах.
«Какой же я болван! Все, что нужно, у меня с собой и лежит глубже, чем обычное воображение. Недостаточно представить желаемое, чтобы оно появилось, – сперва его надо заново прожить и прочувствовать. Так рождаются слова, так пишутся книги».
Море было моей слабостью. Море было всем для меня. В светлом покое не хватало красок, я вспомнил Черное море накануне шторма. Глубокое небо с рваными облаками, валом чернильной синевы и полосой закатного пламени на горизонте. Услышал, как волны с крутыми гребнями, грохоча, разбиваются о пирс, выбрасываются на берег, перебирают рассыпанные четки гальки. Ветер заглушал мой голос, брызги летели в лицо, небо заволакивала тьма. Видел, как из нее ныряли в море резвые молнии. Вдруг небо метнуло гигантский трезубец, и он пронзил море у пирса, тут же ударил гром. Расклокотавшееся эхо бросилось метаться меж скалами и скрылось в тесных пещерах ущелья. Вторая молния трещиной пошла по небу, грозя расколоть его надвое. Я вздрогнул и остолбенел. Вокруг бушевала гроза. Повернувшись к ней спиной, увидел четкую границу, линию, за которой был свет комнаты без стен с черной колонкой четко посередине.
– У меня получилось, черт подери, у меня получилось!.. – закричал я.
Вышло правдоподобно. Но все же я чувствовал себя частью матрицы, потому что не мог ничего потрогать, понюхать, не мог, как раньше, запросто прыгнуть в воду, искупаться, посидеть на гальке. Похоже, в этой реальности у меня были только две предустановленные функции: творить и созерцать, что не так уж плохо, учитывая обстоятельства.
В жизни человеку даны четыре мира вместо одного: реальность, сны, фантазия и память. А здесь всего два. Память и воображение – кирпич и цемент для великой стройки, у которой не будет конца. Вот что я понял, любуясь своим первым произведением с катастрофическим эффектом.
Я сунулся в бушующее море и посмотрел на дно. Под водой все было пустым и безжизненным. Я расстроился. У меня зрел план, как обустроить комнату, сделать ее максимально уютной для жизни, и пункт с рыбками вошел в десятку дел на досуге. Сначала надо было разобраться с погодой. Смотреть на грозу приятно, но не целыми днями. Да и настраивать погоду вручную не хотелось, поэтому я стал разбираться, как это работает. Море не колонка, в которую я перенес музыку из памяти, – там хотя бы местами было где-то понятно и что-то логично. Однако с морем сработал тот же механизм. В буквальном смысле я загрузил в него все, что знал о нем: от теории до чувственного восприятия. С погодой разобраться было легко, а вот с чем я действительно сломал голову, так это с самым элементарным – днем и ночью. Я еще раз по благодарил случай за то, что у меня оказалась колонка с часами. Подозрение, что в свете времени как бы не существует, вкралось давно, поэтому там стоял вечный полдень, и дело было не в часах. Взять я ее не мог, и признаюсь честно, что многократно и безрезультатно попрактиковался в телекинезе. Исчерпав оригинальные идеи, я вернулся к топорному варианту и представил ее на берегу. Сработало.
Сутки я вручную регулировал движение Солнца и Луны. Более утомительное занятие представить трудно. Хотел, чтобы все было по-настоящему, и оно того стоило. Стоило оно и жизни колонки, потому что она полностью разрядилась. Вернуть ее в комнату я не смог и похоронил на пляже. Зато на следующий день у меня был настоящий восход, реальный полдень, безупречный закат и черная ночь над Черным морем. И все же пейзаж казался безжизненным, как на Марсе. Новый день я посвятил озеленению пляжа, прибрежных скал и ущелья. С ботаникой у меня было туго, я решил, что неплохо было бы воткнуть меж камней пальму. Большую, раскидистую, с кокосами – и воткнул. Вышло ужасно нелепо, пошло, по-черноморски вычурно. Дурацкая тридцатиметровая пальма испортила весь вид. Я постарался ее стереть, испробовал триста тридцать три способа избавиться от нее, включая попытку заново переписать кусочек пляжа, но тщетно. Так я понял, что созданное мной останется здесь навсегда, и урок усвоил. Поразмыслив, прикинул, что сильный шторм рано или поздно дотянет до моего шедевра, а если нет, то я срежиссирую природный акт вандализма. Весь день я создавал водоросли, разбрасывал тину, сажал камыши, потом кропотливо тыкал траву, цветы, колючки, кусты, деревья, вспоминая, как заботилась о саде Вера, ухаживая за каждым растением, общаясь с ними, словно с детьми. Она говорила, что им нужны ласка, тепло, вода и пчелы, иначе они погибнут.
«Пчелы! Почему я не подумал об этом раньше? Нормальный же был неземной пейзаж, а теперь еще с пчелами возиться, иначе все завянет, зачахнет на корню, превратится в пустыню, а я буду в этом виноват. И шмели, мухи, наверно, нужны… Они же тоже в опылении как-то участвуют… А потом понадобятся птицы, чтобы жрать эту насекомую братию. В общем, я всегда знал, что от цветочков сплошной геморрой. Зачем я их только посадил?!» – убивался я, глядя на восхитительные лилии.
К вечеру мне расхотелось выстраивать логические цепочки между цветком и пчелой, мухой и лягушкой. Мне хотелось видеть парящих над горами орлов, но я догадывался, что тогда бы пришлось разводить грызунов и устраивать кровопролития. Я был не прочь завести собаку, но собака не ест кокосы и вряд ли согласится питаться безмозглой рыбой.
– Во всем виноваты цветочки, – бубнил я, летая вдоль берега и чувствуя, как теряю покой.
Я смотрел на вечернее небо, яркое, безоблачное, будто в зеркало, и злился на свою безалаберность. Я не знал, чего мне жаль на самом деле: отнять жизнь у тех, кому дал, или не дать ее остальным? Это мучило и рвалось наружу. Небо хмурилось, откуда ни возьмись набежали тучи, из ущелья на берег двинулась армада грозовых облаков, море разволновалось, раскаты грома прокатились над растрепанными ивами.
– Стоп! – крикнул я, и взлетевшие космы ив и брызги волн застыли, и зигзаг молнии замер, не успев коснуться воды. Мир природы, который я помнил, был придуман идеально, мне незачем было выпендриваться. – Тут места хватит всем, пусть живут и без меня разбираются, кто кому нужен.
Мысленно я поблагодарил своего учителя по биологии, добрейшего Льва Палыча, поразительно похожего на Чехова, из-за чего многие называли его Антон Палыч, и он не обижался, а только повторял, поправляя очки: «Я лев, а не антоновка – неужели трудно запомнить?» Не зря он потратил лучшие годы на разъяснения особенностей флоры и фауны земли неразумным детям. Может, кто-то, как и я сейчас, вспоминает азы пчеловодства, разведения кролей, касаток и лошадей в суровых условиях загробного мира. После я выразил благодарность каналу Viasat Nature за сериалы о природе, под которые последние годы любил засыпать, признавая их образовательную ценность и снотворное воздействие. Сидя в комнате, я вычерпывал из себя все, что знал о животном мире, и когда запас знаний иссяк, вылетел наружу, изрядно уставший.
– Итак, зверюги! – обратился я торжественно к стадам, стаям, табунам, косякам, роям и мирно доедающему последний цветок папоротника одинокому единорогу, который оказался тут случайно, когда я размечтался. В конце концов, не все обязано быть правдоподобным. – Я сделал все, что смог, не благодарите. Остальное предоставьте эволюции. Если вы не знаете, что это такое, через несколько тысяч лет появится Дарвин, он вам все подробно объяснит. Живите, размножайтесь, и да не зайдет над вами солнце. И ты, единорог, далеко не уходи, ты мне нравишься больше всех. А тебе что нравится? Пальма? Оно и понятно, забирай, дарю.
Ландшафт изменился, я поднялся на утес и обомлел. Вокруг все было как в жизни. На многие-многие километры простирался мир, полный звуков, запахов, трепета. Я вспомнил, что больше не человек, взмыл ввысь посмотреть оттуда и ахнул. Я парил, не веря своим глазам, то приближаясь, то отдаляясь от Земли, с интересом разглядывая мир. Налетавшись, понял, мне вечности будет мало, чтобы узнать и понять то, что я воссоздал. Пускай отчасти это была копия мира, в котором я жил, но тут некому было упрекнуть меня в плагиате.
«Здорово, что я решился сделать Землю своим домом. Какая красота, ни одного белого пятнышка. Стоп. А где свет? Точно, я вылетел из него пулей посмотреть, что получилось снаружи, и не заметил, что он переместился».
Возвратившись к пальме, Колоссу – нет, Кокосу Родосскому растительного мира, обнаружил мирно спящего единорога. Раньше выше за дюнами была линия света, там начиналась комната без стен, но она исчезла. Эта пропажа повергла в ужас. Пропажу тела я принял как данность, не испытывал никаких неудобств, что тут говорить, вскоре свыкся с новым имиджем, а исчез свет – и будто исчезла часть меня, оборвалась связь, непонятная доселе, но жизненно необходимая именно здесь и сейчас. Я запаниковал. Мне предстояло искать иголку в стоге сена. Единственная здравая мысль, которая пришла на ум, – искать свет ночью.
«Каждую ночь я буду увеличивать радиус поиска и когда-нибудь отыщу его», – решил я.
Стемнело. Чувствуя мою печаль и досаду, зверье разбежалось, птицы умолкли, на море был такой штиль, что казалось, оно покрылось льдом. Я разбудил единорога и сказал ему, что мы отправляемся искать свет. Он вскочил, отряхнулся и слегка засветился белым сиянием, каким обычно сияют единороги после пробуждения под тридцатиметровой пальмой. Я поблагодарил его, объяснил, что свет похож на кусок дня, на солнце, упавшее в кусты, что эта штука намного больше, чем он, и она мне очень нужна. Единорог кивнул, и мы вместе побрели прочесывать свои владения по берегу бухты от утеса до поросшей соснами скалы. Меня разбирала грусть, слезы подступили к горлу. Плакать я не мог, и мои эмоции тут же отражались на погоде: сердился – гремел гром, сверкали молнии, плакал – лил дождь, нервничал – дул ветер.
– Надо научиться держать себя в руках, иначе наш мирок захлебнется в погодных катаклизмах, – говорил я единорогу, представляя, что еду на нем верхом. Он шел, изредка кивая, всматриваясь в темные очертания берега, втягивая ноздрями прохладный воздух и отфыркиваясь. – Я не желаю ему такой участи. Связь с ним очевидна. То, что я испытываю к нему, можно назвать любовью и легко объяснить. Я любил его и до того, как начал извлекать из себя, и когда творил и, казалось, не мог остановиться, и сейчас, когда думаю продолжать. Здесь все из любви и будет так, потому что здесь мне жить и жить. Почему же эмоции отражаются только на погоде? Слава богу, только на ней или пока на ней. Ни в чем другом изменений не заметил. Метеориты не падали, вулканы не извергались, за день падежа скота не было, – призадумался и продолжил: – Ведь вначале я был абсолютно спокоен, думал, что могу соперничать с буддийскими монахами, достигшими просветления: сижу в море света, и меня не колышет. Ведь мог в таком состоянии проторчать миллион лет, пялясь в пустоту, и было хорошо. Вот реально хорошо, кайфно, все по фигу. Я ощутил свободу, помнится, говорил – истинную свободу, недоступную для понимания живых, и восторгался тем, что наконец-то осознал ее суть, и рад был, что умер. В жизни у меня не было шанса понять, что есть свобода, а умер – и понял. Это не выбор, а крутой замес из любви, счастья и покоя, это один бесконечный вдох, легкий и волнующий. И вот я мертвый, передо мной вечность. Я мог говорить с собой, мог не говорить, мог наслаждаться тишиной или музыкой, вспоминать книги или сочинять их. Я сам себе прекрасный собеседник. Но мне все мало. Я по натуре человек творческий и, если вижу белый лист, начинаю писать. Будь я художником, стал бы рисовать. Все элементарно. Ты понимаешь, единорог? – единорог повернулся, мотнул мордой и продолжил шагать, буравя взглядом едва различимый в лунном свете ночной пейзаж. Мы миновали узкую полоску пляжа и приближались к ущелью. – Надо бы тебе имя придумать, «единорог» звучит убого. Ты хоть кивай чаще. Вот так. Спасибо, хороший единорог. На чем я остановился? Да, помню, когда вышел из комнаты, то будто слился не только с миром, но и с прежним собой. Ко мне вернулись эмоции, человеческие эмоции, и поэтому снова чувствую все, кроме покоя, поэтому хочу его вернуть и стремлюсь назад в свет. В новой жизни он мне нужен, я его заслужил. Все, что было на земле пройдено, выстрадано, пережито… Я от этого в прямом смысле умер. Здесь, видимо, умереть нельзя. Здесь можно утратить покой. Не хочу. Я слишком увлекся и должен найти его, где бы он ни был. Насколько понимаю, он местный наркотик. Чувствую, он где-то близко – мой свет, от которого я не должен был отходить, мой источник, блок питания, моя батарейка…
Единорог остановился, навострил уши, от него снова начало исходить свечение. Он глядел куда-то вверх, в горы, и нетерпеливо бил копытом. Я посмотрел в ту же сторону и увидел мерцающий огонек. Казалось, в глубине пляшущей на ветру мандариновой рощи горел маяк и посылал в море проблесковый сигнал, предупреждающий об опасности: вспышка, вспышка, пауза. Об опасности я и сам догадался.
– Возвращайся к своей пальме, Люций, дальше я сам. Тут вверх по склону несколько километров дебрей, а мне бегом надо. Ты же конь, а не Пегас. И да, ты теперь Люций. Хорошее имя, правда? Отражает твою суперспособность, светоносный ты мой. Что значит почему не единорог и все? В жизни так принято, у всех, кого любят, есть имена: у людей, у домашних животных. Ты не поверишь, у моей машины было имя, ее звали Шкодина. Имя – верный признак любви. Меня зовут Платон. Понял? Ну славно! Будем знакомы. Мне пора.
Люций бодро потрусил домой, теперь он светился ярче елки на городской площади. Может, радовался, что обрел имя и стал первым существом, его получившим. Кто знает, что у этих единорогов в голове.
Я не стал перебираться через ручьи, дюны, овраги и заросли, а полетел напрямик. За мандариновой рощей увидел знакомую линию, границу, пересекающую ущелье поперек, там начинался свет моей комнаты без стен. Ей изрядно пришлось потесниться. С боков ее подпирал сад, раскинувшийся на пологих склонах, справа, по границе, текла мелкая горная речка. Позади вверх волной уходили альпийские луга и гряды гор, над которыми возвышался ледяной пик. С высоты моя комната была не больше стадиона, я спустился к ней, преисполненный чувством вины. Как только оказался внутри, почувствовал облегчение. За долю секунды все мое существо насытилось долгожданным покоем и блаженством. Я огляделся, чтобы понять, что изменилось. Изнутри она была по-прежнему бескрайней, без пола, стен и потолка, зато в ней появилось панорамное окно. Огромное – метров десять в высоту и двадцать в ширину. Из него открывался вид на верхушки мандариновых деревьев, растущих ковром. Шерстистым половиком, небрежно брошенным на кривую лестницу ущелья, уходящую к морю. Пейзаж был шикарный. Его немного портила тридцатиметровая пальма с тремя кокосами, но я почти свыкся с ее существованием. Меня беспокоило, что Люций поселился под ней, вернее, я его там поселил, а кокосы размером со слона могли созреть и свалиться ему на темечко. Тем же вечером Люций переехал ко мне, и закат мы встречали, сидя на границе миров.
Единорог был отменным слушателем. Он кивал, смотрел одобрительно, но все же мне не хватало человеческого общения. Мой мирок был так похож на Землю, что, если б я забылся, то тотчас бы отправился на поиски людей. Но я знал, что мертв и обречен скитаться в одиночестве, поэтому я задумался о том, чтобы вообразить себе друга. В моем положении вопрос – сейчас или через тысячу лет – звучал более чем абстрактно.
Люций сидел рядом, подражая солнцу, он светился ярко-красным и медленно угасал, по мере того как солнечный диск опускался за горизонт. Проводив его, он лег и уснул под стрекот цикад и плач шакалов. Я посмотрел на него с доброй завистью и пошел в свет.
Ночь я провел, размышляя над тем, стоит ли мне создавать человека. Свет действовал умиротворяюще, его сияние дурманило. На рассвете я поймал себя на мысли, что сижу спиной к миру, смотрю на свет и не могу оторваться. Мне снова казалось, что я дышу, я почти чувствовал, как вдыхаю свежий прохладный воздух, как поднимается и опускается грудь, расправляются плечи. Я вглядывался в даль, во мне пробуждались почти позабытые ощущения, мерещилось, будто покидаю тело, устремляюсь ввысь, медленно поднимаюсь к манящему свету. Душа купалась в наслаждении, пока не ощутила себя бесконечно счастливой, растворяясь в сиянии, окрыленная уже иной, абсолютной свободой. Ослепленный, кружился я и ощущал, как наполняюсь пустотой, становясь светом.
– Я Абсолют. Абсолют. Абсолют, – повторял я в экстатическом трансе и вдруг, услышав собственный голос, на миг представил ситуацию со стороны и ужаснулся. – Какой еще на хрен Абсолют?! А ну, господин Платон, пройдите на улицу подышать, а то от светодейственной наркоты у вас крыша поехала! – приказал себя я и выскочил на улицу.
Как говорил мой друг, алкоголик в седьмом поколении: счастье должно быть дозированным. Поддаваться свету нельзя, понял я. Даруя покой, он лишает воли, или мне только кажется? Сначала он расслабляет, потом парализует, а дальше что: начнет коматозить и убьет? Вопрос вопросов. Видно, здесь все-таки можно исчезнуть. Об этом стоит подумать на досуге. Проверить можно только раз, но пока желания нет. Мир не исследован, жизнь не прожита, и валить отсюда рано, так что оставим пистолет заряженным и положим его под подушку.
С утра зарядил проливной дождь, к обеду усилился. С неба текли струи воды, наводящие на мысли о великом потопе. В нише у скалы Люций нашел сухое место, сделал себе постилку из листьев банана и дремал там, пережидая непогоду. Я подошел к нему, он отвернулся, тогда я сказал:
– Люций, это не я, – он посмотрел недоверчиво. – Люций, иногда дождь – это просто дождь, – единорог вздохнул и прикрыл глаза. – Ладно, я. Грустно мне, и что с того? Ты хочешь, чтобы я прям сейчас взял и создал человека, ты думаешь, это легко? Я не думаю, – Люций оживился и посмотрел на меня внимательно. – Ты действительно хочешь, чтобы я пошел и сделал? – Люций повел ушами и неуверенно кивнул. – Точно? – единорог еще раз кивнул едва заметно. Тут ему на нос села бабочка, он фыркул и чихнул. – Точно. Как-то ты неуверенно чихаешь, Люций. Ладно, чему быть, того не миновать. Скоро вернусь, никуда не уходи. Лишь бы на этот раз не вышло как с пальмой. Не в плане эстетики, а в смысле масштабов бедствия.
В комнате без стен я снова предавался размышлениям, глядя, как Люций резвится под солнцем, а ветер уносит с неба последние облака. Тащить в мирок кого-то из старых друзей и знакомых не хотелось. У меня все равно не получилось бы воссоздать их копии, наделить теми же качествами, чувствами, чертами характера, памятью о жизни и обо мне. Затею с клонами оставил. Мне нужен был обычный человек, с интеллектом и чувством юмора и, учитывая здешние условия, молодой, здоровый, способный выжить и прокормить себя. Думая о подходящей кандидатуре, вдруг вспомнил статую Давида Буонарроти: «Почему бы нет?»
Я тут же вообразил его, добавив оригиналу несколько актуальных элементов – джинсы, кроссовки и футболку с надписью: «Без паники». В общем, подарил парню свой прижизненный гардероб.
Давид появился на пляже – там, где я его представил. Он очнулся ото сна, огляделся, снял одежду и сразу отправился купаться. Люций заметил его и на радостях хотел рвануть вниз знакомиться, но я его одернул и стал объяснять, что нужно подождать, присмотреться, потому что человек – это… Договорить я не успел, Люций несся к пляжу во весь опор и светился от счастья. Я наблюдал, как он бегал вдоль кромки воды и танцевал, как цирковой конь, пока Давид плавал. А плавал он долго. Когда наконец вылез из воды, то прошел мимо Люция, демонстративно не замечая его. Он сгреб одежду, закинул на плечо и скрылся в зарослях. Наивный Люций побрел за ним, понурив голову. Все утро Давид методично исследовал пляж, не заходя вглубь ущелья, и, утомившись, лег в тенек под пальму на свежую постилку единорога и уснул, оставив Люция стоять под полуденным солнцем. Тогда я решил спуститься, чтобы сперва успокоить своего светоносного друга, наверняка сбитого с толку происходящим, и потом, справившись с душевным волнением, подойти и представиться Давиду.
Мне стоило догадаться, что Давид, наделенный разумом современного человека и памятью о мире, который я покинул, может отрицать существование единорогов и прочих волшебных существ, а потому намеренно его не замечать. Подобное поведение считается международной психической нормой. Опять же, возможно, по этой причине он обшарил пляж: искал подвох, скрытые камеры, снимающие шоу приколов, или безбашенных блогеров в засаде. Я старался найти Давиду всяческие оправдания, а моему бедному Люцию – слова утешения и нашел всем поровну. Люций выслушал меня внимательно и почти согласился с тем, что сейчас самое время уподобиться человеку, напиться из прохладного ручья, прилечь в тени и вздремнуть. Он посмотрел на Давида, затем вверх, в сторону света, и так вертел мордой, как Буриданов осел, пока жара не сделала выбор за него и он не поплелся домой.
Давид спал. Я боялся его будить, сидел рядом и думал, с чего начать разговор. То, что я не человек, было проблемой и могло стать препятствием в общении. Хотя не исключено, что просто себя накручивал. В отличие от меня Давид был настоящим, из плоти и крови, у него даже была одежда. А у меня ничего не было, у меня не было ни одного доказательства, что я существую. Надо было заранее об этом позаботиться, придумать железную легенду, объясняющую все. Я собирался уйти, но Давид проснулся и услышал меня. И вот она, первая промашка. Он не мог не услышать меня, ведь я был очень разговорчивым и всегда размышлял вслух. Но одно дело – когда тебя слушает лучший друг Люций, и совсем другое – человек.
– Кто здесь?! – воскликнул Давид, вскочил на ноги и стал оглядываться. – А ну выходи!
– Здравствуй. Успокойся, присядь. Я здесь, рядом, но не могу выйти, потому что невидим. Меня зовут Платон, – сказал я.
– Можешь так не орать, я не глухой, – он испуганно озирался по сторонам, потом посмотрел под ноги, медленно наклонился, схватил камень и вскочил, угрожающее подняв его над головой.
– Прости. Так лучше? – спросил я, понизив голос. – Не бойся меня, я друг.
Давид опустил руку с камнем и вперил взгляд в то место, откуда я говорил.
– Ты голос? – спросил он с интересом.
– Вроде того, – ответил я.
– Чей? – спросил он, отбросил камень в сторону и сел на циновку, все еще прислушиваясь и пытаясь понять, где я нахожусь.
– Свой собственный. Я же сказал, меня зовут Платон, – ответил я как можно тише, чтобы не оглушить парня. Может, и правда я говорил слишком громко, я же себя не слышал со стороны.
– Ты человек? – спросил он.
Тут я запнулся и заставил себя замолчать. Меня накрыло дежавю – чувство, что это уже случалось со мной и в то же время не со мной. Произошло наслоение двух опытов, они шлепнулись друг на друга в тот момент, когда я стоял между ними, и меня расплющило.
«Свет. Земля. Первый человек. Что я наделал?..»
Знакомые образы пронеслись в памяти без слов, дыхание перехватило. Я готов был разрыдаться. До этой минуты был уверен, что обрел жизнь, полную безграничных возможностей, а теперь понял, что угодил в старую как мир ловушку. Небо щелкнуло затвором и, окрасившись в черный, пошло трещинами молний в зловещей тишине, чтобы потом содрогаться от бесчисленных ударов грома. Началась гроза.
– Я спросил: ты человек? – настойчиво повторил он, дождавшись, когда утихнет небесная канонада. Хлынул ливень. Давид присел ближе к пальме, прижав колени к груди.
Большего смятения не знала моя душа. Мне показалось, что в сию секунду началась большая игра, и от моего ответа зависит, какой она будет.
«Кто же я?»
– Да, человек, – уверенно ответил я.
Ударил гром.
– Тогда почему я тебя не вижу?! Где ты?! – Давид пытался перекричать ветер.
– Я прямо перед тобой, но проблема в том, что я и сам себя не вижу, – пояснил я и приблизился к нему.
– То есть как?!
Дождь хлестал, одежда на Давиде промокла, и его начинало трясти от холода. Он перебрался на подветренную сторону Кокоса Родосского и прижался к стволу, я последовал за ним. Тут было тише.
– Вот так, – ответил я, не найдя объяснений.
– Ты приведение? – спросил он.
– Скорее дух этого места, – не успел сказать, как молния сверкнула совсем близко и угодила в дерево. Оно загорелось. Зеленое, сочное, а вспыхнуло, как хворост, от корня до макушки, и ливень не мог его потушить. Я смотрел на огонь.
– То есть ты все-таки умер? – Давид пытался отжимать футболку на себе, но ветер переменился, дождь хлестал отовсюду, и он бросил затею.
– В этом я не уверен, – стушевался я.
– Подожди, давай разбираться, – гром оглушал и создавал вынужденные паузы в разговоре. – Почему ты решил, что ты дух этого места?
– Я так сказал, чтобы тебе было понятно. Сам думаю, что я автор этого места. Я его создал по памяти, вроде как сочинил. Раньше тут была пустыня света.
– Понятно, – Давид посмотрел вокруг, щурясь от брызг дождя и ослепительных вспышек молний, которые будто издалека целились в нас и только потому промахивались. – А как насчет меня?
– Тебя тоже… только что, – признался я.
– Из чего, из праха земного? – поинтересовался Давид.
– Оригинал из мрамора, если тебя интересует текстура, но процесс творения не имеет ничего общего с лепкой, и лепить, как видишь, нечем, – ответил я.
– А зачем? – спросил он.
Дождь стал тише.
– Я здесь один. С моим единственным другом, единорогом Люцием, ты знаком. Он классный слушатель, но никудышный собеседник, а мне хотелось с кем-то говорить, с кем-то таким же, как я, поэтому создал тебя, – сказал я Давиду и увидел, как его лицо вытянулось, а брови поползли вверх.
– Таким же, как ты? Просто поговорить, от скуки? – произнес он по слогам.
– Да не от скуки, Давид, из стремления… – начал я.
– О, ты назвал меня Давид, – сказал он и поднес указательный палец к губам.
Я замер в ожидании. Давид задумался, он сидел, потирая подбородок, и смотрел вдаль на грозу. Он перестал дрожать и жаться к пальме. Струи дождя стекали по его лицу, волосы намокли и облепили лоб.
– Платон, у меня для тебя плохие новости. Ты бог, – выдал он после минутного молчания.
– Я не бог, – ответил я, уловив ход его мыслей.
– Именно он. Все сходится – основные признаки налицо. Давно ты стал богом? Нет, по-другому спрошу. Как давно ты здесь?
– Понятия не имею. Месяц, может, два или около того, – невнятно пробормотал я. – В свете время не чувствуется, его будто нет, а в мире за делами его не замечаешь. На земле третий день, наверное.
– Ясно. Ты находишься в стадии отрицания, – резюмировал Давид, откинул мокрые пряди со лба и скрестил руки на груди.
– Опять эта бульварная психология с ее штампами. Согласен, обстоятельства меняются, и порой круто, но в них человек не перестает быть человеком. Мне самому кажется, что происходящее напоминает одну пыльную историю, однако она миф, а это – настоящее, и все происходит с нами здесь и сейчас. Я не бог и не собираюсь его из себя корчить. С какой стати? Это мой сон, моя смерть! Да все что угодно! Это я, а мир – то, что я вычерпал из себя, а я обычный человек. Че-ло-век. Нравится тебе это или нет, – я не ожидал от себя такого выпада.
– Пылкая речь и бездоказательная. Вот я – человек. Ты утверждаешь, что тоже. Но разница между нами в том, что я существую априори, а ты – пока я тебя слышу. Ты слуховая галлюцинация. Кстати, я об этом не подумал. Сначала единорог, потом бог, который прикидывается человеком. Может, я перегрелся? – он потрогал волосы на макушке, приложил ладонь тыльной стороной ко лбу и прикрыл веки.
– Давид, прекрати.
Молния рассекла небо, ливень снова усилился, ветер грозил перерасти в ураган.
– А что у тебя с природой? Ты решил создать меня накануне потопа, чтобы было кому спасать твой зоопарк? – спросил Давид с иронией и огляделся.
– Конечно, нет. Это… В общем, не обращай внимание, здесь случается. Прости ради бога, сейчас вернусь, – сказал я и пулей полетел в свет успокаиваться.
Оказавшись в комнате без стен, я отдышался и привел мысли в порядок. Мир за окном снова стал солнечным, безмятежным. Мне захотелось сделать Давиду подарок. Я представил рядом с ним плед, большую корзину для пикника с самой вкусной едой и поспешил назад.
– Нервишки? – спросил Давид, глядя в прояснившееся небо, на котором от бури не осталось и следа.
– Они самые, – признал я и удивился его проницательности.
– Это еще одно доказательство в пользу того, что ты, уважаемый друг, бог, и тебе пора с этим смириться. Если у тебя только с молниями и громом так – может, ты Зевс? Звать тебя могут как угодно, а Зевс – типа должности или внутреннего состояния. Кто его знает, как в загробном мире все устроено на самом деле. Это мне? – он заглянул в корзину и с досадой произнес: – Ты точно месяц назад еще здравствовал, болезный? Это же не еда, а набор для натюрморта. Ну да ладно, пообедаем чем бог послал, не сочтите за каламбур. Ты еще здесь, Платон?
– Да, – обиделся я.
– Отвернись, пожалуйста, я переоденусь, – попросил Давид, снял с себя мокрую одежду, разложил ее на камнях, а сам завернулся в плед, как в римскую тунику, и сел на постилку есть.
Он нехотя выбрал из корзины вино, тосты с индейкой, молочный шоколад и кешью.
– Что ты там шепчешь? – спросил Давид, снова выискивая меня глазами среди камней и колючих кустов. – Мне трудно с тобой общаться из-за твоей невидимости. Ты можешь с этим что-нибудь сделать?
– К сожалению, нет, – ответил я.
– Тогда я сделаю, не суди строго, – сказал он, поднял с земли белый камушек и направился к прямоугольному обломку скалы, напоминавшему огрызок грифеля в человеческий рост, криво воткнутый в берег. Давид резкими движениями нарисовал два кружочка, две горизонтальные полоски над ними, разделил их вертикальной чертой, а внизу провел горизонтальную прямую. Получился неплохой портрет. – Это ты. Говори отсюда, мне так будет проще общаться, – пояснил он, сел по-турецки и начал есть.
– Неплохо получилось. Смело, дерзко, с характером. Первый истукан готов, – одобрил я модернистское произведение.
– И точно, – захохотал Давид с полным ртом. – Мне и на ум не пришло, что это истукан. Я, как бы это выразиться, немного подкорректировал реальность для визуального комфорта, а вышло… Ну, бог с ним… Вино у тебя лимитировано или еще есть?
– Это презент, больше нет. Разве что по особым случаям. Видишь ли, Давид, ты человек продвинутый, не мне тебе объяснять, что мы не в райских кущах и жить придется по-человечески, – пустился я в пространное объяснение прав и обязанностей человека в моем мире.
– Хорошо, по рукам, – неожиданно согласился Давид, подался вперед из тени и протянул руку, зажмурившись от солнца, – скрепим наш договор рукопожатием, так и быть.
– Каким рукопожатием, Давид? Как я пожму тебе руку, я же дух, – проговорил я, нутром чувствуя подвох.
– То есть ты не можешь до меня дотронуться? – спросил он, бросил тост и стряхнул крошки с груди.
– Не могу.
– Ты можешь у меня что-нибудь забрать? Хоть эту мокрую футболку, – он показал на вещи, разложенные на камнях.
– Нет, – ответил я.
– Ты можешь только давать? – он показал открытые ладони.
– Да, – согласился я.
– Тогда почему бы тебе просто не дать мне дом и еду. К чему лишние трудности? Даже у твоего единорога есть навес и постилка. Я вынужден спать на ней. Это оскорбительно. Так-то ты встретил того, по ком успел соскучиться. Что ж, я голоден и промок, а ты предлагаешь добывать еду, строить хижину. Намек понят. Хорошо. Где мои снасти, оружие, где инструменты, электричество, топор для начала, или я это тоже должен изобрести? Ты дал мне симпатичное тело, им можно любоваться, но поверь мне, оно не предназначено для того, чтобы валить деревья или разделывать туши, – его голос был ровным, мелодичным. Он сгреб гальку и стал строить пирамидку. – Не обижайся, Платон, на претензии, но поставь себя на мое место – и поймешь, что я объективен. К тому же я не хочу никого убивать ради еды, а тут без этого никак, иначе где я буду брать мясо? Рыбу тоже не смогу тюкнуть камнем. Прости, но это факт. А на твоей вегетарианской диете долго не протяну. Что скажешь?
– И что предлагаешь? – недовольно спросил я.
– Историческую справедливость. Полный пансион, – не раздумывая ответил он и разрушил пирамидку.
– То есть?
В голове не укладывалось, что человек не может жить самостоятельно и его придется содержать. Видимо, я ошибся, и ошибся потому, что поставил себя на его место. Я бы выжил.
– Мне нужен дом и готовая еда, – пояснил Давид. – Я так понимаю, бутерброды с ветчиной ты не сам готовил и греха в этом смысле на тебе нет? – он поднял брови вверх, широко улыбнулся и с таким выражением ждал моего ответа. Я чувствовал себя магом, у которого на смертном одре выманивают секреты мастерства.
– Хорошо, будь по-твоему. Я дам тебе дом, и в еде ты не будешь нуждаться, обещаю… Господи, как же эти аллюзии к раю начинают меня напрягать! – взмолился я.
– А ты расслабься. Забыли, забыли, а то опять дождь пойдет, а у меня вещи не досохли. Дыши глубоко, ровно, – Давид встал и посмотрел на горы. – Теперь надо решить, где поставить дом. Я бы, конечно, предпочел поселиться рядом с тобой, раз уж, кроме нас, тут никого. Если ты не против, конечно. Где ты живешь, на пляже или в горах? У тебя вообще есть дом, или, как бы помягче выразиться, ты вездесущий? Прости, пожалуйста, но меня всегда волновал этот вопрос.
– Давид, я не бог, я человек. Самый обыкновенный. Не знаю, как тебе это доказать, – я начал уставать от болтовни.
– С моей позиции, ты не человек. Я могу подыграть и притвориться, что поверил, но будет ли это честно? Рано или поздно тебе придется принять новое амплуа и научиться с ним жить. Не понимаю, чего ты цепляешься за свою человечность, ты же вполне успешный бог, судя по тому, как тут все правдоподобно. Надеюсь, Земля не плоская? – он сложил ладони вместе и изобразил рыбку.
– Нет, я проверял, – сказал я сквозь зубы.
– Тогда вообще порядок. Так что с твоим домом? – спросил он.
– Мой дом условно можно назвать домом. Это свет, в котором я появился здесь и откуда все пошло. Он недалеко отсюда, в саду, который я посадил в напоминание о своей прошлой жизни.
– Сад, говоришь… – многозначительно протянул Давид и склонил голову набок.
– Хватит, Давид, ты все опошляешь. Пойдем, раз решили, – отрезал я, задетый его намеком.
На раскаленных камнях одежда высохла, и он одевался, мурлыча под нос песенку:
– Я, конечно, всех умней, всех умней, дом я строю из камней, из камней…
В корзине он нашел бутылку воды и засунул ее в задний карман джинсов.
«Прямо как я», – подумал я. Он услышал и переспросил, что я имею в виду, и мой ответ его развеселил:
– В самом деле? – спросил он, с интересом осматривая свой гардероб. – Это твои вещи, ты так одевался и запихивал бутылку сюда? М-да… У меня такая же привычка. Выходит, мы с тобой не такие уж разные. Ты можешь дать зеркало? Я хочу посмотреть на тебя со стороны. На себя, но как бы на тебя. Ну ты понял.
– Нет, сейчас не могу. Я так не умею, – извинился я.
– То есть ты не везде волшебный? – поддел меня Давид.
– Не везде, – согласился я.
– Понимаю, ты только учишься, и тебе нужна особая обстановка и настрой, чтобы творить, – он подошел к истукану и погладил его.
– Давид, хватит меня смущать. В целом ты прав, но поговорим об этом позже, – я приободрился, чувствуя, что мы поладим.
– Хорошо, как мы пойдем, ваша невидимость? Будешь голосовым навигатором: поверните направо, поверните налево, теперь прямо? – спросил Давид и показал жестами направления.
– Поступим проще: следуй за единорогом. Люций, проводи Давида к дому, пожалуйста, – скомандовал я.
Последняя фраза была обращена к кустам. Кусты расступились, из них вышел виноватый Люций.
Путь наверх занял около часа. Давид шел медленно, пробираясь через заросли бамбука и эвкалипта, петляя между деревьями и сетуя, что я не положил асфальт. Я объяснил, что горный ручей можно использовать как тропу. Обычно воды в нем по щиколотку, идти легко и приятно под навесом крон, но сейчас после грозы он превратился в бурную реку, и туда лучше не соваться. Давид пошел проверить, я следом. Вместо ручейка, робко бежавшего по камням в глубине оврага, он увидел бурлящий поток, рвущийся из берегов, и отпрянул. Мы миновали мандариновую рощу и вышли к саду, за которым простирались альпийские луга и чернели горы. Давид ахнул.
– Интересно, смогу ли я войти в твой дом? – спросил Давид. – Давай проверим. Показывай, где он?
– Сделай три шага вперед – и окажешься в нем, – сказал я и вошел в комнату первым.
Меня окутали свет и тишина. На миг я забыл обо всем, будто подставил лицо под теплый душ и закрыл глаза, а когда повернулся к окну, увидел Давида, лежащего на траве, растерянно открывающего рот в немом крике. Я тут же бросился наружу.
– Платон! – вопил он.
– Прости, не хотел пугать. Я зашел, а ты не смог. Ты его не видишь, не чувствуешь, как и меня. Вот в чем штука, – начал оправдываться я.
– И ты не слышал мои крики? – он поднимался на ноги, стиснув зубы.
– Нет. Наверное, в этом плюс любого дома – закрываешь дверь и наступает тишина. Я увидел тебя в окно и выскочил, – ответил я.
– И как часто ты любишь бывать дома, Платон? – серьезным тоном спросил Давид, потирая коленку.
– Как и все, наверное. По натуре я домосед, если честно, – ответил я, не понимая, к чему он клонит.
– Ну, это многое объясняет… – промолвил он. – С другой стороны, должно же быть у человека место, где он может побыть один, без человеческих воплей. Пока что я тут один, а потом, когда нас будет… М-да… Перспективка… А аптечки у тебя нет? – он рассматривал свежую дырку на джинсах и пытался просунуть в нее палец.
– Я тебе дом аптечкой укомплектую, это же минутное дело. Куда ставить будем? – я навис над ним и тоже уставился на его колено.
– Давай вон там, – Давид выпрямился и показал на каменистый берег горной реки, которая протекала по границе сада. – И сад вырубать под стройку не придется, и речка под ухом будет шуметь-журчать.
– А что насчет дизайна, этажности и материалов – пожелания будут? – я мысленно потирал руки, мне хотелось создать что-нибудь грандиозное.
– Платон, я тебя умоляю… Я же в раю и хожу в шмотках бога, чего еще мне желать? – его искренность поразила меня до глубины души. – А в каком доме жил ты, каким он был? Большой, маленький, или ты ютился коммуналке?
– Никогда нигде не ютился, – оскорбился я. – У меня был дом. Сам построил. Два года ухлопал, и не зря. Мечту построил, а не дом, вторую кожу себе вырастил.
Воспоминания нахлынули, и я ясно увидел себя стоящим перед своим двухэтажным особнячком темного дерева с восемью большими окнами по фасаду, расчерченными белой раскладкой на европейский манер, смотрящим на его открытые ставни второго этажа и прижатый к боковой стене дымоход из красного кирпича, что шел от камина, который я выложил сам. Вспоминал, как под его ломаной крышей на мансарде обустроил игровую и детские на случай, если у нас появятся внуки, но случай так и не представился, да и я не дожил. Комнаты остались кристально чистыми, я не развел там даже пыли, не то что склада барахла, как это заведено в больших домах и вообще. После отъезда жены стал пустеть и второй этаж. Я перестал заходить в спальню и обжился в кабинете. Комната сына по соседству была заперта – и когда он жил с нами подростком, и когда окончательно перебрался в Москву. Я совсем забыл, как она выглядит. За год до юбилея, оставшись в одиночестве, я разом почувствовал, будто дом обрушился на меня всей тяжестью, стал мне велик, в нем невозможно было согреться и у огня. Я подумывал бросить его и уехать, но потом свыкся и понял: это был мой дом, просто очень просторный дом, в котором могло быть хорошо как с близкими, так и одному. Давид вернул меня в реальность внезапным возгласом:
– Вот это домина!
– Японский бог! – вырвалось у меня.
На другом берегу речки стоял мой дом во всем великолепии, только без забора и лужайки. К нему вел подвесной мост. Я потерял дар речи.
– Сам от себя в шоке, да? – весело спросил Давид. – Впервые что-то сделал не специально?
– Не то чтоб не специально, – пытался я найти объяснения, – все вышло само собой и здесь, а не дома, где я обычно… колдую, если так можно выразиться, – вымолвил я.
– Помнишь, о чем я тебе говорил? Твоя сила всегда с тобой. Должно было случиться нечто подобное, чтобы ты понял. И как ощущение? – поинтересовался он.
– Хорошо, как обычно, – ответил я. – А должно быть иначе?
– Нет, не должно, в том и смысл. Пойдем дом посмотрим, что ли. Мне устроиться надо. Скоро ночь, спать охота. А ты по ночам спишь? – спросил Давид, направляясь к мосту.
– Нет, я совсем не сплю и даже не моргаю, – ответил я.
– Трындец. А чем занимаешься?
Он хоть и прихрамывал, но шел быстро. Будь я человеком, я бы едва за ним поспевал.
– Дома сижу или летаю по берегу с Люцием.
– Сочувствую, – сказал Давид и ступил на мост, схватившись за перила.
Пока мы осматривали дом, солнце село и начался дождь. Я не смог справиться с нахлынувшей печалью, и Давид, глянув в окно, промолчал. Он разжег камин, постелил себе на диване в гостевой, объяснив это тем, что выбор комнат слишком велик, чтобы делать его наспех. На том мы распрощались.
Наутро я встретил его по дороге с моря. Он ехал верхом на Люции, держа на вытянутой руке мокрую наволочку, в которой что-то трепыхалось. Подъехав к дому, он спешился и позвал меня.
– Я с рыбалки. Тут водятся крабы, ты в курсе? Жаль, что ты не ешь, я бы тебя угостил! – сказал он.
– А мне-то как жаль, – ответил я.
– Я вот о чем подумал, Платон, – он присел на крыльцо и вытряхивал крабов в металлическое ведерко. – Ты решил, что будешь делать дальше? Я ведь не предел… – он бросил взгляд в мою сторону так, будто точно знал, где я нахожусь, и снова занялся крабами. Он извлек последнего из импровизированной сумки, поставил ведерко на землю и протер круглый стол, который вынес из дома, чтобы обедать на свежем воздухе.
– Пока не хотелось бы ничего делать и что-то менять. Да и зачем, если разобраться. У меня есть все, что нужно, и есть ты, – ответил я.
– А Люций? – спросил Давид, бросил тряпку и сел на ступени.
– Что Люций? – усиленно соображал я.
– Почему он один? – как бы между прочим спросил он, и я расслабился.
– А, ты об этом… Сам не знаю, но он как-то появился в процессе. Я же зверей не поштучно вспоминал, и Люций, можно сказать, микросбой в программе. Немного увлекся, что ли.
– А пару ему почему не создашь? Ему ж с тобой скучно, – сказал Давид.
– Это ты верно подметил. Но я много раз пробовал, не получается. Видимо, в здешнем мире на все дается одна попытка, если я правильно понял. Инструкция к нему не прилагалась, а спросить не у кого, – посетовал я.
– Ты в этом уверен? – мне почудилось, или он посмотрел мне прямо в глаза.
– Конечно. Я пытался общаться со светом, но без толку. Кроме меня, здесь никого, и до всего приходится доходить своим умом и учиться на своих ошибках. Считай, очередная жизнь, только длиною в вечность. Ну, и куча задач со звездочкой, если пыхтеть, а если ничего не делать, то все вопросы отпадают, – объяснил я.
– Знаешь, ночью мне не спалось, и вот что надумал. Ты упрямо отрицаешь очевидное. История повторяется. Возможно, она происходила и происходит с другими. Ты переживаешь ее как личный опыт и не терпишь аналогий, но они вылезают на каждом шагу. А что, если с твоим богом было то же и он угодил в такой же переплет? Только он не бился как рыба об лед, не доказывал, что он человек, а сразу расставил точки над i и принял правила игры. Сколько существует наш мир на земле? Прости, что говорю «наш», но видимо благодаря тебе, я другого не знаю и твой познаю в сравнении. Так сколько – с момента появления разумного человека?
– По официальной версии, около шести тысяч лет, – неуверенно ответил я, – хотя новые находки говорят о появлении человека более трехсот тысяч лет назад, цифры меняются.
– Значит, тебе осталось найти бога, у которого опыт выживания здесь хотя бы на шесть тысяч лет больше, чем у тебя. Подумай как. Наверняка на это тоже дается одна попытка, – деловито отметил Давид, взял ведерко с крабами и понес его в дом.
Я не успел возразить, да и возражать было нечего. Меня не раз посещали эти мысли, но я их гнал, считая, что со своим миром я в состоянии разобраться самостоятельно. Появление Давида придало уверенности и сил, а после того, как я создал ему дом, изменилось и мое отношение к свету. Он больше не приносил покоя и радости, не дурманил. Вдруг он стал склепом – пустым холодным убежищем живого покойника, гробом Дракулы, без которого я не мог обойтись. Но патологическая связь с ним, как и невидимость, не делали меня богом. Они мешали насладиться счастьем и построить жизнь, о которой я мечтал. Будь моя воля, я бы стал человеком и сейчас бы варил крабов вместе с Давидом, а не размышлял над тем, есть ли в природе мне подобные, бог ли я и есть ли бог, знающий, как сотворить второго единорога.
Давид вынес вареных крабов в тазике, поставил на стол бутылку вина, стакан и сел есть, извинившись, что трапезничает в моем присутствии. Он ел не торопясь, с большим удовольствием. Расправившись со вторым крабом, он поднял стакан и сказал:
– За тебя, Платон! – он сделал пару глотков и зажмурился от удовольствия. – Теперь самое время поговорить обо мне.
– Говори, слушаю.
– Вчера я расшиб колено и осознал одну вещь… – он поджал губы, опустил глаза и произнес хештегом: – Я смертен.
– Что? Как ты это понял? – спросил я и сам едва расслышал свой голос.
– На коленке появился синяк, ссадина, шла кровь, мне было больно. Это расходится с концепцией рая, либо мы сразу перешли к той части, где все все поняли и знание обернулось против них, – ответил он.
– Но это не рай, Давид! – возмутился я.
– Платон, давай не начинай, – он выудил краба из тазика и стал играть с ним, как с марионеткой, отображая на нем свои эмоции. – Мягко говоря, я расстроен, потому что надеялся на вечное блаженство в твоей компании. Ты мне симпатичен, и мы могли бы провести тысячи ночей в беседах ни о чем и о чем-то. Моя смертность все меняет, – краб воздел клешни к небу и обрушил их себе на голову. – Это катастрофа, – сокрушался краб. – Понимаешь, дружище, бог ты мой ненаглядный? Вляпался ты. Мы вляпались, – ножки краба подогнулись, и он плашмя упал на стол, на прощанье помахав клешней.
– Я был смертным, но меня это не огорчало. Здесь тоже все смертные. Я вчера видел дохлую птицу. Твой краб… Почему ты встревожился? Или это связано с тем, что мы так и не пришли к единому мнению о том, считать этот мир раем, а меня – богом или нет? – спросил я, глядя, как Давид отшвыривает в таз претендента на «Оскар».
– Моей жизни точно не хватит, чтобы закончить спор, – горько улыбнулся Давид, – я о другом. С моей смертью ты навсегда лишишься общества человека. Споткнувшись на Люции, ты мог понять: чтобы ты ни делал, второго шанса не будет. Одна черта подведена – бедный Люций умрет в одиночестве и оставит твой мир без волшебства, но ты наступил на те же грабли, сотворив меня. Я – вторая черта, за которой ни черта. Умру, и ты останешься один, – он развел руками. – Судя по всему, ты не сможешь создать второго человека, – резюмировал Давид.
– А если попробовать? – промолвил я.
– Попробуй, – сказал он отрешенным тоном. – Возвращаясь опять же к твоему предшественнику, вспомним поучительную историю, где он лепит женщину из ребра Адама. Как ты думаешь, почему? Что ему стоило взять прах земной – или что он там брал для замеса человека – и сделать женщину? Правильно, ничего он не брал! Он, как и ты, имел один шанс и истратил его на человека, с которым хотел говорить. Ну, или допустим, он был дремучий и желал, чтобы человек ему пел или танцевал, к примеру. Неважно. Потом он как-то исхитрился и сделал Еву. Вопрос – как?
– И что делать? – я впился в него глазами.
– Для начала попробуй создать второго. Если не получится, у нас с тобой не так много времени, чтобы найти того, кто знает способ воспроизводства человеческой популяции. Мне бы не хотелось оставлять тебя здесь одного.
– Мне никто не говорил таких слов, Давид, – мой голос дрожал. – Ты и в этом первый человек.
– Ладно, не раскисай, а то у меня планы под открытым небом, – Давид встал и свистом подозвал Люция. – А ты лети в кабинет и попыхти над проблемой века, там тебе привычнее. И вообще, перебирайся в дом, что мне тут одному делать, – он вскочил на Люция и пустился куда-то вверх по саду.
Я поднялся в кабинет. В нем все было как в день отъезда. Записка лежала там, где я ее оставил. Как бы я хотел взять ее и порвать в клочья. Парадокс заключался в том, что, вернись я назад, снова бы написал короткий роман, и восхищался бы им, и чувствовал то же, ведь тогда я жизни не знал. Сейчас говорю себе: «Ты поспешил с выводами, думая, что понял и увидел достаточно. Шел по жизни крадучись, хотел покинуть ее, осторожно прикрыв за собою дверь, а сгинул нелепо, оставив после себя прощальную насмешку: „Всем спасибо, до свидания“. В ней нет ни йоты смысла. Кому – всем? За что спасибо? До какого свидания? Умирать надо молча: это, по крайней мере, естественно».
Нет, я не стал другим, не избавился от страдания, хотя мог, свет позволяет. Но я не торчу в нем, выхолащивая чувства и одурманивая разум, чтобы не потерять себя. По прошлой жизни не тоскую и понимаю, что умер вовремя. Случайно, но вовремя. Не нравилась мне жизнь – может, оттого что моей она не была? Что-то принадлежало мне, но не она. Здесь все иначе, и потому вечность не пугает. Трудно объяснить, но как только мой мир стал появляться на свет, я почувствовал, что он мой, – он вышел из меня, будто сама душа выплеснулась наружу. Затем появился Давид и стал мне другом. Я бы хотел видеть его счастливым. Он думает обо мне больше, чем я того заслуживаю, его заботит мое будущее, а не его настоящее, и в этом он не совсем обычный человек. В нем нет хитрости, его искренность подкупает, он готов отдать все, ничего не требуя взамен, будто несметно богат, и сожалеет лишь о том, что я останусь один. Он видит во мне бога, но не просит о помощи, а помогает. Вот настоящее чудо.
Сколько бы я ни силился создать человека, у меня ничего не вышло. Пробовал вообразить женщину и даже пошел на отчаянный шаг – подумал о любимой, по которой иногда скучал, будто бы все еще надеялся на встречу. Вспомнил о Вере. Душу вымотал, и только. Пожалуй, я знал заранее, что ничего не получится, но должен был попытаться для очистки совести. Когда вернулся Давид, настала моя очередь разводить руками.
– Ничегошеньки? – спросил он и, потрепав Люция за гриву, отпустил гулять. Его наволочка-сумка была полна яблок, он выкладывал их на стол и рассматривал.
– Да, особо не надеялся.
– Я тут подумал, пока гулял. Есть запасной вариант, на крайний случай, – начал он.
– Какой? – перебил его я.
– Когда умру, приду к тебе и помогу создать пару, а может, и народ. Мы все исправим, так должно было быть с самого начала. Я твой второй шанс. Не унывай. Проживем сколько проживется, а потом будем вместе целую вечность, как я мечтал, и у тебя будут люди, и ты не останешься один.
От его слов в глазах потемнело.
– Постой, Давид, во-первых: я ни слова не говорил о народе.
– Платон, тут без вариантов. Либо я и больше никого никогда, либо люди, которые неизбежно превратятся в народ, – настаивал он.
– Допустим, но в этом вопросе мне нужно время, чтобы решиться. Ты сбиваешь меня с толку своими аллюзиями, и я еще не готов к той роли, которую ты на меня возлагаешь. В любом случае с людьми ничего не получается, – отрезал я.
