Время в природе и науке
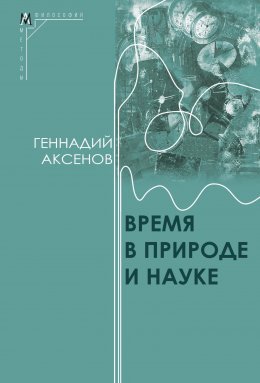
© Аксенов Г.П., 2024
© «Гаудеамус», оригинал-макет, 2024
© Издательская группа «Альма Матер», серийное оформление, 2024
Предисловие
Проблема времени заинтересовала меня еще в 1979 году как одна из вечных и предельных тем естествознания и философии. В некоторых популярных статьях авторы с почтением ссылались на труды академика В. И. Вернадского по этому вопросу. Обратившись к ним, я сразу понял, что непременным условием для решения сакраментального вопроса «Что такое время?» служит другое времяподобное понятие – вечность, но не в религиозном или в абстрактном философском смысле как единство прошлого, настоящего и будущего, а в более простом естественно-научном смысле, т. е. нескончаемое число лет. С биологической и геологической точек зрения вечно то, что не имеет начала, течет бесконечно. Вернадский утверждал, что из всех природных явлений единственно непрерывно только течение жизни, все остальные вещи бренны, возникают и разрушаются. Следовательно, жизнь не случайна, более того – необходима во Вселенной. Значит, время течет как смена поколений организмов.
Для меня такое простое решение оказалось неожиданным и в некотором смысле обрушилось на меня как откровение. Произошла гигантская перестройка в мозгу, все знания, школьные, институтские и приобретенные в зрелые годы, вдруг начали укладываться совершенно непривычно, но удивительно логично. Вся привычная картина мира перестала быть противоречивой, многие ее нерешенные загадки оказались если не разгаданными, то обретшими более четкую перспективу.
Ключевой мыслью, буквально сильнейшей вспышкой света стала для меня фраза из статьи Вернадского «Начало и вечность жизни». В статье он если не опроверг, то поставил под сомнение широко распространенный в науке (в том числе и в моих воззрениях) абиогенез, т. е. привычную для всех идею происхождения жизни из косной материи в каком-то неопределенном далеком прошлом. Фраза звучит так:
«Абиогенез, по этим представлениям, был в начале эволюционного процесса, был, может быть, процессом длительным, неповторяемым в условиях существования Земли, как недостижимо и неповторяемо для нас искусственное обратное превращение позвоночных в их отдаленных предков. Абиогенез, по этим представлениям, есть одна из стадий эволюционного процесса, связанная с теми неповторяемыми и невосстанавливаемыми земными условиями, какие не повторяются и не восстанавливаются для любого эволюционного изменения организма. Мы прежде всего не можем восстановить необходимое и неизбежное для этого – время»[1].
Здесь я остановился и понял принципиальную новизну такой постановки проблемы. Точно помню, когда и где это произошло: в научном читальном зале нашей государственной библиотеки в конце февраля 1981 года.
Вот оно что! Любой, даже самый примитивный организм не мог образоваться из ничего или из материи сам собой, потому что он не мог встроиться в уже шедшее до него время. Оно уже длилось и текло до него. И если кто-то в лаборатории, а таких экспериментаторов в истории науки и сегодня не счесть, вдруг воспроизведет живую клетку или ее самую значимую часть, которая вдруг начнет самосборку, он не сможет пустить созданные химические структуры в ход, заставить их жить. Все такие попытки в прежней науке, а их много и подробно разобрал Вернадский, оказались тщетны не из-за недостаточной изощренности ученого или слабой оснащенности лаборатории. Нет, просто они всегда будут тщетны. Нельзя обойти закон природы. Значит, время суть закономерное и неотменяемое природное явление. Его нельзя запускать заново, оно может течь, только будучи рожденным от такого же живого и текущего.
Это была такая простота, которую невыносимо трудно осознать из-за привычек мышления. Испытанная мною сильнейшая перестройка в воззрениях объясняется тем, что до того я был уверен, что живые организмы «произошли», «появились» когда-то в каком-то случайном порядке. Происхождение жизни – настолько привычный тезис, что за века культивирования стал уже как бы врожденной установкой сознания, впитываемой в самом нежном возрасте. Отчасти из-за очевидного и неоспоримого факта, что тебя самого тоже ведь не было, а потом появился.
Причем данные о биологическом характере времени еще можно было принять, что и было мною сразу воспринято. Тем более такие парадоксы звучали иногда, особенно в поэтической речи. «Не время проходит, мы проходим» – такие фразы у поэтов и философов стали уже трюизмом. Но вот сопряженный с первым второй тезис – о всегдашности жизни – воспринимался с бóльшим трудом. Если первый я осознал с радостью и как бы ожидаемо и сразу начал его пропагандировать в своих историко-научных эссе, то к глубокой революционной новизне второго я привыкал не менее двадцати лет.
Первым научным и литературным опытом на этом пути стала моя статья в академическом журнале[2]. Затем последовали и другие тексты[3].
Но самое интересное, что более отчетливо выяснилась не только текущая современная ситуация, но прямо-таки актуальными оказались прежние разработки по данному вопросу в истории философии и науки. Рассмотренные с точки зрения концепции «время – это жизнь», все исследования, касавшиеся вопроса о времени и пространстве, выстроились в определенную обратную перспективу до самых первых шагов науки – в Античности. Стало ясно, кто был предшественником концепции Вернадского, кто внес в нее наибольший вклад или натолкнул на нужное понимание каких-то деталей, а кто вносил в проблему путаницу. Тем самым получалась долгая историко-научная дорога, которую я и описал в хронологическом порядке как семинар, продолжавшийся две с половиной тысячи лет[4].
Работать над темой я не переставал. Понятие времени имеет одно удивительное свойство. Оно относится буквально ко всем научным дисциплинам, начиная от самых абстрактных и кончая общими представлениями о научной картине мира в целом. Как раз такой широкий спектр и объясняет, что оно, время, присуще жизни, которая тоже обладает таким широчайшим статусом вплоть до художественного ее отображения, например, в слове или в музыке. И с каждым новым дополнением картины само понятие увеличивается в объеме. Так происходило и у меня. Приходится быть универсалом, но главный смысл от этого только укрепляется.
Вот почему я решил, что необходимо дополнить книгу вышедшими в разное время статьями, в основном в журнале «Вопросы философии». Наше современное понимание времени настолько далеко от его решения Вернадским, что считается вопросом философским. Именно в таком смысле время понималось историками науки, которые статьи ученого упорно относили к философии. Так назывался, например, сборник множества работ по проблемам времени и пространства, приуроченный к 125-летию ученого[5]. Мне однажды пришлось даже специально выступать с опровержением такой квалификации трудов на эту тему[6]. Дело в том, что в советское время Вернадского постоянно обвиняли именно в философских грехах, несмотря на его настойчивое указание относиться к его трудам как к научным.
Но и сегодня никакой научный журнал не примет статью с общенаучным представлением о времени, потому что все они специализированы, поэтому проще печатать такие статьи как относящиеся к философии науки или к ее методологии.
Я остаюсь в своем убеждении, что к проблеме можно относиться и с философской точки зрения, и с научной. В данной книге есть и тот и другой ракурсы, недаром в ней собраны идеи множества ученых и мыслителей, начиная с Античности. Но одно отличие философского языка от научного кардинально все решает. Наука начинается с измерения, когда необходимо в основание положить не рассуждения, а научные данные, которые, может, и не относятся к данной проблеме, а делаются в положительной науке совсем с другими целями. Зато они, как правило, точны. Так и получилось в данной книге. В ней есть глава 21 из «Причины времени», в которой речь идет о единице времени, которая найдена в биофизике, но не считается именно единицей времени. И глава эта является пиком научного подхода к данной тематике в целом.
В заключительных статьях исследуется и дополнительно разъясняется главная научная тема биологического характера времени и пространства. Здесь присутствуют некоторые неизбежные повторы с предыдущими текстами, которые я старался избегать. Но я надеюсь, что для читателей разных специальностей они послужат соответсующими направлению находками.
Время в природе и науке
Введение
Объяснение применяемых понятий
Что такое время? Никакого более отчетливого ответа на такой вопрос, кроме как: «Время – это то, что измеряется часами», – сейчас в нашем знании нет, не существует. По общему мнению современных ученых, время, как и пространство, есть неопределяемые в науке понятия[7]. Но если время есть просто чисто умственный продукт, миф, как, например, ангелы или ад, тогда почему оно применяется не только в обыденной жизни, но и в науке? Если оно относится к чисто философским понятиям, к умственным идеальным конструкциям, прикладываемым к действительности, аналогичной таким категориям, как «возможность» или «качество», то почему оно измеряется? Может быть, время есть нечто похожее на обычные человеческие ощущения, такие, например, как кислое, сладкое, соленое? С таких «проб», правда, началась химия, остатки чего мы видим в языке: кислород, мягкая вода. Не есть ли оно предмет обыденного знания, аналогичное понятиям «небо» или «горизонт», давно устаревшим и исчезнувшим из научного обихода?
Но все-таки символы в любой научной формуле, означающие время и пространство – t и l, не есть отпечаток ни религиозных чувств, ни философское понятие, ни субъективный опыт наших чувств, но что-то относящееся к объективной природе. Время течет как-то одинаково для всех, абсолютно строго, причем все уточняется приборами для потребностей научной, государственной и общественной жизни.
Несмотря на почти полную неопределенность, чуть не поминутно мы думаем, вспоминаем о времени, то и дело обсуждаем сроки, периоды, вехи времени; мы спешим, чтобы успеть, мы медлим и делаем еще тысячи вещей, связанных со временем. В частотном словаре русского языка среди значимых знаменательных слов время стоит на третьем месте, а если сложить его еще с одним, почти столь же употребимым – год, то они выйдут на первую позицию, оттеснив то слово, которое мы употребляем, как оказалось, всего чаще – «я».
Несмотря на такую частоту употребления слова «время», ясности в понимании нет. Подавляющая доля книг и статей о нем написана очень тяжелым языком, с трудно выговариваемыми словами. Ни в одной другой области философии и науки нет такого нагромождения собственной, авторской, необщепринятой терминологии, как здесь. Собственно говоря, путаница и взаимное непонимание возникают оттого, что самой науки о природе времени и пространства нет. Есть наука об измерении времени и пространства, и тут все проще. Технические подробности заменяют понятийную сторону. Но никаких «темпологий», «хрономий» или еще чего-нибудь в таком духе нет, не сложилось. Область эта еще должна выделиться из философии. Сугубая сложность и путаница есть показатель того, что наука пока не рождена. Она все еще тащит за собой плаценту абстрактных понятий, силится стать на ноги. А это произойдет тогда, когда философские категории будут заменены более четкими и однозначными научными терминами.
Во всех общедоступных словарях ставится вопрос о сути, сущности времени, как будто все хотят прямо сейчас сказать, что оно такое. Но наука не изучает сущностей, как философия, а только явления. И потому ответы крайне неясны и сводятся к тому, что время – это что-то вроде абстракции, указывающей на всеобщее течение всего. Или оно есть не что иное, как иллюзия.
Вот что сказано в Британской энциклопедии: «Одна из граней человеческого сознания есть представление о времени. Люди чувствуют прохождение времени в их личном опыте, физически и вместе с тем психически и наблюдают его в окружающей среде как социальной, так и природной (одушевленной и неодушевленной). Время, как свидетельствует опыт, есть однонаправленное движение, темп (pace) которого достаточно медленный для того, чтобы его различить. (Актуально текут только материальные флюиды, но, как и вообще в физическом опыте, время может быть описано только на языке физических феноменов.) Люди чувствуют и думают в ходе времени. Они также действуют в нем, овладевая им либо в достаточной, либо в недостаточной степени». Далее говорится, что время кажется текущим как вокруг, так и в нас самих. И вообще автор статьи (A.J.T.) склоняется к мнению А. Уайтхеда, что время есть феномен метафизический и его течение может быть схвачено только иррационально, поэтому лучше считать его иллюзией. И далее авторы переходят к истории представления о времени в философии в настоящую эпоху и к измерению различных времен: астрономического, геологического и т. п.[8]
Французский «Большой Ларусс» определяет время более отвлеченно: «Фундаментальное понятие, представляемое как бесконечная среда с определенной последовательностью событий: история располагается во времени и пространстве». Далее следуют еще 11 значений слова «время»: период, эпоха, характеристика, состояние чего-либо, а затем описание различных времен: астрономического, геологического, биологического, экономического, после чего авторы статьи переходят к способам измерений времени.
В нашей Большой российской энциклопедии время определяется более просто: «ВРЕ́МЯ, одна из координат в современной четырехмерной геометрии мира… В более широком смысле В. рассматривается как некий континуум, внутри которого существует бесконечная Вселенная». И далее тоже идет речь о конкретных временах (атомное, геологическое и т. п.) и способах его измерения.
Итак, везде мы видим попытку сразу взять быка за рога и дать какое-нибудь вразумительное определение по модели «Что есть время?». Наиболее реалистично поступили английские авторы, связав время с ощущением его; мне лично такая попытка кажется практичной, во всяком случае, менее претенциозной. Зато все сразу переходят к способам измерения, что значительно легче и осязаемее.
За более подробными разъяснениями приходится обращаться к философским словарям. Так, в одном из последних время называется фундаментальным понятием человеческого мышления, и далее следует пугающее множество других определений, исходящих из конкретных материальных процессов.
Одно из них ставит в тупик. Если время есть атрибут, т. е. свойство предмета, почему оно – всеобщее свойство. Свойство можно определить только через сравнение относительно других свойств. Надо понять, что отличается оно качественно и количественно от них. Но если свойство всеобщее, принадлежит всему на свете без исключения, то как и с чем его можно сравнивать? Чем отделить от другого атрибута? Может ли быть атрибут универсальным, относящимся ко всему без исключения?
Если время – всеобщее свойство, значит, оно все определяет, им можно все описать? Напрашивается, например, простой вопрос: это время всему придает длительность, благодаря ему все длится? Нет, словарь утверждает совсем другое: не оно формирует свойства вещей, напротив, оно само определяется различными процессами в материальном мире, т. е. время как бы вторично, производно, но тогда это заявление противоречит понятию «всеобщая форма». Получается, что времени общего и единого для всего вообще как такового не существует, оно бытует только в некоей особенной форме: времен столько, сколько существует самих материальных процессов. Тут возникает почтенная платоновская философская проблема: существует ли стол как таковой или только конкретный стол, сделанный из определенного материала и в своей особенной конкретной форме. Этот тупиковый спор существует только потому, что он неправомерно перенесен из философской области, где изучают сущности, субстанции, общие идеи, в научную, где изучают явления, измеримые вещи, не вдаваясь в стоящие за ними сущности.
Выходит, данное определение, как и многие другие, только все запутывает, и все потому, что тщится выяснить сущность времени.
Вероятно, нам следует смириться и не пытаться понять и определить время как таковое, выяснить его кардинальную природу на манер философских словарей или пытаться определить его сущность с помощью запутаннейших, каждый раз придумываемых заново в каждой данной науке или в философии терминов. Надо ограничить свою задачу, потому что только ограничение усиливает. Может быть, следует отказаться от претензии познать сущность времени и пространства, ухватить их суть, оставить в стороне субстанции, первоосновы и вместо всего самого главного уточнить второстепенное: почему идет время? Вместо познания сущности мы тем самым обратимся к обычным явлениям природы[9].
В последнее время намечается такой подход в некоторых исследованиях. Немалую известность приобрели книги американского теоретика Дж. Т. Фрейзера, основателя Международного общества по изучению времени. Имея в виду эволюцию мира от простого к сложному состоянию, Фрейзер насчитывает шесть «уровней темпоральности», т. е. степеней временности для различных физических, биологических, социальных реальностей. Они развиваются и переходят один в другой[10].
Определение времени и пространства как явлений природы оказывается, впрочем, более ответственным, чем определение их как сущностей. Оно отрывает данные понятия от философских, потому что переводит в разряд природных феноменов, которые служат объектами науки. Явление природы, следовательно, не может быть всеобщим свойством (атрибутом) материи или некой формой всего. Любое явление, если оно именно явление, т. е. то, что измеряется или описывается научным языком, не бывает всеобщим, не бывает повсеместным и вездесущим. Таких нет. Не повсеместно ньютоновское тяготение, не повсеместно электричество как явление природы, не повсеместны лес, вулканы, любые естественные тела или процессы природы. И если время и пространство измеряются, как же им не быть вполне конкретными, ощутимыми и осязаемыми нашими органами чувств или их продолжением – приборами? С ним можно работать, что мы и непрерывно делаем, измеряем часами или чем-нибудь еще, прикладываем разные линейки к поверхностям, т. е. определяем величины в пространстве и используем их для различных надобностей. Отличие объекта науки от предмета общих и неконкретных рассуждений в том, что его необязательно понимать, уяснять его суть, как уже говорилось. Его нужно принимать, использовать и применять таким, как оно есть, – непонятным. Если мы дадим себе труд подумать, все предметы науки этим и отличаются. Мы с ними работаем, и в их использовании заключена их суть, а не в том, чтобы понимать, что они такое. Наше достоинство и наш вместе с тем недостаток состоит в том, что мы сначала действуем, а потом соображаем. Но такова данность.
Итак, условимся для начала считать время явлением природы и, следовательно, не универсальным, а вполне локальным явлением, как и все прочие. Вот, к примеру, такое явление, как электричество. Если спросить любого физика, ни один не объяснит до конца, что оно такое. Зато оно замечательно описано, выяснены все законы, по которым оно существует. Благодаря этому описанию с ним работают. Хотя лучше сравнить время с каким-нибудь более сложным явлением, определяемым более абстрактным словом, к примеру, с наследственностью. Эволюция взглядов на это понятие покажет нам более отчетливо нашу проблему со временем и пространством. Судьбы их схожи, поскольку мы можем теперь сказать, к чему слово «наследственность» относится.
В конце прошлого века и в начале нашего слово «наследственность» было не менее отвлеченным, чем слово «время», и не менее запутанным. Оно считалось всеобщим, главным свойством организма вообще. Но с открытием материального носителя все встало на свои места. Оказалось, что наследственность есть свойство не всего организма целиком, у него есть точная локализация, источник; оно диктуется вполне конкретным материальным комплексом, в котором закодирована информация о вполне конкретных свойствах организма. У наследственности есть причина в виде генетического материала, четко локализованного в структуре клеток. Состав генома конкретно отвечает за воспроизведение в следующем потомстве каждого из свойств организма. С его открытием образовались новые науки, хотя наследственность сохранилась и как общее понятие, относящееся ко всем организмам без исключения.
Примерно подобную же эволюцию претерпевает, на мой взгляд, и понятие времени (соответственно, и понятие пространства). Надо считать их явлениями, вызываемыми вполне конкретными и осязаемыми причинами. Оно детерминировано другими природными факторами, при появлении которых обнаруживается и время. Иначе говоря, следует предположить для начала, что время не имеет характера всеобщности, как трактуют философские словари. Оно появляется и может быть измерено лишь при определенных условиях, следовательно, при других условиях не появляется, его там просто нет. Ведь есть области, где электричество или наследственность имеют значение, а в других – нет. Так же и время, и пространство. У них есть не мистическая «всеобщность», но локализованная и не расплывчатая, а вполне конкретная причина.
О ее поисках и находках и пойдет далее речь. Но есть ли основания так ставить проблему: находить и описывать время и пространство через их причину или как-то иначе? Через его природу?
Здесь надо обратиться к конкретным свойствам времени. Какие из них мы знаем?
Прежде всего, всем очевидно, что оно длится. Есть несомненное течение, ход, бег времени. Еще его образно называют рекой времени. Длительность есть настолько ясное и заметное свойство времени, что чаще всего оно и отождествляется с этим понятием. Неосознанно подразумевается, что длительность и время – это одно и то же, хотя по здравому рассуждению длительность нельзя свести ко времени, и наоборот. Время более многоаспектное явление, чем длительность, а последняя есть нечто бесструктурное, беспрерывное, спонтанное, не имеющее ни начала, ни конца. Мы всегда находимся в его середине, на стремнине реки времени, откуда теряется из виду и начало продолжительности, и ее конец. Все можно себе представить, только не мир без длительности.
Далее становится ясно, что длительность каким-то образом связана с делением времени на мерные единицы, на чем основаны все его измерения. Членение времени на мерные единицы знакомо каждому, поскольку существуют часы, делящие наши дни на мерные одинаковые куски. Биение пульса, удары сердца, равномерное падение капель, качание маятника, чередование одинаковых по размеру дней – все это примеры и образы явлений, с помощью которых можно делить длительность, прерывать постепенность. Обыденность этих явлений состоит в их циклической завершенности, повторяемости, когда части чего-то единого выстраиваются и шествуют в определенном порядке. Они существуют благодаря возвращению процесса каждый раз в исходную точку.
Мы, правда, не очень миримся с некоторым произволом в подстановке частиц или временных единиц на место друг друга. Если все способы измерения времени равноценны и являют собой человеческие изобретения, то не имеет значения, чем мы его будем измерять, лишь бы было удобно. Главное, по-видимому, состоит в обеспечении одинаковости, равномерности двух соседних отрезков времени. Если в одном отрезке, названном секундой, заключено столько-то колебаний атомов цезия в кристаллической решетке, то и в другом должно быть ровно столько же. Но при этом всегда тревожит вопрос, на который нам затруднительно ответить: есть ли такое деление времени в действительности или оно возникает только как человеческое искусство? Чем время само по себе делится, без человека? И делится ли? Ведь нельзя же отождествить время со способом его измерения, часы не являются генератором времени на манер электрической турбины, производящей электричество. Что такое природные часы? Обороты Земли вокруг Солнца или вокруг оси? Но стоит вылететь за пределы планеты, как оба этих фактора исчезают, но время на космическом корабле, шедшем, допустим, к Луне, не останавливалось. Поэтому сравнение двух соседних отрезков времени есть глубокая проблема всей науки измерения времени. Но нам важно сейчас только уяснить, что такие отрезки существуют, и все.
Не вызывают особенных вопросов такие свойства времени, как однонаправленность и необратимость. Совершенно ясно, что время течет в одном направлении, никогда не возвращаясь обратно. Оно асимметрично, движется от чего-то, что мы условно называем прошлым, через что-то, условно называемое нами настоящим, к тому, что мы именуем будущим. Можно выразить процесс и наоборот: оно, будущее, приближается, становится настоящим и уходит в прошлое. Важно, следовательно, что длительность имеет направление. Прошлое, как бы уже отяжелевшее, уже кристаллизованное время; настоящее подвижно и на выходе кристаллизуется, постепенно замирая или замерзая, как звуки трубы игравшего на морозе барона Мюнхгаузена. Будущее, еще не бывшее, несостоявшееся, выплывает из небытия и становится настоящим.
Самым тесным образом связана с однонаправленностью необратимость времени. Течение существует только в одном направлении и оттуда не возвращается. Необратимость есть непрерывное становление настоящего, его непрерывное возобновление, неотвратимое обновление. Никакая прошлая комбинация не повторяется. Нельзя вернуть прошлое, повернуть вспять и поменять местами прошлое, настоящее и будущее. Это свойство времени является самым эмоционально нагруженным, предметом поэтическим и лирическим, потому что бренность бытия больше всего влияет на нас, лично нас касается.
А вот пространство легче представить себе наглядно. Оно проще связывается с устойчивостью, основательностью, представляется видимым простором, расстоянием, вместилищем всех существующих тел.
Но совсем нетрудно вообразить, что пространство является оборотной стороной явления времени и все вышеперечисленные свойства времени двойственны, легко преобразуются в пространственные. Длительность становится протяженностью, делимость – дискретностью, ограниченностью кусков пространства. Тройственное свойство распадения на прошлое/настоящее/будущее в чем-то схоже с трехмерностью пространства, чрезвычайно близким и привычным качеством окружающего иметь высоту, ширину и длину.
Есть и еще одно малоизвестное, но важнейшее сходство. Асимметричности времени соответствует такая же несимметричность пространства, называемая еще диссимметрией, – свойством иметь левое или правое направление. Мы о нем подробно поговорим в своем месте, здесь же достаточно сказать, что она явно совпадает с необратимостью времени, поскольку, как оказалось, пространство несимметрично относительно некоторых своих направлений, оно «неправильное», неравное, некоторые его стороны несимметричны другим при всех прочих одинаковых свойствах. Это и есть диссимметрия.
И теперь, если мы скажем «а», т. е. согласимся с гипотезой, что у времени и пространства есть природные причины, мы должны сказать и «б». Если все свойства и качества или атрибуты времени и пространства не выдуманы нами, не чистейшая условность, у которой нет никаких опор в действительности, тогда они имеют определенные природные источники, как и любые другие природные явления. Но так как иллюзию, повторяю, наука не измеряла бы, значит, гипотезу надо пока принять и попробовать отыскать «гены» длительности и делимости времени, и необратимости, и становления настоящего. У каждого из этих представляющихся нам абстрактных понятий, если посчитать их реальными свойствами реального процесса, должны иметься природные носители. Что-то должно сообщать каким-то вещам длительность, так же как что-то другое обеспечивать прерывание ее на объективно находящиеся где-то мерные куски; где-то обретаются причины диссимметрии и трехмерности пространственных образований. Неслучайно же возникли эти названия. Не могут они возникнуть для обозначения несуществующего вокруг нас и внутри нас, как имена ангелов, например. Или же они при правильно построенной аргументации и доказательствах естественными причинами должны исчезнуть из научного языка, как исчезли, например, такие ясные и очевидные, казалось бы, понятия, как «небо» или «небесный свод». Они больше не требуются в развитой научной речи и не измеряются как явления, а стали чистыми образами и достойны только поэтической и обыденной речи.
Причина времени, или причины свойств пространства и времени, тем более требуют осмысления и рассмотрения, что многие благородные и высокие умы пытались сделать. Собственно говоря, предметом всего дальнейшего рассуждения и исследования является постановка вопроса о том, что они относили к природе или к причине времени. По моему мнению, именно причину времени, природную реальную обусловленность ее искали многие выдающиеся мыслители, о которых мы собираемся здесь рассуждать.
Но само понятие «причина» тоже нуждается в определении. Причины бывают разные. Они выяснены и классифицированы еще Аристотелем и с тех пор не претерпели особых изменений[11].
1. Причина порождающая, родовая. Родители есть причина детей. Происхождение предмета есть причина его свойств.
Нам этот оттенок смысла слова «причина» здесь не подходит. При общей родовой последовательности свойства детей не сводятся к свойствам родителей. Хотя и бывают наследственные болезни, а яблоко от яблони недалеко падает, не всякое явление легко свести к производящей причине. Ведь и у детей, и у родителей одинаково есть более глубокие общие «родители» – те самые гены, которые не прерываются во времени.
А иногда производное явление ничем не напоминает производящее. Описать одно через другое трудно или даже невозможно. Мы увидим далее, что с таким настроением, с отказом от идеи происхождения и создается любая научная дисциплина. Основоположники наук всегда пытались отъединить одни закономерности, порождающие от других – специфических, которые как раз и составляли предмет данного научного наблюдения и описания.
2. Причина как цель. То, к чему явление восходит, стремится. Дуб «стремится» заполнить тот объем, который ему положен по природе. Знание есть причина обучения. Все к чему-нибудь тянется. Но и этот аспект причинности не работает в понятии «причина времени». Цель не выявляет специфики, она непохожа на предмет. Цель может служить стимулом появления данного явления, но ничего не говорит нам о свойствах его. Этот движущий стимул больше подходит разумному существу. Мы ставим себе цели и движемся к чему-то. Остальной природе осознанное целеполагание несвойственно, хотя какое-то пред-знание как будто существует и в остальной живой природе.
3. Причина действующая, движущая. Что касается человека, то, например, некое искусство вызывает к жизни некоторые продукты творчества. Причина дождя содержится в конденсации водяных паров в облаках, причина грома есть прохождение разряда электричества через воздух. Действующая причина есть непосредственная и ближайшая к явлению. В большей степени наш предмет отвечает такой простой и непосредственной связи.
4. Причина как форма осуществления, как нечто присущее предмету по его устройству, как свойство, детерминанта. Пожалуй, лучше всего иллюстрирует данный род причины явление электричества, даже не наследственность, например. Если есть тела, которым свойственно электричество, стало быть, оно появляется и в какой-нибудь присущей ему форме, т. е. с определенным напряжением, частотой, амплитудой и другими качествами его.
Наверное, две последние причины как непосредственные определяющие явления ближе всего к нашей задаче. Как явления непростые, время и пространство можно попытаться определить и непосредственной движущей, и формальной причиной. Иначе говоря, следует утверждать, что время, как и пространство, вызывается явлениями определенного вида и не вызываются другими явлениями.
Надо только сразу отрешиться от попыток определить, как это часто бывает в философии, материальна причина или идеальна. Мы увидим далее, что такие вопросы незрелые и только запутывают дело. Явление и есть явление, и нам нужно его правильно описать, не обращаясь к начальным и последним причинам и окончательным следствиям, ведь оно находится посередине, возле нас, так сказать, и должно быть описано понятным языком, тогда и будет правильно.
Следует добавить, что по большей части научные и философские рассуждения в книге разделены, специально оговариваются, хотя такое разделение нелегко, особенно в отношении нашего предмета, как уже говорилось. Во многом пока у нас в головах смесь нескольких областей познания. Как их отличить друг от друга? Мне кажется, есть простой критерий. Если текст легко переводится с языка на язык – это наука, если трудно – это философия. Чем труднее, тем больше в нем философии. Поэтому во всем дальнейшем изложении я старался использовать в основном научную аргументацию, а не философскую, хотя иногда отделить одно от другого нелегко. Соответствен и подбор авторов. И по тому же намерению ограничить предмет только научной аргументацией, множество философов, писавших о времени, осталось за пределами книги.
Ученые, о которых мы будем говорить, относятся к тем, которые пытались превратить рассуждения, философствование о времени и пространстве в аргументированную науку о времени, оперировали не пространными речами, а фактами. Они пытались оставаться в рамках общепринятых приемов исследования, стать не оригинальными, но понятными.
Часть первая
Время как артефакт
Глава 1
Подвижный образ вечности
Почитатель ума и знания должен рассматривать прежде всего причины, которые связаны с разумной природой, и лишь во вторую очередь те, которые связаны с вещами, движимыми извне, и потому с необходимостью движущими другие вещи.
Платон. Тимей
Первое известное рассуждение о времени оказалось столь знаменитым, что до сих пор является предметом споров и различных интерпретаций. Кто только не оттачивал на нем свой ум!
Конечно, речь идет об апориях Зенона Элейского, называемых также парадоксами Зенона. Апория обозначает буквально бездорожье, т. е. запутанная, неразрешимая логическая задача. Весь смысл ее в том, что она впервые в философии связала между собой две очевидные категории ума: время (в другом случае – пространство) и движение. Апорий у Зенона несколько, но они все построены по одной модели: он делит время (или пространство) на некие мерные отрезки и доводит это деление до предела. Например, утверждается, что быстроногий Ахиллес никогда не сможет догнать убегающую черепаху, потому что ему последовательно приходится преодолевать половину дистанции между ними за определенное время, затем половину от оставшейся половины и так далее до бесконечности. И поскольку такое деление никогда не может завершиться, медлительная черепаха недосягаема.
В античной философии опытная проверка научных положений не считалась решением проблемы, парадокс нужно было преодолеть правильным рассуждением. Вот почему, когда «мудрец брадатый» из стихотворения Пушкина заявил: «Движенья нет!» – а «другой смолчал и стал пред ним ходить», т. е. применил новый способ аргументации, предпринял эксперимент, его не приняли в качестве доказательства. Говорят даже, что Зенон набросился с палкой на хитрого изобретателя, потому что тот унизил божественный разум, который все должен разрешать логически, а не отсылать к видимости, которая, как философы прекрасно знали уже тогда, по большей части весьма обманчива. Да и Пушкин напомнил о неизвестной древним очевидности: «Ведь каждый день пред нами солнце ходит, / Однако ж прав упрямый Галилей».
Итак, вот апория «Стрела», которая лучше других иллюстрирует нашу тему о причине времени. Летящая стрела демонстрирует нам иллюзию движения, говорит Зенон. На самом-то деле она покоится. Ведь стрела летит во времени, не так ли? А если это так, в чем нам не приходится сомневаться, а время состоит из неких частиц, т. е. оно, конечно, делится, и мы можем вообразить себе настолько малый отрезок, отграниченный кусочек времени, когда его ход сам по себе исчезнет. Никакой длительности уже почти и нет, и она даже останавливается. Наступает то, что мы называем моментом. Следовательно, в этот краткий миг стрела покоится. И потому она покоится вообще.
Вот чем Зенон навсегда покорил умы. Хорошо видно, как стрела летит, а если рассуждать строго логически, то она покоится. И это неразрешимое противоречие пытались решать самыми различными способами, включая неведомые во времена Зенона, т. е. новейшие из квантовой механики или теории относительности[12].
Известно только, что из этого зародыша выросли все проблемы времени. Все самые современные толкования их сопоставимы с апориями Зенона.
Делится ли время на мерные куски, и если да, то что означает такое деление? Можно ли делить его до бесконечности? Может быть, как раз деление есть иллюзия, а время на самом деле гладко или плавно и не состоит из единиц? Тогда одна частица его не отъединена от другой, и, следовательно, нет этих проклятых перерывов, через которые стрела, как и другие движущиеся предметы, вынуждена прыгать, преодолевая неясную пропасть между двумя моментами времени и отрезками своей траектории.
Но, может быть, стрела движется не во времени? Может быть, она как-то избегает его? Но весь жизненный и умственный опыт нам говорит: нет, время – всеобщее свойство движущегося мира. Вокруг нет ничего, что не испытывало бы изменений, движений, перемещений, не волновалось бы, и ничто не происходит мгновенно, но в своей последовательности. Если есть какая-то упорядоченность в окружающем мире, то она связана, несомненно, с течением времени. Время выстраивает изменения, благодаря чему нет хаоса, смешения всего и вся, а есть стройность, красота, гармония и т. д. Следовательно, исключать движущиеся предметы из времени нельзя. Значит, время связано с движением прочно и неразрывно. Так мы привыкли думать.
Зенон создал своими апориями умственную атмосферу, поле напряжения, силовую среду, в которой поколения мыслителей размышляли о времени и пространстве.
Но мы здесь не будем решать эти парадоксы. Прежде всего потому, что с точки зрения причины времени решать в них оказалось нечего. Как и все парадоксы, противоречие основано на смешении понятий из разных рядов. Происходит игра, полезная, конечно, игра ума, но не имеющая никакого другого результата, кроме как упражнения мыслительных способностей. Природу времени мы из решений апорий не вытянем.
Нам достаточно сказать об апориях для того, чтобы напомнить об умственных настроениях той поры, когда в сознании образованных людей со временем связались некоторые прочные, необсуждаемые и непререкаемые его свойства, вытекавшие из рассуждений Зенона. Даже не из них, а из того, что подразумевалось из постулатов или аксиом, которые положил Зенон в основу своих рассуждений и которые тогда неявно и молчаливо, а теперь уже явно принимаются и до сих пор всеми общими и философскими словарями и теоретиками времени. Некоторые словари мы цитировали выше. Какие же это аксиомы?
Во-первых, всеобщность времени, о которой упоминалось выше. Это скрытое условие всего рассуждения, и в нем никто не сомневается, не обсуждает даже правомочность этого положения, но на нем все построено. Время связано со всем на свете, все происходит во времени. Нет ничего вокруг при всем разнообразии этого всего, что не проходило бы вместе со временем. Значит, оно присуще всему. Но так ли это?
Во-вторых, сомнительна аксиома о пределе делимости времени. Единицы его суть мельчайшие, но они не исчезают, нерастворимы, благодаря чему мы мыслим время прерывистым, хотя и разделяющимся на очень малые, неуловимые отрезки. Предположение о дискретности времени выявил уже в античности Аристотель. Он заметил шаткость построений Зенона: «…Летящая стрела стоит неподвижно; оно вытекает из предположения, что время слагается из „теперь“; если этого не признавать, силлогизма не получается»[13].
Тем не менее критика Аристотеля не возымела особенного успеха, и в предположение о существовании дискретных единиц времени философы продолжали играть.
В-третьих, утверждено главное положение: время связано с движением. Фактически самые всеобщие и самые заметные черты или свойства окружающей действительности, несомненно, заключаются не просто в том, что все течет, согласно афоризму Гераклита, но все течет во времени.
Но является ли причиной времени это всеобщее движение? Кажется, на такой вывод наталкивали хотя бы апории Зенона. Однако первое по-настоящему теоретическое рассуждение на эту тему ввело в поле внимания, кроме категорий времени и движения, еще одно действующее лицо.
Платон оказался первым, кто вообще связал время с его причиной. Он совершенно твердо и уверенно указал на его источник. Время есть следствие, появилось благодаря некоторой сущности. Несмотря на крайне непривычную для нас сейчас форму выражения, его идея является одним из самых впечатляющих достижений античной мысли, а с его натурфилософии, выраженной в диалоге «Тимей», и сегодня начинается любое рассуждение об общих законах природы, любая космология да и история естествознания вообще.
Вся предшествующая греческая философия, в сущности, принимала понятие времени само собой разумеющимся, что мы видели на примере Зенона. Ее предметы не нуждались в каком-либо особенном описании или определении времени, кроме обыденного неясного представления, которое есть у всех, и не требовали излюбленного софистического приема теоретического рассмотрения, когда сводятся и разводятся однородные и близкие понятия. Многие предметы обычных рассуждений греческих философов: справедливость, ум, рассудок, душа, познание, государство существуют как бы вне времени, вне развития, сами по себе, как сущности или феномены с неизменной природой, однажды созданные.
Главный герой платоновских диалогов Сократ вообще тоже ничего и никогда не говорит о времени. Его излюбленные темы касаются человека, но не природы как таковой, не движения вещей, где время обретается. По его словам, он ничего не испытывал из того, что есть над и под землей, т. е. никакой физикой или астрономией не интересовался. И Сократ беззлобно, как всегда, удивлялся, зачем это Аристофан в одной из своих комедий изобразил его болтающимся в какой-то корзине под облаками и рассуждающим об устройстве неба.
Вот почему в знаменитом «Тимее», единственном из всех диалогов Платона, где идет речь об устройстве этого самого неба и всего космоса, Сократ только слушатель, а все содержание Платон вкладывает в уста Тимея. В сущности, мизансцена показательна и органична, поскольку все, что излагает Платон, предположительно и наиболее логично из всего, что можно было высказать в ту эпоху о природе, когда науки как таковой не существовало, только здравый смысл и простые наблюдения. Платон первым попытался превратить этот скудный материал в «теоретическое» знание о природе.
В рамках этого рассуждения время появляется как порождение вечности, возникает оппозиция «вечность – время». Одно как нечто неизменное, постоянное, тождественное самому себе, другое как нечто меняющееся, текучее. Вечность пребывает в себе, а время возникает и пропадает. Но тождественен себе и пребывает только Ум, мировой разум. Он и порождает из себя Вселенную, космос.
Мысль не подвержена ничему такому, утверждает Платон, что мы связываем со временем, т. е. не стареет и не портится, и пребывает сама в себе вечно. Она принадлежит Богу, который равен Самому Себе. Бог и вечность – синонимы. Вечность, рассуждает Платон, не означает некую бесконечность времени, некий бесконечный ряд лет, это совершенно другое качество, нежели время. В вечности нет ни лет, ни месяцев, ни дней. О вечности нельзя сказать, что она есть или будет. «Если рассуждать правильно, ей подобает одно только „есть“, между тем как „было“ или „будет“ приложимо лишь к возникновению, становящемуся во времени»[14].
Иначе говоря, вечность есть некое неразложимое единство прошлого, настоящего и будущего, когда ничто не проходит, но пребывает.
Порожденный Демиургом космос Платона и есть природа. Она осязаема, видима, слышима, в отличие от истинного мира, который невидим и неосязаем, зато мыслим. Бог, он же Демиург, строит Вселенную по образцу (парадигма по-гречески) вечности, т. е. Он хотел бы передать ей присущие ему качества вечности, устойчивости, непреходящести. Но дело обстояло так, говорит устами Тимея Платон, что природу живого и вечного существа нельзя передать ничему, что он порождает из себя, это можно сделать только отчасти, так сказать. И следуя этим загадочным «обстоятельствам дела», иначе говоря, закономерному порядку вещей, который устойчивее самих вещей, Демиург «замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем»[15].
Вот, в сущности, первое в человеческой истории вдумчивое определение времени, т. е. не принятие его как самого собой разумеющегося, что проходит или течет, но попытка осознать его таким – явлением еще нельзя сказать, но свойством мира, – которое имеет определенный источник. Время появляется. Его не было в вечности. Оно произошло одновременно с миром, вот что важно, не в некий определенный период, или эпоху, или в определенный срок, оно создано прямо вместе с материей, для того чтобы являлись и дни, и часы, и эпохи. Оно придано движущемуся, осязаемому и слышимому, т. е. чувственному миру, но не мыслящему, не обладающему умом – не вечному миру. Явление производное, вторичное, рожденное, как говорит Платон. Согласно «обстоятельствам дела», т. е. по каким-то еще неизвестным, но непреодолимым даже для божества законам, оно не могло стать тождественным вечности, а могло получить от вечности лишь его ухудшенную бледную тень, отпечаток. Перейдя от Демиурга в мир, вечность распалась на составные части, и появились «теперь», и «есть», и «было», и «будет», а также годы и месяцы[16].
Очень важно, что Платон, кроме частей времени, т. е. прошлого, настоящего и будущего, связывает с ним еще несколько существенных качеств: становление или возникновение, появление, а также понятия о бренности: молодость и старение.
«Итак, время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад; первообразом же для времени служит вечная природа, чтобы оно уподобилось ей, насколько возможно. Ибо первообраз есть то, что пребывает целую вечность, между тем как [отображение] возникло, есть и будет в продолжение целокупного времени. Такими были замысел и намерение бога относительно рождения времени; и вот, чтобы время родилось из разума и мысли Бога, возникли Солнце, Луна и пять других светил, именуемых планетами, дабы определять и блюсти числа времени»[17].
Платоновский космос устроен просто: в центре Земля, затем в первом от нее круге, или сфере, Луна, во втором – Солнце, затем планета Гермеса (называемая теперь Меркурий), утренняя звезда (Венера) и еще три планеты, расположенные на своих кругах, или сферах. В строении семи сфер он не был оригинальным, об этом говорили до него пифагорейцы, однако важно, что он связал с кругами блуждающих звезд или планет вычисление времени. В этом его главная мысль об устройстве Вселенной. Не только блуждающие звезды, т. е. планеты, но и все остальные, неподвижные, даны для «устроения времени». «Что касается круговоротов прочих светил, то люди, за вычетом меньшинства, не замечают их, не дают им имен и не измеряют их взаимных числовых отношений, так что, можно сказать, они и не догадываются, что эти необозримо многочисленные и несказанно многообразные блуждания также суть время»[18].
Вот, собственно говоря, и все, что платоновская философия говорит о времени. Немного, но очень определенно. Не в том смысле, что относит возникновение его на счет божества, а в том, что нетривиально определяет источник времени. Собственно говоря, в реалистическом смысле, если можно применить к его философии эти слова, а некоторые и применяли, или, лучше сказать, в обыденном смысле, из предыдущих построений философии, из тех же апорий Зенона вытекало, что время связано с движением и, следовательно, зависит от него или, напротив, движение – от времени[19]. Но Платон не пошел по связи двух очевидностей, или видимостей, – движения тел и течения времени. Время у него зависит не от движения тел, а от божества, т. е. оно отражает вечность и получает от него максимально возможное, учитывая разрушительное действие «обстоятельств дела», отпечатывание в бренных вещах, и главная характеристика этой бренности – течение, или ход, времени. Он не поддался соблазну отнести «устроение» времени за счет небесных тел. Звезды у него служат только для счета, для вычисления различных соотношений времени, но не для его «производства».
В порядке платоновского творения Демиург образует стихии, или роды: землю, воду, воздух и огонь, из которых и формирует бренные тела. У него в наличии есть вечные идеи, образцы, согласно которым он это делает. Иначе говоря, Демиург упорядочивает стихии при помощи «образов и чисел»[20]. Но между идеями (или умом) и движущимися вещами, носящими те же имена, что и идеи (которые в земном выражении стали мнениями), соединенными с нашими ощущениями, расположено некое средство или промежуточная ступень. Этот посредник есть не что иное, как пространство. «Есть еще один род, а именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно»[21].
Рассуждения Платона о пространстве довольно сложны и всегда вызывали массу толкований. Мы не будем в них сейчас углубляться. Нам достаточно знать и воспринять только одну и самую простую его мысленную конструкцию.
Для всего дальнейшего изложения нам важно не столько конкретное наполнение платоновской конструкции, т. е. «порождение» времени и пространства божеством. Необходимо и достаточно из слов «происхождение времени от вечности», к чему сводится платоновская идея, взять пока только понятие происхождение времени. Важна идея производности времени, его зависимости от другого порядка вещей. С этим пока еще нечего делать, оно ничего не говорит уму, кроме отсылки к другому, не земному порядку сущего. Превратим ее из положительной мыслительной конструкции, как ее трактует Платон (время порождается вместе с миром Демиургом, а пространство – даже выше по иерархии творения, поскольку вечно), в отрицательную: время и пространство не принадлежат движущимся телам, не зависят от них. Этого пока достаточно, как мы увидим ниже. Хранение времени, его исчисление есть только показатель, ход «от числа к числу», как говорит Платон, а не само время. Движение вещей есть способ его измерения, но не его генератор. Вот что важно.
Как мы увидим далее, эта главная идея Платона проходит через всю историю знания, модифицируясь, но оставаясь узнаваемой. Совсем необязательно, чтобы она влияла на дальнейшее течение мысли, воздействовала на открытия и рассуждения выдающихся мыслителей, хотя, конечно, выдающиеся о ней знали. Дело в другом: в природе человеческого мышления, его одинаковой силе и сходном характере во все времена и эпохи. Имеет значение также ценность и единство знания, независимые от его наличного уровня. Эта природа ума позволяла занять конструктивную, выгодную позицию и ориентироваться в мире. Тот, кто мыслил подобно Платону, всегда повторял его мысленную конструкцию: «Время создается».
Глава 2
Число движения, но не движение
Итак, в тебе, душа моя, измеряю я времена…
Августин Блаженный. Исповедь
Увеличение знаний о времени, как и вообще их приращение, есть непрерывное заострение или сокращение угла зрения и, значит, акт самоограничения мыслителя. Тот, кто уточняет, непрерывно улучшает свою позицию и тем самым уменьшает свои претензии на то, чтобы знать все обо всем, стремясь лучше знать многое о немногом. Иначе говоря, развитие знания повышает скромность его носителей. Вот почему все дальнейшее изложение, собственно говоря, будет описанием постепенного самоопределения мыслителей, работающих над пониманием концепции времени.
Греческие мыслители начали со всеобщего. Протагор заявлял, что человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют, и называл себя «софос». Его ученик Сократ свел свою роль к более скромной, называя себя «философ», т. е. уже не мудрец, но «любитель мудрости», и несуществующие предметы ему по его складу ума уже были не столь интересны, и в «Тимее» он только слушает о них, правда, довольно заинтересованно. Платон тоже относил себя к философам, но был склонен к рассмотрению всего круга философских предметов как существующих, так и запредельных. Его главный предмет как раз трансцендентен – идеи, расположенные над вещным, видимым миром. Идеи нетленны и потому более реальны, чем окружающий мир подвижных бренных временных вещей.
Однако, по моему мнению, Аристотеля уже нельзя назвать философом в подлинном смысле этого слова. По своим умственным интересам он в большей мере ученый, естествоиспытатель того времени. Для него важнее предметы, которые существуют, важнее реальные их свойства и бесконечные, богатейшие отношения, и потому он, в сущности, создал теоретическое природоведение. Он исключительно близок по стилю мышления тем ученым последующих веков, для которых наука была знанием о том, что существует, а не о том, как это существующее возникло, и тем более о каких-то невразумительных «несуществующих вещах». Причем, если современному ученому легко придерживаться такого позитивного мышления, оно уже давно складывается как привычная атмосфера ученого мира, но даже еще в позапрошлом веке такой стиль мысли не был безусловен и его нужно было специально вырабатывать. Можно себе представить, сколько мужества потребовалось Аристотелю для создания новой манеры исследования. Надо было преодолевать уже наработанную традицию рассуждать обо всем на свете.
Вот почему наиболее полные и всесторонние обсуждения темы времени и пространства Аристотель предпринял в труде, который называется «Физика», что в его эпоху означало теоретическое знание о природе. Тем самым, можем мы заключить, он отнес время к области природы, а не к сфере мышления или эстетики, например.
«Каким образом появится предшествующее и последующее, если не существует времени? Или время, если не существует движения?»[22] – спрашивает он. Правда, все философы, за исключением одного, называют время нерожденным. Они, следовательно, присоединяются к Демокриту, «который доказывает невозможность того, чтобы все возникло, так как время есть нечто невозникшее, – продолжает далее Аристотель. – Один только Платон порождает его: он говорит, что оно возникло вместе со Вселенной, а Вселенная, по его мнению, возникла»[23].
Вот здесь мы и видим, что для Аристотеля, как для истинного ученого, интереснее не происхождение времени в начале мира (или происхождение мира вместе со временем, как то трактует Платон), а логически правильное описание времени, его свойств. Природа времени для Аристотеля заключена не в его происхождении. Сначала нужно определить, существует ли оно в действительности, что оно собой представляет, а затем уж решить вопрос о его природе или происхождении.
Он называет время «едва существующим» по причине его неуловимости, текучести. Одна его часть была, и вот уже ее нет, другая еще только будет. Поэтому о чем можно сказать наверняка, так это о некотором наличии того, что мы называем словом «теперь». Причем «теперь» не есть часть целого, как точка есть часть линии. Оно как бы исчезающая, неуловимая частица, она тает, пропадает, другая появляется на ее месте. Из единиц времени никакого множества в наличии не складывается, потому что всегда актуально есть только одна более или менее отчетливая единица, которая появляется и исчезает, растворяется.
Таким образом, природа, особенность времени совершенно не походит ни на что другое. И если мы связываем его с движением, говорит Аристотель, что правильно, мы тем не менее ни в коем случае не должны отождествлять его с движением.
А что такое время и какова его природа, одинаково неясно как из того, что нам передано от других, так и из того, что нам пришлось разобрать раньше. А именно, одни говорят, что время есть движение Вселенной, другие – что это сама [небесная] сфера. [Что касается первого мнения, то надо сказать, что] хотя часть круговращения [Неба] есть какое-то время, но [само время] ни в коем случае не круговращение: ведь любой взятый [промежуток времени] есть часть круговращения, но не [само] круговращение. Далее, если бы небес было много, то таким же образом время было бы движением любого из них, следовательно, сразу будет много времен. А мнение тех, кто утверждает, что время есть сфера Вселенной, имеет своим основанием лишь то, что все происходит как во времени, так и в сфере Вселенной; такое высказывание слишком наивно, чтобы стоило рассматривать содержащиеся в нем несообразности[24].
Ясно, продолжает мыслитель, что движение и изменение любого тела происходит во времени. Но важно вот что: движения тел разнообразны беспредельно, они могут быть быстрыми или медленными, но время движется равномерно всегда, везде и во всем.
Время же не определяется временем ни в отношении количества, ни в отношении качества.
Что оно, таким образом, не есть движение – это ясно[25].
Движение не является причиной времени, какого рода причину мы не имели бы в виду: порождающую, движущую силу или конечную цель. Однако время как-то все же связано с движением. Как? Само движение связано с величиной, с количеством времени. Сколь продолжительно было движение, столько протекло и времени. Мы его распознаем, когда в движении тела различаем предыдущее и последующее.
Мы разграничиваем их тем, что воспринимаем один раз одно, другой раз другое, а между ними – нечто отличное от них; ибо когда мы мыслим крайние точки отличными от середины и душа отмечает два «теперь» – предыдущее и последующее, тогда это [именно] мы и называем временем, так как ограниченное [моментами] «теперь» и кажется нам временем. Это мы и положим в основание [последующих рассуждений][26].
Из этого положения вытекает, что время есть нечто количественное, сопровождающее любое движение. Мы по количеству прошедшего времени можем судить о продолжительности движения любого тела. И вот Аристотель дает нам первое в теоретическом знании определение времени:
Время есть число перемещения, а «теперь», как и перемещаемое, есть как бы единица числа… А «теперь» вследствие движения перемещаемого тела всегда иное; следовательно, время есть число не в смысле [числа] одной и той же точки, поскольку она начало и конец, а скорее как края одной и той же линии, и не в смысле ее частей, и это как в силу нами сказанного (тогда нужно будет пользоваться средней точкой как двумя, так что произойдет остановка), так еще и потому, что «теперь», очевидно, не есть частица времени и не делит движение, так же как точки не делят линию, а вот два отрезка линии составляют части одной. Итак, поскольку «теперь» есть граница, оно не есть время, но присущее ему по совпадению, поскольку же служит для счета – число. Ведь границы принадлежат только тому, чьими границами они являются, а число этих лошадей – скажем, десять, – может относиться и к другим предметам[27].
Таким образом, время есть число движения. Оно не несет в себе никакой конкретности, т. е. не принадлежит ни к какому конкретному виду движения, а к любому из него, им можно мерить как естественно данным нам числом всякое движение. Следовательно, Аристотель нашел одно из свойств времени – количественную его определенность. Оно есть чистое количество, число, длительность, как мы говорим сейчас. Когда мы произносим слова «длиться», «длительность», «продолжительность», мы имеем в виду только количество без всякого оттенка качественности, определенности этого вида движения.
Однако логический анализ, который проделывает здесь же Аристотель, показывает и другие свойства времени. Прежде всего, разделение на прошедшее, настоящее и будущее. Точка «теперь» есть начало и вместе с тем конец по аналогии с кругом, который с одной точки зрения, снаружи – выпукл, а с другой – изнутри – вогнут. Так и время всегда начинается и в другом отношении вместе с тем кончается. «Теперь» каждый раз иное, оно непрерывно возобновляется, мы мыслим о нем как о точке, но это не одна и та же точка. А поскольку мы мыслим о нем и ощущаем его, оно имеет смысл только в связи с человеческой душой. Без души, способной считать, будет существовать только субстрат времени, субстрат считаемого. Вот почему нам кажется, что время присуще всему на небе, на море и на земле: только потому, что мы все это наблюдаем[28].
Время, как уже упоминалось, существует в единственном числе. Оно одно, времен не может быть несколько или множество именно по той причине, что оно есть счет, число движений. Казалось бы, если существует одно, другое, множество движений, значит, и времен много, спрашивает мыслитель? Нет, конечно, «всякое равное и совместно [идущее] время тождественно и одно; по виду же одинаковы времена и не совместно [идущие]. Ведь если, [например], это собаки, а это лошади, причем и тех и других семь, то число их одно и то же, точно так же и для движений, заканчивающихся вместе, время одно и то же, хотя одно движение может быть быстрее, другое – медленнее, одно – перемещение, другое – качественное изменение. Однако время одно и то же и для качественного изменения, и для перемещения, если только число одинаково и происходят они совместно»[29].
Происходит путаница, говорит Аристотель, вследствие невольного выделения нами одного вида движений, связи его с временем. Во всем круге человеческого опыта множество видов движения: рост, изменение или возникновение – неравномерны и не идут по кругу, а вот круговращение неба единственно равномерно, как и течение времени. Поэтому-то обороты небесной сферы мы и отождествляем ошибочно с равномерно идущим временем.
Далее, время обладает свойствами непрерывности и делимости. Оно есть число появляющихся и исчезающих «теперь», и, следовательно, оно как-то на них делится; само же «теперь» делимо по отношению к «еще» и «уже», но неделимо по отношению к самому себе. Каждая граница не становится толще, не наращивается, а пропадает, поэтому время не складывается. Как сейчас говорят, не обладает свойством аддитивности. Оно проходит, а не накапливается до бесконечности. Это удивительно тонкое наблюдение Аристотеля мало понималось в последующем изложении тех, кто занимался временем вплотную. Настоящее время не состоит из точек, которые могли бы накапливаться, а каждая точка есть только край прошедшего, непрерывно исчезающая, как бы тающая и не могущая растаять, возникающая граница. Мы не будем приводить тут логических доводов, которые приводит Аристотель, достаточно сказать о выводе: «теперь» – неделимо. В нем самом не движется время, ничего не движется и ничто не покоится. Время делимо, но состоит из нечленимых «теперь», ограниченных возобновляющихся и исчезающих кусочков, которые мы воспринимаем. Из точек времени не образуется никакая длина.
Нам по нашему сегодняшнему школьному воспитанию чрезвычайно трудно понять Аристотеля, каким это образом время непрерывно и делимо, но слагается из неделимых «теперь», потому что мы причисляем время к универсальному свойству окружающего мира. Аристотель этого не делает, твердо заявляя, что время не принадлежит к движению окружающего мира. Движение не является его причиной, иначе говоря.
Пусть и не определяя его принадлежность, только подозревая, что оно имеет какое-то отношение к нашей душе, он не отождествляет его с движением всего и вся, как это делаем мы по своему научному материалистическому воспитанию. Поэтому для него время одно. Движения тел, которые мы наблюдаем, могут быть быстры, могут быть медленны или тела могут покоиться, но время идет в одном темпе, рассуждал он, потому и может быть объединяющим и характеризующим все движения, какие бы мы ни мыслили. Проще сказать, что оно принадлежит нашей душе, заявляет Аристотель.
Ибо когда не происходит никаких изменений в нашем мышлении или когда мы не замечаем изменений, нам не будет казаться, что протекло время, так же как тем баснословным людям, которые спят в Сардинии рядом с героями. Когда они пробудятся, они ведь соединят прежнее «теперь» с последующим и сделают его единым, устранив по причине бесчувствия промежуточное [время]. И вот, если бы «теперь» не было каждый раз другим, а тождественным и единым, времени не было бы; точно так же, когда «теперь» становится другим незаметно для нас, нам не кажется, что в промежутке было время[30].
Иначе говоря, время связано с нашей способностью ощущения и потому представляется делимым, т. е. с одной стороны, гладким, нерасчлененным, а с другой – как уже иная и законченная, неделимая далее величина. Это противоречие возникает из двойственности опыта, из накладывания наших ощущений на внешний мир. Для того чтобы различать любые разные ощущения, надо обладать каким-то единством, связным и соединенным, неразделенным. Таким свойством и обладает наша душа, говорит философ в другой книге. Она различает нечто неразделимое и в неразделимое время… (И далее объясняет противоречие. – Г. А.). Не обстоит ли дело так, что различающее в одно и то же время неделимо и неразделимо по числу, а по бытию – разделено? Ведь, с одной стороны, оно воспринимает различные предметы как в некотором смысле делимое, а с другой – как неделимое, ибо по бытию оно делимо, по месту же и по числу неделимо[31].
С помощью загадочного свойства времени – бесконечно делиться по бытию, но вследствие присущей нам комбинаторной способности не слагаться из наличных неделимых величин, – Аристотель расправляется и с апориями Зенона, в том числе и с парадоксом о стреле, которая наиболее наглядно приводит к противоречию, вытекающему из мыслимых нами (верно или ошибочно) свойств времени.
Зенон же рассуждает неправильно. Если всегда, – говорит он, – всякое [тело] покоится, когда оно находится в равном [себе месте], а перемещающееся [тело] в момент «теперь» всегда [находится в равном себе месте], то летящая стрела неподвижна. Но это неверно, потому что время не слагается из неделимых «теперь», а также никакая другая величина[32].
Части времени, иначе говоря, не прибавляются друг к другу. Это можно сделать только мысленно, в уме. Его онтологическая делимость не означает складывания его частиц.
В «Физике» Аристотель тоже впервые в истории науки связывает с временем вторую категорию, которую до него так отчетливо не выделяли вообще, – пространство. Оно еще не носит такого отчетливого названия «пространство». Аристотель называет его «место» и отличает как от предмета, который это место занимает, так и от пустоты. Трудно установить его природу, говорит мыслитель. Но ясно хотя бы, что оно имеет три измерения: длину, ширину и глубину, которыми определяется и всякое тело. Но невозможно, продолжает он, чтобы место было телом, потому что тогда в одном и том же пространстве оказались бы два тела. Нет точки и места точки как такого же по субстрату образования.
Чем же можем мы считать место? Имея подобную природу, место не может быть элементом или состоять из них, будь они телесные или бестелесные: ведь оно имеет величину, а тела не имеет; элементы же чувственно воспринимаемых тел суть тела, а из умопостигаемых [элементов] не возникает никакой величины[33].
Оно не есть причина существующих вещей во всех четырех смыслах, которые можно вложить в понятие причины: оно не есть материя существующих вещей, так как из него ничего не состоит, ни форма и определение предметов, оно не есть цель и не приводит в движение предметы. Да и существует ли оно, а не мыслимое «лишь»? Аристотель вспоминает и критикует Платона, отталкиваясь от того места в «Тимее», где тот (первый из всех мыслителей, говорит Аристотель, до него просто считали: пространство есть нечто) отождествляет место и материю. Нет, это неверно. Место несомненно нечто существующее, но трудноуловимое.
Прежде всего, место имеет низ и верх. Затем оно связано с чем-то, или с материей, или с формой, или с протяжением между краями предмета. Но анализ показывает, что оно не есть ни форма, ни материя, ни протяжение. Как и времен, мест не множество, потому что тогда было бы место места, т. е. часть части и т. д. Оно похоже на сосуд, в котором все находится, но сосуд единственный.
Подобно тому, как сосуд есть переносимое место, так и место есть непередвигающийся сосуд. Поэтому, когда что-нибудь движется и переменяется внутри движущегося, например, лодка в реке, оно относится к нему скорее как к сосуду, чем как к объемлющему месту. Но место предпочтительно должно быть неподвижным, поэтому место – это скорее вся река, так как в целом она неподвижна. Поэтому центр Вселенной и крайняя по отношению к нему граница кругового движения кажутся всем по преимуществу и в собственном смысле верхом и низом[34].
А границы существуют вместе с тем, что они ограничивают, как предмет вместе с местом. Это приводит к мысли, что все находится в конечном счете во Вселенной, но Вселенная – нигде не находится.
А наряду со Вселенной и целым нет ничего, что было бы вне Вселенной, и поэтому все находится в Небе, ибо справедливо, что Небо [и есть] Вселенная. Место же [Вселенной] не небесный свод, а его крайняя, касающаяся подвижного тела покоящаяся граница, поэтому земля помещается в воде, вода – в воздухе, воздух – в эфире, эфир – в небе, а Небо уже ни в чем другом[35].
Таким образом, посередине места находится тело, а не само по себе протяжение. И место находится где-то, а не в месте же, но только как граница в ограничиваемом теле. Так что мы видим, что время и пространство для Аристотеля бесконечно более сложные явления, чем простые свойства объективного мира, что в простоте душевной обыденно мыслим мы, наделяя ими, как неким текучим состоянием, все предметы и все процессы.
За какие-нибудь пятьдесят лет расцвета греческой учености представления о пространстве и времени родились в полном вооружении, как Афина из головы Зевса.
Все греческие мыслители в совокупности создали впечатляющую атмосферу умственной работы и логических исследований, из которой выросли вершины: Платон и Аристотель. Что касается времени, первый дал для него начальное определение, указал на источник его происхождения от некоей «времяподобной» сущности – вечности, второй как истинный позитивист античности оставил в стороне «место рождения», которое о свойствах времени и пространства еще не свидетельствует, зато выяснил их собственную природу, описав их свойства, как понимал.
Однако за те же века практическое наблюдение за звездным небом, планетами, применение этих знаний и их математическая обработка привели уже к математическим теориям измерения времени, к развитию и использованию календарей и хронологий. Рассмотрение истории этой стороны исследований времени и пространства не входит в нашу задачу, как уже говорилось. Следует только заметить, что в обыденном мнении под влиянием распространения астрономических знаний и астрологических теорий достижения Аристотеля упростились и снизились. Время стали понимать как нечто производное от движения, а именно от движения космических тел.
Платон и за ним Аристотель пытались утвердить в умах образованного человечества мнение о противоположности земного и небесных миров, о стройности и порядке космоса по сравнению с земным разнообразным миром, о коренном отличии материала, из которого сделана Земля, от того, из чего состоят Небо и небесные тела. Такое представление как нельзя лучше подошло и проявилось у воспринявших платонизм и аристотелизм христианских теологов. Они возвели отличие земного от небесного в степень идеологии, естественно. Небесный мир, как аналог совершенного Царства Божьего, поистине, стал синонимом всестороннего совершенства, он непримиримо противопоставляется подлунному миру как юдоли греха и смертности. Разнесение земного и небесного стало воздухом всей жизни христианской религии.
Но вместе с тем за прошедшие века мысль классиков, развиваясь в одном отношении, упрощалась в другом. Она усложнялась в идеях, в теории, в рассуждениях, но сводилась к примитиву в познании реальности. Как всегда при распространении вширь первоначальная сложная и неоднозначная мысль творца как будто под действием энтропии подводится под что-то понятное и простое.
В этом общем мнении образованных людей, знающих о планетах и о Птолемее, об астрологии и космосе, время стало пониматься так: оно идет потому, что существует и движется с неизреченной точностью и стройностью хор небесных светил. Их движение и дает нам, производит время. Время не есть космос, предупреждал Аристотель. Время есть космос, отложилось в умах.
С этим общераспространенным предрассудком и вступил в полемику Августин Блаженный, о котором нельзя не упомянуть, завершая здесь древние главы. Его «Исповедь», написанная как страстный монолог, обращенный к Богу, поражает глубиной проникновения в духовную природу человека. Августин своей «Исповедью» и другими книгами, своей подвижнической деятельностью ищет Бога в душе. Его в целом не интересуют физические основы мироздания, ему безразлично, как все устроено. Град Небесный для него Град Божий, а не космический, он ставит главной задачей спасение души, а не познание физического мира.
Но почему-то из всех характеристик тленного мира время неизменно останавливает его внимание. Вероятно, таков был сам склад его ума, загадка временности не давала ему покоя. Поэтому помимо главных, нравственных аргументов, связующих нас с Высшим Существом, его «Исповедь» наполнена рассуждениями о времени и вечности. В целом он на новом этапе повторяет основные конструкции Аристотеля, но вносит в них новые оттенки и повышенную эмоциональность.
«Я слышал от одного ученого человека, что движение Солнца, Луны и звезд и есть время, но я с этим не согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел? Если бы светила небесные остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряем его обороты?» – спрашивает Августин[36].
Так чем же отличается колесо горшечника от небесных тел и почему оно не может быть «генератором» времени в такой же степени, как Луна, Солнце и все остальные движущиеся в мире тела? Августин вспоминает знаменитый библейский пример об Иисусе Навине, который, одолевая врага в битве и видя, что наступает ночь, попросил Солнце не двигаться. По его молитве чудо произошло, солнце замерло на своем пути, и он смог довершить свою победу. «Но шло ли тогда время?» – вот что спрашивает Августин. Конечно, шло, отвечает он, ведь течение событий не остановилось.
«Пусть же никто не говорит мне, что движение небесных тел и есть время… Итак, я вижу, что время есть некая протяженность»[37].
День, час, сутки – эти временные единицы связаны с движением Солнца, измеряются его перемещением по небосклону. Однако скорость этого перемещения, проницательно замечает Августин, могла быть и другой, и, следовательно, разбиение этого видимого прохождения светила по небосклону на двенадцать дневных часов и двенадцать ночных есть условность, созданная, несомненно, нами самими для удобства счета. Ведь временем мы измеряем не только движение, но и покой. Говорим, например, что такое-то тело стояло столько-то.
Платоновский космический Ум, Бог, в «Тимее» создающий космос и богов рангом пониже, так сказать, которые в свою очередь создают людей, это всеобъемлющее существо, пребывающее в вечности, теперь в христианстве становится немного более понятным, как бы ближе к человеку. Однако способность пребывать в вечности, говорит Августин, у него осталась, как и способность создать этот мир. Но если Бог сотворил мир, то сотворил ли он время мира? Как соотносится время и вечность?
«Длительное время делает длительным множество преходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое; в вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время как настоящее, в полноте своей пребывать не может»[38].
Совершенно ясно, что Бог пребывает в вечности. Но что такое это преходящее, не имеющее локализации настоящее, как быть с ним? Что же делал Бог до сотворения мира? – приходит ему на ум коварный вопрос. И, поразмыслив, Августин отвечает так:
«Если под именем неба и земли разумеется все сотворенное, я смело говорю: до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для Него творить»[39].
Если бы Вседержитель пребывал во времени, напрашивается еретическая мысль, то Он мог бы создать этот мир на год, на целый век раньше или позже, чем создал. Но сама такая постановка вопроса абсурдна, потому что Бог есть делатель (operator) самого времени. Как и все остальное, время есть Его произведение. До акта творения не было веков, «учрежденных» Богом.
«Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было и „тогда“… Всякое время создал Ты, и до всякого времени был Ты, и не было времени, когда времени вовсе не было»[40].
Мир создан непосредственно вместе со временем, в нем время начало идти с момента его создания. «Так что же такое это таинственное произведение Господа?» – спрашивает Августин. И почему оно так неуловимо? Мы употребляем его в разговоре постоянно, как самое привычное слово. «Если (в дореволюционном русском переводе здесь употреблено слово пока. – Г. А.) никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю»[41].
Мы говорим о долготе и краткости времени, о длительности прошлого, продолжает Августин. Но что значит долгота и краткость, как они измеряются? Ведь совершенно явственно, что мы измеряем время. Что же мы в нем измеряем, если никак не можем уловить его суть? Оно разбивается на прошлое, настоящее и будущее. Первого уже нет, третьего еще нет, настоящее неуловимо, непрерывно проходит. Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее, став прошлым, уходит в какой-то тайник. Тем не менее не можем же мы измерять какую-то иллюзию, следовательно, время есть некоторая реальность. Реальностью можно назвать и прошлое, которое было когда-то настоящим, и будущее, которому только предстоит стать настоящим. Каждый из нас прошедшее несет в своей душе, вспоминает о нем. Будущее видят люди, обладающие способностью предсказания. Значит, все три ипостаси времени существуют на самом деле, имеют не мечтательное бытие.
Выходит, время таинственным образом все же связано с нами самими. Вот что важно и загадочно самым отчаянным образом. В нашей душе находится тот тайник или источник длительности, которым мы измеряем глубину прошлого, которое существует не само по себе, а только в связи с глубиной воспоминания. Не что иное как память несет слова и образы вещей. Мы представляем свое детство, например. И количество этого конкретного воспоминания для нас равно силе и глубине впечатлений. Точно так же и предсказание, предварительное обдумывание на основании тех образов, которые находятся у нас внутри, в памяти, рисуют нам образ будущего. Таким образом, если быть точным, сказали бы мы вместе с Августином, нет ни будущего, ни прошлого самих по себе, а есть три лика одного времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего.
Память и впечатление составляют важнейшие инструменты понимания времени, говорит Августин. Они накладывают на нас даже некоторую обязанность. Бог хочет сказать нам, что мы не должны допускать рассеивания внимания, наш долг по отношению к нему – помнить все, все прошедшее удерживать в своей душе.
На этом Августин завершает свой анализ времени (и пространства, о котором он говорит меньше, но не менее реалистично, анализируя его связь с предметами). Его рассуждения состоят в основном из вопросов, но чрезвычайно точных, исполненных здравого смысла, если позволительно так сказать о религиозных чувствах и настроениях. Августин предельно заостренно и очень отважно формулирует свои вопросы. Его сомнения побуждают пытливое движение человеческой мысли.
И нетрудно видеть, что он пришел к тем же самым выводам, которые в менее развитом виде сделал Аристотель: время не есть движение тел, в особенности небесных тел, оно только измеряется этим движением. Оно связано самым таинственным образом с памятью, с нашей душой. Причина течения времени обретается в движении нашей души, запечатлеваемой памятью.
Глава 3
Пульс Галилея
Свойства времени суть просто свойства часов, подобно тому, как свойства пространства есть свойства измерительных инструментов.
Анри Пуанкаре. Пространство и время
Созданная Платоном и Аристотелем картина мира господствовала в течение полутора тысячи лет. И то общее представление об устройстве мироздания, в центре которого расположена Земля, согласованное одновременно и с принятым Европой христианством, и с теорией Птолемея, сгорело на костре вместе с Джордано Бруно на площади Цветов в Риме. Закончилась средневековая наука, и пришла новая эпоха. Начались они с Галилея и с его представления о времени.
Он был абсолютно непривычным для прежнего мышления человеком. Не объяснял мир, а молча изменял его, хотя и пытался как-то согласовать то, что он делает, с тем, что нужно об этом думать. Он не теоретик в том смысле, чтобы объяснить Вселенную и свести ее к чему-то знакомому и понятному на обыденном языке. Галилей, впрочем, не собирался воевать с церковью или ставить под сомнение божественное устроение мира[42]. На него пал выбор Провидения соединить, наконец, математический метод с физическим смыслом мироздания, с конкретным движением тел, и уж метод сам по себе, без его ведома вступил в противоречие с библейским объяснением мира и победил. Движение тел само по себе, в самом узком смысле, и есть объект внимания Галилея. Он стремится согласовать видимое перемещение тел – от далеких небесных до непосредственно ощутимых – с евклидовой геометрией.
Он искусный механик, создает инструменты, часы, зрительные трубы, телескопы. Его интересует точность в наблюдениях и измерениях. С нее все и началось. Научный способ мышления заключается, по сути дела, в уяснении проблем и в уменьшении, выделении, уточнении объекта до такой степени, чтобы он стал обозрим и поддался измерению и математическим описаниям. Изобретение способа измерения и составляет прерогативу науки.
Говорят, будто Галилей, будучи совсем еще молодым исследователем, аспирантом по нашим понятиям, бросал с Пизанской башни, которая уже тогда была наклонной, различные предметы и отмечал время их падение по биению собственного пульса. И таким образом заметил, что их ускорение не зависит от того материала, из которого они сделаны.
Сейчас это кажется банальным, но не в ту эпоху. Его опыт означал покушение на аристотелевские основы движения, согласно которым каждый предмет движется в соответствии с природой тех элементов, которые входят в его состав. Элементов четыре, как учил Аристотель: земля, вода, воздух и огонь. В чистом виде, конечно, эти элементы встречаются нечасто, по большей части они смешаны в телах в различных пропорциях, но порождающая все движения движущая сила отвечает преобладающему в составе тела элементу и проявляется в том, что каждый элемент в силу своей природы стремится занять положенное ему место. Земля тяжелая, она – внизу, следовательно, предметы, составленные из нее или преимущественно из нее, стремятся вниз. Над землей, объемля ее, расположена вода, поэтому все вещи, в состав которых она входит, будут двигаться к своему местоположению выше земли, но ниже воздуха, который, естественно, легче воды. Ну и над всем царит огонь, и все «огненные» вещи поднимаются вверх, горячий воздух, например. Есть еще эфир, но он выше воздуха и потому недоступен и малопонятен, он никуда не движется, а все проникает.
Итак, бросая свои шары с башни, Галилей заметил, что все они достигают подножия ее за определенное количество ударов пульса. И, следовательно, закономерность в падении кроется совсем не там, где ее искали, не в разделении движения по сортам своих элементов и по своим движущим силам, а совсем в другом – в одинаковом ускорении падающих тел. Различные по размерам и весам шары падают с одинаковым ускорением (если исключить сопротивление воздуха). Закономерность внезапно открылась в однообразии, в повторяющемся независимо от различных условий правиле. И он вывел это правило, связав между собой не вещи по их происхождению, их природе, составу элементов, весу и еще по множеству разнообразных свойств, а вовсе не зависимо от всего этого. Он понял, что для описания времени ему требуется совсем не эти разнообразные и неизмеримые вещи, а всего лишь соотношение между пройденным телом расстоянием и затраченным на это прохождение временем.
Стоит задержаться немного на этом моменте и подумать, что именно произошло и почему такое кажущееся простым наблюдение молодого ученого оказалось таким необыкновенно важным. Стало общим положение, что современная наука создана в XVII веке и началась она с Галилея. Однако следует уточнить. Наука существовала и до Галилея, он и сам ее изучал и преподавал. Она состояла в основном из евклидовой геометрии и других математических дисциплин. Более того, математика и в особенности геометрия применялась и к изучению природы, но – заметим! – в довольно ограниченных пределах. Изучались статические соотношения объектов, находились посредством геометрических приемов их центры тяжести, закономерности равновесия. Фактически исследовались созданные еще древними инструменты: клин, наклонная плоскость, блок, рычаг. Это и есть механика того времени. Но огромная область реального окружающего мира – движение тел – оставалась за пределами точного знания. Суждения об этой области были крайне приблизительными, основывались на общих соображениях аристотелевской картины мира, о которых выше говорилось.
Что лежит в основе любого измерения? Некий эталон, образец, прикладываемый к измеряемому телу. Иначе говоря, сравнение уже имеющейся одной единицы с нужным объектом, который состоит из некоторого количества этих единиц. Всякие футы, локти, сажени, пяди, т. е. всегда готовые к применению, примерно одинаковые по размеру части человеческого тела употреблялись на практике для измерения размеров тел. В науке они превратились в более строгие меры. Легко измерить неподвижный объект, но если он совершает даже простые движения, то чем их зафиксировать, какой образец «приложить»?
Мысль о связи между движением тел и временем казалась естественной, она обсуждалась образованными людьми, начиная с Зенона, как мы видели. Но интуитивно понимаемая связь – одно, а точное измерение – другое. Весь смысл тут в слове «точное». Идея приложить к движущемуся телу такой странный объект, как время, который всегда вроде бы имеется в наличии, но природа которого неясна, тоже не принадлежит Галилею. Он сделал совсем маленький шаг. Но он оказался необходим и достаточен, чтобы открылись совсем иные, необозримые горизонты. Так человек, поднимающийся вдоль отвесной стены по приставной лестнице, делает последний, ничем от других по размеру не отличающийся шаг, который решает все, потому что в результате его голова поднимается над стеной и вместо грубой ее поверхности он видит вдруг пространство за стеной, дальний горизонт, видит разом все. Радость таких открытий и движет исследователем.
Галилей ввел в науку новый объект – невидимый, правда, неосязаемый, непонятный по своей генерации, но зато несомненный, какой-то поразительно незыблемо существующий и – что важно! – существующий именно в том качестве, которое необходимо для данного случая, – в качестве длительности. Что длится – неясно, но какое это имеет значение, если никто и никогда не усомнился именно в этом свойстве времени – в его способности длиться и для всех людей одинаково. Есть и частички, мерные единицы длительности, показываемые часами. Этого достаточно, частица длительности и есть искомый эталон, который можно приложить к необозримому миру перемещений, круговых и прямолинейных траекторий, волновых колебаний. Собственный ритмичный пульс его руки стал выполнять такую же роль, что пяди и футы для измерения расстояний.
Разумеется, Галилей не был первым, кто связал время и движение между собой. Представления о скоростях, т. е. об отношении перемещения ко времени, начиная с интуитивных соображений здравого смысла и кончая формальными правилами, уже использовались в науке[43]. И вся заслуга Галилея, его маленький шаг состоял в изобретении удобного и универсального способа использования времени для измерения движения. Вся наука Нового времени началась с одной небольшой теоремы, в которой освоено практически, выведено правило связи, всегда однообразной закономерной связи между временем и преодолением расстояния. Галилей не рассуждает о времени, оно ему как сущность (т. е. как философское понятие) неинтересно. Он ничего о нем не говорит, для него неважно, что оно такое. Поскольку нужно было что-то сказать о применяемом главном инструменте своих формул, Галилей в «Беседах» «определяет» время как предмет общепонятный. То есть он пользуется тем обыденным представлением о времени, которое сложилось до него. Есть что-то, что мы измеряем часами, и этого достаточно. Зато часы как инструмент механики Галилея очень и очень интересуют. И он, конечно, использует не только такие природные счетчики времени, как собственный пульс, но конструирует водяные часы. В этом весь его характер. Он творец, создатель счета времени, оператор и пользователь времени.
Маленький шаг Галилея заключался в формализации использования времени. Он свел его к очень простому, зато не имеющему исключений правилу. Формализация, как известно, начинается с некоторых совершенно точных, не допускающих исключений положений, аксиом или постулатов. А уже из них должны следовать с неизбежной, абсолютной закономерностью по логическому умозаключению теоремы, универсальные правила. Вот эти аксиомы:
«I. Расстояние, проходимое при одном и том же равномерном движении в более продолжительное время – больше, нежели в менее продолжительное время.
II. Время, соответствующее при равном движении большему расстоянию, больше, нежели соответствующее меньшему расстоянию.
III. При большей скорости движения в равные промежутки времени проходятся больше расстояния, нежели при меньшей.
IV. Скорость, при которой за определенное время проходится большее расстояние, больше той, при которой за то же время проходится меньшее расстояние»[44].
Из этих предельно формализованных аксиом следовала центральная теорема: «Движением равномерным или единообразным я называю такое, при котором расстояния, проходимые движущимся телом в любые равные промежутки времени, равны между собой»[45]. Как писал Галилей, он «всего лишь» прибавил к уже существовавшему до него в науке понятию о равных промежутках времени слова «любые равные промежутки», что и стало самым последним и решающим шагом. Галилей сформулировал свою теорему не только словесно, но и представил ее графически. Он изобразил и сопоставил между собой две прямые, одна из которых символизировала расстояние S, другая время – t. Разделив их на равные отрезки, он получил возможность сравнивать или выражать одинаковые отрезки одной прямой посредством отрезков другой. Когда в любые равные отрезки времени тело проходит равные отрезки расстояния, перед нами равномерное движение, если в равные отрезки времени оно пробегало равно прирастающие отрезки расстояния, перед нами ускоренное движение. Таким образом, движение как таковое оказалось теперь уловлено.
С помощью своей теоремы Галилей получил возможность выражать неизвестное через известное посредством теперь таких привычных нам формул, связывающих три величины: две простые – расстояние, пройденное телом, и время, затраченное на преодоление пути, а также одной сложной величины – скорости, т. е. отношение расстояния к единице времени. Теперь, когда одна величина была неизвестна, а две другие известны, появилась возможность ее вычислить по простым зависимостям, вытекавшим из аксиом. Благодаря им созданы основы динамики, и научная мысль буквально хлынула в область перемещения тел – большей части внешнего видимого мира, где движение повсеместно и абсолютно, а покой и равновесие весьма относительны.
Правда, на мой взгляд, в данной теореме заключено одно, как бы само собой разумеющееся допущение. Оно заключено в равенстве двух соседних моментов времени между собой. Между двумя ударами пульса должно содержаться, протекать равное количество длительности. Только тогда все формулы будут истинными, им можно доверять. И потому Галилей сам конструирует водяные часы, стремится к точности их хода, а это и означает равномерность, т. е. что два геометрически равных между собой промежутка времени на самом деле равны между собой по длительности. Для Галилея здесь нет проблемы, если сконструированные им часы идут хорошо. То, что это никоим образом нельзя было реферировать, что положение принято интуитивно, оказалось для того уровня знаний совершенно достаточно.
Дело в том, что Галилей, как уже говорилось, вообще не обсуждает природу времени. Галилей – теоретик новой генерации в сегодняшнем узком понимании этого слова. На месте законов природы, что явилось главным продуктом следующего этапа механики, у него пока правило, универсальный алгоритм измерения, пригодный для вполне конкретных, местных, хотя и типичных случаев. И потому для него нет вопроса, почему время идет? Галилей пользуется различными часами для своих механических опытов: водными или пульсом руки и о природе времени не рассуждает. У него нет, пропало самое важное качество времени – его всеобщность. Все ли, везде, всегда ли моменты времени одинаковы? Наука не должна отвечать интуитивно на этот вопрос, она враг очевидности, из преодоления очевидностей и вырастает. Одновременны ли моменты времени на Земле и на Луне, которая движется на ночном небе? В разных концах города? В разные времена года?
Механика Галилея на этот вопрос не отвечала, сведя время к «общепонятному». Она даже не ставила этот вопрос, его поставил Ньютон, создавший всеобщие, вселенские законы, но не местные, как у Галилея. Его линии были пригодны всегда и везде, но каждый раз они брали время движения самого предмета; каждая зеноновская стрела летела у него отдельно от всех остальных.
Таким образом, успехи динамики дались не бесплатно. Она упростила понятие, взяв от него только одно временное свойство – продолжительность явления, причем явления местного, каждый раз даваемого в опыте движения тел. Линию S, символизировавшую расстояние, или путь, можно выразить только через пространственное протяжение, и потому в рамках геометрической двухлинейной модели Галилея нам известен только вектор направления движения тела, но линия t, символизирующая время, вектора не имеет, у нее нет признака направленности. Две линии – это модель, изображение движения во времени. Насколько они реальны – неизвестно. Из какой-то всеобщей, везде и всюду текущей длительности берется кусок, и с его помощью измеряется движение данного тела. Поэтому из всех перечисленных во «Введении» свойств времени взято только одно свойство – длиться, свойство длительности. Пропала направленность, т. е. свойство упорядоченности, последовательности прошлого, настоящего и будущего. В модели если и есть отношение «раньше – позже», то это не качество, а количество: насколько раньше, насколько позже. Количественная определенность привела даже к тому, что время стало в модели накапливаться, считаться для удобства складывающимся, хотя на самом деле время не накапливается, а проходит. Иначе говоря, исчезла бренность, зато появилась сплошная линия длительности. Точка настоящего вытянулась в измеримую бесконечную линию, чего в действительности нет.
Вместе с направлением исчезла и необратимость. Время стало количественным явлением, т. е. его стало возможным не только складывать, но и вычитать.
Следовательно, прошлое и будущее в зависимости от потребностей данной локальной задачи могли меняться местами. Что происходило с телом в прошлом, что будет происходить в будущем? – простую механическую информацию о его более ранних или более поздних перемещениях легко можно было раскрутить в любую сторону. Иначе говоря, ничего особенного с телом не происходило, оно или двигалось, или покоилось, двигалось или с такой же, или с иной скоростью и потому вполне поддавалось этой «раскрутке». И сегодня, и тысячи лет назад тело двигалось по тому же строгому неизменному правилу. И потому рядом с t появился как бы, а вскоре появится и в самом деле так смущающий умы знак минуса, что для обыденной жизни является полным абсурдом. Время не может течь обратно, но только в одном направлении – из прошлого в будущее.
Таким образом, вместе с успехом механики по улавливанию движения время упростилось до одного своего качества – длиться. И символ t на самом деле не есть время, несмотря на привычное название, а только длительность. Конечно, их можно в обыденной речи отождествить, потому что время характеризуется прежде всего длительностью, но для строгих рассуждений следует разделять. Вместе с пропажей направления в механике исчезло и такое свойство времени, как необратимость, как становление и другие стороны, но это не недостаток механики, а ее достоинство. Для оперирования временем, как говорилось выше, нужны строгость и простота, и они достигнуты. Что было с Луной в прошлом? Столько-то лет назад происходили такие-то и такие-то затмения. То есть достаточно предположить, что ее орбита в течение лет не менялась, как можно рассчитать последовательность происходивших с Луной событий на любой срок вперед и назад. Разве это не замечательно!
И еще один проигрыш механики как плата за выигрыш в освоении длительности. Галилеевская модель из двух параллельных, непересекающихся отрезков прямой в фигуральном смысле оторвала время от пространства. Собственно говоря, вопрос о единстве пока еще никогда не стоял. Смутное представление Аристотеля и Августина, что пространство есть нечто похожее на время по своей загадочности, еще не говорит ничего о необходимости связи между ними. Аристотель рассуждает о месте как аналоге пространства примерно по той же модели, что и о времени; Августин более отчетливо присовокупляет рассуждения о пространстве к рассуждениям о времени. Но внешняя похожесть еще ничего не говорит о родстве этих явлений и соответственно, о родстве представлений о них.
Механика Галилея не делает и этого. Если от явления времени в нее попала лишь длительность, то от пространства только ее аналог – протяженность. Одно только линейное измерение необходимо и достаточно для создания формул движения, но и о длительности, и о протяженности можно говорить по отдельности – эта особенность динамики заложена в модели Галилея. Не нужно требовать от нее того, что она не дала и не могла дать, но точно так же нельзя только на механике основывать свои представления о времени и пространстве, тем более делать мировоззренческие выводы из такой частной модели, как параллельные отрезки линии длительности и линии протяженности. Не стоило обольщаться ее успехами и поддаваться извинительному человеческому стремлению к полноте и цельности знания, стремясь к которому в течение всех последующих веков эту модель абсолютизировали, так же как и предыдущую.
Итак, Галилея не интересует вопрос о причине, об источнике времени именно в силу локального, абсолютно точного характера любого опыта. Есть правило, и оно надежно действует для вычисления каждого нового случая движения. Но если движение обобщить, возвести в ранг всеобщего и правила начать превращать в закономерности мирового движения, то следует решить вопрос и об источнике времени, т. е. есть необходимо некоторое обобщение простой модели Галилея. Так и произошло в механике Ньютона. Он воспользовался тем, что время сведено только к одному своему свойству, упрощено до длительности. Зато сделал следующий шаг – возвел время от локального на всеобщий уровень.
И потому впервые в истории науки Ньютон был вынужден поставить в достаточно отчетливой форме вопрос о природе, или о причине, течения времени и состоянии пространства.
Глава 4
Раздвоение времени и пространства
Ибо Тот, Кто создал их, расположил их в порядке.
Исаак Ньютон. Оптика
О том, насколько могущественна инерция человеческого мышления, насколько консервативны умственные привычки, свидетельствует прочность и непреодолимость идеи противоположности земного и небесного миров. Созданная Платоном и Аристотелем, эта идея в течение более чем полутора тысяч лет господствовала в той форме, которую Августин и другие Отцы христианской Церкви придали аристотелизму. И не только господствовала, но и развивалась, принимая самые разные обличья. В сознании простецов-верующих прочно утвердилась мысль о земном мире как о юдоли страданий, греховном месте, царстве князя мира сего и о прекрасном, совершенном и нетленном Царстве Небесном. Из такого представления часто делались и до сего дня делаются всякие нелогичные продолжения.
Поиски совершенства и гармонии небесных сфер, когда-то начатые пифагорейцами, продолжал даже во времена Галилея Кеплер, открывший в стремлении к ним законы планетных орбит. И когда Галилей с помощью созданного им телескопа обнаружил на Луне горы и долины (темные равнины, названные вскоре Гевелием морями) и показал эту картину церковным иерархам, те были возмущены и долго считали ее оптическим обманом. Не должна была Луна быть похожей на Землю, не должно быть на ней земных рельефов, не должна она состоять из того же материала! Борьба и обструкция сопровождали открытие им солнечных пятен, спутников Юпитера и фаз Венеры, не говоря уж о злосчастном главном вопросе: рядовом положении Земли среди светил и планет.
С точки зрения людей, не придававших большого значения вере, людей образованных, эта идея окрашивалась в материалистические краски. Но тут таился, пожалуй, еще больший порок мышления, чем простительный и даже закономерно-временный изъян, содержавшийся в религиозной идее раздвоенного мира. На место допустимого противопоставления идеального и тленного, духовного и материального заступало извращенное деление мира на две части, но обе материальные. Перейдя в науку, эта идея породила разнообразные теории об отличии законов, которые управляют совершенными небесными явлениями, от частных и незначительных закономерностей случайного в общем строе природы земного локального мира. Есть огромная материальная Вселенная с ее стройными правильными законами и необязательно, случайно возникшая временная флуктуация материи Земли с ее живым населением и всеми ее незначительными и странными на общем фоне небесного спокойствия проблемами. В общем сознании ученого мира, в том, которое впитывается с первых лет обучения в школе, идея о противоположности земного и небесного миров продолжает тлеть до сегодняшнего дня. Иногда она дает яркие вспышки в виде, например, идеи Большого взрыва, когда не существовало якобы ничего, что открыто ныне на Земле. Ни материи в ее геологическом, физическом или химическом виде, ни атомов, ни времени, ни пространства. Значит, не действовали законы, управляющие материальными процессами. Да и кроме этой теории возникает немало других, в которых на тех самых ненаблюдаемых «субстанциях и скрытых свойствах», с осуждения коих суровый Ньютон начинает свои «Начала», безоглядно основывают объяснение непонятных явлений, которых, конечно, вокруг великое множество.
В те века и годы, о которых идет речь, т. е. во времена становления механики, в идее сравнения разных систем отсчета, как сказали бы сейчас, заключался настоящий камень преткновения. Какое движение из всего нами видимого вокруг считать истинным, или абсолютным, а какое только кажущимся? До теории Коперника так остро вопрос не стоял, поскольку Земля естественным образом помещалась в центр мира и все движения отсчитывались относительно нее. Но положение кардинально изменилось после принятия теории Коперника: любое движение предметов по здравом рассуждении уже стало представляться как сложное, составное, потому что входило в не замечаемое нами вращение Земли и обращение ее вокруг Солнца, и в еще какое-то более общее движение всего мироздания. Нужно иметь некую точку опоры и отсчета, чтобы разлагать сложносоставное перемещение тел на более элементарное. От решения этого вопроса зависит точность измерений и, следовательно, весь авторитет опыта. Галилей его не решал, а предложил своими правилами движения считать каждое движение местным, проходящим только сейчас. Он ввел принцип относительности, иллюстрировав его знаменитым примером с кораблем: в каюте идущего прямолинейно и равномерно корабля все тела совершают движения, ничем не отличимые от тех, которые они совершали бы, если бы корабль стоял неподвижно.
Так же поступал и другой непосредственный предшественник Ньютона, Гюйгенс, помещая своего наблюдателя в точку касания прямой и окружности при решении проблем центробежного движения. Он считал любое движение относительным, зависящим от положения наблюдателя. Но каждый раз, перемещая его, затруднительно вывести общее правило, отделить истинное движение от мнимого и случайного. На этом фоне противопоставление относительного земного и абсолютного небесного казалось самым простым и напрашивающимся решением.
В предисловии уже говорилось о тех немногих, кто мог противостоять этой могущественной нивелировке умов, кто имел мужество мысли не соглашаться с общим мнением и кто открывал на этом пути закономерности целостности и устойчивости мира, его инварианты, независимые от местных условий и случайных изменений. К ним принадлежал и Ньютон, о значении которого в становлении механики говорить не приходится. Открытие им законов, одинаково управляющих и движением падающего с горы камня, и движением кометы по ночному небу, невозможно переоценить. Как никто другой, он сделал много для утверждения материального единства мира. Но чтобы этот подход утвердить, он ввел в сакраментальную проблему различения абсолютного и относительного новый фактор – время, придал этому явлению фундаментальный всеобщий смысл. Ньютон доказал одинаковость земного и небесного благодаря новому пониманию пространства и времени. По сути дела, ему принадлежит единственное в современной науке определение времени и пространства, определение, данное раз и навсегда. О нем сейчас у нас и пойдет речь.
Может показаться, что в общем строе «Начал» определение времени совсем необязательно. Без определения, что такое масса или количество движения, обойтись решительно невозможно. Но зачем давать определение времени? Разве недостаточно того определения, что дал Галилей: время – явление общепонятное, т. е. нечто всем общее, измеряемое часами? И, кстати, поначалу Ньютон напоминает читателям об этом общем мнении. «Время, пространство, место и движение составляют понятия общеизвестные», – говорит он в самом начале своей книги[46]. Время и пространство, не имея никакого определения, напротив, сами собой определяют все остальные материальные процессы, если их выразить в формулах движения.
Да, есть то, что показывают нам часы, это верно. Но Ньютону нужно не просто единственное время. Ему требуется развести абсолютное и относительное движения, чтобы отличить истинное движение и случайное. Решение Галилея уже не удовлетворяет мыслителя в решении такой задачи, оно не вселяет уверенности в истинности механики, лишает ориентиров. Время нужно специально исследовать. И, по видимости, нарушая требование правила Оккама не умножать число сущностей, Ньютон тем не менее эту «лишнюю» сущность вводит.
Вероятное объяснение его нетривиального хода мысли кроется все же, думается, в самом характере, складе ума Ньютона, в его стремлении к единству знания о мире, более решительном соединении земного с небесным, чем у Галилея, такого соединения, которое потребовала его идея всемирного тяготения, основанная на универсальности законов движения. Если алгоритмы равномерного и равноускоренного движения, сформулированные Галилеем, не претендуют на такую всеобщность, если их универсализм относится только к двум видам движения предметов относительно других предметов – линейного равномерного и ускоренного, то законы движения Ньютона имеют именно всеобщность вселенскую. Они относятся к круговому движению самой Земли и других планет относительно Солнца. Следовательно, если Галилею требуется только каждый раз местное время и пространство, их крохотный участок, то Ньютон испытывает потребность в более широких горизонтах, так сказать.
Галилей ввел относительность движения тел. Время идет равномерно конкретно в данном месте. В наличии там всегда и пространство, относительно которого, считаем мы, движется любое тело на поверхности Земли. Когда нам нужно сравнить движение двух тел в пространстве, например, если в каюте движущегося корабля летает муха, тогда надо принять корабль за неподвижный и относительно него рассчитывать траекторию ее полета. Все просто.
Ньютона такая простота не устраивает. Он создает более сложный мир и ощущает другую степень ответственности за него, поскольку открывает законы всеобщего сложного, составного движения. Он поглощен главной своей идеей об одинаковом характере движения на Земле и вне ее. Одна и та же сила тяготения управляет падением камня на Земле и движением Луны вокруг Земли. Но все упирается в новую послекоперниковскую ситуацию в науке, в неодинаковый и непростой характер движения самой Земли, в ее нецентральное, подчиненное положение в Солнечной системе. Пример Галилея усложняется. Вот идет моряк по палубе корабля, ветер несется относительно парусов корабля, корабль движется относительно Земли, Земля вращается вокруг оси и вместе с тем движется по своей орбите, причем разно по отношению к разным планетам и кометам. Где же истинное движение? Или истинный покой? Все находится в движении относительно всего, никакой точки отсчета как бы и нет. Но если в обыденной жизни, для потребностей житейских достаточно всяких видимостей, достаточно здравого смысла, подсказывающего, что можно каждый раз, как в примере Галилея, принимать одно тело покоящимся, другое движущимся, т. е. достаточно приблизительного знания о течении времени и состоянии пространства, то в натуральной философии (это синоним физики) требуется знание точное. Следовательно, вместо того чтобы раз навсегда решить центральную проблему динамики – различать абсолютное и относительное движение, необходимо построить их правильную мировую иерархию. А для этого время и пространство надо сделать «более первыми», определяющими понятиями. Следовательно, в них, внутри них есть понятие истинного математически точного, т. е. абсолютного времени и абсолютного пространства. К ним принадлежит абсолютное движение, а уже от него следует вести отсчет движения относительного, и тогда мир обретет устойчивость и порядок относительно некоего центра. Причем теперь, после Коперника, таким центром не может быть сама Земля.
Чтобы лучше различить абсолютное и относительное движения, надо видеть, говорит Ньютон, что если сами движения разделяются на абсолютное и относительное, так и время с пространством еще ранее разделяются сами по себе на них же. Относительные познаются человеческими чувствами, которые, конечно, ненадежны, отсюда возникает множество неправильных суждений, говорит Ньютон. Для устранения их Ньютон и ввел фактически еще один и главный фактор в наши рассуждения об этих принятых фундаментальными вещами – причину, некую природу времени и пространства. Он тем самым попытался продвинуться на один шаг глубже в познании действительности и понять, что стоит за этими явлениями, которые мы отсчитываем по часам и линейкам, выяснить его причину.
Вот отсюда, из проникновения в природу времени возникло его знаменитое, сотни раз цитировавшееся, изученное вдоль и поперек определение. Точнее сказать, Ньютон не относит его к строгим определениям (как масса или количество движения), поскольку считает, вслед за Галилеем, время понятием общеизвестным и рассуждает о нем в разделе «Схолия», толковании, или разъяснении. Но, продолжает автор, он хочет, чтобы не возникало весьма распространенных предрассудков, разделить движение, покой, место, время и пространство на понятия абсолютные и относительные, истинные и кажущиеся, математические и обыденные. Таким образом, можно квалифицировать данное понятие как исходное, или как утверждение (постулат). Можно также говорить: истолкование, разъяснение, описание, обобщение, или все-таки, как принято в последующей литературе, определение времени и пространства.
Прочтем его еще раз:
«I. Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью.
Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя (неважно, точная или неточная – исключены переводчиком слова Ньютона в скобках. – Г. А.), совершаемая при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как то: час, день, месяц, год.
II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным.
Относительное есть его мера или какая-либо ограниченная подвижная часть, которая определяется нашими чувствами по положению его относительно некоторых тел и которая в обыденной жизни принимается за пространство неподвижное: так, например, протяжение пространства подземного, воздуха или надземного определяется по их положению относительно земли»[47].
Первое, что бросается в глаза, – вот эта необычная, никем ранее не употреблявшаяся двойственность явлений, дихотомия. Никогда до него и никогда после него никто не делил время и пространство на два, одни совершенные и истинные, вторые – недоразвитые, несовершенные. Как будто действительно одно принадлежит некоему небесному недостижимому миру совершенных сущностей и математически гармоничному движению, а второе как будто является прерогативой земных бурных, хаотических, неправильных движений.
Надо здесь сделать только одно непостороннее замечание. «Начала» написаны на латыни, но, кроме сугубых специалистов, все их читают до сего дня (если читают) в основном на своих языках. Решающее место определения, латинское in se & natura sua[48], в английском каноническом переводе передается как of itself, and from its own nature[49]. Мне кажется, английский вариант проще и ближе к первоисточнику, чем цитированный выше русский текст академика А.Н. Крылова: «Само по себе и по самой своей сущности». «Природу» можно понять как место порождения, условие происхождения. Ее легче ассоциировать с понятием «причина», чем с ненаучной непостижимой «сущностью». Ньютон впервые в науке и в резком отличии от Галилея с его местным пространством и временем вводит если не конкретную, то все же некоторую обозначаемую природу времени, или источник длительности. О ней немного ниже. Слово сущность часто употребляется в научных текстах, но только до определенного уровня сложности. Когда исследуется и измеряется процесс или объект, о сущностях забывают, исследуют конкретные вещи, т. е. явления, а сущность в основном уходит в философские сферы. Так что слово природа, возможно, впервые употребленное в отношении времени и пространства именно Ньютоном, решительно более точное понятие.
Оно объясняет дихотомию, которая означает, что Ньютон отделяет источник времени от реферирования времени, природу времени от процедуры ее измерения и эти два понятия впервые получили совсем разное освещение. Правильное разделение понятия на две составляющие позволили ему сохранить единство мира. Вот почему из раздвоения его не следует вовсе, будто Ньютон решает, что в небесном мире заключена причина абсолютных времени и пространства. Такое мнение было бы поспешным. Из всего его рассуждения следует совершенно определенно, что Ньютон не жалует, так сказать, и небесные тела и не считает их движения такими уж совершенными. Он тут же опровергает возможные обвинения в разделении вещественного мира на два опять же вещественных. Нет, материальная Вселенная всегда, везде и во всем остается единой:
Абсолютное время различается в астрономии от обыденного солнечного времени уравнением времени. Ибо естественные солнечные сутки, принимаемые обычно за равные для измерения времени, на самом деле между собою не равны. Это неравенство и исправляется астрономами, чтобы при измерениях движений небесных светил применять более правильное время. Возможно, что не существует [в природе] (вставка переводчика. – Г. А.) такого равномерного движения, которым время могло бы измеряться с совершенною точностью. Все движения могут ускоряться или замедляться, течение же абсолютного времени измениться не может. Длительность, или продолжительность, существования вещей одна и та же, быстры ли движения (по которым измеряется время), медленны ли или их совсем нет, поэтому она надлежащим образом и отличается от своей доступным чувствам меры, будучи из нее выводимой при помощи астрономического уравнения. Необходимость этого уравнения обнаруживается как опытами с часами, снабженными маятниками, так и по затмениям спутников Юпитера[50].
Иначе говоря, в самых точных фактах исчисления движения материальных объектов, в особенности тех, которые кладутся в основу счета и измерения времени, нет ни равномерности, ни пропорциональности. Ни период обращения Земли вокруг Солнца, ни период ее собственного суточного вращения, ни одна из принятых и точно измеренных единиц не делится на другую без остатка. Поэтому нет и истинного времени, и той совершенной точности соотношения величин и фигур, которые достигаются в теоретических геометрических пропорциях.
С тех пор, как определение Ньютона появилось, от него отталкиваются для собственных исследований времени, его обсуждают, с ним борются. Но, как правило, и принимая, и не принимая его, чаще всего определяемое им время (и пространство) называют так: абсолютное, ньютоновское, субстанциальное. Стало общим местом мнение, что Ньютон ввел субстанциальное, сущностное, материально обоснованное время. Так проявляются трудности перевода, когда под природой подразумевают не имеющие научного смысла понятия сущность или субстанция. Так, например, Эйнштейн называет его выделенным, привилегированным и на борьбе с ним строит всю идеологию своей теории, ее обоснование[51]. Но почему выделенное и почему привилегированное? Почему-то и Эйнштейн, и другие авторы не хотят замечать, что время не одно, их два. Одно идеальное, другое – не очень. Одно – недостижимо точное в соответствие со своей какой-то особенной природой, другое – приблизительное, хотя и практически измеряемое. Правильно это, неправильно, согласны они с определением, не согласны, но следует начинать хотя бы с обсуждения этой дихотомии, а не с единственности, которая является предметом критики и отрицания.
Удивительно, но зародыш разделения времени на абсолютное и относительное есть и у Аристотеля в его утверждении, что время не есть движение: «Изменение и движение каждого [тела] происходит только в нем самом или там, где случится быть самому движущемуся и изменяющемуся; время же равномерно везде и во всем. Далее, изменение может идти быстрее или медленнее, время же не может, так как медленное и быстрое определяются временем: быстрое есть далеко продвигающееся в течение малого времени, медленное же – мало [продвигающееся] в течение большого [времени]; время же не определяется временем ни в отношении количества, ни в отношении качества.
Что оно, таким образом, не есть движение – это ясно»[52], – заключает Аристотель.
Из факта невозможности по видимым движениям тел с их необозримым разнообразием вывести совершенное уравнение времени и Ньютон вслед за Аристотелем делает свой самый важный и, кажется, не постигнутый наукой до сего дня, невероятный вывод о независимости времени от движения тел. Еще раз вдумаемся в его определение, и мы увидим: течение времени и характер пространства не зависят от материального мира, от вещей, от предметов, от тел и их движений. Также и от их взаимного расположения. «Безотносительно к чему-либо внешнему» – в этих словах заключено самое главное, здесь сердцевина определения. Что они означают? Как их надо понимать?
По-моему, нужно читать так, как написано и как следует из всего дальнейшего его изложения. «Все внешнее» – все за пределами самого человека, т. е. весь объективный материальный мир. Время и пространство не имеют отношения, т. е. не порождаются, не производятся, не имеют своим источником материальные тела и их движения и перемещения, не определяются ими. По своей собственной природе, читаем мы. И тут в самом важном пункте не должно быть разночтений: у времени и пространства есть собственная природа, внешними явлениями не определяемая. Таков введенный Ньютоном смысл понятия абсолютного времени. Он очень близок к аристотелевскому пониманию. Форма его отрицательная, но и в отрицании, к чему не следует относить время и пространство, заложено достаточно много информации. Главные законы природы всегда запретительные, они проводят границу в мире, следовательно, усиливают науку. Проведенная Ньютоном граница свидетельствует: то, с чем имеет дело натуральная философия, или физика (по сегодняшней терминологии), т. е. вещный мир и все изменения, с ним происходящие, не обладают таким свойством – производить время и пространство, они не присущи материальным телам мира. Мы их там не обнаруживаем. По одну сторону есть материальные образования, которые не обладают этими качествами, и если они длятся и распространяются, то из этого не следует принимать, будто длится время и распространяется пространство, потому что источник этого дления и этого распространения находится по другую сторону, таится совсем не в материальных механических процессах. Вот в чем смысл запрета. Таким образом, неправы те, кто думает, будто природа времени заключена во внешних по отношению к человеку физических объектах, их движениях или свойствах.
И запрет этот очень хорошо обоснован тут же, в самом поучении, которое посвящено сравнению абсолютного движения и относительного. Он сводится к очень простой, но не примитивной мысли, которая никому, кроме Аристотеля и Ньютона, не приходила в голову. Абсолютное время, абсолютное пространство и, соответственно, абсолютное движение и покой принадлежат только таким телам, которые обладают собственным поведением, т. е. таким телам, источник движения которых заключен в них самих, присущ им, находится у них внутри, относится к их собственной природе. Как пытался высказать, намекнул в вышеприведенном отрывке Аристотель, важны и имеют значение для тела только «изменения, происходящие в нем самом».
А теперь от отрицания природы времени в бренных вещах Ньютон переходит к положительной части. «Как различить абсолютное движение и относительное?» – спрашивает он. Разделить абсолютное и относительное движение или абсолютный и относительный покой можно по следующим критериям:
• их свойствам;
• причине их происхождения;
• их проявлениям.
Свойства. От того, что мы примем условно некое тело за покоящееся, будем рассматривать его как неподвижное, никакого истинного абсолютного покоя в нем не возникнет, оно останется неопределенным. Галилеевский корабль (система отсчета) есть условность, нужная для описания местного движения, договоренность. Однако мы ведь никогда не можем быть уверены, не движется ли он вместе со всеми окружающими его телами относительно чего-то, что мы непосредственно не наблюдаем. Стало быть, сказали бы мы сегодня, истинные, или абсолютные, покой или движение должны быть качественно иными, не наведенными, не побуждаемыми внешними по отношению к телу силами.
Эти тела должны быть действительно в покое, а не только приниматься (выделено мною. – Г. А.) за покоящиеся. В противном случае все содержащиеся тела участвовали бы в истинном движении тел, их окружающих, и если бы это последнее движение прекратить, то они оказались бы на самом деле не в покое, а лишь представлялись бы до тех пор находящимися в таковом[53].
Только относительно мест истинно неподвижных можно говорит об абсолютном покое.
Места же неподвижны не иначе, как если бы они из вечности в вечность сохраняют постоянные взаимные положения, следовательно, остаются всегда неподвижными и образуют то, что я называю неподвижным пространством[54].
Иллюзия абсолютного покоя или истинной точки отсчета возникает потому, говорит он, что мы не знаем, не приложена ли к тому телу, от которого мы ведем отсчет, ровно такая же сила, как и к нашему испытуемому телу, и тогда во взаимном положении их, покоящихся ли, движущихся ли, ничего не изменится. Мы только будем полагать по видимости, нам будет казаться, что изменилось. И эта сила будет по-разному вести себя в зависимости от свойств, телам присущим. Взаимодействуя с телами, она в одних сталкивается со свойствами, которые дают собственные, т. е. абсолютные, ни от чего другого не зависимые время и пространство, а в других – с такими свойствами, которые никаких времен и пространств не дают.
Причины происхождения. Вот то действительно новое, что предстало перед Ньютоном в этой идее раздвоения:
Причины происхождения, которыми различаются истинное и кажущееся движение суть те силы, которые надо к телам приложить, чтобы произвести эти движения. Истинное абсолютное движение не может ни произойти, ни измениться иначе, как от действия сил, приложенных непосредственно к самому движущемуся телу, тогда как относительное движение тела может быть произведено и изменено без приложения сил к этому телу, достаточно, чтобы силы были приложены к тем телам, по отношению к которым это движение определяется[55].
Продолжая мысль Аристотеля о качественно разных телах, Ньютон теперь более четко проводит границу между абсолютным и относительным движением. Первое появляется в телах с некими особенными свойствами. Абсолютным может быть названо только то движение, которое инициировано отдельной причиной особого происхождения из всех на него действующих сил, а не всеми действующими извне силами. Ведь если тело движется относительно других, то и те движутся относительно него, и какое движение истинное, мы не знаем. Буквально на ближайших страницах это положение об относительности преобразуется у Ньютона в строгий закон движения: действие равно противодействию.
