Доктор, не споткнитесь о поребрик!
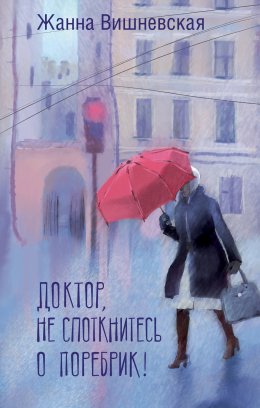
© Вишневская Ж., текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Памяти моей мамы, умершей очень молодой от рака, вызванного филадельфийской хромосомой, посвящается.
Я хочу выразить благодарность всем преподавателям Педиатрической академии, у которых мне довелось учиться.
Спасибо всем коллегам, с которыми я когда-то работала и перенимала у них неоценимый клинический опыт.
Спасибо, что научили меня лечить больного, а не анализы.
Спасибо, что научили меня сострадать и понимать, когда надо просто помолчать и подержать пациента за руку, а не блистать академическими знаниями.
Спасибо, что научили меня бороться с болезнями и иногда даже побежать смерть.
Благодарю мою подругу, прекрасную поэтессу, Елену Котт за нещадную, но конструктивную критику.
Эта книга во многом автобиографическая. Но все имена врачей и пациентов изменены и совпадения совершенно случайны. А вот названия ленинградских улиц, наоборот, сохранены такими, какими они были когда-то. Правда, некоторым из них с тех пор вернули изначальные имена, и проспект Газа стал Старо-Петергофским, а проспект Огородникова – Рижским.
Глава первая
Шутки матери-природы,
или Как появилась я
Мой папа ехал на велосипеде делать предложение. И, представьте себе, вовсе не моей будущей маме, а совершенно другой девушке, в которую он был давно и отчаянно влюблен. Но, видимо, звездам хотелось, чтобы именно в тот день на улице Пилсоню в Майори он чуть не сбил молодую женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать столкновения, папа резко вывернул руль и на полном ходу влетел в густой куст сирени. Отряхнувшись и подобрав покореженный велосипед, он выбрался на дорогу, уже было открыл рот, чтобы обругать незнакомку, но, встретившись с ней глазами, положил на землю велосипед и вернулся в помятый куст – нарвать влажных благоухающих веток. Можно было больше не спешить: папа понял, что перед ним его будущая жена. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Дальше они пошли вместе. К слову сказать, та, кому папа собирался сделать предложение, все равно отказала бы, потому что накануне отдала честь, а заодно руку и сердце другому. Папа вызвался проводить милую незнакомую девушку, она согласилась. Потом они поехали кататься на лодке, а потом оба вернулись в Питер и больше не расставались. Через полгода после встречи они сыграли свадьбу.
Почти все клетки организма несут генетическую информацию, находящуюся в двойном наборе хромосом.
Каждая хромосома представляет собой двойную цепочку ДНК. Как в колоде карт есть трефы, бубны, черви и пики, так в дезоксирибонуклеиновой кислоте есть основания: аденины, гуанины, тимины и цитозины, образующие молекулярные структуры, в которых закодированы фамильные черты.
Мать-природа – самый хитрый карточный шулер. Она лихо тасует гены, а то, бывает, придержит в рукаве парочку, а потом вдруг выбросит такое сочетание, что родители понять не могут, откуда у них, не умеющих отличить ноту до от ноты соль, взялся наследник, способный на слух подобрать Третий концерт Рахманинова. Или, наоборот, оба родителя закончили с медалями консерваторию по классу скрипки, а ребенку медведь не только на ухо наступил, но и основательно на нем потоптался. Порой и до смертоубийства может дойти, когда у голубоглазых и белокурых мамы и папы в люльке орет чернявый, длинноносый, не по-детски волосатый младенец. В результате папа на кухне пьет горькую, мама, получившая от папы ни за что ни про что, рыдает в ванной, а в спальне крестится на образа на коленях старая прабабка, замаливая свои старые грехи, – это ж надо, через столько-то лет ее ночка с цыганом на сеновале семье аукнулась! Вот такой фокус-покус, а точнее, локус-покус. Потому что место на хромосоме, где расположен ген, называется локусом. Прицепился цыганский чернявый ген к локусу, затаился на четыре поколения, а потом вот вам – цыганочка с выходом.
Но есть и особенные клетки, каждая из которых несет только один набор хромосом: или мамин, или папин. Это сперматозоид и яйцеклетка. Именно им суждено встретиться в темном коридоре фаллопиевых труб, чтобы зародилась новая жизнь.
Через четыре месяца после свадьбы моих родителей мать-природа наконец очнулась и засучила рукава. Ей вздумалось создать именно меня, и поэтому она выбрала из миллионов именно ту мамину яйцеклетку, которая несла цвет ее глаз, фигуру, волосы, гуманитарные наклонности. В последнюю минуту, спохватившись, убрала ген болезни, которая потом, забрав рано маму, навсегда изменила мою жизнь.
Для сперматозоидов путь до места зачатия очень непростой, цели достигают только самые активные и жизнеспособные и, наконец, преодолев все лишения и преграды, они окружают яйцеклетку, словно толпа поклонников. В тот знаменательный день особенно выделялись два.
Один сперматозоид нес в себе X-хромосому, наделенную папиным упорством, целеустремленностью и физической силой, но в нем абсолютно отсутствовал ген, передающий папин талант выдающегося ученого-технаря. Другой сперматозоид с Y-хромосомой этим качеством обладал, но, увы, не нес в себе столько физических данных. И тогда мать-природа положилась на чутье почти совершенной, с ее точки зрения, яйцеклетки.
Яйцеклетка настороженно присматривалась. Ей предстояло сделать нелегкий выбор: X- или Y-хромосома? Вокруг нее крутились роем и отталкивали друг друга остальные сперматозоиды. Некоторые в вожделении бросались на неприступный рубеж и бесславно погибали.
Сперматозоид с X-хромосомой яйцеклетке особенно понравился, уж больно лихо сидела на нем шапочка-акросома. Почувствовав нарастающую взаимную симпатию, он призывно вильнул хвостиком и приблизился.
Наконец яйцеклетка решилась. Она выбрала его и раскрыла объятия. Сперматозоид ввинтился в оболочку, проник внутрь, преодолев лучистый венец, и, буравя цитоплазму, приблизился к оболочке ядра. Он был истощен, но готов на любые жертвы ради жадной до генетической информации яйцеклетки. Из последних сил бравый сперматозоид выпустил свои хромосомы внутрь яйцеклетки, потерял хвост, а потом и вовсе распался на составляющие.
Оплодотворенную яйцеклетку больше не интересовала его судьба. Она вела себя жестоко, как самка богомола, которая, использовав, сжирает своего самца.
Ей было чем заняться. В ней зарождалась новая жизнь.
С хрустом раскручивалась двойная спираль ДНК под действием хеликазы. Вся в поту ДНК-полимераза шныряла вдоль нее, считывая информацию, нанизывая на себя нуклеотиды, как бусины, формируя новую цепь. Транспортная РНК таскала на спине нуклеотиды, как грузчики – кули с мукой на товарной станции. Работал на пределе аккумулятор энергии живых клеток – АТФ (аденозинтрифосфаты).
В этом процессе образовывалась информационная РНК, которая напоминала груженный нуклеотидами товарняк. Ей оставалось жить только пару минут, а за это время надо было проскочить через оболочку ядра, как в туннель, и добраться до рибосомы, где РНК предстояло разгрузиться и начать создавать белок, основную составляющую клетки. Потом из клеток формируются различные ткани, а затем мудрая мать-природа сшивает их вместе, образуя организм человека. Ей понадобятся ферменты-белошвейки, которые аккуратно приторочат соединительные ткани к мышечным, пропуская сквозь них, как прошивку, нервные окончания, и аккуратно застелют сверху эпителиальным слоем. Стежок за стежком, орган за органом, система за системой формируется маленький эмбрион.
Через пять месяцев после свадьбы маму в первый раз затошнило, восемь месяцев спустя родилась девочка, которая через двадцать пять июлей закончила медицинский институт, а еще много лет спустя написала эту книгу.
Глава вторая
Клятва Гиппократа,
или Введение в специальность
– Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности…
Сотни бывших студентов, ныне новоиспеченных врачей, вразнобой повторяли слова за старостой курса, которая стояла на сцене рядом с деканом факультета в окружении профессоров и преподавателей со всех кафедр. На верхних ярусах амфитеатра толпились родители, друзья, жены, мужья, дети. То и дело слышались всхлипы, мелькали носовые платки, момент был трогательный и торжественный.
– Клянемся!
Как завершающий аккорд, прозвучали слова клятвы Гиппократа. И даже если кто-то произносил их формально, то именно с этой минуты для всех, кто принял врачебную присягу, началась самостоятельная профессиональная жизнь.
Молодые врачи в белых халатах и шапочках оживленно галдели в большой аудитории, как пассажиры на вокзале. Одни брали с собой немалый багаж знаний, научных трудов, первых неудач и успехов, рецензий научных руководителей и блестящих отзывов научных обществ. Другие начинали путь налегке – таких либо проталкивали с курса на курс родители, либо они как-то сами перебирались с «хвостами», благодаря невероятному везению всякий раз избегая отчисления. Их навыков хватило бы исключительно на выписывание больничных или измерение температуры в санаториях для высокопоставленных чиновников. Их ожидали теплые места, работа строго с девяти до пяти, отсутствие ночных дежурств и хорошая зарплата. Некоторым удавалось остаться на кафедрах или получить распределение в научно-исследовательские институты, чтобы разрабатывать новые теории, часто не имеющие под собой реальных основ. Позже такие теории разваливались на глазах, и псевдонаучный груз, потеряв лоск и привлекательность, оставался уныло пылиться в медицинских архивах. Со временем эти горе-врачи умудрялись терять даже тот базовый опыт, который накопили в институте, и либо превращались в административных чинуш, либо просто числились в отделе кадров, не принося ни пользы, ни вреда, и в ожидании пенсии становились членами многочисленных комиссий. Нужные и не нужные директивы, выпущенные этими комиссиями, нередко отравляли жизнь практикующим врачам в подведомственных медицинских учреждениях.
Часть выпускников отправлялась на периферию с бесконечными пересадками, волоча с собой чемоданы книг и пособий. Ехали они с горящими глазами, одновременно испуганные и окрыленные, начитавшись историй о врачах, которым приходилось принимать роды, удалять аппендицит в экстремальных условиях и пробовать вакцины на себе. Ничего этого современным врачам делать, как правило, не доводилось – даже в самых отдаленных регионах работали хирурги и акушеры. Но думать так было приятно, хотя очень часто, вдоволь помесив грязь по осенней распутице и хлебнув других радостей сельской жизни, молодые врачи через несколько месяцев забывали о своих благих намерениях и возвращались в лоно больших городов. Другие же, несмотря на лишения и отсутствие элементарных условий, оставались в точках, не отмеченных на карте, обзаводились там семьями и оседали навсегда.
Так или иначе после принятия клятвы Гиппократа вчерашние студенты готовятся делать свои первые самостоятельные шаги в медицине, еще не понимая, что на деле точка отсчета совершенно другая. Их путь начинается не с вручения диплома, а с самой первой лекции – с введения в специальность. Этот отправной пункт в суете и ажиотаже можно проскочить незаметно. Все студенты нетерпеливо поглядывают на часы, торопя время, чтобы скорее приблизиться к заветной анатомии, гистологии и далеким, а оттого еще более привлекательным хирургии, неврологии или терапии. Введение в специальность так и остается рядовой записью в зачетке, предметом, который, конечно же, все формально сдают – ведь ничего не надо зубрить, достаточно иногда появляться на лекциях. Можно кокетничать и назначать свидания, пока тебе рассказывают о профессионализме, ответственности и коллегиальности. Слова лектора кажутся настолько банальными, что просто пролетают мимо ушей. Все с облегчением выдыхают, получив зачет, так и не осознав, что это единственный предмет, который некоторым не суждено сдать никогда, даже несмотря на наличие диплома.
Даже на пенсии врач попадает в ситуации, когда надо оказать неотложную медицинскую помощь. Беда может случиться где угодно и когда угодно, вопрос только в профессионализме медика, который оказывается рядом с нуждающимся в помощи.
Всем, однажды принесшим клятву Гиппократа и никогда не изменившим ей, посвящается эта книга.
Глава третья
Онкология. Филадельфийская хромосома
Они познакомились на курсах английского. Марина поступала в педагогический и хотела подтянуть язык, а Вадиму надо было сдать кандидатский минимум. Для проверки знаний им вручили текст по истории штата Пенсильвания.
Марина быстро справилась, задание показалось ей легким. А вот Вадим язык основательно подзабыл после школы и понял лишь то, что Филадельфия – столица Пенсильвании. Он пыхтел над текстом, озирался по сторонам и, встретившись взглядом с Мариной, беспомощно пожал плечами и улыбнулся. Марине улыбка понравилась, и она вызвалась помочь.
К окончанию курсов они решили пожениться. Почему-то обоим запомнилось, что на последнем занятии им дали разобрать текст про кактусы.
В загс они пришли с двумя горшочками. В одном – плоский светло-зеленый росток с нежными ворсинками вместо колючек. Второй кактус был пупырчатый, основательный, покрытый толстыми твердыми колючками, как ежик. Из гостей были только родители и самые близкие друзья – молодоженам не хотелось пышной свадьбы, тем более что Марина уже мучилась токсикозом. Посидели дома, тихо, по-семейному.
На свадьбу им подарили огромную цветочную вазу, похожую на малахитовую, и они посадили туда оба маленьких кактуса – как символ своего семейного благополучия.
Через семь месяцев родилась дочь. К тому времени Колюнчик уже вымахал на полметра в высоту. Он рос крепким и сильным. Плоскунчик так и не обзавелся острыми иголками и остался нежным на ощупь. Еще через несколько лет кактусы было уже не оторвать друг от друга – Плоскунчик так обвился вокруг Колюнчика, что казалось, будто они срослись корнями.
Марина и Вадим смеялись, что если с одним из них что-то случится, то второй просто не выживет.
Все началось с простой усталости. Иногда поднималась температура. Марина даже не насторожилась – подумаешь, немного знобит по вечерам. Ну, перерабатывает, давно не была в отпуске. Опять-таки хлопоты: муж, дочка, дом – наверное, просто устала. Она всегда была хорошей хозяйкой – вставала раньше всех, умудрялась перестирать все белье, накрахмалить до хруста простыни, отгладить мужу рубашку, приготовить вкусный завтрак. Любила гостей, хорошо накрытый стол, умудрялась готовить изысканные блюда почти из ничего. Однажды только промахнулась – где-то вычитала рецепт петуха в сладком соусе. Смотрелось на блюде красиво, но курица с мосластыми ногами бегуньи на длинные дистанции в приторном болгарском компоте из слив и яблок оказалась несъедобной, и гости, переглядываясь, откладывали вилки. Марина тогда очень переживала, а Вадим только смеялся. Он-то был совсем неприхотлив, предпочитал простую пищу, мог всю неделю довольствоваться котлетами с гречкой и лишь незлобиво подтрунивал над затеями жены.
Ему ничего не было нужно, кроме рабочего стола и чертежной доски. Жену и дочку он любил до беспамятства.
Однажды Марина гладила мужу рубашку и вдруг почувствовала такое сильное головокружение, что не смогла удержаться на ногах и опустилась на пол, да еще и утюг уронила. Муж прибежал, подхватил на руки, уложил. Марина еще долго порывалась встать, догладить, но Вадим не дал. А утром пошли в поликлинику.
Она еще смеялась, что прекрасно себя чувствует и больничный ей никто не даст, скажут: «Симулянтка». Равнодушная участковая бегло посмотрела, поставив дежурный ОРЗ, отправила на анализы. А на следующий день позвонила заведующая и попросила зайти к ней сегодня же с мужем.
– Марина Васильевна! Рано еще что-то говорить, но у вас очень высокие лейкоциты. Это кровяные тельца, который ответственны за защиту организма от инфекции. Мы, конечно, сделаем повторный и более углубленный анализ, но, к сожалению, цифры столь высоки, что ошибка маловероятна. Я дам направление в Институт гематологии. Там вас обследуют дополнительно.
Марина взяла результаты анализов, пока еще не понимая, что произошло. Повернулась к мужу в надежде на его успокаивающую улыбку и, только увидев его посеревшее лицо, испугалась по-настоящему.
Потом месяц обследований, теплящаяся надежда, болезненная пункция костного мозга и, наконец, диагноз: хронический лейкоз, вызванный генной мутацией под названием «филадельфийская хромосома».
Марину с мужем направили к специалисту.
Вадим остановил ее у кабинета.
– Марина, подожди меня здесь. Я поговорю с врачом, потом зайдешь ты, – сказал он тоном, не терпящим возражений.
А она и не спешила – знала, что ничего хорошего им не скажут, и хотела еще на несколько минут отдалить окончательный приговор.
– Добрый день! Я – доктор Бельский, Эдуард Леонидович.
Врач вышел из-за стола и протянул руку. Вадим крепко пожал ее, как будто от силы и дружественности этого прикосновения что-то зависело.
Доктор указал на стул напротив, а сам углубился в анализы. Потом откинулся на спинку кресла и посмотрел на Вадима. Собственно, слов и не требовалось, по лицу Бельского было все понятно.
– Все так плохо? – хрипло спросил Вадим.
Бельский поднялся и положил руку ему на плечо. Вадим попытался встать и понял, что его не держат ноги.
«Не говори ничего, подожди минуту! Я не могу это услышать! Дай мне немного прийти в себя. Там, за дверью, Марина. Как мы с тобой скажем это, доктор? Как ты живешь с этим, каждый день вынося приговор? Помолчи еще минуту, подари мне ее. Последнюю минуту, когда еще можно на что-то надеяться, что-то планировать, радоваться жизни». Все это, конечно, Вадим не сказал вслух, а только поднял на Бельского полные боли глаза.
– Хронический миелолейкоз.
– Что это значит? – почему-то шепотом спросил Вадим.
– Это значит, что у вашей жены рак крови, и, к сожалению, это неизлечимо. Разумеется, мы назначаем «химию», чтобы не было ухудшения, можно добиться долгой ремиссии, но…
– Что «но»? – Вадим отказывался верить услышанному.
– Максимум пять лет. В лучшем случае.
– Вы понимаете, что вы говорите?! – почти закричал Вадим. – Ей тридцать девять, у нас дочка в шестом классе. Какие пять лет?!
Бельский вздохнул и поставил на стол графин с водой.
– Хотите, чтобы я сказал Марине Васильевне или вы сами? Кстати, за дочку можете не беспокоиться. Это не наследственное. Где-то произошел сбой в системе. Что-то спровоцировало развитие, может, радиация, может, солнце. Кто ваша жена по профессии?
– Учительница, но мы в прошлом году ездили с ней в Крым, было очень жарко. Говорили, что год активного солнца.
– Да, вероятно, это стало толчком к пробуждению болезни. Давайте, не откладывая, начнем лечение. Поговорите с женой и приходите ко мне, разработаем схему, будем делать контрольные анализы и надеяться. Опять-таки медицина не стоит на месте.
Вадим не помнил, как закрыл за собой дверь и вышел в коридор. Первое, что он увидел, – это глаза жены. В них еще теплилась надежда, но тут же погасла, когда их взгляды встретились.
Они еще долго вместе ходили по врачам. Пробовали разные комбинации лекарств. Обращались за помощью даже к экстрасенсам. Вадим купил микроскоп, научился считать лейкоциты самостоятельно и каждое воскресенье регулировал дозу лекарств. Врач из онкоцентра поражалась, насколько Марина оставалась стабильна.
– Ваш муж продлевает вам жизнь! – восхищалась она каждый месяц.
А Вадиму после семи лет борьбы говорили, что жена уже минимум два года живет вопреки всему, что известно науке. Лечащий врач даже написала статью в журнале.
Марина тоже держалась как могла. Она работала на полную ставку, летом ездили в отпуск. Она не принимала никакой помощи по дому и даже выглядела прекрасно. Смешно сказать – им завидовали! Дочь росла и, казалось, не подозревала, что происходит с мамой. Сама Марина то ли не понимала своей обреченности, то ли делала вид, что не понимает. Вадим так никогда и не сказал ей о пятилетнем приговоре Бельского.
Так прошло лет десять после постановки диагноза. Дочь закончила школу и поступила в медицинский институт. Семья переехала в новую квартиру. Купили чешский спальный гарнитур и югославскую стенку в гостиную. Там же поставили малахитовую вазу с Колюнчиком и Плоскунчиком. Чтобы ее перевезти, пришлось нанять умелую команду грузчиков – кактусы вымахали почти до потолка.
А в марте Марина вдруг опять упала в обморок.
Через неделю она уже лежала под капельницей в онкоцентре и еле шевелила покрытыми язвами губами. Вадим с дочерью не выходили из палаты. От боли Марина не могла ни говорить, ни есть. Вадим смачивал ей губы мокрой холодной ложкой. Дочка тихо плакала в изголовье. Как будущий врач, она все понимала. Вадим же отказывался верить.
Он до последнего держал ее за тонкую, как прутик, руку и все говорил и говорил. Ему казалось, что он не дает ей уйти, вспоминая, как они познакомились, как поженились, как она помогла ему с текстом про далекую Пенсильванию и ее столицу – город Филадельфию.
Похоронили Марину на кладбище, рядом с могилой родителей. «Их счастье, что не дожили», – почему-то все время думал Вадим. У него не было ни сил, ни права на слабость и слезы. Рядом стояла беременная дочь, которую он тихо утешал вместе с ее мужем. А она только плакала и плакала, гладя свой округлившийся живот.
По обычаю поставили на могилу стакан с водкой и хлебом. Ночью пошел дождь, и, когда утром Вадим пришел на кладбище, в стакане вместо водки была уже только дождевая вода, а хлеб размок, и его склевали птицы.
А еще через месяц заболел Плоскунчик. Сначала он покрылся желтыми пятнами, потом стал подсыхать с корня, как-то скукожился, ссохся, и однажды Вадим нашел его на полу. Плоскунчик, отцепившись от Колюнчика, сломался у основания и умер.
Глава четвертая
Ожоговое отделение,
или Лоскутное одеяло
Женщина в цветастом платье сидела у колыбели. На коленях у нее лежало лоскутное одеяло. Она уже давно не могла его закончить – то не находилось кусочков подходящий ткани, то времени. Младенец сосал палец, смотрел на мать и молчал. Та что-то напевала ему.
Полог юрты откинулся, вошел мужчина, приобнял женщину. Она спрятала у него на груди лицо, чтобы он не видел слез радости. Оба были скупы в проявлении чувств.
– Посмотри на сына! Как он вырос, пока тебя не было.
Мужчина взял в сильные руки ребенка и высоко поднял. Малыш молчал. Лоскутное одеяло упало на пол.
– Зачем ты латаешь его, я куплю тебе все, что ты хочешь! – ласково сказал мужчина.
Женщина покачала головой:
– Я не чиню, я сшиваю разное, чтобы получить целое.
Женщина понимала значение каждого куска ткани, она чувствовала рисунок. Отдельные элементы сливались в единый танец. Она могла надолго отложить работу, пока не находила нужный лоскуток. Свекровь и золовки приносили ей хорошие, почти не ношенные платья. Она благодарила, но никогда не использовала в работе. «Не приживется, чужая!» – думала она про себя и прятала материю в сундук. Никогда, правда, не выбрасывала, боясь обидеть.
Мальчик рос, начал потихоньку ходить, а мать все трудилась над своим одеялом. Иногда, когда попадался нужный лоскут, она не ложилась допоздна, пока не пришьет его на место. Иногда критически оценивала свою работу, распарывала и начинала все сначала.
– Опять не прижилось? – с усмешкой спрашивал отец, но не возражал, а, наоборот, привозил новые куски тончайшей кожи или даже искристого шелка.
А она все выискивала подходящую по цвету, толщине, качеству ткань, которая точно сочеталась бы с соседними лоскутами.
– Надо найти такую ткань, чтобы все стало как единое целое… Как единое целое…
Айдар не любил выезжать на природу. Он с удовольствием купался бы в озерах, собирал грибы, но загородные поездки всегда сопровождались шашлыками и выпивкой. Против шашлыка он, конечно, не возражал и великолепно умел мариновать баранину, как учил дед, мог даже позволить себе рюмочку, хотя в его религиозной казахской семье это никогда не приветствовалось. Но вот сочетания огня и спиртного доктор Исмаилов не переносил. Слишком чудовищны были последствия, и кто мог знать это лучше заведующего ожоговым отделением в детской больнице? Родителей маленький Айдар лишился рано, они разбились на машине, когда ему было всего четыре года. Он помнил мамино цветастое платье и пеструю косынку, запах козьего молока от ее рук и низкий густой голос отца, но лица обоих знал только по фотографиям, которые висели на стенах и стояли на комоде в доме отцовских родителей. Мама была сирота, она вошла к ним в дом не только как невестка, но и как дочь, поэтому оплакивали их одинаково.
Детство маленький Айдар провел в деревне, часто ночевал в степи, пас овец наравне со взрослыми чабанами. Бабушку с дедушкой слушался, но больше всех любил старшего брата отца.
– Твой отец хотел, чтобы ты стал врачом! – часто повторял дядя Ильяс.
– В нашей семье все мужчины всегда были чабанами! – возражал упрямый дед.
– А он будет врачом! – поддерживала старшего сына упрямая и своенравная бабушка Гульшат.
После окончания школы Айдар уехал поступать в Ленинград. Он всегда хотел лечить детей, а там был единственный педиатрический институт.
Ильяс поехал с ним, дождался результатов, даже вытер грубой ладонью глаза, когда увидел в списках поступивших: «Айдар Исмаилов». Устроил племянника в общежитие и вернулся в родную степь.
От бабушки и дедушки с завидной регулярностью стали приходить посылки с продуктами. В комнату Айдара, как пчелы на мед, слетались студенты со всех этажей. Посылка сметалась мгновенно, а благодарили семью Исмаиловых еще долго. А уж когда на третьем курсе приехали сами бабушка с дедушкой, так соседи Айдара даже перебрались на неделю в другие комнаты, устроив кормильцев со всеми удобствами. Ну, коменданту общежития проставились, конечно, чтобы разрешил.
После окончания института доктор Исмаилов поступил в аспирантуру по хирургии и специализировался на пересадке кожи при ожогах третьей-четвертой степени. На отделении его сразу переименовали в Андрея Матвеевича – маленьким пациентам трудно было выговорить «Айдар Мажитович».
– Доктор Исмаилов, доктор Исмаилов! Срочно в приемную! Идет машина из области. Пожар в детском саду, проводка загорелась. Есть тяжелые.
Опять этот проклятый безжалостный огонь. Запах горелой кожи, обугленные тела, с которых свисают лохмотьями ткань и кожа.
Некуда ставить капельницу.
Ничего. Леночка всегда найдет вену.
– Льем, девочки, льем. Давайте, родные, быстрее! Я не могу сейчас взять на стол, не выдержит, сильное обезвоживание, уже поползла вверх температура, надо сначала стабилизировать.
– Где интубационный набор? Здесь поражение гортани, сама дышать не может.
– Готовьте операционную. Берем мальчика с ожогом ноги и руки, там только двадцать пять процентов кожи, должен выдержать.
– Какое разрешение?! Мать еще в пути, делаем по показаниям. Да, под мою ответственность!
– И лейте, девочки, родные, лейте, толстой иглой, в две руки! Не хватает плазмы, запрашивайте соседние больницы. Уже везут? Крови много надо, вторая группа есть, хорошо. Нет нулевки? Где хочешь бери! Всех поднимай.
– Любич и Горская, все едут? Вызывайте Макарова из отпуска. Он в Репино. Звони в милицейское отделение, они его найдут. Он в палатке на озере. Ребята в отделении знают, не первый раз. А, уже позвонили? Молодец, Ольга Сергеевна! Вы здесь? У вас же дочка рожает! Без вас родит? Тоже правильно. Вы же старшая медсестра, спасибо!
– Давайте, родные, льем, льем! Декстрозу, альбумин!
– Если что, я во второй операционной! В первой Любич уже колдует. Как не спасли?! Не может быть! Там же девочка всего пяти лет! Точно ничего нельзя было сделать? Ах, даже начать не успели? Пусть тогда берет пацана с лицом, там надо быстрее, чтобы иссечь мертвую ткань, а то шрамы страшные останутся.
– Думайте, что говорите! Что значит «хорошо, что не девочка»?! Идите занимайтесь больным.
– Я начну во второй, если что – закончит Макаров. Ребята из милиции звонили, они уже на трассе, по городу все предупреждены, им дадут зеленый.
– А Горская еще не начала? Что там у нее? Стабильна, интубировали, мать не разрешает? Ольга Сергеевна, разберитесь, пожалуйста! Мне, ей богу, не до сантиментов. Я все равно девочку возьму, потом отобьюсь. Не выживет, если еще ждать. Мать в шоке, она сейчас ничего не понимает.
– Давайте, девочки, продолжаем внутривенное, а то почечная недостаточность разовьется. Звоните нефрологам, скорее всего, понадобится аппарат искусственной почки.
– Включайте ультрафиолет, надо палаты дезинфицировать постоянно, все равно не избежать инфекции.
– Сколько еще привезли? Из них тяжелых? В реанимации больше мест нет. Связались с первой городской? А, уже им везут? Хорошо.
– Договорились с мамой? Отец дал разрешение? Вызывайте кардиолога, мне там только сейчас инфарктов в приемном не хватает. Нет, никого не пускать. Кто кровь предлагает? Берите! Милиционеры, которые привезли Макарова? Воспитатели? У всех берите.
– Льем, девочки, льем, в обе руки. До костей сожжены? Надо ставить катетер в центральную вену. Я опять во вторую операционную, там стабилизировали. Готовьте отделение, смотрите, кого можно из реанимации перевести в палаты.
– Скольких уже потеряли? Что значит «всего двоих»?! Мы двоих детей потеряли! Четырех и пяти лет.
– Макаров, Горская, берем самого тяжелого.
– Я сам, сам. Ничего, что шестой подряд. Все? Все стабильные. Смена пришла? Спасибо за работу. Да, я сейчас выйду к родителям.
– Нет, воспитатели говорить со следователем не могут, они еле живые, по нескольку раз кровь сдавали.
– Как Макаров тоже сдал?! Редкая группа? Вон из операционной, ты же еле на ногах стоишь, без тебя справимся. Вон, я сказал! Иди ко мне в кабинет и спи, там лоскутное одеяло в шкафу возьми.
– Завтра будем решать насчет пересадки кожи, сейчас все равно нельзя. Надо, чтобы как единое целое было и швов как можно меньше. Помню, так мама говорила, когда я был маленький. Как единое целое…
Глава пятая
Участковый врач,
или На ошибках учатся
Ноябрьское утро было каким-то неуверенным. То начинался дождь, то сквозь тучи и морось осторожно проглядывало солнце, подернутое белой пленкой и похожее на сопливую яичницу. Под ногами чавкало и хлюпало месиво вчерашнего снега и сегодняшнего дождя. Прохожие зябко кутались в шарфы и поднимали воротники демисезонных пальто и курток на рыбьем меху.
Все кашляли, чихали, сморкались, одаривая друг друга безжалостными вирусами, которые радостно ввинчивались в рыхлые, ослабленные предыдущими болезнями, гланды и беспрепятственно проскакивали в дыхательные пути, оседая в легких и бронхах. Кашель из поверхностного становился надсадным и лающим, в аптеках скупались микстуры от кашля и оксолиновая мазь. В транспорте было не продохнуть от густого приторного запаха чеснока. В поликлиниках выстраивались очереди за больничными, и участковые сбивались с ног, делая по тридцать-сорок вызовов в день. На город наступала эпидемия гриппа.
В час пик тянущаяся по подземному переходу к метро толпа усталых женщин с обвисшими плечами и руками, оттянутыми сумками, походила на исход черепах из болота – такой вид придавали дамам неуклюжие, но модные пуховики и не менее модные снуды, натянутые на головы. На ухоженных представительниц прекрасного пола в дубленках или шубках смотрели с брезгливой завистью, почти с ненавистью, но тут же отвлекались на свои мысли.
Этой хмурой толпе черепаховидных было о чем подумать. Они тяжело переступали в растоптанных сапогах или ботах, прикидывая, что бы приготовить на ужин: то ли опять пожарить картошки, то ли сварить склизкие макароны? Открыть банку тушенки или лучше придержать до выходных и сварить борщ? Мяса, колбасы и сыра они не видели по нескольку недель, талоны было не отоварить. На полках громоздились пирамиды из банок морской капусты, продавцы за прилавками скучали без дела. За счастье считалось достать сахар, мыло или масло, что-то выменивали на «жидкую валюту» – водку, словом, выкручивались, как могли. Дома ждали дети, мужья, родители: пасмурные, злые, замученные заводом, школой, кульманами и чертежами. И на душе у черепаховидных было муторно и нечисто, будто плюнули и не вытерли.
Лица у всех были какие-то помятые, бледные, словно пожамканные в ладонях и наскоро разглаженные листы бумаги.
Улыбка могла бы исправить все. Изредка по толпе прокатывалась легкая волна смеха, но скоро гасла, заглушенная монотонным стуком колес. В вагоне опять зависала тихая напряженная тишина, прерываемая осторожным покашливанием или шуршанием газетных страниц в руках счастливчиков, которым удавалось занять место.
Как солдаты, стояли в метро локоть к локтю женщины, которые могли все, но разучились улыбаться, погрязшие в рутине бесконечных календарных будней. На каждой станции плотно сомкнутые челюсти дверей открывались и изрыгали жеваную порцию пассажиров.
Яркий свет хрустальных люстр мраморных станций только подчеркивал разрушительную работу времени. Из-под шапок тек пот, размазывая тушь под глазами, на губах расплывалась рублевая помада. Грубая пудра скатывалась на простроченных морщинами лицах, и они напоминали контурные карты с нанесенными пунктиром следами семейных и коммунальных баталий.
А где-то за спиной после угрожающего «Двери закрываются» за мутным стеклом исчезали в туннеле, как в преисподней, их тусклые братья и сестры.
Пассажиры в вагоне топтались, тщетно пытаясь увернуться от драповых локтей или обтянутых рейтузами коленок. Неловкость сменялась ненавистью, шипением, оскорбительными выкриками, потом – напряженной тишиной, в которой ссорящиеся подыскивали слова пообиднее и в итоге глупо и бессмысленно кричали: «Сама дура!» вслед сопернице. Хотя та была уже на платформе и приводила в порядок одежду, пострадавшую в давке.
Что может сравниться с драмой, когда застрявшая в дверях сумка в последнюю минуту рвется и по вагону катятся тугие луковицы и картошка, а владелица с ужасом смотрит на обрывки авоськи, в которой чудом уцелела одна картофелина, в то время как поезд, набирая скорость, уносит ее добычу?
Сначала из какой-то деликатности пассажирки продолжали смотреть на мятущиеся под ногами овощи, которые весело катились по вагону, будто бильярдные шары в поисках несуществующей лузы, ударялись о стены, ноги, катились в другую сторону, сталкивались друг с другом, пока не утыкались в чей-то ботик. Наконец кто-то нагибался, подбирал одну и начинал шарить по полу, пытаясь поймать следующую головку лука. Тогда как по команде все остальные наклонялись и, отпихивая друг друга, хватали корнеплоды. Уже разобрав по сумкам, пристально осматривались: не закатилась ли еще одна? Так дети у метро, не отрывая взгляда от слякотного пола, ищут монетки на счастье и торжествующе выхватывают из лужи копеечку, а если повезет – и пятак.
В то утро, как обычно, из пункта А в пункт Б вышел пешеход. Эту молодую женщину можно было бы назвать довольно привлекательной, если бы не измученный вид и такая же, как у всех, уродливая одежда. Наша женщина-пешеход каждое утро, кроме выходных, спешила в подземку. Ей надо было проехать всего несколько станций до «Техноложки», чтобы потом пройти пешком по Московскому проспекту до Обводного канала, где она работала участковым врачом. Она любила величественные станции Ленинградского метрополитена и нарочно ездила на метро, хотя могла бы добираться на автобусе без пересадок. Она умудрялась даже читать, одной рукой придерживаясь за теплые от чужих прикосновений металлические поручни. Иногда, открыв книгу, она просто наблюдала за пассажирами. Однажды ее соседка, женщина-праздник в красивой импортной куртке, потеряла в давке брошку. Волна пассажиров вынесла женщину на перрон, и она еще долго перебирала складки шарфа и провожала глазами уплывающий состав. А брошка, как оказалось, зацепилась за авоську доктора, и та нашла ее случайно, когда расплачивалась у ларька за хлеб. Разыскать хозяйку тогда не было никакой возможности, и брошка так и осталась у нее как символ красоты и независимости. Доктор иногда надевала ее на праздники, при этом чувствовала себя чуть ли не воровкой, хотя, конечно, никакой ее вины в этой истории не было.
Каждый день доктор наматывала разные расстояния из пункта А в пункт Б и обратно. Скорость была примерно одинаковой, а вот расстояние зависело от единственной переменной: сколько сегодня будет вызовов? Жизнь доктора была так же однообразна, как жизнь многих ее соотечественников, которые изо дня в день, словно бурлаки, тянули лямку, преодолевая препятствия и стремясь к цели, обозначенной во всех передовицах и написанной на фасадах всех фабрик и заводов, но при этом недосягаемой, как Марс. Закончив на углу Обводного и Газа, доктор заходила в кафешку. Там ее знали, не спрашивая, наливали приторный кофе прямо из общепитовского ведра и давали присыпанную сахарной пудрой булочку. Булочка была мягкой и вкусной, а кофе – липким и чуть теплым, но все-таки придавал сил. Отдохнув пятнадцать минут, женщина снова выходила на улицу и уже в кромешной темноте шла из пункта Б в пункт А.
Доктор-пешеход месила грязь от Обводного, по Циолковского и Курляндской мимо дрожжевого завода, выходила на проспект Газа и снова шла по Обводному, не переходя через мост. Расстояния были приличными, вызовов много, темнело рано, фонарей почти не попадалось, лампочки в подъездах вывернули вороватые жильцы. Но она знала свой участок наизусть. Могла, не спотыкаясь, подняться по любой лестнице. Она не боялась темноты, потому что страшнее, чем эта жизнь, пустая и бессмысленная, казалось, не было ничего.
Поднимаясь по эскалатору, доктор смотрела на руки, держащиеся за поручни, и загадывала, что если ей встретятся три женщины с хорошим маникюром, то день не будет тяжелым, никто из участковых не останется дома на больничном, не нагрянет никакая комиссия из горздрава и жалоб на вечно опаздывающих врачей окажется меньше. К сожалению, такие дни бывали крайне редко: то ли женщины прятали ухоженные ногти под перчатками, то ли гадание не срабатывало.
Выйдя из метро «Технологический институт», женщина-пешеход направилась к районной поликлинике. Туда со всех сторон шли такие же, как она, врачи, чтобы получить вызовы и разойтись по участкам, которые регистраторша непонятно называла «arrondissements»[1]. Все пожимали плечами: ну, выжила из ума старая! А старая, между прочим, закончила Смольный институт и свободно говорила на французском, немецком и английском, носила кружевной воротничок, скрепленный у горла камеей, которую ей удалось вывезти из блокадного Ленинграда и не обменять на хлеб и мыло. Одна из тех «бывших», которых старательно истребляли годы и гады, она все же сумела сохранить камею и чистое французское произношение.
Впрочем, в регистратуре ее лингвистические таланты не требовались, а вот терпение было необходимо. В тяжелые дни на каждый из участков, протянувшихся от Банного переулка до Бумажной улицы, приходилось по пятьдесят, а то и больше вызовов. В районе говорили: поликлиника между двумя «Б». Участковые врачихи с первого и двадцать четвертого участка сначала обижались, потом привыкли. Так их и звали: «Б первая» и «Б последняя».
Как раз между двумя «Б», где-то между проспектом Газа и улицей Циолковского, состоялось и мое боевое крещение – первый вызов неопытного врача-педиатра, который чуть не закончился полным провалом.
Двухэтажный особняк прямо на набережной Обводного канала когда-то принадлежал статскому советнику средней руки, а потом перешел во владение трудящимся и превратился в дом с коммуналками. О прежней жизни напоминали несколько изразцовых печек, давно не функционирующих, с потрескавшимися плитками да два высоких арочных окна, законопаченных пыльной грязной ватой, от которой чихали даже мыши. Тугая дверь парадной натужно скрипела и упиралась. Замызганную лестницу когда-то украшали резные перила, загибающиеся с первого на второй этаж. Сейчас они поредели и походили на беззубый старушечий рот, искривленный в улыбке паралитика. Как слюна из угла рта, капала ржавая вода из вечно текущей трубы. Под лестницей собиралась позорная лужа, которую раз в неделю, матерясь, убирала полупьяная дворничиха. «Убирала» – это громко сказано, скорее, размазывала ветошью, даже не затрудняясь пройтись по углам. Зато хоть выбрасывала ведро с вонючими пищевыми отходами. Из парадной почему-то всегда несло гнилой селедкой: то ли это был запах кошачьей мочи, то ли жильцы по бедности действительно ели в основном селедку с картошкой, доставленной мешками из родных деревень, которые они променяли на длинный городской рубль и прописку. Большинство из них работали на производствах, благо рядом были и «Красный треугольник», и дрожжевой на Курляндской, и до «Адмиралтейских верфей» не так далеко.
Запах дрожжевого завода проникал через все щели и трещины, им пропахло все – от замызганных придверных ковриков до выцветших обоев, свисающих лохмотьями по углам. Весь дом пропитался мерзким кислым запахом вплоть до штукатурки.
Дома шли на расселение.
Никого уже не волновали облезлые стены, клочья дерматина, торчащие из дверей. Меня не покидало ощущение, что я брожу по кладбищу домов. Когда-то величественные, они сейчас стояли никому не нужные, запущенные, точь-в-точь как их немногочисленные жильцы. В некоторых зданиях людей уже осталось так мало, что по лестнице было жутковато ходить. И почему-то всегда вызывали на последние этажи, где было больше всего детей. Еще одна регистраторша, злюка и охальница, говорила, что родителям неохота спускаться даже в магазин, вот они и строгают детей от лени и безделья.
Я позвонила в квартиру на втором этаже. Хотя какой-никакой опыт у меня был, я все равно тряслась от страха и неуверенности. Если на первом и втором курсе нас бросали на картошку, то на пятом и шестом – на эпидемии гриппа. Но тогда в поликлинике постоянно дежурил преподаватель, которому можно было позвонить, чтобы проконсультироваться. Здесь я оказалась один на один с пациентом, страхом и репутацией, которую очень легко было подпортить. Случалось, что молодого врача, который ставил неправильный диагноз, потом просто не пускали на порог дома и звонили начмеду с просьбой послать кого-то другого. Было стыдно и обидно, за спиной поговаривали и посмеивались.
Я прислушалась: за дверью было тихо. С ужасом и обреченностью самоубийцы, жмущего на курок, я позвонила снова, втайне надеясь, что никто не откроет и вызов окажется ложным. На сей раз дверь распахнулась сразу.
– Враза вычевали?.. – прохрипела я, с трудом разлепив пересохшие в мгновение губы. Хорошенькое начало. Теперь мамаша позвонит главному и попросит отправить доктора к логопеду.
Но взволнованная женщина, кажется, меня даже не услышала.
– Здравствуйте, доктор! Скорее, пожалуйста! Я просила неотложку, но все на вызовах. Сказали, что участковый придет быстрее. У нас тут такое!
Я похолодела. Пальцы не могли найти пуговиц. Оторвав одну с мясом и сунув в карман, я сначала произнесла про себя, а потом спросила вслух:
– Где можно помыть руки?
Женщина уважительно проводила меня в ванную комнату. Пробившись сквозь свисающие с веревок пеленки, простыни и колготки с вытянутыми коленками, я сунула руки под воду. Горячую – на мою удачу, у хозяев была колонка. В пластиковой мыльнице лежал мешочек из капронового чулка с разноцветными обмылками. Знакомая история. Дефицитный товар берегли до последнего кусочка.
– Где больной? – чуть более уверенно спросила я.
– Проходите в комнату, доктор! – Женщина указала на приоткрытую дверь.
В кровати, укрытый одеялом, с компрессом на шее, лежал мальчик. От сердца у меня отлегло – он не выглядел очень больным и ослабленным, скорее даже наоборот: смотрел на меня шкодливым взглядом.
– На что жалуетесь? – строго и почему-то на «вы» спросила я.
Мальчик посмотрел на маму, мама на меня – и заплакала. У меня неприятно засосало под ложечкой.
Женщина протянула мне блюдце, на котором лежал градусник. Я машинально взяла его, поднесла к глазам и… ничего не увидела, потому что ни ртутного столбика, ни стеклянного кончика у градусника не было. Я вопросительно подняла глаза.
– Доктор! – Женщина снова заплакала. – Я поставила сыну градусник и только на минуту отлучилась. А когда пришла, он уже держал его во рту. Кончик откусил, но саму стекляшку выплюнул, а вот ртутный шарик, наверное, проглотил! – Мама залилась слезами.
Я медленно опустилась на кровать к мальчику, как бы для того, чтобы его осмотреть. На самом деле у меня просто подкосились ноги. Что нам читали по токсикологии? Какие симптомы у ртутного отравления? Зачем-то попросила показать язык, оттянула веки вниз. Мальчик закатил глаза, обнажив голубоватые белки, потом моргнул, вернул глаза на положенное место и уставился на меня. Что делать дальше, было непонятно. Везти на Огородникова в больницу Пастера? Это инфекционная, вряд ли туда берут с отравлениями ртутью.
Решила позвонить в неотложку.
– Где у вас телефон?
К счастью, телефон имелся. На проводе в неотложке оказалась Лидочка. Судя по недовольному голосу, я оторвала ее от чая.
Заикаясь, попросила позвать дежурного.
Как назло, трубку взял доктор Корецкий. Он молодых врачей не любил, не то что заведующий неотложкой, Широков Алексей Семенович. Маленький, толстенький, с серебряной бородой и усами, настоящий доктор Айболит – все его так и звали за глаза. Малышня его обожала, нам он тоже очень помогал. Если мы опаздывали на прием и не успевали закончить все вызовы в сезон гриппа, он разрешал перебросить оставшиеся на неотложку. Корецкий – никогда, приходилось заканчивать вызовы затемно, после приема. А район большой, вечером по холоду да в темноте не так-то легко добраться. В результате заканчивали часов в девять, потом на метро домой, а утром опять по новой. Уставали страшно.
Делать нечего, рассказываю. Тот хмыкает:
– Стекло не проглотил?
– Да нет, – говорю. – Вот кончик, мать нашла.
– А ртуть съел? – продолжает допрашивать Корецкий.
– Да откуда мне знать?! – взрываюсь я. Может, счет идет на минуты, а он будто издевается!
– Да успокойся ты, не паникуй! Ничего не будет, скорее всего, шарик куда-то закатился, да и в самом худшем случае ничего не случится.
– А вы уверены?
Корецкий обижается:
– Милочка, ты еще в школе была, а я уже в неотложке работал!
Неправда, конечно, потому что старше меня он всего лет на десять. Но гонору – хоть отбавляй.
Ладно, хоть легче дышать стало.
Передаю разговор матери, та не верит, требует заведующего.
Звоню начмеду, хорошо она в кабинете. Заведующая, по специальности «ухо-горло-нос», советует позвонить Айболиту. Тот хоть и дома, но отзывается сразу.
От одного его голоса уже спокойнее.
– Все хорошо, коллега. Не волнуйтесь. Ничего вашему подопечному не будет. Он же не надышался ртутными парами! А содержание ртути в градуснике минимальное. Мама пусть кровать перетряхнет и пол пропылесосит. Мама хочет со мной поговорить? Ну, дайте маму.
Что-то рокочет в телефон, и мать уже улыбается и кивает.
Айболит обещает заехать, как только выйдет на сутки, через четыре часа.
Я облегченно вздыхаю, отказываюсь от чая, выписываю больничный с дежурным ОРЗ и выхожу в студеную парадную.
Впереди четырнадцать вызовов.
Обводный канал, Курляндская, проспект Газа… Женщина-пешеход, участковый врач, спешащая на помощь из пункта А в пункт Б.
Еще три часа мне придется месить грязь около подъездов, постукивая сапогом о сапог, шевеля замерзшими пальцами в мокрой насквозь обуви и мечтая доползти до поликлиники, сунуть ноги в батарею – не обсохнут, так хоть согреются, – напиться чаю с горластой Тамарой Степановной, дежурящей на приеме вызовов. А если повезет, кто-нибудь принесет коробку конфет или зефир. Немного отдышавшись и отогревшись, я кивну дремлющей регистраторше и открою тугую дверь.
Перед входом колдует над открытым капотом шофер скорой, готовясь к очередному вызову. Стучу в дверь неотложки. Корецкий, слава богу, закончил, Айболит пьет чай с печеньем. Он уже съездил на Обводный, успокаивает: с мальчиком все хорошо. Я опять его благодарю, он только машет рукой и доливает себе чаю. Предлагает мне, говорю «спасибо», но отказываюсь: еще час добираться до дома. На Московском проспекте пустынно, одинокие машины выплевывают месиво из-под колес, с неба сыплется мокрый белый снег. Липнет к проводам, зависает на карнизах, скапливается, сползает, не удержавшись на скользкой поверхности, и падает на асфальт, тут же смешивается с уже лежалой мокрой слякотью, через минуту и не разобрать, был ли он белым или уже падал с неба грязным и мокрым, а чистым и пушистым казался в лучах фонарей и оконного света.
В конце дня вдруг резко похолодало и на несколько минут появилось малокровное зимнее солнце. Покатилось по крышам, зацепилось за антенну, немного повисело, провалилось в щель между домами, но продолжало светить еще некоторое время, отражаясь в стеклах верхних этажей, потом мигнуло, потухло и ушло до утра, уступив место свету люстр и торшеров за шторами и тонкими кружевными гардинами. Как по команде за окнами замелькали тени, черные, одинаковые, сменяющие друг друга, словно персонажи ежедневно разыгрываемого спектакля. Солнце еще немного посуфлировало им из-за горизонта, зевнуло и угасло окончательно, а через пару часов его сменил холодный и равнодушный полумесяц. У него работы немного: подыграть больному, подсказать засидевшемуся студенту, а в основном – просто подглядывать в окна, за которыми крепко спят уставшие за день актеры.
Глава шестая
Акушерство и гинекология: кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево
Доктор Н. не любила выбирать арбузы, зато, профессионально оценив и огладив круглые зеленые бока, могла почти безошибочно назвать вес. За годы работы акушером она научилась определять вес ребенка с точностью до пятидесяти граммов, а длину – до сантиметров. Покупатели арбузов обычно искали сухие хвостики, изображая знатоков, стучали по полосатому шару, выбирая более спелый. Доктор Н. машинально выискивала длинный сочный хвостик – сухой и ломкий напоминал ей больную пуповину, обезвоженного морщинистого младенца, которого надо срочно доставать путем кесарева сечения вне зависимости от срока беременности. Она и резать арбуз толком не умела – на автомате делала разрез поперек, как при кесаревом сечении. Потом сконфуженно отдавала нож покатывающемуся от смеха мужу.
Ее часто спрашивали, сколько младенцев она приняла за свою жизнь.
– Я не помню, – виновато отвечала она.
Многие принимали это за кокетство, а она и правда не могла точно ответить на этот вопрос. Приблизительно посчитать, конечно, всегда можно. Только вот всех ли надо учитывать? Считать ли тех, которые оказывались в ее руках мучнисто-белыми, с вялыми безжизненными ножками и ручками? Она передавала их педиатру или акушерке и машинально заканчивала свою работу, отключившись от реальности, только вслушиваясь, не раздастся ли за спиной долгожданный крик. И когда сзади после возни, постукиваний, похлопываний наконец, всхлипнув, заходился в первом требовательном вопле новорожденный, она облегченно вздыхала и уже весело успокаивала уставшую и зареванную роженицу.
А бывало, что прямо в родильном зале и не удавалось оживить. Тогда младенца укладывали в кувез, а то и интубировали на месте и увозили поспешно, не глядя друг на друга, а доктор Н. оставалась наедине с убитой горем матерью, болью, кровью и слезами, уговаривая и утешая. Но тут еще оставалась надежда, педиатры в роддоме свое дело знали очень хорошо и смертельные случаи были редкостью, хотя последствия асфиксии для ребенка могли оказаться необратимыми.
Самым страшным было другое – когда вся команда в родилке знала, что принимает мертвый плод. Знала это и роженица. Когда привозили беременную, переставшую чувствовать движение плода, у доктора самой чуть не останавливалось сердце. Иногда она сразу находила сердцебиение и с прояснившимся взглядом объясняла, что ребенок просто уснул:
– Все хорошо! Вы, мамаша, не беспокойтесь, отдыхайте, пейте воды побольше.
И беременная, еще не отойдя от испуга, со слезами на глазах послушно улыбалась и кивала.
Но случалось и по-другому. Доктор переставляла трубку по выпуклому животу в надежде услышать пусть глухой, но стук. Хотя уже знала, что – всё, продолжала машинально двигать рукой вправо и влево, вверх и вниз, чтобы оттянуть момент, когда придется посмотреть в глаза окаменевшей от ужаса женщине и сказать самые страшные слова, которые только может услышать мать. К счастью, это бывало нечасто, но доктор Н. помнила каждый раз.
Много было всего: и кровотечения в родах, когда не удавалось спасти мать, и инфекции, и гипертонические кризы. Все помнила доктор Нуреева Галия Хакимовна, врач первой категории, заведующая роддомом номер два, которая за свою жизнь так и не научилась выбирать арбузы.
Роддом был маленький, двухэтажный и напоминал уютную земскую больничку. Это уже потом отстроили на его месте шикарное, напичканное современными приборами платное учреждение. А пока неприметное здание стояло в ста метрах от дороги, утопая в зелени густых тополей, слегка приглушавших женские вопли, крик новорожденных и отборный мат рожениц и персонала.
Кстати, по сравнению с другими, роддом был очень чистенький, ухоженный. Один на весь район, так что везли отовсюду.
В предродовых лежали всего по нескольку человек – не то что в тех зоопарках, где орут двадцать женщин разом и не хватает рук, чтобы принимать роды. Все чин чинарем: и обматерят, и роды примут в индивидуальном порядке.
Там же, только на другом этаже были местный абортарий и гинекологическое отделение. Но туда я не рвалась.
Самой запоминающейся личностью в роддоме был доктор Косырев. Известен он был тем, что перед каждыми родами выпивал по рюмке водки и не любил делать кесарево сечение. На всех тяжелых родах, кроме плацентарного предлежания, он накладывал или щипцы, или вакуумную насадку. Даже при ножном предлежании, которое практически всегда требует операции, он делал поворот за ножку, а то и принимал прямо ножками вперед: засунет указательный палец в рот ребенку и, пригнув подбородок к грудке, одновременно надавливая на лобковую кость роженицы, ловко вытащит ребенка за нижние конечности. Поговаривали, что он раньше работал на периферии, и его вызывали на роды в такие места, куда даже самолеты не летали, лишь вертолетом и можно было добраться. Видимо, в той глуши он приобрел не только опыт, но и привычку принимать на грудь перед работой.
Все об этом знали, его лишали премий и объявляли строгие выговоры, даже вызывали на ковер в горздрав, но каждый раз все как-то улаживалось, и он опять входил в родильный зал важный и поддатый. Несмотря на это, женщины стремились попасть только к нему, персонал его ценил и любил, так что заведующей роддомом Нуреевой приходилось закрывать глаза на его художества, а иногда даже его прикрывать перед коллегами и начальством. На кесарево либо становилась сама, либо назначала толкового ординатора.
Ребенок, мирно сосавший палец в темноте и тишине утробы, вдруг проснулся от какого-то дискомфорта. Он перевернулся, пытаясь устроиться поудобнее и заснуть опять, но вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила подталкивает его вперед. Вода, в которой он мирно плавал, резко пошла на убыль, как будто кто-то выдернул пробку в ванной. Ребенок несколько раз суетливо повернулся с боку на бок. Не было ощущения привычного покоя, голова уперлась во что-то мягкое, упругое, которое поддавалось под давлением его тела, раскрывалось и пропускало его дальше по туннелю. Было немного больно, но мягкие косточки легко поддавались, и ребенок, не застревая, потихоньку продвигался вперед всякий раз, когда вокруг все сжималось и сокращалось, а потом наступала минута расслабления. Промежутки между давлением становились все короче, а сама сила, толкающая его беспомощное тело, – все мощнее. Иногда было тяжело дышать, он инстинктивно открывал рот, и туда заливалась мерзкая жижа. Ребенок отчаянно бился и безмолвно молил о помощи. Хорошо, что трубка, идущая от большого и сильного тела, кормившая его все девять месяцев, еще оставалась полна живительной влаги. В короткие промежутки покоя, пока трубка не сжималась от очередной судороги, ребенок успевал получить передышку и набраться сил до очередного толчка. Ребенок не понимал, что происходит. До сих пор его холили и лелеяли, гладили, ему пели песни. Теперь он слышал только отчаянные вопли и чьи-то чужие встревоженные голоса. С каждым толчком голоса становились все ближе, а страшный животный крик, в котором с трудом угадывались знакомые нотки, – все громче. А потом все кончилось. Давление прекратилось, он больше никуда не двигался. На секунду стало не так больно, затем он почувствовал, что сил совсем не осталось, он не мог даже пошевелиться. Трубка оказалась пережата между ним и каналом, по которому он так отчаянно проталкивался вперед. Стало нечем дышать, ребенок пару раз дернулся и затих. Тяжелая и вязкая муть стала заполнять голову, руки и ноги сделались ватными и безжизненными. Где-то в отдалении он еще слышал чужой голос, но и тот становился все тише и тише и уже почти смолк. Но вдруг к голове что-то плотно и больно присосалось и потянуло тело ребенка. Канал послушно раздвинулся, стало чуть легче дышать, и, как сквозь вату, ребенок снова услышал голоса, взволнованные и уговаривающие. А его все тянуло и тянуло, и наконец в глаза ударил свет, и младенец послушно выскользнул в чьи-то сильные и уверенные руки.
