Приручи ветер
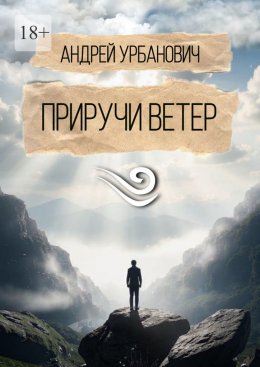
© Андрей Урбанович, 2025
ISBN 978-5-0065-6261-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо предисловия
Прежде чем приступить к повествованию, хочу объяснить читателю, почему я это делаю. Ведь любую историю рассказывают не просто так. В моём случае отправной точкой были старые магнитофонные записи. Я обнаружил их среди отцовских вещей. Пожелтевшая пыльная коробка. По всему видно, много лет к ней никто не прикасался. Однако внутри, как и во всех отцовских вещах, царил привычный и такой знакомый порядок. Во время работы он умел создавать вокруг себя невероятный хаос, но по окончанию оной каждая вещь занимала своё место соответственно рангу и необходимости снова извлечь её, когда это понадобится.
Итак, небольшой картонный куб, наполовину заполненный магнитофонными катушками и кассетами. Всё подписано каллиграфическим почерком, пронумеровано, указаны даты, название записи, тип магнитофона, скорость вращения и даже место, где эта запись проводилась. Если сказать, что вид этих старых, вышедших из употребления вещей произвёл на меня эффект электрического удара, это не будет метафорой. Моё тело содрогнулось, когда, вглядываясь в надписи на кассетах, я понял, что передо мной лежит. Помню, вытирал испарину и удивлялся, как можно было вычеркнуть из памяти тот странный, изматывающий период моего детства. На самом деле я, конечно, не забывал о нём, но в нашей семье существовало негласное табу – поднимать эти темы всё равно, что в доме повешенного говорить о верёвке. Да и, кроме того, эта часть нашей жизни казалась столь невероятной, что память проделала одну из тех вещей, которую она обычно вытворяет со снами, то есть упрятала это глубоко-глубоко и, казалось бы, навсегда.
А тут – эта коробка как заряд динамита. Перед глазами возникли и хаотично понеслись фрагменты детства, закружились обрывки фраз и предметы – много предметов: изглоданные временем наконечники стрел, медальоны с непонятными надписями, берестяные грамоты… И отец – его лицо, то внимательное, то крайне огорчённое…
Глава первая. Мой отец и наконечник стрелы
Мой отец, Виктор Андреевич Плетнёв, отдавался всякому занятию без остатка. Историк по профессии и исследователь по природе он то с головой уходил в археологию, месяцами пропадая на раскопках, то запирался в лаборатории с реставраторами, восстанавливая давно истлевшую кольчугу или пятисотлетнею икону, то, отгородившись баррикадами книг, дни напролёт не выходил из своего кабинета.
Наш дом временами походил на филиал исторического музея: копья, амулеты, статуэтки из дерева и бронзы, глиняные горшки, вернее, то, что от них осталось, плетёные корзины, ожерелья, клинки и т. п. Это висело на стенах, покоилось на полках, стояло в углах. Одни предметы исчезали, но на их месте тут же появлялись другие.
Уже в пять лет я спокойно относился к раздробленным черепам и скелетам, в аккуратной последовательности разложенным на полу отцовского кабинета. Это сейчас я понимаю, что отец, вероятно, нарушал множество писаных и неписаных правил, принося домой фактически музейные экспонаты, дабы в тишине без лишней спешки продолжать свои исследования. Я воспринимал это, не оценивая, – как данность. Это было порой забавно, особенно когда мама, увидев очередные останки какого-нибудь почившего полторы тысячи лет назад скифа, меланхолично комментировала:
– Вот, видишь, Серёженька, наш папа тоже делает домашнее задание.
Я смеялся. А папа нет. Честно говоря, он даже улыбался редко. Из-за его частого отсутствия и постоянной занятости, бывали недели, когда мы с ним почти не виделись. Когда я просыпался, его уже не было дома, а поздно вечером – сквозь сон, я слышал порой, как тихонько скрипела входная дверь, и мама шла на кухню, чтобы разогреть ужин.
При этом у меня не повернётся язык сказать, будто отец не занимался моим воспитанием. Напротив, делал он это, как большой художник, правящий картину подмастерья, – двумя-тремя касаниями кисти. Только вместо кисти у него были другие инструменты – вопрос с подтекстом, взгляд, интонация…
– Сергей, ну-ка взгляни сюда. Знаешь, кто написал эту картину?
– Нет.
– Ну, а что тут изображено?
– Не знаю…
– Да-а, – это «да-а» тянулось в моём сознании бесконечно долго. Я ощущал себя преступником, нарушившим все законы рода – человеком, недостойным носить свою фамилию и, конечно, отчество.
– Жаль, – вздыхал отец. – Мне хотелось обсудить, что ты думаешь об этой истории.
Я хватался за книги, узнавал, что на иллюстрации изображена (к примеру) «Вавилонская башня». Вычитывал всё возможное о библейской истории, о художнике, что воспроизвёл её на холсте, и об эпохе самого художника… Ждал, когда отец вновь заведёт об этом разговор, и я вывалю ему ворох соображений на этот счёт, тем самым повергая, поражая… Однако в следующий раз он показывал мне изображение какого-то индийского божества или египетского храма и с досадой в голосе говорил:
– Как можно этого не знать? Удивляюсь твоему невежеству!
Я углублялся в историю и мифологию, но через неделю он заводил разговор уже о современной живописи или архитектуре – и я снова терпел фиаско.
Даже сейчас не могу точно сказать, делал ли мой отец это спонтанно или то была часть продуманного плана. Так или иначе, его провокации попадали в десятку, направляя мои честолюбие и любознательность в нужное русло. Годам к двенадцати я весьма сносно знал историю, ориентировался в датах, и, наверное, дал бы фору иным выпускникам истфака.
* * *
Это случилось поздней весной. Я учился в пятом классе, с нетерпением ждал каникул и приезда отца из очередной командировки. В тот день, вернувшись из школы, я сразу увидел дорожную сумку, стоявшую в коридоре, пыльные башмаки и тёмно-синий плащ. Волна радости понесла меня к двери отцовского кабинета. Он сидел, склонившись над столом, и разглядывал сквозь увеличительное стекло очередные трофеи, отвоёванные им у земли и песка.
– Мы договаривались, что ты должен стучаться, прежде чем войти, – сказал он, не поднимая глаз.
– Двери были открыты… – пролепетал я.
Радость сменилась обидой: он даже не взглянул на меня, не поздоровался. Хлам прошлых столетий для него, конечно, намного ценней моей персоны. Не говоря ни слова, я развернулся, когда за спиной раздался голос отца:
– Подойди сюда, Серёжа. Я тебе кое-что покажу.
На столе лежали наконечники стрел – восемь штук. Один из них имел на плоскости ряд зазубрин|, по центру был выбит человечек. Руки, ноги – чёрточки, овальная голова. Похоже на детский рисунок.
– Если угадаешь, хотя бы приблизительно, чьи они, один наконечник могу подарить, – сказал отец. – Любой, кроме этого, с рисунком.
Я, конечно, взял тот, который отец держал в руке – с рисунком. Ведь мне точно его не подарят. Повертел в руках и сказал:
– Наверно, Скифия.
– Молодец, – похвалил отец. – Может быть, и век скажешь?
– Век не знаю. Но эти зазубрины и человечка выбил кузнец… Для сына, – внезапно для самого себя сказал я.
– Вот так да! – удивился отец. – Где же ты это вычитал?
Он хотел ещё что-то сказать, но не успел, потому что в следующий момент произошло нечто ошеломившее и его, и меня. Текст, приведённый ниже, строчка за строчкой шёл из моей гортани так, словно некто завладел моим голосовым аппаратом.
Когда последний наконечник был готов, кузнец положил его на ладонь левой руки, которая уже почти месяц не чувствовала ни холода, ни тепла, и поднёс к глазам. Затем вновь вернул его на наковальню и ловко, в несколько ударов, выбил на бронзовой поверхности фигурку человечка.
Вечером наконечники уже блестели на древках оперённых стрел. Сын был готов к отъезду. Взнузданный конь стоял у самых дверей, сбоку к седлу мать привязала котомку, в которой был увесистый окорок, несколько лепёшек и крынка молока. Кузнец протянул молодому воину стрелы и сказал:
– Там есть особенная стрела. Когда ты пустишь её в цель, меня не станет. Я это знаю, потому что долго, слишком долго разговаривал с металлом и огнём.
Сын внимательно изучил подарок и, вставив стрелы в колчан, ту самую – с человечком – трижды обвязал конским волосом.
– Если твоя жизнь зависит от этого, значит, стрела вернётся домой. Будешь жить долго. Сделаешь много стрел и для меня, и для других.
Кузнец улыбнулся. Надежде сына стала в тот миг и его надеждой, хотя о своей судьбе он знал несколько больше, чем знает о жизни обычный человек.
В первый день похода конный отряд, состоявший из нескольких десятков всадников, пересёк лес, где обитали дикие люди, питавшиеся тем, что найдут и строившие свои дома на деревьях. Во второй всадники прошли у подножья скал, где им в спины смотрели камни-оборотни. Лошади пугались, хрипели и шли с неохотой, подгоняемые плетями и бранным словом. Бывалые воины успокаивали новичков:
– Обратно пойдём в обход. Со стадом. Будет легче. Намного легче.
На третий день перед их взорами распахнулась долина, в центре которой змеилась, отсвечивая металлом, река. Здесь они остановились. Едва солнце коснулось верхушек деревьев, они затушили костры и стали готовиться к бою. В глиняные горшки были брошены угли. Заготовлены факелы. Копыта впереди идущих лошадей обмотали войлоком. Сын кузнеца ещё раз проверил меченую стрелу – хорошо ли она привязана к ручке колчана, напоил коня, и когда отряд двинулся вдоль гремящего русла, встроился в его центр, туда, где и положено быть воину, впервые отправившемуся в поход.
Вокруг всё горело, визжало. Из охваченных пламенем домов выбегали полураздетые люди. Он крутился на вороном коне, выпуская стрелы только в тех, кто держал в руках оружие и минуя, щадя остальных.
Откуда-то из стены пламени вылетел полуголый человек. В руках он сжимал длинный, остро заточенный кол. Столкнувшись с одним из всадников, вырвал его из седла, пронёс над своей головой и бросил в самое чрево горящего дома.
Сын кузнеца потянулся за стрелой и понял: эта последняя. Тем временем мужик со всех ног кинулся к нему. Сын кузнеца выхватил меч и, пришпорив коня, помчался навстречу. Взмах меча… И ещё… И снова… Однако ни один удар не достиг цели. Его противник уворачивался с ловкостью разъяренной рыси. И вот, улучив момент, он ткнул вороного коня остриём в круп, отчего тот взлетел на дыбы, а в следующий миг сын кузнеца почувствовал, как под правым ребром что-то хрустнуло и лопнуло, словно бурдюк. Он сполз с седла и увидел спину своего губителя. Тот стремительно двигался, выбирая следующую жертву.
Из клубов дыма вырос десятник. Он был пешим, его клинок переливался от крови и бликов огня. Десятник не был новичком в подобных делах, но видно и его, бывалого, вышибли из седла. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, по чьей вине на земле корчится молодой воин.
– Стрелы есть? – прорычал он, перекрывая гул и стенания гибнущего в огне селения. Молодой воин отрицательно помотал головой. Только рука десятника уже нырнула за плечо раненного – в его колчан. Немедля, он выхватил последнюю меченую стрелу.
Едва взвизгнула тетива, селянин, сразивший сына кузнеца, оглянулся, словно услышал. Он повернулся лицом, и стрела вошла ему прямо под сердце. Он не узнал об этом – никогда не узнал. Единственное, что успел почувствовать – острая боль в левой лопатке. И подумал: «В спину…» А молодой воин, ощущая, как стремительно покидают его силы, вспомнил последние отцовские слова и успел подумать о том, что даже ценой собственной жизни, невозможно отдалить чужую смерть.…
Я говорил монотонно, без эмоций. Фраза за фразой срывалась с моих губ, и мне самому было неизвестно, чем закончится повествование. Помню, когда завершился рассказ, у меня похолодели руки и ноги, словно я стоял босиком на снегу. Отец выслушал это, не перебивая, а затем произнёс:
– Где ты это вычитал?
– Нигде, – смутился я. – Оно, как-то само…
– Значит, учёного из тебя не получится, – констатировал он. – Будешь писателем.
Наконечник, однако, он мне подарил. Правда, другой, а тот, что послужил причиной моего рассказа, на следующее утро отправился в музей.
Глава вторая. Медальон
Отец пришёл поздно вечером, когда я уже лежал в кровати.
– Сын где? – первое, о чём он спросил, переступив порог дома.
– Спит, – ответила мама.
– Жаль… Хотя, может быть, и к лучшему, – произнёс отцовский голос.
– Он что-то натворил? – заволновалась мать.
– Нет. Всё нормально. Но эта история с наконечником…
И отец рассказал ей о вчерашнем происшествии.
– Дело в том, что тот самый наконечник нашли в лопатке человеческого скелета. Мальчонка сказал: «Вошла под сердце, а почувствовал боль в лопатке». Как тебе такое совпадение? Самое интересное, я узнал об этом факте не ранее как три часа назад.
Я лежал в кровати гордый и отчего-то ужасно смущённый, ощущая себя героем сегодняшнего вечера. Как и положено герою, я ничем себя не выдал, хотя очень этого хотелось.
* * *
На следующий день, вернувшись из школы, я каждой своей клеткой почуял, как изменилась атмосфера в доме. Таинственная, торжественная обстановка – стол накрыт не на кухне, как обычно, а в зале. В центре стола возвышался торт и ваза с фруктами. Отец молчал, но не оттого, что погрузился в свои мысли – к этому я привык – в тот день он молчал как-то иначе. Мама, изредка поглядывая на него, улыбалась – тоже многозначительно.
После обеда отец достал из шкафа шкатулку и сказал:
– Вчера ты удивил меня своим рассказом… – он замолчал, словно подыскивая подходящие к данному случаю слова. А я ждал, вот сейчас он расскажет мне то, что вчера говорил маме.
– Так вот, – продолжил папа. – Версия довольно любопытная. Мне понравился и ход твоих мыслей, и то, как работает воображение… И ещё: ты ведь не будешь против, если мы с тобой будем иногда проделывать такие вещи, как с этим наконечником?
Как я мог быть против?! Я чувствовал себя на седьмом небе от радости. Наконец-то меня заметили! Я сделал нечто такое, отчего со мной заговорили, пусть не как с равным, но зато, как с достойным собеседником!
Отец открыл шкаф и достал оттуда медальон.
– У этой безделицы когда-то был хозяин. Кое-что из его биографии мне известно. А что мог бы сочинить ты?
Он так и сказал «сочинить», но меня это нисколько не обидело. Единственное, что показалось мне странным, – почему он не рассказал мне о том, что наконечник, действительно, нашли в лопатке скелета.
На медальоне был портрет молодой женщины – светская дама, одетая так, как одевались в веке девятнадцатом: белое кружевное платье, волосы, забранные наверх, высокий лоб, неестественно большие глаза…
– Ну? – отец вопрошающе замолчал. – Что скажешь?
– Не знаю… Ничего такого в голову не приходит.
Мама, которая была рядом, загадочно улыбнулась. Мне не хотелось обмануть её ожидания, только внутри было пусто.
– Хочешь, я помогу тебе? – спросил отец и, не дожидаясь ответа, продолжил, – Эта вещь принадлежала одному исследователю. К сожалению, большинство его записей утеряно. Однако то, что дошло до нас… Последняя фраза утонула в вихре захлестнувших меня картинок и звуков.
Человек, сидевший за столом, отёр ладонью пот, стекавший со лба, встал, подошёл к окну и промокнул о штору влажные руки. Жара и чужбина сводили его с ума. У него на родине тоже случались жаркие дни, но они сменялись периодом дождей. Прохладная спасительная ночь приходила на смену солнцепёку. Здесь же всё иначе. Ночью так же жарко, как и днём, а дождь не приносит облегчения
Он снова сел за стол и, взглянув на портрет жены, продолжил своё письмо к ней. Только далее трёх строк дело опять не пошло. «Дорогая, здесь очень душно во всех смыслах. От этой духоты начинает ломить в груди…»
В дверь постучали. Вошёл солдат. Человек за столом с ожесточением смял лист и бросил его под стол. Сделал он это вовсе не оттого, что ему помешали, а оттого, что подумал, что нельзя начинать послания с жалобы. Об этом можно будет рассказать, сидя у горящего камина, спустя несколько дней после возвращения, да и как бы мимоходом. Конечно, если Бог даст снова увидеться.
– Господин полковник, простите, если отвлёк, но она… Она ничего не говорит и отказывается есть, – голос солдата звучал грубо, а глаза заискивающе бегали, как у собачонки, съевшей с хозяйского стола кусочек ветчины.
Они спустились в подвал. Солдат шёл впереди, освещая дорогу чадящим факелом. Полковник отметил, что, несмотря на сырость и запах гнили, дышалось здесь легче, чем в его кабинете. От каменных стен и земляного пола веяло прохладой. Солдат открыл дверь и, входя внутрь, сказал:
– Я её связал. На всякий случай. Так что можете не опасаться. После того, как вы поговорите, опять развяжу.
Полковник последовал за ним. В дальнем углу комнаты, в которой единственное небольшое окно под потолком было замуровано свежей кирпичной кладкой, лежала девушка. Полковник подождал, пока глаза привыкнут к всполохам огня, а затем сказал подчинённому: «Оставь нас». Тот воткнул рукоять факела в углубление в стене и удалился, прикрыв за собою дверь.
Полковник с горечью подумал о том, какими нелепыми путями бродит истина. Как досадно, что эти туземцы столь яростно защищают свои дикие нравы. Они готовы умереть за них, не понимая того блага, что принесли им цивилизованные люди. Вот и сейчас она лежит на полу, уткнув лицо в колени, и никак не реагирует на его присутствие. Три дня, проведённые здесь, ничему не научили этого зверька. Он подошёл ближе. Рядом с пленницей на грубо сколоченном столике стояли фрукты и кувшин с водой. Ни к тому, ни к другому она не прикасалась.
– Ты хочешь умереть? – спросил полковник на местном диалекте.
Она молчала. На вид ей было лет 17, не более. Рука полковника крепко взяла пленницу за всклоченные волосы. Он хотел увидеть её глаза и увидел – взгляд полный ненависти, презрения и решимости.
– Скажи мне, куда отправился твой отец, и я отпущу тебя.
И снова – молчание. В её глазах отражалось полыхание факела, и полковнику показалось, что на его фоне он видит себя, вернее чёрный вытянутый силуэт. Он с горечью подумал, что теряет время, и что сегодня на вечере у губернатора его непременно спросят, узнал ли он о местонахождении жрецов.
– Ладно. Если ты решила умереть, то я кое-что тебе покажу, – произнёс он и схватил пленницу за горло. Наконец-то в этих глазах возник страх. Она забилась у него в руках. По телу прошла судорога, и когда её мышцы стали мягкими и безвольными, полковник убрал руку, и позволил ей дышат едва она пришла в себя, он вновь повторил экзекуцию. На этот раз, чтобы заставить девушку сделать вдох, пришлось с силой потрясти её худенькое тело.
– Вот что такое умирать… – сказал он. – Я ведь всё равно узнаю, куда исчез твой отец. Речь уже не о нём, а о тебе…
Внезапно её худенькое тело забилось, как рыба, пойманная в сеть, но вдруг она изогнулось и изо всех сил ударила полковника ногами в живот. Он отлетел к двери, поднялся и двинулся к ней. На этот раз пленница попыталась укусить его за руку, но он опередил её, снова вцепившись ей в горло. Когда она в очередной раз пришла в себя, из уст её посыпались бессвязные фразы. Он решил, что она бредит. Девушка говорила о каком-то городе в далекой стране, где царят мир, мудрость и справедливость. Это продолжалось несколько минут, потом она отключилась. Он срезал верёвки, открыл дверь и сказал солдату:
– Выпустишь её завтра после того, как наш отряд покинет гарнизон. Я знаю, где искать.
Вернувшись в кабинет, полковник обнаружил, что медальон с портретом жены висит у него на груди. По-видимому, он механически надел его, отправляясь на допрос. Прежде в подобных случаях он оставлял медальон в шкатулке, чтобы глаза жены не видели того, что происходит в подобные минуты. Ему стало не по себе. Но в этот самый момент он понял, как надо начать письмо.
«Дорогая, здравствуй. Завтра отправляюсь в затерянный в горах город. Это странное место, обросшее легендами и суевериями, город, о котором я много слышал от местных жителей. По преданию именно там обитают великие жрецы. Иногда к ним спускаются боги и дают наставления. Говорят, там, как в незапамятные времена, небо ещё не заросло, и оттого граница между мирами чрезвычайно тонка, как темечко у младенца. Скорее всего, это миф. Но иногда там скрываются караваны грабителей и бунтовщиков. Еду туда не один, а в окружении бравых молодцов, которые без труда сбивают пулей на лету муху. Ты за меня не волнуйся. Очень скучаю по дочерям. Не верю, что нашей старшей скоро исполнится восемнадцать. Расцелуй их за меня. И передай, у меня есть, чем их удивить и порадовать. Всегда и повсюду – твой».
Когда чернила на бумаге высохли, он сложил лист вдвое и спрятал его в шкатулку. Теперь можно идти к губернатору. Полковник ещё раз взглянул на медальон, отёр пот с лица, подумав, что всё реже пользуется для этого носовым платком, и стал собираться на приём…
Отец взял медальон из моих похолодевших рук и бережно положил его в шкаф. Совершая сие нехитрое действие, он победоносно взглянул на маму, с видом человека, совершившего открытие невероятной важности. Никто тогда не предполагал, что у нашей семьи начался новый отрезок жизни. Можно назвать его зигзагом или выходом за пределы привычного мира с его домашним уютом, работой, школой, беззаботными прогулками и прочими семейными радостями.
– У тебя дар импровизатора, сынок, – торжественно объявил папа. – Знаешь, в прежние времена было на свете такое ремесло. Человеку объявляли тему, и он тут же, на глазах зрителей, слагал захватывающую историю. Но это нисколько не умоляет ценности твоего повествования. Хотя сегодня к реальному историческому персонажу оно не имело почти никакого отношения. Единственное попадание – он действительно служил…
– В Индии?.. – спросил я.
– В Индии. – подтвердил он. – Но в остальном, невзирая на твою мрачную фантазию, рассказ получился интересным. Надеюсь, мы время от времени будем проделывать с тобой подобные трюки.
Ах, как льстило моему самолюбию эта внезапное возвышение. Отец, подобно богам Олимпа, спустился на землю и беседует со мной, как Зевс с античным героем…
Глава третья. Глазами Будды
После того эпизода жизнь, казалось, вновь вернулась в прежнее русло. Кончился учебный год, который был для меня весьма удачным, если не считать единственной четвёрки по русскому языку (напротив остальных предметов в табеле красовались пятерки). С этими отметками я и прибежал к отцу, и на этот раз прежде, чем войти в кабинет, не забыл постучаться в дверь.
Он говорил по телефону и знаком показал мне, чтобы я вошёл.
– Да-да… Именно письма. Все, если есть такая возможность… И не отправленные тоже… И записные книжки… Всё это должно издаваться! Фигура-то какая колоритная… Только на английском? Жаль… А копии выслать можно? Поговорите пожалуйста с профессором… Он ведь в прошлом году приезжал?.. С курсом лекций… Хорошо, спасибо.
Он положил трубку и взглянул на меня.
– Видишь, как совпало… – сказал он. – Я сейчас как раз изучаю биографию того самого полковника.
А потом папа просматривал мои оценки и долго расстраивался из-за единственной четвёрки.
– С твоими данными!.. – восклицал он. – С твоей начитанностью! – горевал он. – Как может быть такое? – вопрошал он.
Мне было вдвойне грустно от этих вопросов и восклицаний. Во-первых, надежды порадовать родителей своими высокими результатами обратились в прах. Во-вторых, моё гордое звание импровизатора и рассказчика, повисло над бездной.
– Давай договоримся, на каникулах будешь сам записывать свои рассказы, – сказал отец.
Я кивнул, потому что говорить не мог, боялся разреветься. А слёз отец, ой как не любил.
– Вот сегодня и начнёшь. У тебя уже есть две замечательные истории. Нужно только записать их в соответствии со всеми правилами нашего «великого и могучего». Договорились?
В тот вечер я корпел над рукописями, пытаясь наиболее точно и грамотно изложить виденное мной, чтобы после отдать на проверку самому строгому учителю – своему отцу. Временами до меня доносились обрывки разговоров.
– Ну вот, – вздыхала мать, – усадил парня за письменный стол, а у него, между прочим, каникулы…
– Светлана! Не порть мне мальчишку! Талант требует огранки. Пусть работает.
– Только пожалуйста не перестарайся. Он ведь ещё ребёнок.
– И Моцарт был ребёнком… Пушкин, между прочим, тоже! У нашего сына отличный слог. Но хромает правописание.
Теперь я не знал, радоваться мне или нет, этому, внезапно открывшемуся, дару. Я тщательно выводил букву за буквой, строку за строкой, перепроверяя по словарю, соотнося с правилами орфографии и пунктуации. Так начались летние каникулы.
Назавтра мои работы лежали на отцовском столе, а на следующее утро они возвратились ко мне уже с исправлениями, подчёркнутыми словами и перечёркнутыми фразами. Внизу была размашистая приписка красным фломастером: «Считаю, что годовая оценка „четыре“ поставлена тебе из жалости. Я оцениваю твой русский на тройку».
Листки с моими сочинениями и комментариями отца остались лежать на тумбочке у изголовья кровати. Стоило мне открыть глаза, и вот он, стремительный отцовский почерк тут как тут. Сначала я хотел обидеться, но, поразмыслив, поступил иначе. Взял и сбросил листы на пол. Такое вполне могло произойти само собой – порыв ветра из приоткрытого окна, случайный взмах руки, гладкая полированная поверхность тумбочки… Так или иначе, они спланировали под кровать и, прошелестев по паркету, там и замерли. Я решил, до поры до времени, не вспоминать об их существовании. Ведь любая реакция – это испорченный день.
А день оказался солнечным и жарким. Меня ждали одноклассники, велосипед, прогулки в парке, игрушки, мультфильмы, и не было ни малейшего желания и интереса размышлять о чьих-то давно угаснувших жизнях. К радости, на несколько дней меня предоставили самому себе. Никто не требовал ни точности формулировок, ни грамотности изложения, и я носился по улицам, лазил по деревьям и купался.
В один из таких дней, возвратившись домой, я понял, что меня очень сильно ждали. Нет, пришёл я вовремя, как обещал – около восьми. Дело было в другом. После ужина, меня почти торжественно ввели в отцовский кабинет. Первое, что бросилось в глаза – магнитофон «Сатурн», стоявший на столе.
Папа посмотрел на меня и сказал:
– Раз ты не доверяешь свои рассказы бумаге, будем записывать их на плёнку. Договорились? Но предметы сегодня у нас другие. Готов?
Всё это было столь неожиданно, что я даже не знал, как реагировать. Единственный плюс, который обозначился сразу, то, что писать меня никто не заставит.
Мама уселась в кресло, словно была на концерте, а папа, как иллюзионист, подошёл к своему заветному шкафчику, достал оттуда фигурку бронзового Будды и протянул мне…
Молодой человек, не отрываясь, смотрел на свет луны, пробивающийся сквозь голые ветви деревьев. Порой ему начинало казаться, что ветки закручиваются по лунному контуру, создавая нечто похожее на плетёный абажур.
– Эй, – голос, окликнувший его, вызвал внезапную дрожь в теле.
– Я не верил, что ты придёшь, – сказал он и только после этого повернулся.
– Я же обещала…
Привыкая в темноте, он различил сначала её фигуру в длинном светлом кимоно и увидел высокий белеющий лоб.
– Все уснули… Кроме меня.
– А я уже думал, ты не придёшь, – снова повторил он.
– Что ты сегодня делал? – спросила она.
– Собрал вещи. Навестил старика. Помнишь, я рассказывал про отшельника?.. Думал, он мне подскажет, как быть.
– Почему?.. – она осеклась и чуть качнулась вперёд, как травинка на ветру.
– Что – почему? – произнёс он.
– Почему мы стоим на таком расстоянии? Словно, между нами, стена?
– Если бы стена… Я бы одолел ее, будь она даже высотой с Фудзияму, – с этими словами они двинулись навстречу друг другу. – Я бы вцеплялся пальцами в её уступы, ломая ногти, сдирая кожу… Я бы забыл, что такое боль, жажда и голод… Но, между нами, нечто большее.
Девушка подошла к нему и, положив голову на его плечо, замерла.
– Когда ты уезжаешь? – еле слышно пролепетали её уста.
– Утром.
– А что говорил отшельник?
– Ты, правда, хочешь об этом знать? Тогда слушай. Он говорил, что в прошлой жизни я был знатным и очень богатым человеком. Жизнь моя протекала в целом правильно. Я жертвовал на храмы, помогал странствующим монахам, соблюдал законы… Только однажды, в молодости, произошла такая история. Я полюбил девушку из обедневшего рода. Любовь была взаимной. Но я долго, очень долго не решался на брак. Она сама меня отговаривала. Прошло время, повстречалась другая. Та – другая – была хороша собой, родители её стояли у самого трона. И брак с ней сулил много-много выгод. Я предал любовь. Понимаешь, это был мой выбор. Никто мне его не навязывал. «Теперь, – говорит отшельник, – пришло время платить». Сейчас, всё, наоборот. Ты из знатной семьи, а я немногим отличаюсь от нищих.
– Получается, в следующей жизни наказание ждёт меня.
– Отчего?
– Ведь я могла бы сбежать с тобой, но не делаю этого…
– Потому что мы оба знаем, ничего хорошего из этого не получится. Я слишком сильно люблю тебя, чтобы обречь на такую жизнь.
Где-то рядом в кронах деревьев надсадно закричала птица. Девушка вздрогнула и, врастая всем телом, прижалась к молодому человеку.
– Может быть, мне удастся сделать, что-то такое… Что заставит людей по-иному смотреть на меня, – быстро-быстро заговорил он. – Я даже не знаю – что… Но чувствую, у меня хватит сил, ума, отваги… И тогда…
– Сколько лет пройдёт? – тихо спросила она.
– Не знаю.
– А отшельник?..
– И он не знает.
– У нас в роду девушек очень рано выдают замуж.
– Не говори об этом.
Они замолчали. Они могли бы вечно стоять вот так – прислонившись друг к другу, и молчать.
– Посмотри наверх, – сказал он. – Когда ты ещё не пришла, я стоял здесь, смотрел на луну. Посмотри внимательно.
– Ветви, словно плетеная корзинка. И свет луны соткал из веток абажур, над головами, когда прощались мы…
– Это похоже на стихи, – сказала она. – Но мне пора идти. Отец говорил, если узнает, что ты приблизился ко мне, или попробовал заговорить, то непременно убьёт тебя. Отыщет и убьёт.
Он достал из сумки маленькую бронзовую фигурку и протянул ей.
– Это мне подарил отшельник. Я хочу, чтобы он остался у тебя.
Фигурка Будды высветилась на тонкой белой линии её ладони. Он сидел, погрузившись в медитацию, отрешённый, чуть улыбающийся, а может, смеющийся над страстной молодостью, над социальными различиями, и предрассудками…
– Я не хочу, говорить «прощай», – произнесла она.
– Я тоже. Давай, просто пойдём в разные стороны так, словно, через мгновение, снова увидимся.
Он отступил на шаг от девушки, потом ещё и ещё. А она стояла, словно не верила, что он уйдёт.
– Ты будешь гордиться мной. Я обещаю.
Он сделал ещё шаг и пропал в тёмных стволах деревьев. Она осталась, посреди поляны. Медный Будда улыбался в лучах лунного света на её маленькой ладони.
Отец выключил магнитофон, смотал плёнку, сложил её в коробку, на которой тут же проставил дату, время и место записи. Сверху он вывел большими печатными буквами: БРОНЗОВАЯ СТАТУЭТКА БУДДЫ.
– Скажи, ты читал что-нибудь из японских новелл? – спросил отец.
– Читал… Только автора не помню.
– Понятно. Мне понравился твой рассказ. Есть и цельность, и интрига. Финал тоже неплох. Похоже вначале ты на время забыл о Будде, а потом понял, что его надо как-то увязать и увязал, скажу, неплохо, – произнес отец
– Серёжа, скажи, а вот как это у тебя так… получается, – с трудом подбирая слова, спросила мама.
– Не знаю. Папа даёт мне вещь… и я просто говорю первое, что приходит в голову. Мне самому это интересно.
Меня удивило, что ни мама, ни отец не стали подтрунивать над моим ответом. Они переглянулись, и отец взглядом словно сказал ей: «Видишь, я же тебе говорил». А мама в ответ кивнула.
Взрослые обычно недооценивают детей. Они, обросшие чугуном знаний, забывают, сколь проницательна порой детская интуиция. Я точно знал, магнитофон возник не просто так. Произошло нечто, но меня решили оставить в блаженном неведении. Их кивки, взгляды, жесты снова и снова убеждали в верности моих предположений.
Глава четвёртая. Они прячут, я ищу
Тот факт, что отец постоянно что-то не договаривал, задевал меня за живое. Ведь он так и не рассказал мне, что наконечник нашли точно там, где я сказал. Он упорно не хотел признаться, что ищет какие-то подтверждения моего рассказа о полковнике. А стоило мне только заикнуться по этому поводу, как разговор сразу переходил на мою учёбу, неубранные игрушки, непрочитанную книгу, не вымытую за собой посуду и т. д. и т. п. Спорить было бесполезно, я это быстро понял и стал добывать информацию всеми доступными способами. Мои уши ловили каждое слово, глаза, иногда помимо воли, мелькали по строчкам писем, оставленных на отцовском столе. Любопытство не давало покоя. Появилось множество новых привычек: раньше меня ругали за то, что во время ходьбы я «страшно топаю», теперь мой шаг стал бесшумным – таким образом можно было незамеченным пройти из своей комнаты на кухню, где беседовали родители или к дверям отцовского кабинета, когда он говорил по телефону. Прежде чем войти в комнату, я останавливался и, затаив дыхание, пытался уловить, о чём идёт речь. Угрызения совести меня не мучили. Происходящее напоминало игру. Они прячут, я ищу. Эффект от такого поведения превзошёл все мои ожидания.
– Спасибо за бандероль, – отец говорил по телефону, его голос звучал возбуждённо и громко – так, что мне не приходилось напрягать слух.
– Дошло. Отлично. А вы всё читали? Слушайте, там есть упоминание о неком закрытом городе? Он нашёл? Это в последнем письме? Я знаю, что не вернулся. Спасибо. Теперь ждите с коньяком. А как же?! До свидания.
Впервые в жизни я испытал восторг победы. Хотелось прыгать, скакать, выкрикивать – не важно что!.. Я ощущал себя волшебником, чародеем, предсказателем. Но было и нечто, что меня не на шутку взволновало.
Во-первых, совершенно не получалось действовать самостоятельно. Когда я в одиночестве брал в руки какую-то вещь, ничего не рождалось. Ни слова, ни образа. Предметы были разные: кинжальные ножны, костяные бусы, старая церковная лампада… Но невзирая на многократные попытки, итог был один – полная немота
Во-вторых, никто не хотел обсудить со мной прежние истории. Мою персону словно исключили из дальнейшего исследования. Несмотря на то, что мои рассказы и реальные биографии совпадали! Меня оставили в стороне! И сделали это самым нечестным образом!
В-третьих, когда отец, вечером того же дня, зарядил плёнку в магнитофон и протянул мне глиняный черепок, перед моими глазами мелькнул всего-навсего короткий отрывок.
– Ну? Слушаю, – отец явно настроился на долгое повествование.
– С этим горшком ничего не было, – только и смог сказать я.
– То есть?
– Его разбили сразу после обжига.
– Поясни.
– Гончар вытащил его из печи и неудачно поставил. Горшок упал и разбился вдребезги.
– Ну ты здорово выпутался! – рассмеялся отец.
– Не выпутался! Так и было! Гончар, по-моему, обжёгся… И когда горшок полетел вниз, попытался его удержать, обжёгся ещё раз и выругался.
– Только, пожалуйста, не повторяй какими словами, – усмехнулся он.
Мне хотелось плакать, а папа смеялся.
– Ладно, ясновидящий, ступай спать.
– Я правду говорю!
– Ну хорошо-хорошо. Расскажи тогда ещё раз, как это у тебя происходит? Ты видишь картины?
– Нет… Вернее, картины тоже… Но как-то не так… Мне не хватало слов, вернее, их было слишком много, и они путали, затемняли смысл. Это было очень обидно, ведь вчера, когда я сжимал в ладони бронзового Будду, мне даже не приходилось думать о словах. Всё происходило само собой. А сегодня я вёл себя, как двоечник, не выучивший урока.
– Не волнуйся, – успокаивал отец. – Попробуй объяснить. Пусть коряво. Опиши, как это происходит.
– Я беру предмет. Чувствую его вес. Что ли… Тепло… Потом возникают картины. Они мелькают быстро-быстро, так, что и разглядеть их толком не получается…
– А потом?
– Начинаю говорить первое, что пришло в голову…
– Сочиняешь?
– Нет. Просто говорю.
– А точнее? – отец начинал нервничать.
– Это похоже на чтение!.. – озарило меня. – Да, да! Именно на чтение. Только без букв и слов. Я словно читаю с листа вслух. И пока не дочитаю до конца, не знаю содержания.
– Подожди, ведь ты сказал, что текста нет?
Я радостно закивал.
– Ну в таком случае, как ты читаешь? – усмехнулся он.
– Не знаю. Может быть, как наш магнитофон? – эта идея рассмешила меня. – Он же тоже не знает, что на записи, а смысл воспроизводит. Поставят плёнку, и он говорит.
– Тёмный лес, – подытожил отец.
Мне хотелось сказать, что я не в состоянии объяснить многие процессы, что творятся в организме. Как появляется мысль? Почему одно запоминается, а другое вылетает из памяти прочь? Как сняться сны? Но всё это присутствует, влияет на жизнь – всё это есть и без моих объяснений.
Наверняка, если бы означенные события происходили на пару десятилетий позднее, то взрослые взглянули бы на них иначе. Но та эпоха, в которой протекало моё детство, напрочь отрицала всё, что не вмещается в жёсткие рамки варварского материализма. Люди верили только в то, что умещалось в формулы, могло быть разложено на химические элементы, измерено, взвешено и т. д. Прочее считалось вымыслом, суеверием, пережитком прошлого или средством манипуляции человеческим сознанием. Я тоже был воспитан этим временем, и знания данные мне школой и родителями, мягко скажем, противоречили тому, что происходило со мной. Мне не с кем было поделиться возникшими проблемами. Я был один на один с самим собой и с тем грузом загадок, что внезапно свалился на моё детское сознание.
Глава пятая. Береста
– Сейчас я дам тебе одну вещь. Прошу быть осторожнее. Она может рассыпаться прямо на наших глазах, – предупредил отец. – Это берестяная грамота.
Она оказалась лёгкой, шершавой и, как мне показалось, тёплой. Едва я это почувствовал, как передо мной возникло лицо взрослого мужчины – добродушное и глуповатое одновременно. А дольше произошло то, к чему я никак не мог привыкнуть – полились слова.
Хозяин передал ему бересту в самый последний момент – перед отъездом. Передал с наказом:
– Хорошенько спрячь. И вручи лично куму. Я бы тебе на словах сказал, да ты, дурень, непременно что-нибудь напутаешь. Или проболтаешься. Отдашь лично в руки. Понял? Не через кого-то там, а в руки. Ему самому. Это важно. Уразумей.
Он ничуть не обиделся, что ему вновь напомнили о его тугоумии. Хозяин – человек особенный, к нему на позапрошлую Троицу сам светлейший князь заезжал. Так что пусть себе ругается или даже тумака даст, если по делу. Но главное, он умеет быть справедливым. Кто бы ещё позволил убогому на коне ездить. А он позволяет. Не пешком отправил, а в седле. Значит, доверяет. Ценит.
Он выехал за город и направил коня по лесной дороге. Не спешил, был осторожен. Месяц назад он вылетел из седла, да так неудачно упал на спину, что долго не мог вздохнуть полной грудью. У реки его увидели мальчишки с сетями и криками:
– Дурень! Дурень едет! – замахали руками.
Один из них, самый бойкий, слепил из речного ила и тины ком и бросил во всадника. Ком пролетел мимо. Остальные хотели последовать его примеру, но тут из-за деревьев вышел дед.
– Не стыдно вам убогого обижать? Бог накажет.
Убогий не обижался. Ведь они не со зла, а так, ради смеха. Хорошие мальчишки. Он с ними рыбу ловил. Подсказывал, где лучше сеть ставить, а они его слушали, потому что знали: он чувствует, где рыба затаилась и куда отправится, если её спугнуть.
В лесу стояла тишина, какая бывает только осенью в безветрие. Лишь изредка до слуха доносилось, как где-то над головой сорвался и полетел вниз сухой лист. Ехать нужно было восемнадцать вёрст. Говорят, что впервые их сосчитал ратник из соседнего села. Тогда шла война, вот он и решил узнать, каково расстояние от города до близлежащих селений и сколько времени надобно, чтобы в случае чужеземного нашествия прийти на подмогу. По такой погоде можно обернуться туда-обратно до вечера. Тем более, что этой дорогой он ездил уже не раз. Сначала с хозяином, потом один.
Внезапно налетевший ветер донёс до него запах зверя, и тут же конь под ним захрипел, взвился на дыбы и, сойдя с дороги, помчался по узкой лесной тропке. Оглянувшись, он увидел стаю волков. Их было столько, сколько пальцев на руке. Хозяин говорил, волки в это время года безопасны, однако они бежали именно за ним. Припав к лошадиной шее, он закрыл глаза, а когда изредка открывал их, видел только, как проносились ветви, стволы деревьев, да под конскими копытами стремительно мелькали разноцветные листья и пожелтевшая хвоя.
– Скорее… Скорее… – приговаривал он.
Сколько это продолжалось? Погоня представлялась ему то бесконечно долгой, то вдруг спрессованной в один судорожный миг. В какое-то мгновение вдруг стало ясно: всё прекратилось. Первым это осознало животное. Оно перешло от стремительного бега на шаг, а потом вовсе остановилось.
Всадник открыл глаза и оглянулся. Никто его не преследовал. Он огляделся. Куда их занесло? Окрестные леса имели непостижимое свойство – в разное время года у них был разный лик. И если человек бывал здесь только летом, он вполне мог заблудиться, попав сюда поздней осенью. Но что-то подсказывало – прежде ему не доводилось бывать в этих местах.
Откуда-то издалека потянуло дымом и запахом человеческого жилища. Понятно, почему волки прекратили преследование. Здесь неподалёку люди. Дурень втянул воздух, как это делают собаки и понял, куда надо ехать. Тропинка вывела его сначала к реке, а потом к высокому частоколу.
– Эй! – громко позвал он и, прислушавшись, повторил: – Эй! Вверху частокола показалась голова.
– Кто будешь?
– От волков спасался. Заблудился я, – пояснил дурень.
– Ну, заходи, коль заблудился.
Ворота открылись, и конь нехотя вошёл внутрь. В то же мгновение чьи-то сильные руки стащили всадника на землю, и два человека принялись бесцеремонно ощупывать его, а третий, выхватив котомку, вытряхнул её содержимое себе под ноги. Дурень, увидев это, ни на шутку испугался. Брать у него было нечего, но берестяная грамота являлась бесценной ношей, которую он обещался доставить хозяину в целости и сохранности.
Его обидчики имели достаточно грозный вид, один держал в руках топор, другой оглоблю, а у того, что выпотрошил котомку, из-за пазухи выглядывал большой нож. В другой час дурень испугался бы ни на шутку, но сегодня, позабыв о собственном страхе, он думал об одном, как забрать бересту.
Когда стало понятно, что взять с него нечего, мужик с густой бородой, тот, что первым показался над частоколом, сказал:
– Что ж ты без гостинцев пожаловал? Хорошо хоть не пешком – на лошади.
Дурень поднялся на ноги, искоса наблюдая, как перебирают его поклажу. Вот на землю покатилась хлебная краюха, вслед за ней полетел в грязь свисток – он сделал его собственноручно и носил с собой повсюду. Маленькую иконку Богородицы лихой человек бросать не стал, а, внимательно рассмотрев, спрятал за пазуху и, сделав шаг, наклонился за холщовым свёртком, в котором хранилась береста. И тут дурень, издав нечеловеческий крик, изо всех сил толкнул его, и, схватив заветный сверток, бросился прочь.
Он мчался по чужим улицам, прижимая бересту к груди как маленького ребёнка. Летел, сломя голову, не переставая кричать. На его отчаянный вопль из домов выскакивали люди. Через мгновение за ним уже неслась толпа. Он подумал, что зря так боялся волков, ведь самое большое, что они могли взять, – это его жизнь. Но не бересту и не обещание, данное хозяину. Свернув в проулок, он ткнулся носом в частокол и понял, дальше бежать некуда. Его преследователи тоже остановились. Они разглядывали чужака как некое заморское чудо. Наконец, из ряда зевак вперёд вышел тот, что обыскивал его котомку.
– Что же ты там прячешь? – спросил он, указывая на свёрток с берестой. – Деньги? Золото? Ты бы отдал по-хорошему. Сам ведь видишь, бежать некуда.
Дурень сделал шаг назад и прижался спиной к частоколу. Люди медленно двинулись к нему, заходя с разных сторон. Он суетно рыскал глазами, понимая, что и вправду никуда не спрячешься. Перед глазами стояло лицо хозяина, доверившего ему тайну, которую он не в состоянии сохранить.
И тут его взгляд вырвал одинокое строение, стоявшее справа, почти вплотную к стене. Издав жуткий вой, в котором отчаянье и последняя надежда слились в одно, он рванул туда. Люди, стоявшие у него на пути, от неожиданности, отпрянули прочь. Несколько прыжков, и дурень, словно раненный медведь, укрылся в берлогу.
По всей видимости, здесь был загон для домашнего скота. Вход оказался невысоким, пришлось согнуться вдвое, чтобы попасть внутрь. Там в куче разбросанной соломы он увидел тёсаное корыто, несколько досок и небольшое бревно. Всё это тотчас использовал, чтобы закрыть вход, а сам сел спиной к нему. Кто-то снаружи попробовал на прочность сооружённый завал. А затем прокричал:
– С голоду сдохнешь, пёс!
– Отпустили бы вы меня, – попросил дурень.
Люди снаружи принялись совещаться. Кто-то предлагал разобрать постройку, другие твердили, надо подождать, пока пленник проголодается и сам запроситься наружу. Но тут все замолчали, и чей-то степенный голос произнёс:
– Дымом его! Выкурить оттуда – и всё! Выползет как миленький, сам всё отдаст.
Когда густой дым повалил в щели, дурень лёг на живот и, уткнувшись носом в солому, стал молиться. Доски и бревно, завалившее вход, ходили ходуном, и было понятно, что рано или поздно они не выдержат натиска и упадут. Дурень стал раскидывать солому и рыть землю так, как это делают собаки. Когда яма стала достаточно глубокой, он, чихая и кашляя упрятал туда бересту и, засыпав тайник землёй и соломой, снова упал ниц.
– Выходи, не обидим. Отдай, что у тебя там есть и ступай с миром, – раздавалось снаружи.
Дым всё больше заполнял маленький загон. И вот через щель в крыше полетела пригоршня искр. Загнанный пленник не видел их. Не увидел он также, как вспыхнула и запылала солома у входа. Он продолжал читать молитвы, временами переходя на разговор с хозяином, в котором клялся сохранить тайну. Когда люди поняли, что происходит, было уже поздно. Из щелей полезли языки пламени. Чужак внутри истошно вопил, но даже не делал попыток вырваться наружу. Бабы и мужики кинулись за водою, а налетевший ветер уже бросал искры на соседние дома…
Я замолчал. Отец выключил магнитофон, выдохнул и сказал:
– Что-то вы, юноша, падки на трагические финалы.
– Я не специально, – пролепетал я. – А что там было написано? В письме, то есть, на бересте?
– Надпись очень простая. Если современным языком: «Кум, за соль рассчитаюсь со сбором урожая».
– Значит он погиб из-за такой мелочи.
– А с чего ты взял, что всё было именно так? – спросил отец.
– Не знаю… Мне кажется, именно так. И ты сам сказал, там написано «кум». Тот человек, которого звали хозяином, тоже просил передать письмо куму.
– Ладно… – сказал отец. Он хотел ещё что-то добавить, но в последний момент передумал и тогда я наконец высказал свою обиду:
– Ты всё время что-то скрываешь, это нечестно. Я больше тебе ничего не расскажу!
Лицо отца побелело, я подумал, что сейчас он начнёт кричать на меня или, что ещё хуже, скажет «ступай в свою комнату». Но его замешательство длилось недолго. Как-то по-новому посмотрев на меня, он спокойно сказал:
– Мы вернёмся к этому разговору завтра.
Глава шестая. Птица
Утром, когда я проснулся, обнаружилось, что отец ушёл по делам, а мама пребывала в тихой задумчивости и на мои вопросы отвечала как-то нехотя.
– Папа скоро придёт?
– Не знаю, но будет он не один, – загадочно ответила она.
И, правда, отец пришёл около шести вечера с двумя серьёзными людьми. Началось то, что я никогда не любил – знакомство:
– Это Олег Павлович. А это Валентин Николаевич.
Отец всегда представлял гостей по имени отчеству. На меня это навевало тоску. «Учись общаться по правилам взрослого мира», – объяснял папа.
После церемонии знакомства я был отпущен. Интерес, с которым разглядывали меня эти люди, вызвал предположение, что говорить сегодня они будут не только о работе, но и обо мне. Я сел в своей комнате и, приоткрыв дверь, услышал всё, что происходило в отцовском кабинете.
– Понимаете, когда он рассказывал, возникало много нюансов. А вот в письменном варианте кое что исчезло. Он упростил повествование. Но это всё цветочки. Вот послушайте…
Щёлкнул магнитофон, и одна за другой прозвучали две последние записи. Воцарилось молчание. Первым взял слово Олег Павлович:
– Безусловно, всё это выходит за рамки обычного. Но давайте попробуем разобраться. Как обыватель я потрясён услышанным. Но как историк, не вижу доказательств. Литературный талант, который следует развивать, пестовать – вот, пожалуй, и всё.
– Скажу как психолог, – продолжил Валентин Николаевич, – мальчик в переходном возрасте. Психика подростков очень подвижная. И с экспериментами надо быть поосторожнее.
– Сначала я думал так же, как вы, но вскоре понял, что всё не так просто, – сказал отец. – Знаете, я ведь сразу после первой записи задал вопрос коллегам, где и как они нашли наконечник стрелы. И всё совпало. В левой лопатке, точно, как в его истории.
– Может быть, он что-то уловил из ваших рассказов, – сказал Олег Павлович.
– Исключено. О том, где нашли наконечник стрелы, я узнал позже.
– Это может быть просто совпадение. Смертельное ранение в область левой лопатки – это же так естественно, – произнёс Валентин Николаевич.
– А как же детали? – не сдавался отец.
– Какие детали?
– Ну, к примеру, что лошадям обвязывали копыта, чтобы приглушить их шаг, или то, как переносили тлеющие угольки.
– Во-первых, он весьма начитанный мальчик, а его отец, как-никак, историк. Во-вторых, как подтвердить или опровергнуть то, о чём он говорит. И не думаете ли вы, что все эти детали рассказала ему стрела? – спокойно вопрошал Валентин Николаевич.
– Я готов поверить, что передо мной импровизатор – этакий новый Лопе де Вега или Франсуа Вийон, но к ясновидению это не имеет отношения. Что мы знаем о ясновидящих? Перед их внутренним взором проносятся картины, и они озвучивают свои видения рваными фразами, метафорами, аллегориями. А здесь? Спокойное повествование, литературный слог, – это был голос Олега Павловича.
– Позвольте поспорить. Во многих предсказаниях античных пифий слог весьма изысканный. А Нострадамус, к примеру, вообще писал свои катрены в стихах, – возражал Валентин Николаевич.
– Там не было конкретики… Туманные намёки, не более. А здесь всё до предела ясно. Единственная странность, нет ни имён, ни названий местности… Наконец, нет дат. Вы это тоже заметили? Он обходит всё это, словно острые углы.
– Конечно, я обратил на это внимание, – согласился Валентин Николаевич. Мне кажется, для мальчика всякая вещь – лишь повод для рассказа. Отталкиваясь от неё, он сочиняет историю. Эта сфера воображения, творческой, богатой фантазии.
– Однако и с берестой, и со стрелой есть совпадения, от которых не отмахнёшься, – настаивал отец.
– Слушайте, а не могли бы вы позвать его… Хотелось бы увидеть, как это происходит, – сказал Олег Павлович.
Дверь в мою комнату резко распахнулась, и папа жестом позвал меня к гостям.
– Мы тут сообща размышляли, как возникают твои истории. Ты мог бы нам это продемонстрировать?» – спросил отец.
Я пожал плечами:
– Не знаю, как получится.
– Ну и отлично. Только не надо ничего бояться. Ты ведь не в школе перед учителем. Получится – хорошо. Нет – и ладно. Договорились?
Честное слово, лучше бы я оказался в школе. Эти двое так на меня пялились, что от волнения во рту всё пересохло. Мне не хотелось подвести отца. Если не получится, то они решат, что это выдумка. Но папа, казалось, не замечал того, насколько я напуган.
– Вы не будете против, если мы запишем это на магнитофон? Нет? Тогда приступим, – сказал он. – Я приготовил несколько предметов.
Отец открыл заветный шкаф и достал оттуда гребень, чётки и гладкий кусок свинца, напоминающий то ли самолёт, то ли птицу, его я и выбрал. Едва моя ладонь ощутила вес и тепло предмета, как волнение утихло, сменившись неким странным состоянием, которое сопутствовало рождению истории. Щёлкнул магнитофон, чуть слышно зашуршала плёнка, и я заговорил:
Пасечник снял сапоги, поставил их рядом с порогом и уже отдёрнул занавеску, чтобы войти в дом, как тут же замер. Его пятнадцатилетняя дочь стояла на коленях и негромко вела разговор с невидимым собеседником. Пасечник взмахнул рукой, подзывая жену.
– Смотри, опять началось.
Женщина потерянно посмотрела на мужа и прошептала:
– Видно, всё-таки придётся… – она так и не договорила фразы, потому что в этот момент их дочь заговорила взволнованно и горячо…
Птица, как всегда, появилась после вечерней молитвы. Из неоткуда. Её неторопливая походка, переваливание с ноги на ногу могли бы рассмешить кого угодно, если бы не этот почти человеческий взгляд, и ещё то, что видела эту птицу только дочь пасечника и больше никто. Она подошла к птице, заглянула ей в глаза и попросила:
– Уходи, пожалуйста. Мне нельзя с тобой разговаривать.
Птица посмотрела на неё и ответила гортанным голосом:
– Завтра тебя поведут к старухе. Не ходи. Не ходи.
– К какой старухе?
– Сама узнаешь. Она недобрая. Живое станет неподвижным. Просто не ходи, куда бы ни позвали.
– Как я смогу не пойти?
– Я открою тебе одну тайну.
– Ты уже несколько раз меня обманывала. Ты открываешь тайны, а потом выясняется, что это неправда. Помнишь, ты говорила про клад?
– Я тебя проверяла, – важно сказала птица. – А сейчас, могу по-настоящему, открыть, где клад.
– Теперь мне никто не поверит, – грустно сказала девушка. – Меня давно держат за умалишённую.
– Ты их убедишь, что это не так. Помнишь у реки круглый камень. Большой круглый камень, наполовину ушедший в землю. Скажи им: хан спрятал часть сокровищ под ним. Остальное расскажу потом.
– Не надо! Замолчи, прошу тебя, замолчи. От твоего голоса у меня начинает болеть сердце и мутится в глазах. И не приходи больше. Умоляю, не приходи, – говорила девушка, а её родители с ужасом смотрели на неё.
– Не могу не приходить. Никто больше не видит меня. Никто не верит в меня. Вот и сейчас, твои родители прячутся за занавеской и видят только тебя…
Девушка вздрогнула от этих слов, обернулась и увидела перепуганные лица отца и матери.
– Я её прогнала, – оправдывалась дочь. – Она опять говорила про клад. Помните, у реки круглый камень?..
– Тебе объясняли, нельзя вступать в разговоры!.. – начал было отец, но под взглядом жены, замолчал.
– Надо готовиться ко сну, – сказала мать. – Завтра трудный день. Если не будет дождя, мы с тобой кое к кому наведаемся.
– К кому? – заволновалась девушка.
– К нашей родственнице.
– Она старенькая?
– Старенькая.
– Мам, а можно я дома останусь?
– Чего ты испугалась, глупенькая? Хорошая бабушка. Добрая. Детишек лечит. Глядишь, и тебе ничего плохого не сделает.
Когда дочь уснула, пасечник сел напротив жены и сказал:
– Всё-таки это нехорошо. Против Бога. Тебе всякий скажет – нехорошо.
– Ей уже пятнадцать. Иных замуж отдают в эти годы. А кто дурочку замуж возьмёт? Два года как маемся, – запричитала женщина. – Два года, и конца этому нет. Уж и молитвы читали. И что? Ничего не помогает. Может старуха хоть что-нибудь сделает…
На следующее утро они собрали подарки: свежеиспечённый хлеб, мёд, козье молоко и сахар, сели в телегу, устеленную прошлогодним сеном, и отправились в соседнее селение. Девушка молчала. Не из страха. Она просто привыкла к молчанию. Когда два года назад обнаружилась её болезнь, отношение к ней резко изменилось. Сочувствующие взгляды взрослых, насмешки ровесников – это причиняло ей боль.
– Я ведь во всём такая же, как вы, – пыталась объяснить она. – Просто ко мне иногда приходит говорящая птица…
А птица, в отличии от людей, внимательно слушала её и обращалась к ней по-доброму. И ещё рассказывала о тайных сокровищах. Однако, когда девушка решилась поведать об этом отцу, ни один рассказ не подтвердился.
Никаких кладов не обнаружили ни под старой сосной, ни у развалин кузницы.
Скоро стало ясно, единственное средство защитить себя – молчание. Нужно не привлекать к себе внимание. Как черепаха – спрятать голову под панцирь и тихонько дышать там, изредка выглядывая наружу.
Мать, погрузившись в свои мысли, тихонько понукала лошадь. Ось колеса поскрипывала, телега покачивалась на неровной просёлочной дороге. И девушка погрузилась в дремоту. Её разбудил раздался гортанный голос:
– Почему ты не веришь мне?
Птица парила над телегой, тень её крыльев скользила по траве, камням и песку.
– Что с тобой? Ответь!
Но дочь пасечника упрямо хранила молчание.
– Значит, и ты теперь не веришь, что я существую?! Тогда смотри!
Она взмыла высоко в небо и оттуда спикировала прямо к лошадиной морде, а затем снова скрылась в низких облаках. Лошадь громко фыркнула, мотнула головой и вдруг встала на дыбы.
– Ну-ка, стой! – испугалась мать. Спустившись с телеги, она стала внимательно разглядывать упряжь, потом поочерёдно копыта лошади.
– Птица, – объяснила девушка. – Лошадь испугалась птицы.
– И никакая это не птица. Подкова слетела. Видишь? И обратившись уже к лошади, сказала: – Ничего, милая, потерпи. Ведь не зима – лето. Довези нас как-нибудь.
Повозка покатилась дальше. И вдруг снова появилась птица. Взмахнула крыльям,
– За поворотом вы встретите пастушонка, там, на дороге, – проговорила она.
Девочка приподнялась, чтобы лучше видеть дорогу.
– Ты чего? – спросила мать.
– Когда въедем на горку, появится пастушок, – ответила она.
– Опять птицу слушаешь? Ничего, недолго ей тебя мучить.
Пастушок, действительно появился. Он промчался мимо них, крикнув на ходу: «Здоровьица вам!».
Мать, поджала губы, она всегда так делала, когда не знала, что ответить. Да и не о чем тут говорить. Спешить надо. И она сильнее обычного пришпорила лошадку. А птица покружила над повозкой и исчезла из виду из виду.
Старуха с клюкой встретила их у ворот, проворчала:
– Что ж вы так долго? Привязывайте лошадь, да в дом идите.
Мать рассказывала обо всем обстоятельно, пару раз даже заплакала, Девочка молчала. Лишних вопросов старуха не задавала, только согласно кивала. Когда мать закончила, задумчиво произнесла:
– Птица, значит?.. Я уже старая, так что обряд совершу единожды. Оставим здесь вашу птицу. Не летать ей больше.
Девочку посадили на осиновую чурку посреди комнаты. Старуха встала за её спиной. В правой руке она держала небольшой кусочек свинца. Шепча какие-то заклинания, она вращала свинец над макушкой девочки, затем над руками, ногами, животом, провела им вдоль спины – к затылку. Потом поплевала на свинец и, завернув его в лоскуток, вложила девочке в руки.
– Сиди, и читай молитвы, какие знаешь. Можешь и своими словами попросить у Создателя, чтобы освободил тебя от этой напасти.
Дочь пасечника осталась одна в комнате. Она всё глубже погружалась в молитву, и когда по щекам потекли слёзы, из стены вперевалку вышла птица.
– Хочешь, чтобы я исчезла? – спросила она и, не получив ответа, продолжила, – Я бы могла многому научить тебя. Людям нет до тебя дела. А ты меня видишь, потому что ты тоже птица, только не знаешь об этом.
Девочка крепко закрыла глаза и снова зашептала молитву. Обе женщины стояли в проёме дверей и видели огромную птицу, переминающуюся с ноги на ногу, и слышали каждое её слово.
– Теперь мы смотрим её глазами, – пояснила старуха и подошла к девочке. – Дай мне свинец, дочка. Пора приступать, а то солнце скоро пойдёт на закат.
Над полыхающим огнём свинец плавился, растекаясь по дну железного ковша, а потом его выливали в воду, что была в другом точно таком же ковше. Это действие совершалось над теменем девушки. Свинец, шипя, становился из жидкого снова твёрдым, приобретая диковинные формы. А старуха, покуда он лился, бормотала то ли молитвы, то ли заклинания. Потом извлекала металл из воды, вертела его в руках, качала головой и вновь отправляла на огонь. Обряд повторили семь раз. Наконец она извлекла свинец из воды и, перебрасывая его с руки на руку, чтобы не обжечься, положила на лоскут ткани.
– Всё, милая, нет больше твоей птицы. Вся она здесь, – сказала старуха и поднесла к лицу девочки отлитый из свинцы силуэт птицы.
Мать упала на колени и заплакала. Из всех произнесённых ею слов было понятно только:
– Как мы вам благодарны…
– Создателя благодарите, – ответила старая.
Солнце катилось к закату. Усаживаясь в повозку, мать вспомнила про подарки, что предназначались целительнице. И вновь рассыпаясь в благодарностях, вручила ей сахар, хлеб, козье молоко и мёд. Повозка тронулась. Старуха махала им в след, покуда их не разделил низкорослый кустарник. Когда солнце коснулось верхушек деревьев, она отправилась на окраину деревни, вырыла в песке неглубокую яму и положила туда лоскут, в который тщательно запеленала вылитую из свинца птицу.
История кончилась. Отец выключил магнитофон. Гости переглянулись, и Олег Павлович, мотнув головой, словно только проснулся, сказал:
– Надо перекурить.
– Конечно, – согласился отец. – Пепельница на балконе. А я пока чай заварю.
– Сынок, пойдём-ка со мной, – обратился он ко мне. – Поможешь посуду принести.
Мы вышли из комнаты, и я ощутил то же беспокойство, что испытывал в самом начале.
– Ты молодец, – сказал папа. – Сумел преодолеть волнение. Истинно мужское качество.
На кухне нас ждала мама. Она встретила меня так, словно я пришёл после годовой контрольной.
– Ну как? – спросила она.
– Всё отлично. У нас удивительный сын! – опередил меня отец. – А мы сейчас устроим чаепитие.
Мама встала на табуретку и сняла с кухонного пенала китайские чашки, которые выставляли только по особым праздничным дням.
– Неси их в комнату. И скажи, чай на подходе.
Меня, конечно, таким образом тактично выпроводили, чтобы сказать нечто, не предназначенное для моих ушей. Я это понимал, но в тот миг нисколько не обижался.
Гости стояли на балконе спиной к двери и, не заметив моего появления, вели беседу.
– Большая ошибка потакать этому. Дети в таком возрасте неуравновешенны, а талантливые дети – особенно… – говорил Валентин Николаевич.
– М-да. Сказки – это хорошо… Но полдня потрачено, а мне ещё в институт надо бежать, – грустно сказал Олег Павлович.
– Понятно. Вас как историка данный феномен не заинтересовал? – усмехнулся первый.
– Это скорее по вашей части. Или из области литературы. У меня есть один приятель – литератор. Надо было его пригласить.
Я на цыпочках вернулся к двери и, уже громко топая, снова вошёл в комнату, оглашая своё появление возгласом:
– Сейчас принесут чай!
За столом я увлёкся поеданием конфет, что вызвало умиление у гостей. Им было куда комфортнее видеть меня в роли ребёнка-сладкоежки. Но тут вдруг, словно вспомнив повод, по которому все собрались, Валентин Николаевич, спросил:
– Серёжа, а что потом стало с той девочкой? С дочерью пасечника? Птица её больше не донимала?
– Не знаю, – ответил я.
– Вот тебе раз! – удивился он. – Если автор не знает, то у кого же нам спросить?
– Я же… Как бы это сказать… Я их не придумываю, истории эти.
– А кто же нам сейчас всё это говорил? – сделав испуганный вид, спросил Валентин Николаевич.
– Я уже говорил, они сами появляются, – оправдывался я.
– А вот скажи, где ты вычитал про обряд «выливания»? – вмешался в разговор Олег Павлович.
– Нигде. Я вообще не знал, что такой есть.
– Вот уж позволь тебе не поверить. Ты довольно чётко всё описал. Только делается он многократно и по особым дням. А перед этим кусок свинца кладут под подушку, чтобы все беды перешли на него. И происходит это обычно в мусульманских странах. У нас на Руси похожий обряд совершали воском, – пояснил Олег Павлович.
– Я этого не знал… Честное слово.
– Слушай, а почему ты не записываешь свои рассказы? – спросил Валентин Николаевич.
– Я когда пишу, начинаю думать, как правильно слово написать, где какую запятую поставить. А сама история в это время пропадает…
– Наверное, ты хочешь стать писателем? – подмигнул мне Олег Павлович.
– Нет, историком.
– Слушай, а мог бы ты рассказать какую-нибудь историю, допустим, вот об этих часах. Конечно, они не имеют за собой такого огромно прошлого, но, наверняка, у них есть своя история, – произнёс Валентин Николаевич и достал из жилетки карманные часы.
Я растерянно взглянул на отца, тот в ответ на мой вопросительный взгляд, кивнул.
– Попробую, – согласился я.
Валентин Николаевич потянулся через стол и передал мне часы. Они были из червлёного серебра. Я сжимал их в руках, но нужного состояния не возникало. Все ждали, шуршала магнитофонная плёнка, а я всё молчал и молчал.
– Там есть дарственная надпись. Если хочешь, прочти, может она разбудит фантазию, – подбадривал меня Валентин Николаевич. Увидев, что меня охватил столбняк, Олег Павлович кинулся на защиту:
– Давайте, отложим историю с часами на следующий раз. Наверное, после чаепития и таких конфет нелегко переключится…
– Нет. Это не из-за конфет, – возразил я. – Можно мне ваши часы даст папа.
– Не понял. Объясни, – удивился Валентин Николаевич.
– Лучше я покажу. Пап, возьми часы. А теперь отдай их мне.
Отец охотно исполнил просьбу. Да, теперь можно было говорить.
Глава седьмая. Часы
Он вышел из машины, приказал шофёру ждать, и двинулся к парадному входу. Вокруг стояли чёрные воронки. На ступеньках человек в длинном кожаном плаще ощупал его металлическим взглядом, и когда они поравнялись, безразличным голосом произнёс:
– Вы опоздали на десять минут.
– Знаю, – ответил он, а себе сказал:
«Главное, вести себя спокойно, уверенно. Если бы случилось что-то серьёзное, они бы не звонком вызвали, а сами приехали вот на таком воронке. Значит, ничего страшного не произошло. По крайней мере – пока не произошло. И надо отдать часы в ремонт. Минутная стрелка заедает. Но сейчас, главное держать себя в руках».
В кабинете сидели двое. Уже знакомый ему следователь в гражданском и неизвестный в военной форме, в чине майора.
– Это товарищ из Москвы, – пояснил следователь. И тотчас заговорил на отвлечённые темы, словно пытаясь снять возникшее напряжение.
– Как устроились в новом доме?
– Отличная квартира. Четыре комнаты. И кабинет наконец есть, и сыну отдельная комната
– Да, кстати, я слышал, он приболел.
– Велосипед виноват. Не удержал равновесие, ну и как результат – рука в гипсе. Ничего, скоро снимут. Мальчишка, сами понимаете.
– Ясно, – сказал следователь, и чуть помедлив, опять произнёс: – Ясно… А здоровье вашей супруги?..
– Нормальное. Но может, перейдём к делу. Думаю, вы меня не для праздных разговоров вызвали.
– К делу, так к делу, – согласился следователь и придвинул к посетителю заготовленную папку. – Я не настаиваю, чтобы вы прочитали всё. Материала много, а времени мало. Но с первыми страницами вы обязаны ознакомиться.
Посетитель степенно достал из нагрудного кармана футляр, извлёк оттуда очки и погрузился в чтение. Не прошло и пяти минут, как он вновь поднял глаза и ошарашено произнёс:
– Этого не может быть!
– Как понимать ваши слова? Вы хотите выразить нам недоверие? Следствие длилось полгода. Видели подписи, что стоят под протоколом. Узнаёте фамилии?
– Да. Там несколько моих однокурсников. Это меня поражает больше всего.
– Что вы лично можете сказать о профессоре. Не для протокола.
– Что сказать? Замечательный педагог. Вырастил не одно поколение специалистов. Эрудированный. Знает несколько языков. В общем…
– А если ближе к нашей теме. Были высказывания. Агитация.
– Я не знаю. Видите ли, у меня не было близких контактов с ним.
– А у нас есть сведения, что вы ходили у него в любимчиках.
– Просто мне нравился его предмет.
– И ни разу не слышали того, о чём упоминают ваши однокурсники.
– Не слышал.
– А то, что в качестве примера вам приводили работы антимарксистских учёных? Эмигрантов? Людей, поддерживающих идеи контрреволюции?
– Бывало, но ведь он подавал эти имена в правильном свете. Говорил об их заблуждениях.
Посетитель снял очки и стал усердно протирать их носовым платком.
– А потом давал читать студентам работы этих отщепенцев. Для чего, как вы думаете? Тоже для расширения кругозора? – спросил товарищ из Москвы.
– Об этом я ничего не знаю. Честное слово. Я говорю, у нас не было никаких посторонних разговоров. Только в стенах института, в присутствии десятков студентов. Даже когда я экзамены сдавал, там сидели члены комиссии. Господи, всё это так давно было. Лет двадцать назад. Я и не видел его после диплома.
– Эти преступления не имеют сроков давности, – строго сказал следователь.
– Но, простите, пожалуйста, что в данной ситуации нужно от меня?
– Неужели не ясно? Вас прочат на ответственный пост, и вы должны определить свою позицию в отношении людей, порочащих общество, – строго произнёс следователь.
– Но я ведь, действительно, ничего сказать не могу.
– То есть, сначала, вы выразили недоверие следствию, взяв под сомнение несколько десятков подписей, а теперь решили устраниться? Так получается? – спросил майор из Москвы.
– Нет-нет. Конечно, не так, – заволновался посетитель. – Что я должен делать?
– Вот это уже конструктивный разговор, – облегчённо выдохнул следователь.
– Вот вам лист. Не надо ничего выдумывать, сочинять. Напишите правду, что профессор такой-то действительно использовал в своих лекциях сомнительные материалы, ссылался на антинаучные работы западных учёных и белогвардейских эмигрантов.
– «Антинаучные работы учёных» – какое-то странное сочетание, – робко сказал посетитель.
– А вы не придирайтесь к словам. Смотрите в суть проблемы. Формулировать можете по-своему.
– Но ведь прошло столько лет…
– Вот и напишите, что вы по юности не разглядели в его речах ничего опасного, о чём искренне сожалеете. Но сейчас, вникнув в проблему, с негодованием… Ну и так далее. Посетитель склонился над листом и старательно, словно школьник, стал выводить фразу за фразой, временами отстраняясь, перечитывая, неслышно проговаривая одними губами.
Шофёр расхаживал вокруг машины. Едва завидев шефа, он по-ребячьи подпрыгнул на месте и бросился запускать двигатель.
– Это хорошо, что вас отпустили… Куда едем? – спросил он.
– Где здесь поблизости часовая мастерская?
– У рынка есть. Там неплохой мастер. Я у него часы с кукушкой ладил.
– Значит, давай туда.
Машина закружила по узким переулочкам, не прошло и пяти минут, как она остановилась у здания с надписью «РЕМОНТ ЧАСОВ».
– Знаешь, ты, пожалуй, меня не жди. Здесь до дома рукой подать. А то я скоро забуду, как пешком ходить, – сказал шеф водителю и вошёл в дверь мастерской. Он остановился перед мутноватым оконцем, где сидел старый часовщик, похожий на сказочного архивариуса, достал карманные часы. Автоматически открыв их, отметил, что они опять остановились. Затем, его взгляд невольно упал на выгравированную фразу: «Любимому ученику от неугомонного профессора». Теперь уже всё кругом – лестница, люди, стоящие рядом, часы – всё подёрнулось влажным туманом. Он плакал и не знал, как остановиться.
Все молчали. В сторону Валентина Николаевича, который пребывал в задумчивости, никто не смотрел. Я аккуратно положил часы на стол, от этого касания они едва слышно звякнули, Валентин Николаевич вздрогнул и заговорил:
– Эти часы принадлежали моему отцу. Можешь открыть их. Там действительно есть надпись «Любимому ученику от неугомонного профессора». И даже то, что мы жили во времена моего детства в большой квартире, и я сломал руку, катаясь на велосипеде – всё правда. Не знаю, как мне относиться к тому, что было в твоём повествовании… Да и вообще, к тому, что я сегодня слышал. Профессора, о котором шла речь, репрессировали, а потом во времена Хрущёва, оправдали. Но насколько я знаю, отец у меня был человеком принципиальным… Говорят, он чудом уцелел в этой чистке.
– Вы простите, если вдруг я сказал что-то не то. Честное слово, мне ничего неизвестно ни о вашем отце, ни о том, чем он занимался, – неожиданно для себя сказал я.
– Что ты… Тебе ли извиняться? – Валентин Николаевич нелепо замахал руками, и голос у него сделался таким, словно он сейчас расплачется. – Я сам затеял этот эксперимент, вот и получил.
Гости прощались. Я стоял в глубине коридора, облокотившись на дверной косяк, и разглядывал их лица. Они стали другими. Но странное дело, в тот момент я не ощущал победного восторга, единственное состояние – жалость к несчастному психологу. Я словно очутился на его месте, словно не он, а я узнал нечто о моём отце и испытал боль, и свою и его – боль вперемешку со страхом.
– Ты устал? – спросила мама.
– Очень, – ответил я.
Единственное, чего я желал, это забраться под одеяло, и чтобы никто меня не трогал, не задавал вопросов.
Спать не хотелось. На потолок падали полоски света от окон соседнего дома. В открытую форточку струился ветер, а я вспоминал историю про девочку.
– Ты тоже птица, только не знаешь об этом…
Глава восьмая Чётки
– Хочешь, прогуляться со мной до музея? – спросил отец.
Я радостно закивал. Он не так часто брал меня с собой, и для меня это было почти праздником. Мы вышли на дома, миновали наш двор и когда оказались на проспекте, отец, потрепав меня по волосам, сказал:
– Вчера был трудный день. Ты меня удивил. И не только меня. Я договорился с Олегом Павловичем и Валентином Николаевичем, что мы не будем афишировать последние события. И ты тоже особенно ни с кем не откровенничай. Думаю, пока не выяснится, что это на самом деле, не стоит предавать огласке наши, назовём их так, эксперименты. Договорились?
– Договорились, – согласился я.
– Валентин Николаевич обещал поискать схожие случаи, – продолжал отец.
– Он не обиделся?
– Нет, что ты! В твоей истории столько попаданий в десятку, что случайными совпадениями их уже не назовёшь. Только не зазнавайся.
– Я не зазнаюсь. А что мы будем делать в музее? Сегодня же выходной.
– Это для посетителей выходной. Но мы ведь не просто посетители. И что-нибудь обязательно придумаем.
Отец, хотя и не являлся официальным сотрудником музея, но входил туда, как к себе домой. Здесь его всегда встречали с распростёртыми объятиями. Так было и на этот раз. Я успел уже было заскучать, как нас завели в хранилище, где содержались предметы, которые никогда не выставляли на всеобщее обозрение. Это были обломки посуды, домашняя утварь, полуистлевшие одежды, старые прялки, ткацкие станки и всё в таком роде. Я задавал вопросы, отец терпеливо отвечал:
– Узоры на древних одеждах – это не просто геометрия. Это можно сказать, магия. Каждый знак, даже самый простой, имеет тайное значение… Видишь, штуковина из бронзы – угадай что это? Зеркало. Судя по дракону, попало оно к нам из Китая. А это монета-полушка 1731 года. Кто тогда правил?
– Анна Иоановна.
– Правильно. Так вот, полушка – это одна четвёртая копейки. А вот это чётки. Их отдали сюда в тридцатых годах, – сказал отец. – Здесь кстати тоже есть магнитофон, я его пару дней назад проверял, пишет исправно. Ну что, ты готов?
Я не был готов. Мне не хотелось погружаться в прошлое, но возражать я не посмел.
Отец зарядил плёнку и подал мне чётки. Двенадцать выцветших бусин. Три из них видно когда-то давно были выкрашены в более светлые тона. Я закрыл глаза и прислушался.
Это случилось через неделю после страшной бури, что прошла по округе, безжалостно выворачивая деревья, губя урожай и срывая крыши домов. Странствующие монахи, возвращаясь в свою обитель, подобрали в лесу мальчика лет четырнадцати. Походил он более на зверька, чем на отпрыск адамова рода, и его, как зверька, подманили куском хлеба, который он тут же вырвал из протянутой руки и, отбежав на безопасное расстояние, судорожно проглотил. Монахи сделали несколько безуспешных попыток подозвать его и двинулись дальше. Мальчишка, прячась за деревьями, последовал за ними. На очередном привале его снова угостили хлебом. На этот раз зверёк в человеческом обличии уже отбежал не так далеко.
В первую ночь он спал неподалёку от богомольцев, то и дело поднимая голову, настороженно вглядываясь в темноту. Вторая ночь выдалась холодной. Чтобы согреться и просушить одежду путники развели костёр. Расположившись вокруг тлеющих углей костра, они уснули. А утром обнаружили маленького дикаря рядом с собой. Он крепко спал, свернувшись клубочком и прижавшись спиной к одному из путников. Весь его вид внушал такую нестерпимую жалость, что оставить его в лесу было невозможно для всякого, у кого есть сердце.
Это и решило его участь. К вечеру следующего дня он вместе с монахами прибыл во Францисканский монастырь. Поначалу к нему относились как к умалишённому, но к концу второй недели он внезапно заговорил. Правда, о себе ничего толком рассказать не мог. Говорил о пожаре и о том, что все погибли. Так или иначе, но выяснилось, что мальчик вполне нормальный и вскоре у него, как и у всех здесь, появились свои обязанности.
– Монастырь не рай. Тут надо работать, – пояснил настоятель.
Так потекли дни. Его отправляли то собирать хворост, то подметать монастырский двор, то ещё по каким-то мелким делам. А через месяц во время вечерней молитвы мальчик стал вторить хору и обнаружилось, что у него чудесный голос. Мало того, выяснилось, что он знает все молитвы.
Говорили, что по ночам его душа терзается. Он стонал, плакал, порой вставал и начинал бродить по монастырским коридорам. Настоятель читал за его здравие молитвы, и со временем Господь сжалился над несчастной душой найдёныша и вернул ему здоровье. Он стал чаще улыбаться, исчез затравленный волчий взгляд, появился аппетит.
После исцеления он проявил изрядное упорство в молитве. И даже начал делать чётки, взяв для этого у местного мастерового сандаловое дерево. Изготовил девять бобков, тщательно отполировал их и покрыл чёрной краской. Один из братьев крайне удивился количеству и стал терпеливо объяснять, что чётки имеют определённое значение.
– Можно сделать двенадцать бобков – это число апостолов Господа нашего Иисуса Христа. Тридцать три – число лет, которые Христос провёл на нашей земле. Тридцать восемь – число недель, что Господь провёл в утробе… Неизвестно сколько ещё вариантов мог предложить монах, если бы в разговор не вмешался настоятель.
– Девять – это тоже святое число. Девять чинов ангельских. Так что, отрок, может быть и прав…
Отрок в ответ кивнул. И, словно извиняясь, добавил:
– Вообще-то я сделал двенадцать бусин, но оставил девять. Оставшиеся три положил отдельно. Придёт время, я их соединю.
В тесной келье, где найдёныш проводил ночь, кроме него жил ещё один послушник. Однажды, проснувшись раньше обычного, он увидел, что мальчик сидит на постели, подобрав под себя ноги. Решил, что он читает молитву. Прислушался, но вместо святых слов услышал нечто иное:
– Первая бусина – краснолицый мясник… Вторая… Третья – торговец горшками… Четвёртая… Седьмая – рыжий башмачник. Восьмая – помощник скорняка со шрамом на лбу. Девятая… Многие слова он не расслышал. На следующее утро ритуал повторился. Через день тоже. Послушник с дознанием не спешил. Что-то подсказывало ему: правды он всё равно не узнает. Слишком недоверчив малец. Недоверчив и напуган. Однако любопытство жгло, и он решил удовлетворить его:
– Кто была твоя мать?
– Она лечила людей. Травами.
– А отец?
– Охотником был.
– Ух, ты. Он наверно и тебя чему-нибудь научил?
– Научил. И силки на зверя ставить. И из лука стрелять.
– А я своего отца не знал. Меня воспитывал дядя. Мужик свирепый и сильный. Хотел сделать из меня настоящего воина. Сделал. Теперь не знаю, как от всего этого отмыться…
– А сколько человек ты убил?
– Зачем тебе это?
– Просто спросил. Ведь раз воевал…
– Я трижды был в больших походах. Мелкие стычки не в счёт.
– Значит, ты хороший воин. Если жив и цел.
– Значит, хороший.
– А ты бы мог меня чему-нибудь научить?
– Зачем тебе?
– Вдруг пригодится. Жизнь длинная.
– Хорошо, обучу. А ты мне расскажешь о своих чётках? – предложил послушник и тут же пожалел об этом. Мальчишка побелел, лицо вытянулось, глаза сделались волчьими. Не говоря ни слова, он ринулся прочь.
Целый день он молчал, казалось, им вновь овладела немота. На следующий день, после утренней молитвы, прямо на выходе из храма послушник остановил мальчика и сказал:
– Прости, что напугал тебя. Взрослые часто говорят глупости, и редко это осознают.
Мальчик ответил неожиданно спокойно и сдержанно:
– Я просто не могу сказать правду. Я тебя почти не знаю. А лгать не хочу.
– Ну и ладно. Я не в обиде. Знаешь, сколько в моей жизни случилось такого, о чём я могу рассказать только духовнику? Я буду тебя учить. Не век тебе быть в монастырских стенах, а значит, моё ремесло тебе пригодится.
Так послушник, а в прошлом наёмный солдат, стал обучать найдёныша. Делал это тайно, когда выпадало им вместе отправиться за дровами в лес или в келье, где теснота причиняла множество неудобств.
Всякое ремесло имеет свою азбуку и философию. Как из подручных средств изготовить кистень или пращу. Как правильно метать нож и копьё. Тайны мамлюков и византийцев, что смешали в себе греческий и римский стиль боя – всё это впитывал в себя маленький найдёныш с неведомым усердием. А послушник, наблюдая за учеником, наполнялся гордостью. Так продолжалось около двух лет. Мальчик стремительно рос. Физические занятия превратили худого волчонка в крепкого здорового юношу. Закончилось это всё в тот день, когда настоятель сообщил послушнику, что пришло время постричь его в монахи.
– Я не могу более тебя обучать, – сказал он своему ученику. Мне нужно готовиться к другой жизни.
– Мне тоже, – ответил найдёныш. – Скоро и я уйду от вас.
На следующее утро мальчишка проснулся засветло, достал чётки и тихонечко начал говорить:
– Первая бусина – краснолицый мясник. Вторая – его здоровенный племянник. Третья – торговец горшками. Четвёртая – его сосед. Пятая – плешивый пастух. Шестая – горбоносый дровосек. Седьмая – скорняк без мизинца… Восьмая – помощник скорняка со шрамом на лбу. Девятая – седой бондарь.
Сегодня слова звучали громче обычного. Было в этом нечто безжалостное и грозное. Все эти два года он боялся одного – забыть… Хотя людей у горящего дома забыть было невозможно. Они клеймом впечатались в память. Не только имена и лица, но и позы, и летящие изо ртов ругань и слюна. И чья рука держала топор, а чья – тесак или дубину – всё это до сих пор стояло перед глазами.
Мальчишка видел уже развязку трагедии. Он так и не узнал, кто и насколько участвовал в этом страшном действии. Он видел огонь, в котором навсегда сгинули его отец мать и младший брат. Откуда уже не доносилась ни криков, ни стонов. Зато выкрики их губителей звучали чётко, словно некто невидимый руководил этим хором:
– Смерть колдунам!!! Смерть их выродкам!!!
Найдёныш исчез за день перед постригом своего наставника. Заметили это не сразу, потому что послушник в келье появлялся редко, даже ночь он проводил в молитве – в храме. Когда о пропаже доложили настоятелю, тот развёл руками и сказал:
– Что делать… Ветер сетью не поймаешь.
Через две недели найдёныш вернулся. Извинился перед настоятелем, объяснив своё отсутствие тем, что искал родственников. Поиски, по его словам, увенчались успехом. Он пришёл поблагодарить за всё, что для него сделали, и попрощаться. Затем прошёл в свою келью. Его сосед, уже принявший постриг, едва взглянув, понял, что произошло. А найдёныш достал свои чётки, развязал нить, добавил к девяти чёрным бусинам три белых, и сказал:
– Я слышал, ты отправляешься с миссионерами на восток. Возьми мои чётки и молись за упокой этих людей.
– Девятерых я запомнил, – сказал монах. – А кто эти трое, которых ты обозначил белыми бусинами?
– Мой отец, мать и младший брат, – ответил найдёныш.
– История удивительная. Но ума не приложу, как эти чётки могли попасть в наши края, – сказал отец. Если принять твой рассказ, то произошло это в веке примерно четырнадцатом, а может и раньше. Есть упоминание и о византийских воинах, и о мамлюках. Много вопросов возникает. Отец скрутил магнитофонную плёнку, убрал её в портфель и, весело взглянув на меня, сказал:
– Пойдём на каруселях кататься.
Мы бродили по городу, болтали о всякой ерунде, катались на колесе обозрения, ели мороженое и ни разу не вспомнили ни о его работе, ни о моей учёбе, ни о музейных экспонатах…
Только по дороге домой я решился сказать то, что меня беспокоит.
– Знаешь, папа, мне нужно знать, что творится на самом деле, вы ведь только делаете вид, что ничего особенного не происходит.
– Это правда, – отец улыбнулся и, посмотрев мне в глаза, заговорил медленно, словно взвешивая каждое слово: – Скажу честно, я не сторонник скороспелых выводов. А понять, с чем мы столкнулись, пока не получается. Но вот вчера мне стало ясно: дальше так продолжаться не может.
– Да и вот еще что, – обрадовавшись словам отца, продолжил я: – Не знаю заметил ты, но я могу рассказывать историю только, когда предмет показываешь мне ты. Помнишь, вчера Николай Александрович дал мне часы, а я молчал?
– Я это заметил… В общем, много у нас с тобой вопросов, а с ответами, покуда тяжело, – отец тяжело вздохнул.
Глава девятая. Перстень
Валентин Николаевич явился чуть свет. Я только успел оторвать голову от подушки, как раздался звонок, и я услышал знакомый голос:
– Простите ради Бога, что я так рано. Мне сегодня в одиннадцать нужно быть на совещании, а откладывать это на потом я не мог.
Папа сказал, что ничего страшного, все уже на ногах и провёл гостя в комнату.
– Получилось так, что мне удалось накопать кое-какие материалы, – сказал Валентин Николаевич и многозначительно посмотрел на меня, а потом на отца.
– Можете говорить. Он у меня, оказывается, совсем взрослый, – произнёс отец. За что я преисполнился к нему благодарностью и непонятной гордостью за себя.
– Не знаю, правильно ли это, – вздохнул наш гость. – Хотя, теперь я вообще не знаю, что верно, а что нет. Ладно, оставим это.
Валентин Николаевич достал из чёрного портфеля большой блокнот, открыл его и приступил к докладу, по-другому этого не назовёшь.
– Дело в том, что мы столкнулись с феноменом, который официальная наука ещё не фиксировала. Вот несколько родственных примеров, – он тягостно вздохнул. – Понимаю, многое покажется бредом. И всё-таки послушайте. Сначала вот это: Считывание информации с предметов. Изучением данного феномена занимались уже в девятнадцатом веке. Однако научным его не назовёшь. В Америке известны факты, когда экстрасенсы оказывали помощь в поиске потерянных людей или раскрывали преступления. Недавно даже появился термин: «Апперцепция», – Валентин Николаевич заглянул в блокнот и прочёл: – «Восприятие псионических полей, считывание информации с биополей. То есть по любому предмету, принадлежащему любому человеку, обладатель дара может сказать, кто он такой, каков его характер, и какие чувства возникают при прикасании к этому предмету». Но, здесь мы вновь сталкиваемся с образами, а не со словами.
Ещё одно предположение: телепатия. Возможно, информация была передана напрямую, то есть от меня к мальчику. Ведь только я знал о надписи на часах, о времени, в котором жил мой отец. А дальше великая сила воображения довершила историю. И, наконец, третье: есть теория единого сознания или единого информационного поля. Человек умеющий входить с ним в контакт, может получать любую информацию. Но… – Валентин Николаевич замолчал.
– Но вас не устраивает ни одна из версий, – договорил за него отец.
– Всё дело в том, что нигде не встречается даже намёка на литературное повествование… Только визуальные образы. Я даже обратился к трудам Станислава Грофа. Есть такой человек. Его пациенты тоже, погружаясь в далёкое прошлое, как он утверждает, вспоминали свои прошлые жизни. Но и здесь первоначальным был поток образов, а не слова. Если опираться на последние исследования, то логическая речь – это левое полушарие. А вот прозрение, интуиция и тому подобное – правое…
– И какие выводы? – улыбнулся отец.
– Никаких, – ответил Валентин Николаевич. – Выводы требуют большой работы. И даже при этом бывают ошибочными. В Москве есть специалисты, которые занимаются исследованиями всего паранормального. Передача мыслей на расстояния, гипноз… Есть женщина, по фамилии Кулагина, она вроде двигает предметы силой мысли… Может быть?..
Валентин Николаевич не закончил фразу.
– Исключено, – остановил его отец. – Я бы не хотел ни огласки, ни лабораторных исследований. Да и он, думаю, этого не захочет, – отец кивнул в мою сторону.
– Я и не предлагаю… Дело в том, что у нас катастрофически мало литературы по данной теме. Есть отдельные переводы моих коллег. Да и отношение к данному феномену если не отрицательное, то настороженное. Хотя, знаете, был у нас один старикашка, из ссыльных, читал лекции о паранормальных явлениях. Удивительный человек. Не знаю, где он теперь. Попробую отыскать. Вот, собственно, и всё…
