Нестрашный суд
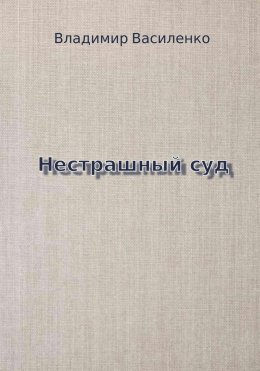
…слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную и на суд не приходит,
но перешел от смерти в жизнь.
Ин. 5:24
I
Воробьиные ночи
– Мяу…
– Ну, что? Пришел?
– Мяу…
– Вы знакомы?
– Нет.
– Нет.
– Иди посиди, подожди… Что делали на железнодорожном мосту во втором часу ночи?
– Это ко мне вопрос?
– Давайте я́ отвечу. Прежде всего, там пешеходная зона имеется. Одно название: железнодорожный. Не ходит там уже сто лет ничего. Когда-то был пост. Теперь проход свободный, так ведь?
– Я слушаю, слушаю.
– Ну, вот. Пока городской на ремонте, на машине на правый берег в объезд – сами знаете, полчаса лишних. Минимум. А тут – напрямки. Десять минут – и на другом берегу. Все так делают. И я не исключение. Вот. Машину оставил, там есть где оставить, у моста, и…
– И…
– Надеюсь, вы меня понимаете… Как мужчина мужчину…
– Полчаса туда, полчаса обратно – в сумме час. Минимум… Ну, а вас… Анна Витальевна…
– Валерьевна…
– Валерьевна… что привело с Правобережья на мост? Среди ночи… Хорошо. Спешить некуда, думайте. Вернемся к вам. Что будем писать, Марат Петрович?
– А в чем проблема?
– Мяу…
– Иди посиди, я сказал. Подожди… Я, между прочим, мог бы вам сходу ручку дать, бумагу. А я вот этого не делаю.
– Вы имеете в виду: человеку женатому…
– …Ваши семейные дела в данный момент – не главное. А имею я в виду… вы тоже, Анна… Валерьевна, внимательно слушайте. А имею я в виду следующее. Двое сбрасывают третьего с тридцатиметровой высоты без шанса выжить. Потом вызывают наряд.
– Зачем?!
– Погодите, погодите!.. Если, как вы считаете, мы… то есть… зачем же нам самим… зачем вызывать… на самих же себя… вы что, полагаете…
– Полагаю. Имитация самоубийства при двух свидетелях. Извините, я его покормлю… Иди сюда. На. Давай, ешь… Я вас призываю, прежде чем, так сказать, оставить у нас свои автографы, хорошенько подумать. Ешь-ешь, все свежее… Вот, скажем, вы, Марат Петрович. Вы беспокоитесь, как будет выглядеть ваше письменное признание в ночной отлучке из семейного, так сказать, круга… Но, в свете вышеозначенного уголовного подтекста, вам придется указать конечный пункт вашего ночного путешествия… Вы меня понимаете? Как мужчина мужчину. Что, наелся?.. Доедай-доедай… Теперь вы, Анна Валерьевна. С вами, вроде бы, проще. Жительнице Правобережья, в принципе, может понадобиться что-нибудь среди ночи в городском центре. Допустить можно. Не сомневаюсь в убедительности вашей версии. Одно только «но»…
– Какое?
– Все должно быть – комар носа не подточит… Вот вы: с Маратом Петровичем незнакомы. С потерпевшим, надо полагать, тоже. А ведь все проверяемо… Ладно, иди спи… Иди-иди… Вот одна ручка, другая. Бумага. Только уж будьте добры, Марат Петрович, пройти со мной в смежное, так сказать, помещение, чтоб, как говорится, ничто не отвлекало. Да, а он… самоубийца ваш… он действительно того?.. Я к чему: с водолазами канитель и все такое…
«Я, Бунимович Анна Валерьевна… паспорт серия, номер, выдан, проживающая по адресу… оказалась сегодня, такого-то (зачеркнуто, исправлено: такого-то), без пяти час ночи, на железнодорожном мосту, направляясь в центральную дежурную аптеку с целью приобретения лекарственного препарата в связи с внезапным обострением язвенной болезни мужа и неожиданно обнаруженным отсутствием лекарства у меня дома. При вспышке молнии я заметила примерно на середине моста мужчину в плаще, стоящего за перилами над рекой. При следующей вспышке молнии этого человека там уже не было. Подбежав, я столкнулась со вторым свидетелем происшествия, вместе с которым мы решили позвонить в органы правопорядка, что я и сделала по моему мобильному телефону. Прибывший наряд следов происшествия не обнаружил и доставил меня в такое-то отделение, где и составлены настоящие показания. Подпись. Дата.»
«Я, Горобец Марат Петрович… водительское удостоверение такое-то, проживающий по адресу… сегодня ночью неожиданно вспомнил, что, уходя вечером с работы, забыл в своем рабочем столе материалы, необходимые мне в командировке, в которую я должен выехать рано утром. Не сумев успокоиться и уснуть, я решил съездить за документами, чтобы, вернувшись, успеть хоть немного поспать. Поскольку место моей работы расположено в Правобережье, чтобы сэкономить время, я решил пройти туда напрямки, то есть по железнодорожному мосту. Подъехав к мосту, без пяти час я оставил машину. При свете молнии я разглядел на мосту фигуру, предположительно женщины, собиравшейся прыгнуть вниз, что она и сделала: при следующей вспышке молнии там, где она стояла, было пусто. Я увидел подбегавшую сюда женщину. Мы вызвали наряд, осмотревший место происшествия. После чего я на своем автомобиле прибыл в отделение. Подпись. Дата.»
– Не думал увидеть в ментовке кошку.
– Это кот.
– По морде?
– Кошке не говорят: ну, что, пришел.
***
Все началось с протянутой курсантом Раковым ладони – с лежащей на ней дюжины деревянных шпалинок с прямоугольными фигурными вырезами посередке… Минуту назад, перед тем как вихрастый, морковно-рыжий Раков завел руки за спину, все это было цельной конструкцией: сцепленные в центре выступами-пазами шпалинки образовывали сплошной, без пустот, объемный шестиконечный (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз) крест… Подмигнув улыбавшимся товарищам, протянув горстку шпал курсанту Панкратову, рыжий Раков сочувственно произнес:
– До утра…
И, оглядевшись вокруг, великодушно прибавил:
– Соберешь – он твой.
– …Отставить! За работу! – прекратил балаган старлей.
За работу. До самого ужина – зависание над усыпанной картофелем бороздой с этим чувством приближающегося испытания умственных сил: ожидание – лучший, ни с чем не сравнимый этап разгадывания головоломки…
…поскольку за разгадыванием – как и за жизнью: ничего кроме новой головоломки… если… если до нее еще дойдет.
А здесь – уже. Уже дошло. Детально прокрутив в голове визит свидетелей (как специально – в его ночное дежурство-подмену в период летних отпусков)… досконально изучив оба заявления… просмотрев сводку гидрометцентра на ближайшие дни… майор Панкратов пребывал теперь на той же стадии разгадки головоломки, на какой находился четверть века назад, когда после трудового, на картофельной борозде, дня и курсантского, из полевой кухни, ужина достав наконец из кармана шпалинки, узрел среди них одну цельную, без пазов, которая, конечно же, вставлялась в крест последней (на манер запорного ключа: не вынешь ее – не разберешь крест), внося в процесс сборки хоть какое-то организующее начало.
В сегодняшней головоломке такой «организующей шпалой» был мост с совершенно одновременным появлением свидетеля и свидетельницы на разных его концах… Совершенно не скрываемая – напротив, подчеркнутая в заявлениях симметрия: «Товарищ майор! Ровно в час! Ровно в час ночи! Товарищ майор!». Вот она, «цельная шпала»: инцидент был назначен! Оба должны были появиться на середине моста ровно в час ночи («без пяти час оказалась на мосту», «без пяти час оставил машину», «десять минут – и на другом берегу»). Должны были и появились. Перед «мужчиной в темном плаще с надвинутым на голову капюшоном»… Перед «предположительно женщиной, собиравшейся прыгнуть»…
Женщина-мужчина… Оборотень на мосту… Исполнитель, посреди череды грозовых июньских ночей проворачивающий свой трюк… Кто тебя, исполнитель, нанял: обманутый муж… или жена… или тот и другая?..
Если все так, тогда для чего сходу звонить сюда?.. А для того… Для того… Из совсем уж нездешней оперы… Что если сегодняшнее ночное шоу – не первая часть «Марлезонского балета»?
Как?!.. А вот так…
Еще раз… Приближение «свидетелей» с двух сторон, при свете молний разглядевших за перилами над рекой каждый свою «вторую дражайшую половину»… Исчезновение «дражайшей половины»… Нервная «свидетельская» дрожь в объятиях друг друга… с внезапным выяснением чудовищности розыгрыша: самоубийца одновременно в мужнином-женином обличье!!
Здесь пока пропускаем. Пока – пауза…
Так… Возвращение каждого к семейному очагу. И… что?.. Или-или. Или дома «все дома»: тишь, гладь и божья благодать. Или…
Какой из двух вариантов заставил бы попытаться разобраться со всем этим самостоятельно?.. При каком из двух вероятнее вторая часть «Марлезонского балета»: этот повторный, сегодняшний, вызов к месту «гражданской казни»?
Повторный, повторный. С первого раза в свидетели не бегут. Эти бы не побежали. Интеллектуальный потенциал с высокой долей вероятности предполагает попытку самостоятельного разбирательства с целью, избежав огласки, замять дело… Побежали не когда в первый раз к стенке были прижаты, а когда от дежавю, то есть от сегодняшнего повторения кошмара, волосы дыбом встали… Ну, думай, думай, отпускай мысль на свободу… И даже не от самого́ повторения… Конечно! Да!.. Не от того, что в оба эти раза узрели и узнали… а от того… что еще не узрели… что еще не увидели… но осознали: увидят. Вот тут уж точно – жми 112!..
Не останавливайся, рисуй, развивай картину…
Когда?.. Когда увидят то, что еще не увидели?
Сегодня… То есть, уже завтра: через час после полуночи. Послезавтра грозовой фронт уходит.
Вот он – звонок, вот оно: наряд, на выезд! Вот: «Ровно в час, товарищ майор!» Вот они – на лету схватываемые подсказки: «придется указать конечный пункт ночного путешествия», «жительнице Правобережья может понадобиться что-нибудь среди ночи в центре» – все что угодно, сказки, подсказки, любое сотрудничество, только, ради всего святого, пожалуйста: по-мо-ги-те!.. В идеале, конечно же, без кругов на воде (в переносном, естественно, смысле, то есть: без огласки). Со щедрым финалом. Судя по совокупности обстоятельств, не просто щедрым. А ощутимо.
Как-то так.
Неужели главный итог четвертьвековой разоблачительной работы – это перемещение разоблачения в его лучший, ни с чем не сравнимый латентный период, прежде именовавшийся «ожиданием», то есть, туда, где вопросы теперь – чаще всего сразу же и ответы? Без ночи мучений с не желающими складываться должным образом «шпалинками»…
Двадцатипятилетней давности незабываемая ночная возня над головоломкой, незаметно но верно переходящая в предутреннюю лихорадку под безбожно начинающие светлеть за окном небеса…
Протянутая перед началом трудового дня длань курсанта Ракова… Уставившиеся со всех сторон на эту длань однокашники… Готовые взорваться хохотом лица… Накрывающая руку курсанта Ракова рука курсанта Панкратова…
Лежащий на ладони рыжего собранный крест.
*
Ну что… Пора подержать над огнем написанное симпатическими чернилами…
«Я, Анна Валерьевна…»
Ну да, не Витальевна…
«…получив позавчера в полпервого ночи…»
Здесь, конечно же, было бы зачеркнуто и исправлено на: вчера…
«…сообщение от мужа: “В час на железнодорожном мосту”, без пяти час оказавшись на мосту, при вспышках молний увидела мужа в арке большого центрального пролета стоящим в плаще за перилами над рекой. При следующей вспышке молнии там было пусто. Подбежав туда, где он только что стоял, я столкнулась со вторым свидетелем происшествия – мужчиной, подбежавшим с другой стороны. Разглядеть что-либо внизу даже при свете молний было невозможно. Собираясь бежать к реке, только не зная, в какую сторону, я поняла, что мечущийся рядом мужчина говорит о своей прыгнувшей вниз жене, от которой, как оказалось, он получил точно такое же сообщение. Обменявшись телефонами…»
Здесь было бы исправлено: телефонными номерами…
«…мы бросились домой: я к себе в Правобережье, он – в центр. Открыв мне, муж спросил, где я была, а на мой встречный вопрос: когда он пришел? – ответил: недавно (у него ненормированный рабочий день в закрытом ящике, телефон недоступен)…»
Мг.
А здесь у нас, скорей всего, что? Симпатическими чернилами…
«…(традиционная встреча бывших одноклассников, где, понятно, не до телефона и куча свидетелей). Созвонившись наутро со вчерашней (как назвать?) партнершей по инциденту, я узнал, что у нее та же ситуация: дома ее встретил вернувшийся с работы муж, которому о происшествии она, так же, как и я жене, ничего не сказала. Обсуждая с ней необходимость обращения в органы правопорядка, ни к какому решению мы не пришли. Но в полпервого ночи ситуация повторилась: пришло новое сообщение с тем же самым текстом от моей жены (бывшей теперь на втором дне встречи одноклассников: одного дня им не хватило). Полчаса – минимальное время, чтоб мне на машине добраться от дома к означенному месту. Подбегая по мосту к стоящей за перилами фигуре в плаще, я, конечно же, был уверен, что это не моя жена, но выяснить, кто этот (или эта) спрыгнувший вниз, не успел: мы снова столкнулись с той же, что и вчера, свидетельницей уже у пустых перил и ничего разглядеть внизу не смогли…»
Мг.
«…в конце концов придя к выводу, что, кто бы ни был все это организовавший и исполнивший, нам следует обратиться в органы правопорядка…»
Да-а-а.
«…со своей стороны решив в следующую, третью подряд, ночь, обеспечить вечернее и ночное присутствие наших супругов дома и самим, не реагируя ни на какие сообщения, из дома не выходить…»
«…что, по нашему мнению, должно помочь вам в поимке… убедительно просим допустить нас к допросу…»
Ну, это непременным образом. И конечно же:
«…выражаем надежду на то, что все это – глупый розыгрыш без жертв и уголовщины и что дело в конце концов ограничится внушением.»
И – щедрый финал в уме. В скобках.
***
– Марат Петрович? Майор Панкратов.
– Рад вашему звонку. Товарищ майор.
Еще бы.
– Марат Петрович.
– Весь внимание.
– Принимая сегодня ночью заявление, я не зря просил вас отменить вашу командировку.
– Да уж какая тут командировка…
– Как супруга?
– С…супруга… в порядке. А-а, на кухне сейчас.
– Тогда – к делу. Мне показалось или вы действительно небезразличны к вашему ночному происшествию?
– Почему «моему»? Небезразличен… м-м… в каком отношении? Как любой законопослушный гражданин… То есть… Д-да… Не только чистое любопытство.
– Значит, я не ошибся… Пока супруга на кухне. Как вы относитесь к тому, чтобы сегодня все повторить?
– В-в… п-р-р… к-ка… о-о…бязательно?
– Это в ваших интересах. В наших. Интересах.
– А ка-а… то и-и… мы… вы и я?..
– Именно. Вы и я. Анну Валерьевну беспокоить не будем… Или позовем?
– Ф-ф-ф-м-м-то есть, какие-то новости? Я имею: по делу.
– Мы нашли тело. Оба тела.
– К…как оба? Что в-в… Почему оба, каких? Хотите сказать: их было двое, на мосту?
– Видите, сколько вопросов. И на все есть ответы. Кроме одного. Мы нашли тела, но не убийцу.
– Вчера в нашем с Анной Валерьевной лице вы нашли убийц моментально, – на том конце, кажется, начинают приходить в себя.
– У вас с ней на двоих одно лицо? – не торопись, тот конец… огуречик-огурец… – Давайте так сделаем: без пяти час…
– Ночи?
– Дня уже был… В ноль пятьдесят пять, то есть в то же самое время, вы появляетесь со своего конца моста и делаете все точно так же, как прошедшей ночью.
Молчание.
– А что я скажу жене: куда я иду?
– То же, что сказали за сутки до этого… И не иду, а еду: все должно быть один в один. Вы меня слышите?.. Всё как прошлой ночью! Я могу на вас положиться?
– То есть, это необязательно?
– Если вы о собственной безопасности, то вам ничего не грозит. Охота велась не на вас, и охотник – не физический исполнитель.
– Что вы хотите сказать?
– Кто-то, кто довел до прыжка с моста двоих и хочет довести третьего, – этот кто-то в ноль пятьдесят пять будет не на мосту, а в совершенно другом месте. Но лучше, чтоб все шло по плану. По его плану.
– По плану не получится: вы не допустите нового преступления – раз, и не привлекаете Анну Валерьевну – два.
– Ее отсутствия подозреваемый не заметит: важно передвижение ваших с нею мобильников… Я вот что хотел вам сказать, Марат Петрович. Все, что в этом деле касается вас двоих, не относится напрямую к следствию. Поэтому не хотелось бы лишним образом вас напрягать. Хватит с вас исполненного гражданского долга и свидетельских показаний. К тому же… можем мы говорить начистоту?.. о вашем сегодняшнем участии в отвлекающей операции знаю я один, так надежнее. И я же один постараюсь этим участием наше сотрудничество с вами и с Анной Валерьевной завершить. Так, чтобы больше вы были мне не нужны… Ну, так что, могу я на вас положиться?.. Риска никакого. Сегодняшнее самоубийство – спектакль. И да… то, что будет греметь и сверкать, – гарантирую.
– То есть, как у Карабаса: это просто праздник ка…
Мг.
***
Задыхаясь на бегу, не выпуская из вида уже маячивший впереди мост, Анна Валерьевна упрекала себя в собственной глупости: что стоило выйти на десяток минут раньше и не доводить до этого идиотского кросса, когда промокаешь не от ливня, которого нет (ливень – в той стороне, что и гроза…), а от пота!.. Но, пообещав точно скопировать свои вчерашние действия, она уже ничего не могла поделать ни с этим обещанием, ни со своей природной скрупулезностью. Сегодня на дорогу от дома до моста – ровно столько же времени, что и вчера. Вчера бежала – значит, и сегодня…
Иллюминация, в которой каждая следующая вспышка молнии попадала на громовой разряд от предыдущей (на бегу она подсчитала: расстояние до них – километров пять, то есть все это светопреставление, как и всю неделю, – где-то там, над водохранилищем)… иллюминация на какое-то время прервалась, заставив пристальней вглядываться, разбирая дорогу, верней то, что в темноте от нее оставалось… И вдруг небо осветилось дугой ярчайшего накала!.. – простоявшей так долго, что представлялось: уже не погаснет… страшный грохот заставил Анну Валерьевну, вобрав голову в плечи, застыть на месте… Отдышавшись, достав мобильник, показавший 00-22, она побежала к мосту, до которого оставалось не более трех минут…
…Вскрикнула она уже на мосту не столько от вида стоявшего на том же, за перилами, месте и казавшегося тем же самым человеком в плаще, а от того, что со всей очевидностью поняла: уже при следующей вспышке молнии там, за перилами, будет пусто… И посреди этого ее понимания – в каком-то растянутом, как в последнем, перед пробуждением, сне или в кульминации голливудского триллера, в каком-то невероятно замедленном бесконечном мгновении слились в одно целое: вспыхнувшее небесное электричество, пустота за перилами и подхватывающие ее, протянутые навстречу руки!..
– Ну!.. В точности?! Все в точности как вчера?!
Не отвечая, распахнутыми глазами она смотрела в темное лицо, ожидая очередного приступа света.
– Я спрашиваю: все в точности?!
– Вот это вот без… – поводила она из стороны в сторону головой… – самоубийства?..
Понимая, что толку от нее не будет, майор исчез в темноте и, снова возникнув с кем-то рядом с собой, зачем-то нагнувшись и выпрямившись, обмотал ее бессильно висящую ладонь, она не поняла, чем:
– Возьмите! Вашего самоубийцу! Держите крепче!
Спутник майора вполоборота глянул на нее.
– Анна Валерьевна… – протянула она ему руку.
– Давайте!.. Приходите уже в себя!
Покачнувшись, ее визави опустился ровно настолько, насколько она подняла, протянув ему, руку с обмотанною толстою нитью ладонью.
– Куда смотрят, когда смотрят?! – в тишине, заложившей уши ватой после очередного громового раската, расслышала она. – Куда смотрят?!
«В ж…» – чуть не сказала она.
– Куда вы смотрели с вашим… Петровичем?! Вниз! И вперед! Не вверх. Не назад…
Она поняла: нить, пропущенная внизу, у ног, под перила, связывает ее руку с находящимся в исходной позиции на стартовой площадке «самоубийцей».
– Вы когда-нибудь в детстве, в парке, в школе на выпускном, не знаю, отпускали в небо гелиевые шарики?.. А это фигурный шар. Да, да: «Фигурные шары для детского праздника! Порадуйте ребенка его любимым героем!» – рекламу видели?! Это гелиевый Супермен.
– А тот?
– Тот улетел. Сейчас отпустить, и этот – фью-ить!.. Вслед за тем. И глазейте себе, сколько влезет, на воду!.. Просто и со вкусом.
– Так… кто-то же…
– …Должен пустить? Отпустить? Замечательно! Замечательно. Кто же пустил? Кто держал и выпустил, когда никого, ни души? Ни во время, ни после. Да?.. Ни души рядом. Совершенно пустой мост. Нет? Никого? Совсем-совсем никого?.. Вы – одна?..
– Я не… понимаю.
– Вместо кого я сейчас? Рядом с вами… Да, да! Да… «Бегущий вам навстречу» – это стоящий в стороне, в темноте, позади, вон там. Возникающий из-под руки…
Дошло, кажется, слава богу…
Что дальше?
Дальше пусть Анна Валерьевна сама. Одна. На мосту. Со своими мыслями. Вот этими:
…Почему он ушел? Все объяснил и ушел. Проинструктировал. И ушел. Этот… рядом… за своими перилами… Так вот, значит, как… Это такой метод: избавление Цокотухи от Паука Комариком… «Я злодея зарубил, / Я тебя освободил / И теперь, душа-девица, / На тебе хочу жениться!» Развлекается по ночам – твой выживший из ума муж. Из-за тебя же и выживший. Да и кто б не выжил. Я – не исключение: если представить… хотя б на минуту представить… что это не он, а я все устроил… да и какая разница: он… я… если, так или иначе, «я тебя освободил»: здесь и сейчас ты наконец осознала, своими глазами увидела смысл двойной жизни: сумасшествие. Вот он, смысл, стоит рядом, на ниточке. Которая в твоих руках. Я все устроил (хоть это не я) – я и разрулю. Вот откуда корректность и вежливость майора. Они уже договорились. К обоюдному удовольствию. Вот почему он ушел. Все объяснил и ушел.
– Аня! – подбежавший Марат Петрович хватает и разворачивает Супермена к себе «лицом».
Анна Валерьевна слышит ругательство, и надежда на то, что это не Марат, а каким-то образом все-таки муж отпускал нить, оживает в ней (не заметила же она майора, пока тот не вынырнул со своим шаром)… Оглядываясь, она всматривается в темень моста: что-нибудь различить трудно. Притаиться, а сделав дело, ускользнуть – задача небезнадежная.
– Мы вот что сделаем…
– А-а? – приходит она в себя.
– Вот что… – берется за нить Марат. – Сейчас отпустим (только вместе!) и забудем как страшный сон. Готова?..
– Подожди… Подожди…
– Что?
– Нет, ничего.
– Ну! Раз… два… три!..
В отличие от своих собратьев, взмывавших в небо в кромешной темноте, последний Супергерой уходит ввысь, освещенный естественным небесным электричеством…
– Пойдем, – Марат Петрович берет Анну под руку…
***
Эти мысли и действия Анны Валерьевны в его воображении… все, что он себе нафантазировал об этом ее кроссе к мосту… а главное, – о том, что происходило с ней после его ухода… все это – развитие в обе стороны (в «до» и в «после») ее состояния там, на мосту, где, демонстрируя фокус с самоубийцей, он внимательнейшим образом фиксировал ее реакцию на каждое его слово и действие… Отсюда – это ее, в его голове, «избавление Цокотухи Комариком»… этот их уход под руку со сцены…
Перемещение разоблачения в лучший, латентный период, именуемый «ожиданием»… Вопросы – сразу же и ответы…
В разгадываемой им теперь головоломке сумма уже полученных ответов – всего лишь отсечение лишнего. Обнажение главного вопроса-ответа.
Вся проделанная работа обнажила две вещи: между свидетелями существуют определенные отношения, а у всей этой истории есть цель. С отношениями, пожалуй, всё. С отношениями самими по себе. Но не с их вкладом в картину происшествия, разумеется. К картине сейчас вернемся.
Цель истории. Так. Сюда, на авансцену, под свет настольной лампы – главную «шпалу»!.. Вот она, главная, столько времени пролежавшая в тени. Сходу туда отложенная. Потому что только так и разгадывается этот «объемный крест»: не разгадав содержания, не доберешься до формы. Надо пройти процесс сборки почти до конца, чтоб из конечного тупика (так и не образовавшегося коридора для последней, сплошной, шпалы) стала видна изначальная ошибка. В данном случае ошибка, специально им же самим и заложенная. В виде имитации ошибки. Выработанный многолетней практикой метод, позволяющий ускорить разгадку. Столько раз уже выручавший. Это как вспоминать вдруг вылетевшее из головы слово, имя, название: пытаясь проглядеть пустое место насквозь, мучаешься совершенно безрезультатно… а сразу, изначально отодвинешь предмет на периферию зрения – и получаешь искомое: само выплывает.
Головоломка-жизнь – это сумма коррекций, вносимых в разгадывание первоначальной головоломки. У каждого первоначальная – своя, и у всех одна и та же…
Ладно. К делу!
Главная «шпала». Мало на что похожее происшествие именно в ночь его случайного дежурства. Совершенно не входящего в его обязанности, вызванного ранениями сразу нескольких оперативников посреди начавшегося «отпускного сезона». Возникшая неделю назад необходимость заткнуть дыру в графике дежурств. Выход на дежурства всего наличного состава по очереди. Эта его ночная смена, первая из двух подряд ночных (сейчас как раз вторая, в той же дежурке), обозначившаяся всего за пару дней до нее. Смена, накануне которой…
Что накануне которой?.. Не стоит пока ломать основанную на многолетнем опыте и интуиции первоначальную рабочую версию: пускай пока по-прежнему за сутки до его дежурства в час ночи пара «свидетелей» оказывается в грозу на мосту. Где что? Где ничего. Ничего не происходит. С часу до трех, когда их сменит следующая пара. Да… Примерно так… Примерно – по времени, но не по сути: дежурства вызваны поступившим сигналом о возможном ночном происшествии. В полпервого на мосту уже пусто. И без того редкий народ с ночной рассосался, в такую погоду тем более. Сигнал получен, происшествия нет. В центре ночного разгула стихии «Анна» с «Маратом» (звания?.. лейтенанты?.. старлеи?..) – одни. Не все же два часа… это самое… Мысли… Туда-сюда шатанье-болтанье… Сигнал о преступлении… Какое, к черту, преступление на мосту в погоду, когда хороший хозяин собаку на двор не выгонит!.. Преступление… Возможность преступления… И эта безысходность… Два часа при свете молний… Она вон тоже мается… та же, туда-сюда, неприкаянность… И завтра. И послезавтра. В смысле: не эта освещаемая молниями темнота, а – вообще! Вообще!.. А что если… что если то, что завтра здесь же в то же время… что если это – подсказка… знак… Существуют же знаки, которые надо всего лишь верно прочесть, расшифровать… Чтобы понять, как… каким образом… А здесь и понимать нечего: он, образ, способ есть… он известен…
И назавтра – фокус, сходу ровно в час ночи проделанный Маратом Петровичем перед явившейся на дежурство Анной Валерьевной… И вся эта наша «случайная» встреча в дежурке… На фоне уверенности, просто-таки убежденности фокусника в том, что, разгадав трюк, я обязательно единственной зрительнице этого фокуса разложу все по полочкам, вплоть до раскрытия роли фокусника и его по отношению к ней цели…
И вот это – уже прямой переход к цели истории. Убежденность фокусника в разоблачении – превходяща. Вместе с предсказуемостью его действий. В том смысле, что это больше чем предсказуемость. Угадать, что именно это взбредет ему в голову в первую «холостую» ночь на мосту, – н-н… Нет. Заранее подсказать – другое дело. Натолкнуть, навести на то, что возьмет и взбредет: «Выходя на дежурство, поимей в виду странный случай, бывший тогда-то и там-то…» Замыкание же всей цепи: «Если сигнал подтвердится – столкнешься в дежурке с Шерлоком Холмсом. Уж этот-то…», и так далее…
Да. Всё на месте. Как в хорошем романе: это все так и есть, если б это все так и было.
Значит, вот они, шпалинки, складывающиеся в конечную фигуру, в общую конструкцию. Переберем их.
Вот эта – знание о моем случайном, всего за два дня до того нарисовавшемся дежурстве… Эта – возможно, заведение в базу (вообще или в отдельно взятом компьютере) ложных сведений о «свидетелях» (береженого бог бережет)… Эта – знание их интимно-семейной ситуации… Следующая – «поступивший сигнал» о возможности инцидента на мосту… Следующая – заранее, загодя: «С кем-то когда-то был случай с шарами», – сказанное ему, но не ей… Еще одна – отсутствие дождя непосредственно на мосту: в ливень Супермены не летают, да и в обычный дождь есть проблемы, как сказал продавец… И наконец – конспирация: гражданская одежда с гражданскими же легендами для Шерлока Холмса, которому из проводимой Скотленд-Ярдом операции следует знать лишь то, что следует знать, – конспирация, так вдохновенно использованная Маратом Петровичем…
Отгулявший, отужинавший Василий, свернувшись калачиком, спит в кресле в углу… Интересно, чья очередь дежурить здесь завтра? Вряд ли у Василия будет праздник живота. Отпировал. За эти две ночи. Две стороны приказа: кому-то две бессонные ночи кряду, а кому-то…
Стоп!
Приказ!..
Зачем «с кем-то когда-то был случай с шарами», если… Конечно! Да!.. Прямой приказ: фокус с шаром – приказ! Отданный старлею (или кто он там?)! Тогда как лейтенантша, приданная ему в помощь для реалистичности всей описываемой Шерлоку Холмсу картины, – лейтенантша о фокусе с шаром ни сном, ни духом! И не надо никакого дня «до»! Всё – сразу, в один день, в день дежурства Холмса! Проделываемый старлеем на глазах лейтенантши фокус с шаром – это два в одном: выполнение им приказа с одновременным: «Я тебя освободил»! Всё! Вот он, коридор в почти собранном кресте для последней сплошной шпалы – цели всей этой истории!..
Не вставится!
Последняя шпала не вставится!
Нет коридора!
Слишком сложно… Все равно слишком сложно… Что-то не так…
Всё, конечно, не зря, вся работа по распутыванию хитросплетения, все эти его догадки и «откровения» были нужны… но лишь для того, чтобы подвести к чему-то иному, совсем простому… К тому, что почти уже здесь… Где-то рядом… Ну…
…Вот!
Вот оно!
Вообще – никакого наряда, никакого выезда к месту происшествия: свидетельская парочка самым наглым образом, предъявив что следует на входе, вваливается к нему в дежурку со своими легендами… И никакого нарушения техники безопасности – этих караулов на мосту в грозу…
Нет…
Нет…
Судя по ее поведению во время демонстрации фокуса с шаром, на мосту они все-таки были, чтобы (с этими своими заготовленными для него легендами) вызвать наряд (легко проверяемо) и оказаться в дежурке. На мосту они были, но… Но что?.. Но то, чего, придуманного в легендах, не должно было быть, – там, на мосту, неожиданно произошло… Да-а!.. Судя по всему ее поведению при демонстрации фокуса с шаром – произошло! А когда он разоблачил перед ними весь фокус, то… Что?.. То каждый из них заподозрил другого: в ее глазах, отпустив шар, выныривал из-под руки он… в его глазах – она… То есть, головоломка – для всех троих: для товарища майора в дежурке и для обоих «свидетелей»… А шар… о котором оба понятия не имели… шар… держал и отпускал кто-то третий!
Всё!
Коридор для последней шпалы в объемном кресте полностью освобожден!
Теперь вставится!
Вставляем: собранный крест – вызов его, майора Панкратова, в соответствующий кабинет.
***
– Какие люди!.. – расплывшийся в улыбке рыжий (уже не морковно-), поднимаясь из-за стола, отодвигая, грохнул стул на пол!
– А я смотрю: ты, не ты?.. Там, на доске.
– Ну, это вы, штабные, шифруетесь, а нам здесь, на передовой, не грех и на доске повисеть! – подняв стул, подмигнул гостю рыжий: – Так, может, это… за встречу?..
– Давай так: дела сделаю, в ближайший заскочу, и посидим.
– Ну, заскочи, заскочи. На нашу зарплату не позаскакиваешь… Жду! – уже в коридоре услышал Панкратов себе в спину…
В предусмотрительно оставленном за углом авто еще раз не спеша и со всех сторон прокрутив в голове ситуацию… подхватив с соседнего сиденья заранее сформированный под встречу фирменный пакет из ближайшего универсама, майор закрыл дверцу своей «Тойоты Приус» (выбранной в автосалоне изо всех автомарок за внезапно пришедшее в голову: «“Приус” починяю…») и не спеша направился к отделению.
Через полчаса в боковой комнатенке (рядом с пустым в это время общим, в три стола, помещением) мирно текущая беседа майора Панкратова с вольно откинувшимся на стуле и выпускающим струйки дыма в приоткрытое окно капитаном Раковым унесла обоих в дальние дали…
– А помнишь, – докурив и наливая, усмехнулся капитан, – первую «АйБиЭмку» на третьем курсе? Привезли… Поставили…
– На этого вашего «Диггера» и «Формулу-1» можно было ставки делать. Тотализатор открывать… Хорошо, что «Танчиков» тогда еще не было.
– Как мы тебя чуть не убили с этой твоей… как она там?.. Диванчики перекатывать-переставлять в коридорчиках, чтоб основной диванчик из начала в конец провести.
– Кто ж знал, что она на 47-м уровне изначально стояла? Из пятидесяти. Там же потихоньку-полегоньку с первого уровня надо было осваивать. Это ж не волк-коза-капуста в лодке на переправе.
– Нет, но закрыться и пять часов золотого игрового времени диванчики катать!..
– Получилось же. Знаешь, все эти IQ тесты – не то. Потому что там надо быстро.
– …А если идешь не туда, то чем медленнее, тем лучше. Я помню… И мы, как идиоты, под дверью! Вместо того, чтоб взломать и…
– Не взломали же.
– Не взломали… Старлей: «Кто закрылся? – Панкратов. – Разойдись»… Давай! За наше человеколюбие! И за твою усидчивость. За самого отважного курсанта Академии, каждую ночь рисковавшего погибнуть… от оборвавшихся книжных полок над кроватью в общаге. Ха-ха-ха!.. И – ни Конан Дойла, ни – Сименона… ни – Пуаро, ни – мисс… мисс… мисс Марпл!.. А-а-а!.. – Раков провел по лицу ладонью, собрав в нее остатки смеха. – Ладно-ладно: за твою легендарную раскрываемость. Будь!
– Были. Были. И Эдгар По, и Конан Дойл, и Агата Кристи. И Лев Овалов. На первом же курсе зачитали. Испарились. Пришлось осваивать Достоевского с Набоковым. Ты же к нам на втором курсе пришел, так что просто не видел, с чего начиналось… А ты, значит… – выпив-выдохнув, кивнул в раскрытую дверь кабинета майор…
– Ну, не на всех же старлей в Академии глаз положил.
– Что имеешь в виду?
– Сейчас ты начнешь, что не в курсе, благодаря кому ты так стартанул. После Академии.
– А я стартанул?.. Совершенно не в курсе.
– Я тоже. Не в курсе был. До того дня на картошке. Помнишь? Головоломку со шпалами. Вижу: помнишь. Это он мне ее вручил: «Отдашь Панкратову. Дашь время до утра»…
– Что это мы вдруг о нем?.. – помолчав, спросил майор. – Не знаешь, кстати, где он?
– Почему не знаю… На Московском.
– К…как?.. Когда это случилось?..
– В позапрошлом… Личное участие товарища полковника в операции. С таким вот финалом. Ну, давай. Помянем… Стоя. Не чокаясь…
С тяжелым сердцем от неожиданной вести Панкратов с рюмкой в руке обернулся на возникшую в дверях из комнатки в кабинет… возникшую в раскрытом дверном проеме фигуру…
– Здравия желаю, товарищ пол… – вытянувшийся Раков расслабился в ответ на махнувшую руку только что помянутого…
– Заканчивайте этот спектакль, – указал товарищ полковник на почти пустую бутылку. – Вылезайте из вашей норы на свет. Раков, окно там прикрой, но не закрывай: пусть выветрится. Курево, естественно. Оба, кстати, себя раскрыли: перегара нет. И друг перед другом, и перед таким вот вошедшим. Чтишь, Панкратов, инструкции, молодец. Ну, что… рассаживайтесь… Раков, выключай…
– Уже.
– Панкратов, вопросы есть?
– Да, в общем, один… – пришедший в себя майор озвучил: – Для полной симметрии, я имею в виду свидетелей, фокус с шаром должен был бы проделывать не один из них, а кто-то третий… – осекшись, поймав встретившиеся взгляды полковника и капитана, Панкратов добавил: – Понятно. Вопрос снимаю.
– Ну, что ж… Перейдем к тому, зачем мы, собственно, собрались… – полковник кивнул Ракову.
Включив компьютер, тот вставил флешку.
– Организующая шпала – мост с одновременным появлением свидетеля и свидетельницы на разных его концах… – зазвучал в кабинете голос майора Панкратова. – Совершенно не скрываемая – напротив: подчеркнутая в заявлениях симметрия: «Товарищ майор! Ровно в час! Ровно в час ночи! Товарищ майор!». Вот она, цельная шпала: инцидент был назначен!..
«Исполнитель, посреди череды грозовых июньских ночей проворачивающий свой трюк, – кто тебя нанял: обманутый муж… или жена… или тот и другая?..» – слушая эти свои, воспроизводимые сейчас, мысли, Панкратов то выключался, то вновь весь обращался в слух…
– Приближение свидетелей с двух сторон, в свете молнии разглядевших за перилами каждый свою вторую дражайшую половину… Нервная свидетельская дрожь в объятиях друг друга…
…В свидетели побежали не когда в первый раз к стенке были прижаты, а когда от дежавю, то есть от сегодняшнего повторения кошмара, волосы дыбом встали… И даже не от самого́ повторения, а от того, что еще не узрели, что еще не увидели… но осознали: увидят…
…Подержим над огнем написанное симпатическими чернилами… При вспышках молний увидела мужа стоящим в плаще за перилами над рекой… Мечущийся рядом мужчина говорит о своей прыгнувшей вниз жене… Ни к какому решению не пришли, но в полпервого ночи ситуация повторилась…
…Задыхается на бегу в виду уже маячащего моста… Со всей очевидностью понимает: уже при следующей вспышке молнии там, за перилами, будет пусто…
…Почему он ушел? Все объяснил и ушел… Развлекается по ночам – твой выживший из ума муж. Из-за тебя же и выживший… Ты наконец своими глазами увидела смысл двойной жизни: сумасшествие. Вот он, смысл, стоит рядом, на ниточке…
– …Вот что… Сейчас отпустим и забудем, как страшный сон…
…Главная шпала. Мало на что похожее происшествие именно в ночь его единственного случайного дежурства… В центре ночного разгула стихии Анна с Маратом (звания?.. лейтенанты?.. старлеи?..) – одни… Фокус, проделанный им перед ней…
…Фокус – приказ!.. Не надо никакого дня «до»! Всё – сразу, в один день!..
…На мосту они были, но то, чего там не должно было быть, неожиданно произошло. А когда я разоблачил фокус, каждый из них заподозрил другого: головоломка – для всех троих… Шар, о котором оба понятия не имели, держал и отпускал кто-то третий…
Дослушав до конца, майор Панкратов вздрогнул при первом же слове немыслимого, его же голосом, «постскриптума»:
– Смерти не было… Воскресения не было потому, что не было смерти…
По кивку полковника достав флешку, Раков выключил комп.
– Так вот к чему относилось ваше: «Раков, выключай», – произнес майор. – Всё это действовало там, в дежурке… И здесь, при вашем появлении, значит, – тоже. Начало действовать… Флешку прослушали, и Раков вдогонку включил…
– Никому бы в голову не пришло, – помолчав, сказал полковник, – читать мысли товарища Огурцова: какие там мысли?.. Помните «Карнавальную ночь»? Кто там под шумок оставил включенным микрофон в его кабинете?.. Не суть важно… Важен принцип: весь зал слушает то, что у тебя в голове. Каким образом? Каким образом записана прослушанная сейчас линия мысли, раскрывшая преступление?.. головоломку, – поправился полковник. – Кто говорит у нас в сознании, когда мы думаем? Можно же как посмотреть на дело: там, в голове, идет фильм, сериал, который озвучивается в студии. До озвучки фильм немой: герой беззвучно шевелит на пленке губами. Озвученный же – произносит все это в полный голос.
– И что за озвучивающая студия? – спросил майор. – Чья разработка?
– Прежде всего, – отозвался полковник, – чей заказ. Вам обоим достаточно знать, что заказ мой. Со всеми вытекающими. Ясно?
Синхронно прозвучавшие «Так точно!» полковника удовлетворили.
– Садитесь… – взяв и спрятав протянутую Раковым флешку, он продолжил: – Никогда не видели человека, мыслящего вслух? Смотрит в одну точку и вещает… так, что ясно: это действительно непредназначенное ни для чьих ушей, а не осознанная речь. Нет?.. А я видел. Таких людей. Ну, а раз подобного рода патология существует, имеется и механизм перевода мысли в речь с отключением речевого контроля – механизм, который потенциально возможно активировать у здорового человека. Без вреда и последствий. Человек просто не заметит, что мыслит вслух. Перестанет контролировать подключение своих голосовых связок к своим же мыслям. Да, сам механизм выявлен через патологию. Определено на больных, как все это работает. Для нас с вами важно, что удалось наконец разработать функциональный аналог и дистанционно подключать голосовые связки к мыслительному процессу с одновременным отключением речевого самоконтроля.
***
Выйдя заполночь на крыльцо, майор с полковником уставились в звездное небо.
– Я что тебя задержал… – не отрывая глаз от подзабытой за грозовую неделю картины, сказал полковник. – Не всё так красиво.
– Как это? – кивнул майор в небо.
– Как это. И как то, – кивнул полковник на темные окна только что оставленного кабинета. – Метод на самом деле до ума не доведен. Тебе надо поучаствовать. Подключиться к доводке.
– Каким же тогда образом… – растерялся майор…
– Эта запись? – спросил полковник. – Просто я хорошо тебя знаю.
Невесомость
Одна в другой таящаяся прозрачность: облака, не скрывающие поглотившую их синеву, и во всем этом – там же, в растворимости одного в другом, сквозящий пейзаж с не фиксированной земной поверхностью…
Глубоко вздохнув, оглянувшись на оставленный на стоянке «Приус», Панкратов шагнул в плавающую перед ним картину. Поднимаясь в которую, приходилось спускаться. Интересно, как будут выглядеть изнутри эти стоящие на уровне окон второго этажа облака? Вдруг представилось, что тогда они будут внизу.
Подходя к корпусу с упреком во взгляде, адресованным облакам, при его приближении всплывшим к небесной поверхности… подойдя – он разглядел движение в вестибюльной аквариумной глубине.
– А вот и наш космонавт номер два, – отобрав у него рюкзачок, улыбнулся встречающий. – Нам сообщили номер машины.
Обернувшись, сквозь вестибюльное стекло Панкратов с трудом разглядел среди зелени далекое пятнышко своего авто.
Стеклянный лифт.
Стеклянный пол.
Стеклянный стол.
– Устраивайтесь, – кивнув исчезающему в дверях встречающему, глава, надо полагать, учреждения указал на кресло. – За вещи не беспокойтесь.
– Я взял только самое нужное, поскольку…
– «Не заботьтесь и не говорите: что нам есть? Или что пить? Или во что одеться?» – приветливо глядя на гостя, процитировал хозяин кабинета. – Кофе, чай или сразу к делу? Я бы рекомендовал кофе, чай.
– А космонавт номер один последовал вашей рекомендации? – решил прощупать местное отношение к вопросам Панкратов.
– Важно, что мы последовали его рекомендации. Так чай или кофе?.. Кока-колы нет, – улыбнувшись, добавил хозяин.
– Почему? – неожиданно для себя самого спросил гость.
– Ну, нам же сообщили номер машины.
За чаем, принесенным все тем же встречающим, беседа продолжилась в том же духе, очевидно, имевшем цель расположить вновь прибывшего к отвлеченности, царящей во всем, начиная с пейзажа и кончая Новозаветными цитатами. Казалось, продолжая разговор, хозяин всего лишь ожидает вопроса гостя: что имелось в виду под «или сразу к делу?». Панкратову вдруг представилось, что четверть века назад, возвращая рыжему Ракову на картофельном поле собранный крест, он был неправ: возвратить следовало все ту же грудку шпалинок, и именно этого ожидал от него старлей…
– …Ну так как?.. Подписываем?.. – обратился к Панкратову визави, но бумаги не предъявил. – Вот и славно. До вашего отъезда вы здесь никого больше не встретите… Апартаменты – по коридору направо и выше. На двери ваша фамилия…
В номере Панкратов первым делом ознакомился с книжной полкой (слава богу, не над кроватью): Главная книга… Толстой… Чехов… стихи… Самое нужное. «Нам сообщили номер машины.»
…Что в большей мере водило рукой Толстого, – стоя с раскрытой книгой у окна, думал Панкратов: – просвечивание общего замысла (сцены, главы, романа) в конкретной фразе «Анны Карениной» или сиюминутность художественного взгляда и вкуса пришедших слов, по-новому открывающих целое? Так поразившее Чехова то, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте? Или бесконечность в глазах Левина (Панкратов нашел страницу): «Лежа на спине, он смотрел теперь на высокое, безоблачное небо. “Разве я не знаю, что это – бесконечное пространство и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, когда я вижу твердый голубой свод…”»? Что больше водило рукой Толстого: ви́дение героиней блеска ее глаз в темноте или сразу все мироздание там, в глубине, за зрачком героя? И то, и другое. Но главное отличие этого текста – масштабы того и другого: объем потока связей между возникающей новой фразой и «всем сразу во всем сразу» – этим мыслительным полем, из новой фразы видимым по-новому же. Новизна мысли-сентенции и новизна «всего сразу» – одно сквозь другое. Новизна, подобная той, о которой посреди общего хора разгневанных премьерой чеховской «Чайки» («Это не пьеса!») прозвучало: «Вы видели столько пьес. Ну посмотрите не пьесу» (Авилова). Можно видеть во всех подробностях освещенный мир неосвещенным… и затем включить свет. Вот эта вот новизна, именно эта. Этот «новый включенный свет»… новое зрение… почему-то связанное с пейзажем в окне, с недавним разговором ни о чем в стеклянном кабинете, с мыслью о грудке шпалинок вместо собранного креста…
Положив книгу на подоконник, Панкратов взял с полки второй том двухтомника Чехова… Нашел «Чайку»… Полистал… Вернул всё на полку.
Странное состояние, схожее с созерцанием чьей-то мысли, овладело им…
Цель Создателя… – текла мысль как бы перед стоящим на берегу… – независимо от того, кто Он или что Он, цель моего Создателя может быть только одна – посмотреть, что я буду со всем этим делать. Со всем созданным и с самим собой… Когда ученый в опытах имеет дело с атомами, он изучает существующее определенным образом. Когда существующее имеет дело со мной, оно знает мое сердце, мои чувства, мои действия, но оно понятия не имеет, что, помимо моих произносимых слов и совершаемых действий, взбредет мне от всего этого в голову. Там, у существования – вся моя судьба, но – как тела. Судьба моего тела. Куда я ускользаю мыслью – там нет (приходится изощряться, чтобы к этим моим ускользаниям подобраться, записать, перенести на флешку)… У существования есть следствия моих мыслей и чувств – мои действия. Но если разобраться, приглядеться, эти действия – следствия вовсе не мыслей, а обстоятельств, опять-таки через чувства заданных свыше, расписанных на небесах, то есть следствия все того же существующего, существования. Состоящее из глубоких мыслей-виде́ний мое воображение на небесах не расписано. Вот суть бытия, его смысл: воображением постигая сущность игры, игрушка выходит за свои пределы и из подчинения игрока, и именно так игрок преодолевает себя. Атомы – механика: можно создать и выстроить из них что угодно, и будет видно, что от чего. Мое воображение – не от этого. Настолько не от этого, что уже – ниоткуда. То есть, я – игрушка игрока, выводящая его за его рамки – из ведомого (существования) в неведомое. Своего рода выращенный им самим бортовой процессор нового, неизвестного ему самому, поколения. Способный преодолеть не только «образ и подобие» но и оригинал.
Для этого-то всё людское зло и страдания – для того, чтобы я понял, как все устроено, и вытащил из всего этого устроенного все это устроившего. Раскусил игру и…
Возлюби ближнего как самого себя… – все той же рекой в изменившихся до неузнаваемости берегах текла дальше мысль перед Панкратовым… – «Возлюби» и: «Силой воли мы можем заставить себя действовать, но не можем заставить захотеть» (где-то в книге об Эйнштейне). Захотеть возлюбить невозможно! Или любишь, или нет. Среди львов есть злые. К чему тогда этот призыв: «возлюби»?.. К тому, чтобы от природы нелюбящие сдерживали себя от проявлений не-любви силой воли («Силой воли можно заставить себя действовать…». И НЕ действовать)… Для того же, для чего это самое «возлюби», – и Господь, и изгнание, и потоп, и Иисус: природу злых львов не изменить, но через их память о потопе и через принятые в обществе табу можно работать с их силой воли…
У Толстого ближе к финалу… – в изменившемся в очередной раз пейзаже текла все та же мысль… – Пьер понял, что ни один волос не упадет ни с чьей головы без воли Божьей… И как эта воля дала прожить Пете Ростову?.. Каковыми привела на свет Элен, Анатоля?.. Должен ли автор любить своих отрицательных героев: Гоголь – Чичикова, Толстой – курагинскую троицу (четвертый, Ипполит, – просто дурак), Достоевский – бесов?.. Творец – Гитлера?..
А смысл не в любви. Не в отношении к своим героям. Смысл в том, что все авторы смотрят, что́ их герои будут со всем этим делать… Каждый персонаж, помимо своих чувств, мыслей и действий, заданных автором, обладает своим собственным воображением – пищей автора. Автор питается сознанием героев, загоняемых в немыслимые ситуации. Чем немыслимее – тем слаще блюдо. Не в смысле извращенного воображения сочиненных злодеев… А может быть, и в нем тоже… Немыслимое злодейство может иметь свою чудесную противоположность – тот самый искомый автором выход из ощущения своей собственной сочиненности, инородности своих нравственных плюсов и минусов – выход, без злодея неосуществимый…
Додуматься можно до чего угодно…
Неудачные герои… Не отрицательные, а с неразвитым воображением. «Недостаточность воображения» – вот он, универсальный диагноз. Кто-то вообразил этот мир. Что мешает тебе? Вообразить его глубже. Вообразить, в конце концов, свой…
…Резко подкатившая, обступившая, за руку потянувшая к кровати сонливость («кока-колы нет»)…
…посреди которой в уже подступающем (улегшись, Панкратов натянул на ноги покрывало)… подступившем (повернулся на бок)… поглотившем сновидении – не кино, обычно сопровождающее засыпание, а мысли… и даже не мысли… а текст… и даже не текст, а…
«Рапорт о комедии “Чайка”
бортового процессора №7 восемнадцать нулей 8
В ходе тестирования платы “Мировая душа” (“души всех слились в одну”) жесткое закрепление ее в бортовом процессоре Треплева выявило бы низкую адаптивность платы к форме. Треплев: “…дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души”. Помимо пьесы без декораций (“Декораций никаких”), свободно льется из души Треплева любовь к Заречной (ее оценка этих обеих его свобод: “И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь…”) и к матери (ее ответ: “Приживал!.. Оборвыш! Ничтожество!”). Если бы плата “Мировая душа” была фиксирована в процессоре Треплева, неудача всех трех его свобод объяснялась бы игнорированием платой формы его (то есть, своего собственного, платы) существования, заданной координатами среды: нищета (учитель), воющая собака (привязана: в амбаре просо) и ожидающая впереди немощь (дядя Треплева). Приоритет любого существования в этих координатах – форма, то есть само существование. Даже единственный сочувствующий Треплеву как автору доктор-акушер (“Только то прекрасно, что серьезно”) жаждет в произведении ясной определенной мысли и цели, то есть все той же формы, отражающей программу, сформированную бортовыми процессорами действующих лиц под влиянием окружающей нищеты, привязки к “амбару с просом” и немощи на горизонте. В этих координатах для живой души нет альтернативы стремлению к формальным гарантиям существования – к известности, к славе, к деньгам (“И бедняк может быть счастлив. – Это в теории”). В матери Треплева доводящее до нелюбви к сыну актерское тщеславие (“…я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода”) помножено на скаредность. Писатель, которым “овладели сладкие, дивные мечты” о Заречной, уступает матери Треплева с отъездом, только когда слышит от нее: “Ты лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России…” По его же словам, в необходимости писать для денег и славы он “съедает собственную жизнь, обирает пыль с лучших своих цветов, рвет самые цветы и топчет их корни”. И он продолжает это господство формы своей жизни над ее содержанием, срывая и топча лучшие цветы беззащитного, стремящегося в актрисы существа. Существа, от невзаимности которого впадая в формальное литераторство, Треплев теряет из виду мировую душу (“Она меня не любит, я уже не могу писать… пропали все надежды…”). Сама же Заречная в своей любви к растоптавшему ее цветы писателю связь с мировой душой обретает. Именно эту связь с тем “прекрасным, что серьезно” видит, слышит Треплев в ее рыдании у себя на груди. Именно эти рыдания под признание в любви “до отчаяния” к писателю заканчивают жизнь Треплева. Невыносимо, когда не просто предпочитают тебе другого, а – рыдают от этого у тебя на груди: невыносимо знать мировую душу у себя не в груди, а на груди, невыносимо видеть, как она, мировая душа, видит свою часть рыдающей от невозможности перестать быть этой частью и через твою (свидетеля) гибель может отпустить рыдающую виновницу этой гибели на свободу – обратно в мир, где чучело чайки грезит полетом.
Вывод. Плата “Мировая душа” не фиксирована изначально в Треплеве, не связана ни с одним из действующих лиц, не закрепляется в итоге в Заречной (ради взгляда в замочную скважину погубившей Треплева, то есть отторгнутой “Мировой душой”) и является чайкой.
Рапорт на тестирование своей связи с мировой душой бортовым процессором №7 восемнадцать нулей 8 сдан»…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Очнувшись (от сна во сне), Панкратов ощутил… увидел… стоящие над своим «Рапортом о “Чайке”» чувства и чаяния Чехова, воплощенные на сцене… и радостно успокоенный этим открывшимся слоем чего-то превосходящего по силе весь имевшийся в его, Панкратова, распоряжении опыт реальности, понял, что покидает его, этот счастливо предъявленный ему истинный слой… что вновь засыпает (переходит из одного сна в другой)…
«Тебе дали. Это дар. Подарили тебе твою жизнь. Точнее ничего уже не может быть. Это – смысл», – последние образующие Панкратова слова, каким-то образом связанные с ответом на главный, если не единственный вообще вопрос: что мы знаем о любви?.. мы… вместе с автором… – последние слова оставили его, делая всё наконец действительным.
«Можно жить в одном доме в разных Вселенных…» – что это? – это обступившее, подступающее все ближе…
Происходящее – взаимодействие человеческих сущностей, в разной степени связанных со своими ангелами. Хранителями. Или с демонами. Падшие ангелы возникли в тени любви ангелов к Богу – в тени, не пробиваемой пониманием роли греха и человеческой греховности в Божественном ви́дении мира. Откуда возникла тень? Почему нарушилась связь этих ангелов с Богом? Ответ в том, что это за связь.
Связь с Богом – любовь. Стремится ли любовь ко взаимности? Да. Но в этом стремлении ко взаимности нет условия равенства. Создатель допустил грех, человеческую греховность единственно из той же связи – Божественной связи с земным.
Происходящее связано с любовью, с ее сутью. На вершине растворения своего «я» возникает противоположность любви как следствие этого самого растворения: растворяющееся «я» становится доступно яду «равенства с не-стремлением ко взаимности». Вертикаль «ложится набок»: взаимность неравных становится равенством без взаимности, ведущим к желанию превосходства, к росту самомнения в направлении собственного богоподобия, выливающегося в дела и мысли. Что касается и ангелов, и их подопечных.
Почему так? Потому что всё из ничего. С общей нулевой суммой противоположностей, образующих это всё. Всё не может превысить ничто, выйти за рамки равенства «сумма всего = ничто». Именно поэтому растворяющееся в любви «я» заполняется своей противоположностью – иллюзией своего богоподобия (вместо «я ничто, Бог всё» – «я – всё»). Иллюзия эта есть дьявол.
Любовь – стремление к вершине Творения. Ее безымянная противоположность – дьявольская бездна. Сразу там, за вершиной. На которой долго не устоять. (Речь именно о любви, а не о других причинах, по которым сходится множество пар – «Кроме него, я никому не нужна…», «Она богатая невеста…»).
Пограничье между любовью и ее безымянной противоположностью – магнит влюбленных (начиная с первого друг на друга взгляда) и художников (в широком смысле слова). К чему стремятся влюбленные и художники? Чего на самом деле хотят? Раствориться в объятии. В своем полотне. (В буквальном смысле.) Чего хочет идущий навстречу этому их стремлению дьявол? Возобладать.
Приступ взаимной любви – это взаимная готовность не быть (не взаимной – ревность ко взаимной), избавиться от себя, исчезнуть в за-любовной тайне, той, за зрачками предмета страсти, в местности, лишенной тюрьмы твоего существования (то есть в пустоте, но свято место пусто не бывает: в пустоте под чудесным обрывом маячат рога).
Дьявол – на вершине реальной любви с названием «запретная»: там, в крови у Гумберта и в мозгах Ставрогина, в Веронских и Верьерских пейзажах, в пустоте – исходной между Михаэлем Бергом и Ханной Шмиц и конечной между Анной Карениной и Вронским.
От книжной полки – на улицу: сколько пар-невидимок! Там и тут – сплошное крушение горизонтального (нашепченного душе другими), просто какой-то конвейер сбрасывания оцивилизованной кожи: вон они, валяющиеся оболочки ваших табу и идеалов! Под пьяный храп мужа и сладкий детский сон дочери в объятии молоденького наглеца, прямо здесь же, у себя дома – вот она, жизнь! Да! На столе, в кабинете под (сразу там, за полосами жалюзи) гудение рабочего улья при незапертой на ключ двери! В закутках образовательных заведений всех типов, в чуланах, кладовках больниц и торговых центров! Жизнь…
Не путать с семейной. Идеальные, полу-идеальные и просто семейные пары – всё это Коллонтай и Дыбенко, уже спустившиеся с опасных вершин в долину, побывавшие в предыдущем абзаце, вернувшиеся и связанные разнообразными заслуживающими уважение, но не смертоносными, чувствами, наоборот – поддерживая и спасая (как Коллонтай, дважды спасшая Дыбенко от смерти) друг друга. Всех их притянуло друг к другу этим жестом освобождения от навязанного самому себе существования, но освобождение – не обретение. И слава богу. Потому что там, куда они так друг сквозь друга стремились, – тот самый один шаг от любви до ненависти, преодоленный. От взаимности без равенства до равенства без взаимности. От пары на мосту в финале «Ночного портье» до Анны на краю железнодорожной платформы. Любовь до гроба имеет единственный – веронский (он же «ночной-портьерный») – формат. В остальных случаях кончается не гробом, а, большей частью, детьми – продолжателями все той же игры.
По-разному связанные со своими ангелами – это находящиеся в разных отношениях со своим, заполненным дьявольской тенью, небытием: стремящиеся к нему, стоящие на его пороге или уже пораженные его недостижимостью, другими словами – это люди с разным опытом освобождения от навязанного существования, то есть с разным вертикально-любовным опытом. Всё происходящее в обществе – горизонтальное взаимодействие этих разных людей, и причины всего происходящего – в различии человеческих вертикалей (попросту: душ).
Ангел – хранитель человеческой души, человеческой сути, вылепленной из чего-то эфемерного, подобного квантовой неопределенности… вылепленной и не разорвавшей связи с этой эфемерностью… поднявшись в которую по этой сохраненной связи как по канату, можно, проникнув в связь чужую, спуститься по ней в сущность другого человека… Увидеть реальность его глазами, ощутить ее его чувствами, оживить себя его действиями… Какого другого? Того, с кем тесно сошелся на Земле, о ком много думал, и именно поэтому там, в неопределенности, можешь узнать, отыскать ее связь с его сутью, с его сознанием. А отыскав, можешь этой связью воспользоваться. Как воспользовался полковник для записи линии мысли по разгадке головоломки с мостом.
О ком ты думаешь в эти последние дни? Об авторе головоломки, том, что «на Московском»? О рыжем ее исполнителе? О которых ты теперь узнал практически всё что нужно знать… Или о том, о ком не знаешь почти ничего? О том, кто все эти дни водил на поводке твое воображение? Не можешь смириться с оживленным тобой персонажем, из плоти и крови возвратившимся в дерево, в шпалинку головоломки? Хочешь проникнуться ощущениями неверно соединяемых деревяшек? Не веришь в разгадку? В головоломки вообще?
О нем, да?.. Ты думаешь все эти дни о нем. Ну что ж. Фото… Досье…
Странное фото. Странное досье.
Ничего странного. Фото как у голливудских юбиляров в Фейсбуке – плавно меняющееся от детского до старческого лицо.
До старческого?
Да. Таким оно будет там, дальше.
Но это уже не как в Фейсбуке.
Естественно.
И досье? Тоже: там, дальше?
Можно крутить в обе стороны. Тебе ведь нужно не всё? Что-то определенное? Год. Месяц. День.
*
Каждый день по пути на работу в тень от железнодорожного моста въезжаешь как в мысль о символе своей жизни в последние полтора года: «мост – напрямки, получасовой объезд – окольно».
Странно совпавшие полтора года назад закрытие городского моста на ремонт и…
Вот он, накрывший, проскользивший над головой мост… Впереди – получасовое ныряние и подбрасывание на колдобинах развороченной объездной дороги, не рассчитанной на нынешний грузопоток…
Объездные дороги не рассчитаны на грузопотоки, растерзывающие, распластывающие их, превращающие в одно название. То ли дело заброшенные мосты, напрямую и намертво стягивающие берега.
Полтора года назад… Не позвони на выходе с елочного базара Дэн, нашедший предпраздничным вечером «неотложное» дело (оказавшееся предновогодним бокалом шампанского без свидетелей на рабочем месте: босс и его зам.)… Не посоветуй ему такая же, как он, покупательница вместо праздничной ели сосну: «На наших правобережных базарах сосны нет, только здесь»… Не пригласи он после звонка Дэна ее подбросить: «– Как раз вызвали в Правобережье. И как раз сегодня закрылся мост. Представьте: в объезд, на автобусе и даже не с елкой – с сосной»… Не появись у него уже тогда вместо старой раздолбанной «девятки» новый «Фольксваген Туран» (вольготно разлапившаяся в двухкубовом багажном отсеке пара сосенок)… «Не», «не», «не»… Сколько «не»… Совершенно бессильных что-либо изменить.
Тысячу раз описанные в литературе, обыгранные в кино случайные встречи, невольные взгляды и все что за ними, ничего и никогда не объясняют. Описание. Одно сплошное описание. Слова, слова, слова. Блеск глаз на экране. А что ты хочешь? Чего ты хочешь? Я хочу… Да блин же! Будет у этой объездной и у такого-то мостового ремонта когда-нибудь конец?! Или нет… Я хочу… (отпрыгав на ямах, снова уже на относительно удобоваримом участке пути)… я хочу, чтобы происходящее раскрывалось. Не изображалось задним числом с целью сохранить, передать переживания, якобы важные для человечества, а… «Якобы»? Ну, а какая такая ценность в описанном, но не раскрытом, знакомом каждому чувстве, одинаково охватывающем Ромео… или Вронского?.. Так же, как Ромео с Джульеттой, Вронский с Анной шли каждый в глубь своего собственного чувства с радостью от того, что другой идет не прочь, а навстречу, и не более. Не пытаясь увидеть это встречное движение изнутри. Проникнуть не в чувство другого, а… в одно на двоих воображение. А в этой попытке – все дело… Чувство вечности первой любви, выливающейся в слова: «Никогда! Никому! Не отдам!»… чувство горячей горечи любви последней… необременительное чувство флирта… или чувство запретной сладости… – всё это – наперед известное, то, с чем сам рано или поздно сталкиваешься или, вычитывая из книг, априорно согласен, потому что оно задано тем, с чем не поспоришь, – игрой в существование. И только… Объезд… И только воображение… Мало им моста, так еще и здесь… Воображение, сравнимое со словесной картиной (именно так: со словесной картиной, с изображением и мыслью, сливающимися воедино!), не имеющее ничего общего с существованием… именно: с существованием… Успеваю?.. О чем я?.. Дело не в чувствах. Слова, описание – ни при чем. Дело в словесной картине, появляющейся с твоим появлением в воображении близкого (ближе других подошедшего к твоему собственному воображению) человека. Дело в слиянии воображений, без чего все остальное – чувства, слова, поступки – провисают…
Где я?.. Река позади: бегущие навстречу кварталы, наследие социализма… Маячащий в конце улицы «деловой центр» – бывший детсад…
Надо, чтобы происходящее раскрывалось.
Дверцы у «Турана» – одно удовольствие. О «девятке» даже вспомнить страшно. Приезжал домой, захлопывал – соседи из окон вываливались. Не встреть три года назад (все на том же базаре, на краю которого под Новый год вырастает елочный остров), не встреть тогда Дэна, вываливались бы до сих пор. Соседи… Год работы – «Туран». Используемый, правда, и в рабочих целях и основательно Дэном подкредитованный, но так и надо. Разойдись (не дай бог) наши с Дэном пути, вопроса о «Туране» не возникнет… Или возникнет?..
– Привет, Денис (там же, на базаре: «Хочешь, чтоб я одноклассника по имени-отчеству величал? – Никаких отчеств! Для тебя – никаких отчеств», что, может, в конце концов и сыграло…).
– Вчера узнал наконец… – Дэн, протягивая руку в ответ… – формулу нашей работы. Можно над каждым рабочим столом девиз вешать. Гуляли с Дарьей Денисовной в парке, там холмик небольшой и тропинка наверх, и бабуля с внучком лет десяти: «– Сережа, я не поднимусь. – Что тут подниматься! Втыкаешь ноги в землю и идешь!». Даже у Дашки – рот до ушей.
– «Втыкаешь ноги в землю и идешь»?
– Над каждым столом!.. Сегодня всё по плану?
Дарья у Дэна – чудо: набирает полные легкие воздуху на дорожке своего лесопарка Медвежино и, приседая, кричит изо всех сил в еловую чащу: «Медведи! Мы здесь!..».
– Помощь нужна?.. Вопросы?.. Я отъеду. Вернусь – по обстоятельствам. Чуть что – порешай.
«Порешай» – это полдня безделья. Решать, по крайней мере сегодня, в разгар лета, в нашем сезонном бизнесе практически нечего. Хорошо отлаженное за последний год дело (полдня свободы Дэна) идет по накатанной. Каждый знает свой маневр. Чуть что – прибегут в кабинет…
Только не думать о том, от чего начинают в последние дни дрожать руки.
…Вдвоем на передних сиденьях… с соснами за спиной… Еще не разбитая в первый день объездная. Как новенькая. «Туран» не «как», а – новей некуда. И новые друг для друга его седоки… Что вся эта новизна? Что она для нее?.. Достигает ли той неизвестности, от какой забываешь, как ты здесь оказался (как, оказавшись во сне, теряют прошлое, будущее и настоящее)?.. В «Туранах», разгребающих фарами темноту, успокаивающих светом приборной доски, – невесомость: окружившая, несущая двоих сквозь темноту подсвеченная синевой координатная оболочка. Двоих? А это не он сам сейчас взглянул на себя за рулем с пассажирского?..
Отсюда, с этого взгляда на самого себя – пошедшее вглубь, уже не оставляющее его – содержимое объединенных сознаний. Двое увидевших то, куда не решались смотреть в одиночку, берутся за руки и идут туда. Картина, образованная слиянием двух воображений, открывает, каким образом из одного и того же произошли эти разные двое. Становятся видны пути разделения неразделяющегося. И главное: как через это «разделенное неразделяющееся» исходное целое достигает своей цели…
О чем я?.. Неужели о том, к чему шло и пришло… там… в этих наших «командировках» в гостиничный номер соседнего городка с лезущей в форточку первой молочно-зеленой, совершенно незаметно переходящей в желто-красную, листвой?.. Да. Об этом.
Единственно – неясно: это во мне изначально – то, чем оборачивалось… то, что оборачивалось… или это только с ней, в ее присутствии?.. Идиотский вопрос женатого человека. Не будь этого изначально… И не будь ее… Склонность и склон. Склонность и склон…
И как итог – то, что не имеет своей противоположности… Чувства, мысли, страсти – всё полярно. Даже там, у Всевышнего – антагонист… Как распространяется зло? Эксплуатацией добра. Крыса, беспрерывно (до полного истощения организма) нажимающая лапкой на рычаг, связанный с электродным раздражением центра удовольствия, – вот злодей. Превращающий радость в ее противоположность. Еще! Еще! Мало! Мало! Мне! Мне!.. Неизбежная изнанка «разумного, доброго, вечного». Чувства, мысли, страсти – лишь инструмент. Для любой руки. Для крысиной лапки. Инструмент…
В отличие от того, что нельзя использовать в личных целях. По той причине, что оно не связано ни с чем личным – ни с телом, ни с психикой. Почему? Потому что оно – ток в наш мир… не вещество… не существо… Ток, этот наш мир Божественно-дьявольских антагонизмов и создавший… Истинный его творец… Ток, попадая в который, перестаешь понимать: опускаешься или поднимаешься, толкает он тебя или втягивает… Оставляющие тебя заботы, растворение антагонизмов, венчающееся полной не-заботой друг о друге в виду исчезновения противоположностей под прощально машущую в форточку, окрашенную по сезону листву…
…выныриваешь… выныриваете… там… в одном на двоих воображении. Господь – в сердце, одном на двоих… Слышном сквозь нее. Это она тянет в себя всё выражаемое цепочкой слов. Невозможно исполнить не сочиненное. И сочиняется – ею. Музыка, на которую эти слова, – ее. И каждое исполнение – сочинение к следующему. И достигаешь не связанного с музыкой и словами… Дело сделано – это главное. Задаваться вопросом: Кто за этим стоит? – все испортить. Важно не «за», а «это». Само это. Улегшийся на зиму медвежонок в фильме Жан-Жака Анно не исчезает до весны, а переходит в наше сознание теплом засыпания и пробуждения, заполняющим всё между ними пространство – берлогу, полную удивительных превращений. Свобода. Во плоти. В собственном теле. Что мешало ей раньше? Несвободные. Слепленные из годно-негодной глины. Значит, освобождение – от людей? Прежде всего. Без этого нет никакого освобождения. От людей. Стряхивание с себя глины. Вспомни, как попал сюда. Через что пришел. Через мечту, вовсе и не бывшую мечтой – существом совсем из другой глины. Склонность… Нашедшая склон. Симметрия. Две склонности, каждая – склон другого.
– Ведь это гордыня… Мизантропия…
– Гордится и ненавидит людей человек.
– Ну, да… У меня сейчас с собой мало общего…
– Наоборот: ты никогда другой не была.
– Конечно… Только она не проваливается в тартарары – эта комната… эти листья… люди внизу за окном…
– Это их проблемы.
– То, что они внизу?
– Видишь: мизантропия тут ни при чем. Просто мы выше. Мы их будущее. Если выживем – выживут и они. Какая у Гагарина и Армстронга гордыня?
– Думаешь, Земля обречена?
– Как и всё в том мире…
…Это, всякий раз, молчание «командированных» по дороге домой: «Туран», сквозь бормотанье движка прислушивающийся к салонной тишине… Одна на двоих боязнь расплескать одно на двоих… Та самая практика, которая – критерий истины…
Освобождение от людского в себе… Не от человеческого, а от навязанного моему человеческому. Существу из совсем другой глины? Если говорить уже всё – да. Из другой не потому, что не человеческой, а потому, что людская глина – не человеческая: насквозь пропитанная жратвой-отрыжкой… потребительством… завистливо-жадно-бесплодная… с хамом, рвущимся к «жизни бога» – к усладам и власти… убивающая… заживо хоронящая свое же живое… существующая лишь по своей же привычке считать все это существованием…
Гордыня, гнев, жадность, прелюбодеяние, зависть, обжорство, уныние. Кажется, так? Змеиный клубок без конца и начала (это только кажется, что гордыня – змеиная головка, а уныние – истончающийся хвост). Подплывший к бортику изумрудноводного, при особняке на скале, бассейна (в лучшем случае – всего лишь бездельник-отпрыск сильных мира сего), под приятную отрыжку, легкое опьянение и след ночной сладости в теле изучающий открывающийся отсюда, с бортика, великолепный морской вид – червь в человечьем обличии. «Наслаждатель». Ничего в своей жизни не создавшая особь…
Хорошо. Пускай ничего не создавшая… Но есть же Стив Джобс! Билл Гейтс! Марк Цукерберг! Илон Маск!.. А почему не Уоррен Баффетт, Генри Форд и Аристотель Онассис? Что за тонкая грань, отделяющая первый ряд от второго? Нет никакой грани. Это один ряд. Все его представители, в разной степени созидатели и бизнесмены – в одинаковой мере пользователи святая святых современного мира – биржевой системы капитализации. Позволяющей, в принципе, купить мир. «В принципе» – такая призрачная штука…
Беда не в самой по себе потенциальной покупке всего и вся. Беда в том, что кроме теплой водички бассейна и великолепного морского вида под отрыжку, опьянение и сладкую телесную истому, в итоге-то – ничего! Не в бирже и не в бизнесе, не в усладах и власти, а в этой конечности! Беда…
– Ну, как?! – с обычным в последнее время наигранным оживлением вваливается в кабинет Дэн. – В Багдаде все спокойно?
– Ты же знаешь… («как я к тебе отношусь»)… («как я тебе благодарен»)… раз твой айфон молчит – спокойно в Багдаде, в Ираке, на Ближнем Востоке и на Каймановых островах.
– Сейшельских. Или Мальдивских. Каймановы в другом полушарии.
– За мостом.
– Я читал… – задерживается у стола Дэн… – через двести миллионов лет материки: Евразия, Африка, обе Америки, Австралия – соединятся в один. Будет один материк Амазия в одном вокруг него океане.
– Что насчет Антарктиды?..
– Ладно… Я у себя… – наигранная серьезность: дело превыше всего…
Беда! Беда! Беда!.. Запричитал… Весь мир живет в кредит! Жизнь с самого зарождения – изворотливость!..
Жизнь – не то, что вы думаете…
Что же, Фордам, Джобсам и Гейтсам с их ноу-хау лапу сосать без инвестиций?.. Какие бассейны, какие отрыжки!.. Они труженики!.. Подвижники!.. Меценаты!.. Сидит тут с айфоном, виндоусом, ключами от «Форда Мондео» и талдычит!..
Вот из всего этого. Бывшего и в себе. В первую очередь – в себе. Выход. Освобождение. «Думаешь, Земля обречена?..»
…Они: Гейтс, Маск, Баффетт – ценят искусство! Последний в 2010 году передал благотворительным фондам 37 миллиардов!.. Именно поэтому искусство расцвело буйным цветом. И наконец указало нам выход из задницы. Не Хуан Малдасена, описавший Вселенную как пятимерную проекцию божественно-мыслимой плоскости, а Роберт Де Ниро с Аль Пачино, вместе и поодиночке перестреляв на экране кучу народа и вперившись после этого в нас долгим взглядом на крупном плане, подарили нам смысл… Вообще, если все сегодняшние мои мысли представить изложенными на бумаге и поднесенными пред светлые читательские очи, определение, которое даст автору этого текста «усредненный» читатель, будет: «Дятел, обидная версия». Я хорошо это понимаю. Так же хорошо, как и то, что эти ощущения и мысли есть итог моей жизни – не в смысле ее конечного состояния, сколь бы долгой или короткой она, эта жизнь, ни оказалась, а в том отношении, что из этих мыслей не повернуть обратно. И это и есть критерий истины: безальтернативный уровень сознания. Истинообразующая практика. Так же хорошо, как это, я понимаю и то, что, вздумай читатель, осудивший мой взгляд на вещи, изложить свое собственное ощущение происходящего – итог сведется либо к безверию и безнадеге, либо к вере в светлые идеалы человечества. С безверием-безнадегой как источником критики все ясно. Обратимся к светлым идеалам. Прежде всего в этой связи: что этот «светлоидеальный» мой критик создал своей головой и своими чистыми руками (дом и капитал – не в счет: любая современная недвижимость создается не только своими руками, а любые сколь-нибудь значимые сбережения или созданы руками предков, или не связаны с чистотой своих рук)? Не голливудская ли он, этот мой критик, звезда или футбольный супер-голеодор, тем же самым рыночно-биржевым насосом перекачивающий миллионы в свой карман из карманов «верящих в светлые идеалы»? Не бизнесмен ли он, не финансист или сотрудник консалтинговой компании, делающий деньги из воздуха или уводящий их из-под налогов, не мажор-наследник ли он или лжец-сочинитель липовых научных и производственных отчетов, то есть не бездельник-потребитель ли (согласитесь, верить в светлые идеалы человечества мошеннику или потребителю было бы как-то странно)?.. А-а: он, мой критик, – музыкант, изобретатель, строитель, учитель, пилот (пол неважен). Тогда коротенькая цепочка вопросов (это один вопрос) к нему: совместима ли вера в светлые идеалы человечества с отсутствием в вашем сознании смысла вашего существования? может ли быть этот смысл не связан с представлениями о мироздании и вашем месте в нем? что вам известно о том, чем является Вселенная и сознание? откуда вы черпаете эти сведения? черпаете ли?
Светлые идеалы человечества не нуждаются в вере, изолированной от совести, мозгов и тяги к знаниям, вне коих любой анализ-интуиция-откровение – имитация. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья» куда ближе к идеалам человечества, чем «построенный в боях социализм», сколь бы десятилетий ни казалось наоборот. Обожая Де Ниро и Аль Пачино (что само по себе естественно так же, как их уникальная органика на экране), главное – проходить сквозь это обожание вглубь. Не останавливаться на нем. Остановка – конец. Суд искусства, «более требовательный, чем Страшный», – не на экране домашнего кинотеатра, а в вашей душе.
– Алё… Я могу говорить… Просто хочу слышать твой голос… Где?.. Во сколько?..
В глубине одного на двоих воображения (в которой что ни сделаешь или помыслишь – искусство… искусно… искусственно) любовь – завеса… Такая же, как современная физическая картина мира. Та же. Не такая же, а та же. Одна и та же завеса. Квантовые поля во внешней условной оболочке Вселенной (в пленке без гравитации) полностью описывают нашу голограммоподобную пространственно-временную и гравитационную Вселенную. И эта созданная физиком Хуаном Малдасеной формально-реальная картина мира – холст с запечатленным осознанием себя влюбленной парой. Следующий шаг здесь – преодоление системы «зритель-полотно», проход сквозь изображение во «Вселенную запутанных подсистем без выделенного сверхнаблюдателя» (соратник Малдасены Леонард Сасскинд), то есть слияние одного на двоих воображения влюбленных с этой не изображенной и не формальной – больше-чем-живой Вселенной.
По образной иллюстрации Малдасены, разнесенные в разные концы мира Ромео и Джульетта, каждый с мешком квантово-запутанных частиц в руках, могут построить из этих частиц каждый свою черную дыру и, бросившись в нее, наконец встретиться, поскольку у двух бесконечно удаленных одна от другой черных дыр из запутанных частиц – общее нутро.
Квантовая запутанность связана не с фотонами… а с размывающими исходный фотон надвое измерениями – этими дождевыми стенами вероятностей, создающих возможность иллюзии разделения половинок исходного фотона в пространстве и времени. Линия создает возможность пребывания этих двух фотонов, двух иллюзорных половинок целого, в ее, линии, различных точках – растягивает исходный фотон в эти разные точки до впечатления двух запутанных его половин; плоскость увеличивает свободу этого растягивания до того, что путешествующие по ней, плоскости, половинки одного и того же исходного фотона могут никогда не встретиться друг с другом; объем кружит голову обоим участникам этой «пары» свободным во всех направлениях пространством, отправляет в путешествие по которому пинок – время. Все дело – в иллюзорности измерений, этих дождевых стен вероятностей, размывающих реальный источник пары фотонов. Замыкает же картину взаимодействия реальности и иллюзии – сознание, третий игрок. Каждый из трех – мост между двумя остальными…
– А-а?..
– Домой, говорю, не идешь?
– Тебя подбросить?
– Вот что такое летний рабочий день в нашем деле… Ум за разум от безделья… Пожалел горемыку-безлошадника… Давай, просыпайся уже и – домой… Пока! До завтра. Закрой здесь все…
У двух удаленных одна от другой черных дыр из запутанных частиц – общее нутро. Вот это «внутри» и «снаружи». В нем все дело. В мечте-существе из другой глины. В ощущении истинного своего «я» там, в темноте, разгребаемой фарами «Турана», в которой двое с парой сосенок за спиной – больше чем целое (оглянулся сейчас на эти сосенки в пустоте за спиной…).
В глубине одного на двоих воображения не делают и не мыслят. Не любят. Там то, что становится чувствами, мыслями, действиями, любовью, то, что чувствам и мыслям нужно, но само по себе в них не нуждается. Источник, не думающий об утоляющем жажду путнике – для источника просто фрагменте глинистого берега с его, фрагмента, мечтой-существом из другой глины. Там, в отличие от глинистого берега, не важно, существуешь ли. И дело в исчезновении не переживаний и страхов (этих следствий существования), а его, существования, причин.
Отсутствие причин бытия. Состояние, не имеющее ничего общего с беспокойством, ожиданием, желанием, скукой, бездействием, суетой. Здесь, в глубине, прозрачной до самой себя с другой стороны, ничто не растет. Происходящее здесь – взаимодействие отдельного с целым, ни с чем земным не ассоциирующееся осязание «клеточкой» – организма, а организмом – «клеточки». И то, и другое («клеточка» и организм) одновременно: ты сам и то, в чем ты, – не то чтобы меняющиеся местами, а – одобряющие друг друга. Меняющаяся глубина и направление этого одобрения и есть происходящее здесь. Оседающая волна которого предполагает возможность ощущений, эмоций, мыслей и действий…
…Открываемое нами – всеми вместе и каждым в отдельности – открываемое новое появляется только тогда, когда мы его открываем. Земля стала ходить вокруг Солнца (а не наоборот) только когда мы это открыли? Да. Потому что без нас их – Земли и Солнца – нет. Восхода и заката нет…. И если уж говорить всё – неплохо и вполне разумно принять за ось этого «всего» встречный свой (с Земли) и Создателя взгляд с вращающимися вокруг этой оси Солнцем, Млечным Путем и всей Вселенной. Открываемое появляется только тогда, когда мы его открываем. Если так, истинный Создатель… Создатели… возникнут лишь в том случае, если… когда… мы их откроем.
Так все и создано изначально: Вселенная – это выдумываемый человечеством мир тел, выдумывающий человечество. Взаимное открытие: миром чувств – тела любимого человека, а этим телом – этого самого мира чувств, открывающего тело… Для того и нужен второй человек: свое тело собственными чувствами не откроешь, и наоборот…
…Открытые друг другом – идем навстречу друг другу… улыбаемся одной на двоих улыбкой… что-то друг другу прямо сейчас говорим… наши руки переплетаются… Отсюда, из парковой беседки, видно Правобережье, там, вверху по течению, правей… Прямо под нами – мост под наплывающими над водой тучами: наплывут и замрут… и в поглотившей их самих темноте слева, над городским морем, третью ночь подряд начнется фейерверк Божий…
Все это, вместе с нами-зрителями – и есть, и нет. А-а?.. Что?.. Что-то я отвечаю, замечая удивление-любопытство во встречном взгляде… пока еще можно что-то заметить… пока тучевая темень над всей открывающейся из беседки картиной не сговорилась окончательно с галактической… Через минуту сглотнет ночная бездна весь этот пейзаж – он исчезнет. Нет, не условно исчезнет, а самым прямым образом. Он не исчезнет для нас-беседочников… для правобережцев, зажегших уже огоньки в своих окнах… для редких на мосту, отсюда несуществующих, пешеходов – для всех набившихся в его, пейзажа, лодку. Но для уже воцаряющейся вокруг нее бесконечной равнины морской – лодки не существует. Пока на нее не наскочит чей-либо, с борта океанского лайнера, вооруженный ночным биноклем зрачок. Вероятность одновременно лайнера, зрачка и ночного бинокля невелика, но именно так, этим образом, называемым нами «случайностью», открываются эти лодки в безбрежности – пейзажи… понемногу заселяющиеся… оказывающиеся уже заселенными…
Открываемое нами начинает существовать только тогда, когда мы его открываем. И сами мы появляемся лишь в момент своего, самими же собою, открытия…
…Сотворенное идет свободно. Здесь и сейчас условно. Всё условно. Существует? Да, но в невесомости, в океане. Надо жить в невесомости. Как мы сейчас. Только это и есть жизнь. Мы и стоим в беседке на твердой поверхности… и чувствуем под ногой упругость уже невидимого склона… и успокаиваемся, ступая на асфальт в темноте… и минуем как всегда провожающий нас взглядом «Туран» на стоянке… и подходим к соединяющему несуществующие берега сооружению, на середине которого, как всегда, расстанемся, диаметрально разойдемся (одна – в Правобережье, другой – назад, в центр)… и НЕ разойдемся… Надвигающаяся арка моста… Райские врата… Выдуманные: мы уже давно там, за ними. Настолько давно, что выдумываем время. Чтоб, оставаясь друг в друге, чувствовать. Нега в полусне требует соседства. Нега сознания – жеста. Не только того, что на потолке Капеллы, – любого. А любой – время. То, чем мы и являемся…
…Путешественник во времени, сумевший предотвратить встречу своих предков в прошлом, должен мгновенно исчезнуть, то есть изначально не может быть путешественником во времени, а значит встреча предков состоится, и потомок-путешественник в прошлое сможет ее предотвратить и исчезнуть, и так до бесконечности (неопределенность, получившая название «парадокс убитого дедушки»). Но в квантовом мире принцип неопределенности являет нам «присутствующе-отсутствующие» фотоны, без всяких «либо-либо». Недавно сымитированные замкнутые времени-подобные кривые доказали возможность, вопреки неопределенности, определять разные состояния такой квантовой системы (так, кажется…). То есть, все идет… медленно… как мы сейчас этими пролетами моста… но идет к тому, что здесь и сейчас – везде и всегда… что мы действительно в невесомости, в океане… что открываемое появляется только тогда, когда мы его открываем… что Сотворенное идет свободно… как мы – коридором этой ажурно-металлической (вид из космоса) угрюмой (на деле) конструкции. Не подозревающей собственное отсутствие. Того, что ее нет. Ни в темноте, ни на остающемся от молнии свету. Фотон квантуется сознанием, являющимся неквантованной суммой фотонов. И надо – туда!.. Не назад с середины моста, а – туда!.. Не назад. Не вперед. А – в сторону! Вбок! В сквозящее начало бесконечного – в этот вход во «всё и вся». Вот он, вход – прямо перед тобой: за перилами…
– Марат, что ты делаешь!.. – ставший криком шепот!
На четверть выступающие над пустотой кроссовки… Упершаяся в перила поясница…
…для сохранения «всего и вся». В этом месте. В тебе. Который уже́ «всё и вся». К чему тогда место?..
– Алё!.. Человек на мосту!.. Собирается!.. Собирается!.. Да!.. Да!.. На железнодорожном!.. Скорее!.. Марат! Марат!..
…Отчего нельзя покидать место, сохраняя в себе одно на двоих «всё и вся»?..
Себя… нельзя покидать… исчезать… Отчего?.. Разве покинуть место – исчезнуть?.. Самому – нет… Но месту… Месту – да.
Месту и его обитателям… Здесь, на месте, надо бы еще кое-что сделать… надо все записать… на бумаге… в генах… Одно на двоих никуда не денется? Да?.. Не исчезнет?
*
– Устраивайтесь, – глава учреждения указал на кресло. – Я говорил: до вашего отъезда вы здесь никого больше не встретите. Но то, что мы с вами сейчас прослушаем, – это и не разговор с самим собой… Видите ли, есть четыре формата взаимодействия мысли с артикуляционным аппаратом: отсутствие связи (мысль не озвучивается), внутренний шепот (шевелящийся язык, губы), способный переходить во внешний, слышимый (связки напрягаются, но не колеблются, звуки издаются всем остальным артикуляционным аппаратом) и наконец – озвучивание мысли в голос (подключение колебаний голосовых связок к мыслям). «Довести наш метод до ума», как выражается… космонавт номер один… довести метод можно было только в условиях полной связи мысли с голосом, не нарушаемой периодами оральной артикуляции или внутреннего мышления: запись должна идти без провалов и сбоев. А это возможно лишь при погружении куда-то в… скажем, куда-то глубже обычного или гипнотического сна. Куда-то туда, о чем субъективно вы теперь знаете больше нашего. Со своей же внешней, объективной, точки зрения на эту глубину, мы знаем, что только в ней устраняется нейросетевой фон сознательного процесса. Как при этом сознание извлекает из памяти (или откуда-то еще) и обрабатывает информацию… извлекает ли вообще… возникают ли там эффекты, схожие с откровением… – задержал вещающий взгляд на слушателе… – вся эта субъективность теперь ваша, что называется, частная собственность. Делиться ею с кем бы то ни было – ваше личное дело. И уж точно не мое – все это сейчас обсуждать. У нас с вами совершенно другая задача…
Полчаса спустя, завершив прокрутку записи, временами останавливаемой для обсуждения, хозяин стеклянного кабинета протянул через стол Панкратову руку:
– Поздравляю! Нас с вами. Приятно, знаете ли, когда усилиями специалистов, скажем так, совершенно разного толка достигается общезначимый результат. В нашем случае можно сказать: революционный. Передайте… космонавту номер один… мои поздравления и пожелания… Впрочем, пожелать – не вооружить. Так что без всяких пожеланий. Ограничимся поздравлениями теперь уже вооруженному… Внизу вам вернут ваши вещи.
…Случившееся с Панкратовым за сутки, прошедшие от «Приуса» до «Приуса», удобное сиденье которого, подхватив под спину, казалось, само несло его сейчас по совершенно пустому (вчера и сегодня… и не исключено, что всегда) шоссе… – случившееся за последние сутки, требуя своего разрешения, не отпуская, стояло перед глазами…
Что́ если все откровения… – легко ведя машину, думал Панкратов… – зафиксированные, превратившиеся в подобие радиопостановки… что если все это – мои собственные фантазии?.. Без малейшего отношения к ним реальности. Разгадка… этот собранный не моим умом крест… эта не анализом, а взломом вскрытая тайна, при всей красоте способа вскрытия, может оказаться побочным эффектом моего сознания, искусственно погруженного на недоступную прежде глубину, в которой… как там?.. – устраненный нейросетевой фон сознательного процесса… обнажил мое собственное подсознание: разгадывая все последние дни головоломку, сам же я и наносил этот песок на эту отмель. И всё «откровение» – всего лишь нанесенный песок, не более.
Разберемся…
Первая стадия сна, с «Чайкой»… Сугубо мое. Можно отбросить…
Вторая – переход из одного сна в другой и сам этот другой – тоже мое… включая допущение о проникновении через неопределенность в сознание другого…
А вот третья стадия сна – не моя… Конечно, мое тоже может там быть – то самое откровение, связанное с подсознанием и воображением, но… Как можно через «откровение» узнать об этих… Малдасене и Сасскинде?.. О Ромео и Джульетте, бросающихся в черные дыры из квантово-запутанных частиц?.. О медвежонке из фильма Жан-Жака Анно?..
Никак.
Вроде бы, все ясно.
С произошедшим на мосту.
Кроме… Кроме потребности, докопавшись до истины, продолжать копать, так что ли? И это тоже. Но… собранный крест еще больше не соберешь. Или…
Вторя скользящему по лобовому стеклу чередованию отсветов с тенями придорожных деревьев, беспокойство от недодуманной мысли сквозило в сознании…
Вот! Вот она… не кольцевая (здравствуй, город!)… вот она – неокольцованная мысль! Пойманная наконец за хвост! Вот она: в «моей» части сна любовь – стремление к небытию, к исчезновению в за-любовной тайне – той, что за зрачками предмета страсти, в местности, лишенной тюрьмы существования… В «его» же… в «его» части моего сна любовь – стремление к чему?.. к новому бытию… но с тем же, что у меня, Создателем вне пут телесного мира… Только… только… это его «любовное слияние воображений» доводит его до того… что его Создатель никогда в этих путах и не был… не освобождается Его же творением – человеком – из этих пут… И вообще возникает только тогда, когда…
«Истинный Создатель… Создатели… возникнут лишь в том случае, если… когда… мы их откроем»…
Гравитация
Из окна кабинета открывалась бо́льшая часть площади. Наблюдая за приближающимися: сверху, из центра, «Тураном», а от автобусной остановки – свидетельницей, – Панкратов вертел в руке врученную профессором штуковинку…
Спрятал ее в наружный карман…
В кабинет вызванные вошли вместе.
– Присаживайтесь, – указал майор на два стула по обе стороны стола. – Вам надо переписать показания. Видите ли, Анна Валерьевна, исправления не допускаются. Вот вам листок с вашими показаниями и чистый бланк… И паспортные данные, как я вам сегодня, Марат Петрович, сказал, обязательны. Впишите вместо водительского удостоверения. Держите: ваше и чистый бланк…
– Кроме паспортных данных, писать все то же самое? – уточнил Марат Петрович.
– Вы хотите изменить показания? – уперся в него взором майор.
– Н-нет… нет, конечно.
– Вот и хорошо…
– Но…
– Я слушаю.
– Не совсем понятно, для чего теперь эти самые показания. Мы ведь теперь знаем, как все было…
– А как все было?
– Кто-то держал и отпустил шар…
– Вот видите. Как я могу прекратить следствие, если шар держал и отпустил кто-то и зачем-то?.. У вас есть версии, кто и зачем?
– Ну, не такое уже это и преступление. Пускать шары.
– Вы себя сами слышите? Двое без пяти час ночи с разных сторон ступают на мост… ровно в час оказываясь на его середине… где кто-то невидимый в темноте, демонстрируя им самоубийцу, отправляет его с моста в бездну… отпускает нить, как мы знаем теперь… но не тогда, когда эти двое сразу же вызывают наряд… – майор выдержал паузу. – Указывайте паспортные данные, переписывайте без черканий-исправлений прочее – и свободны! Да, поскольку меня прямо перед вашим приходом вызвали наверх (Панкратов указал в потолок)… поскольку такое дело – времени у вас вдоволь: без моей подписи вас не выпустят, а насколько я там (в потолок) задержусь, неизвестно… Никуда не спешите?.. Тогда будьте, что называется, как дома… – одним слитным движением достав «штуковинку» из кармана, переместив ее в стол и заперев его, Панкратов развел перед собой руками, демонстрируя жест гостеприимства…
Дверь за майором закрылась.
Марат Петрович приложил палец к губам.
Анна Валерьевна кивнула.
– Он все знает…
– И надо же было звонить! Хотя, что ей оставалось… И я тоже хорош: взял и написал, что прыгнула женщина…
Произнесшие это уставились друг на друга.
– Ты говоришь обо мне в третьем лице?
– Что́ он знает? Почему в третьем? Я говорю? Я молчу. Как он может знать то, что мы и сами толком не знаем.
– Всё мы знаем. Ты просто устал. Ты же вчера согласился. Обычное секундное… – Анна Валерьевна покрутила поднятой рукой воображаемую лампочку … – а не… то, что ты там себе навоображал. Ты совершенно здоров.
– В здравом уме и трезвой памяти… Недавно где-то прочел… кажется, у Набокова: писательское вдохновение не имеет ничего общего со здравым смыслом…
– Я о том же. Функциональное отклонение. Не патологическое!
– Ладно… Пишем.
За окном нахмурилось.
– Обычное… – произнес Марат. – С моста сигать – это такой обычай…
Не перебивая, она смотрела на него, уставившегося в пустой бланк, продолжавшего:
– …когда ни назад, ни вперед. Вперед, в Правобережье, нельзя. А назад, значит, можно? Туда, где днем принимали… отца Дарьи Денисовны. Со всеми почестями. По всему дипломатическому протоколу… На здоровье… Да и нет мне дела ни до него, ни до… Дело не в ком-то конкретном. А – в само́м деле. Дело. Дело. В том-то и дело, что «дело». Дела. Круговорот достижения целей. Целе… сообразность. Все повязаны… до того – что нет никаких отдельно взятых целей отдельно взятых особей, а есть пронизывающая всё и вся целесообразность. Согласующаяся с образами цель. Перед которой – призрак стрелка́: это его цель формируется живыми картинами, образованными принимающими себя за людей… Вот в чем дело, а не в желаниях. Что значит: тянет? «Меня к тебе тянет…» «Их потянуло друг к другу…» Потом оттянуло. Друг от друга. Обе вещи – желание, нежелание – достигнуты. Но сами по себе они, обе эти вещи – не цель: всего лишь подозрение цели, впечатление от этого подозрения, эмоция его воспоминания… Возможно, подозрение цели спасло тебе жизнь, отвлекло от опасного пункта твоей судьбы… Возможно, наоборот: нахлынувшее впечатление незапланированно породило новую жизнь… А сумма всех возможностей – целесообразность. В чьи сети меня уже не заманишь…
– А куда заманишь?
– А-а?.. Я что-то сказал?..
По подоконнику забарабанил дождь.
– «Вперед, в Правобережье, нельзя»… Какое счастье – думать, что можно… – под ровную заоконную дробь лился теперь в кабинете женский голос. – Отпустить себя в эту возможность, без оглядки. Только об этом и думать. Принадлежать себе, собою владеть – насколько все это в прошлом. Этот мой вопрос ему: «А куда заманишь?» – с этим чувством самозванки – самого́ тела чувством с этим новым его жильцом… Что́ может быть маяком в этом море, что́ может подсказать: да, это то самое – долгожданный берег?.. Ничто. Ничто не подскажет. Рядом с этим неверием… Это мое неверие в саму возможность. Единственно возможного. Неверие – в себя? (Кто сказал, что я – та, та самая для него?..) Нет. Не «в себя», не «для него». Неверие – в вечность, в общую, не дольше жизни, но – вечность вдвоем. Все разъедается. И чем тоньше, нежнее всё – тем верней разъедается. Неспособность утонуть в моменте. В минуте – пожалуйста, сколько угодно! Но не в моменте. Самой себя. Минута – достояние общее, открыто для всех. Момент самой себя – безысходен. Там, там… где минута всей глыбой находит на момент – сладость ничьей наконец, только моей боли… отдирания корки от раны… Если бы он краем уха услышал об этом… о том, что именно держит нас вместе… Интересно… что бы он подумал… не что бы произошло – просто что бы подумал… самое первое… что придет в голову…
– Написала?.. – судорожно сглотнув, заглянул Марат в ее пустой бланк… – У меня тоже… пусто… Сейчас он вернется, а…
– Иди сюда… – притянула она его через стол…
Стена ливня ходила теперь за окном: туда-сюда. Подоконник гудел двумя нотами: от одной – к другой.
– Пошел… – оторвался Марат от нее… – он в задницу. Пойдем, – потянул ее за руку, – отсюда.
– Как же теперь с Суперменом?..
– Что «с Суперменом»?
– Ну, он так все искусно раскрыл… Если мы скажем, как было на самом деле, прозвучит как издевательство. Думаешь, ему понравится?
– А что он нам сделает?.. Заплатим штраф. За ложный вызов наряда. Только и всего.
– Подожди… Во-первых, не только. Не только и всего. Эти наши показания – лжесвидетельство.
– Вот! Вот! И вот!.. Спички есть? Зажигалка?..
– И как три поросенка: на луг, в хоровод…
У-у!.. У-у!.. У-у!.. – по подоконнику…
– А! Тебе все это дорого! Понимаю…
– Что? Что мне дорого?
– Отдирание корки от раны.
– Я… я говорю во сне?.. – подняла Анна глаза на Марата. – Мы ведь ни разу не спали. Даже на острове.
– А называется так… Ты что, все-таки пишешь?..
– У меня чувство, что он на нашей стороне. Безопасен.
Выждав какое-то время, Марат составил вместе разорванные куски своих свидетельских показаний и, вздохнув, взял со стола ручку.
– «Вот! Вот! И вот!..» – это на восемь частей… – вновь зазвучал в кабинете женский голос… – А частей – четыре. Последнее «вот» – только вслух, а не на деле: четыре, оставшиеся неразорванными, части. Довольно легко сложить вместе. Практически, как со мной, с женой и с… отцом Дарьи Денисовны: сложишь – все четверо снова вместе. Со всеми – сразу. С ней – из-за внешности. «Внешние данные…» Со мной… со мной – известно из-за чего… Беда не в этом. Я понимаю: по-другому не будет… не было бы… Беда в другом: что́ если того, чем он живет в этих своих мечтах, в этом одном на двоих воображении, – нет, не существует. И остается только это – разорванные и составленные вместе части якобы целого. Не в том, что разорваны и составлены, – в том, что якобы целое. Беда. В том, что только это целое и есть, только оно и существует. И больше ничего. Не моя беда – его. Его мост. Его перила. Помешательство – всего лишь то, за чем он прячет свой страх – страх безосновательности мечты…
– Не верит… – на полуслове прервал он ее монолог (так же, как прежде, уставившись в бланк)… – Уступает нашему одному на двоих воображению только ради меня. Зачем я ей? Зачем ей эта уступка? И не ближе ли она к этой самой моей мечте, чем я сам? Не к мечте-фантазии – к мечте-откровению. Что́ если человек – только то, что в Евангелиях, только таким и замыслен? Музыка, текст. Она – мелодия, я – слова. И каждое исполнение – сочинение к следующему. Но не связанное с музыкой и словами – не достигается… Музыка и язык. Вот и все откровение. И оно – ее мечта, не моя. Тогда меня вообще нет… Я думаю: я и здесь, и там. Во времени и больше чем. Но если нет больше чем – я не могу разорваться, что и означает: меня нет нигде. Ни там, ни здесь. Нет ни Создателей, ни их среды. Я стремлюсь в несуществующее. И при этом не живу в том, что существует. Меня нет… Даже стоящего там, за перилами, в кроссовках, на четверть выступающих над пустотой… Меня. Нет. Что такое эта моя идея? Этот выход вдвоем в над-полярный мир? Копни любую идею – под ней оскорбленное чувство. Гитлер. Ленин. Сталин… Партию, которую хотел основать Дэн, он называл «Партия здравого смысла». Как же еще ей называться? Оскорбленное чувство ищет защиты у смысла. Непременно у смысла… Откуда оно, это самое чувство, оскорбленное? Из зеркала. «Идея все исправит». Что именно? Что исправит? Как-то раз с интервалом в полчаса дважды заглянул в кабинет к Дэну, приоткрыв дверь тихонько… он не слышал… так и не оторвался от зеркальца… Нет. У меня к нему нет претензий. Ничего он мне не должен. Ничего не отнял. Они. Ничего не должны. Пара любителей зеркальца получает любимую игрушку в лице партнера. Красавица и… Бездарность…
– …Вот, значит, как… Стало быть, мое лицо – всего лишь внешняя оболочка, сквозь которую можно… проникать в над-полярный мир. Внешняя оболочка. Мало значащая для него, в отличие от того, куда он проникает (считается: на пару со мной). В принципе… по крайней мере, до известной степени… ему все равно, что это за оболочка – мое лицо и тело. Все эти подробности: я.
– …бездарность заключается, главным образом, в том, что человек занимается не своим делом! Лезет куда его не просят. Дар – сама жизнь. Жизнь, в которую тебя – милости (милостью Божьей) просят: только разгляди, почувствуй, куда! Куда именно. Будь гостем, а не хозяином! Вместо этого прут в гору. И жук, и жаба. Допустим, ты – глиальная клетка. Прекрасная, неповторимая, крайне важная на своем месте, будь оно болотом или дном морским чудесного незримого вселенского мозга. Это твое место – дар, осваивай его, не лезь в гору! Ощути, почувствуй в конце концов: без тебя на своем месте чудесное незримое не столь чудесно, в лучших его мыслях и чувствах есть и твоя составляющая. Без глии нейросеть – ничто… Что́ если и моя идея – не более чем оскорбленное чувство? Я тоже, как все, как большинство, лезу в гору, не чувствуя окружающей меня красоты?.. И лезу – от самого себя, от скрытой травмы, связанной с самоощущением?.. Все это в определенной мере, разумеется, есть. Я же земной. Со всеми земными прелестями. Но не оно, не вульгарное самосознание, движет моим воображением, которое тянется вверх до впечатления, что его тянут. Вот. Вот оно: там кто-то есть. Там что-то есть… А она не видит. Уступает только ради меня…
– Ну вот! Опять! – перебив… не выдержав… схватила она его за руки. – Я не знаю, что означает этот совершенно невозможный твой монолог! Ты говоришь, как будто думаешь вслух! Как будто меня здесь нет!..
– А я тебе скажу, что. Что он означает… – со сжатыми в ее руках своими запястьями поднял он глаза на нее… – Только не он, не мой монолог, а они – наши с тобой монологи: твой – совершенно невозможный для меня, а мой – для тебя (раз ты говоришь, что я думаю вслух и говорю невозможные вещи, приходится верить)… Все это может означать только то, что мы с тобой – в над-полярности. А ты думала: переход будет как-то заметен?.. Никаких совершенно невозможных наших с тобой монологов там, внизу, в кабинете, нет: через какое-то время мы, оставив переписанные начисто показания, покинем его. Но здесь… Здесь мы – в общем сознании, одном на двоих. С виду – в этом же кабинете. На деле же… где? Где мы на деле? Я не проникаю чудесным образом в твою голову, ты не проникаешь в мою: мы сами озвучиваем свои мысли. Но как?
– Как?
– Не осознавая. Не чувствуя, что – озвучиваем. Что – говорим.
– Но мысли же по-прежнему наши.
– Если сознание принять за эволюционную стадию среды (линия, плоскость, объем, движение тела, самоосознаваемость движущегося тела), мы с тобою сейчас в следующей эволюционной стадии – в общей, одной на двоих, осознаваемости.
– Но мысли же наши.
– Мы сейчас не просто думаем, а озвучиваем все что думаем. Не чувствуя этой озвучки. Считая, что по-прежнему думаем молча. В итоге, то, что у нас здесь… внутри… – постучал пальцем по лбу Марат… – то что внутри – оно же и снаружи, мы его слышим: ты – мое, я – твое… Мысли – наши, да, но в одном на двоих мыслительном поле, в едином пространстве. Оно вытягивает их из нас. В себя. Оно их знакомит. Оно их, ошарашенных, успокаивает, приноравливает, притирает друг к другу. Можно ли оторвать наши мысли от наших же тел?.. От наших ощущений, памяти, ожиданий?.. И значит, оно… понимаешь? – оно!.. – делает из нашей индивидуальности – телесной, мыслительной, чувственной – что-то, что ее, эту индивидуальность, высвобождает, преобразует… что-то, что ее превосходит… Давая линии свободу существования, плоскость находит эту свободу для себя самой где? – в объеме. Движущееся живое тело прозревает куда? – в осознаваемость. А освобождение наших мыслей вот из этого… – то же самое его тук-тук-тук пальцем себе по лбу… – из этой тюрьмы, из одиночной камеры – это… Знаешь, я все думал, ка́к это: человек – существо социальное? Как это? Маугли – понятно. Но взрослый – ?.. Что же, Робинзон – не существо?.. Робинзон – часть существа. Мы с тобой – части существа!..
Марат рассмеялся.
Глядя на него, она вяло улыбнулась.
– У Джойса: человек умирает, бессвязная речь, мысли путаются, человек бредит: «Бред: все что ты скрывал всю жизнь». Бред – это когда вот так: бессвязно и напоследок!.. Это бред. Да. Когда же вот так… – указал Марат на нее и на себя… – когда вот так, как сейчас, тогда все, что до этого, было – бред! Было бредом. «Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных.» Алмазов пламенных. В лабазах! В лабазах. Вот в этих… – хлопнув себя по лбу, снова рассмеялся Марат… – В этих самых… «Все что ты скрывал всю жизнь.» Зачем? Зачем набивать угол потемнее тем, что скрываешь всю жизнь. Всю жизнь эти двое: ты на свету, и ты в темном, непроницаемом ни для чьих глаз, углу. Один и тот же ты. И там, и там. Можно это понять?.. Но так живут. Именно так и живут. Все и всегда. Хорошо. Допустим, то, что на свету, – для всех, для жизни общей, общепринятой. Но для чего тогда то, в темном углу? Для кого? Для кого-то всесильно-таинственного, этого будущего тебя, который перевернет этот мир или найдет себе новый? Для кого оно там копится? Кому предназначено? Не себе же, в конце концов… Не себе, а самому́ темному углу! Который – что? Что он?.. Кладовка. Все, что там, в кладовке, накоплено, понавалено, понаставлено, служит одной-единственной цели – скрыть это все, убрать от постороннего взора. Скрыть твою собственную природу, природу клетки чудесного вселенского мозга. Если ты – главный нейрон, один из избранных, яркая звезда небосклона, то и скрывать почти нечего. Моцарт, Пушкин, Эйнштейн… Все равно ничего не скроешь. Если ты звезда. Твой же свет тебя выдает с головой. Когда же ты – болотная глиальная клетка: вот он – небосклон со звездами над тобой… а там, в стороне – темные купы деревьев… и бог весть о чем шуршат в сторонке загадочные камыши… – ты или растворяешься во всем этом, принимаешь все это с благодарностью за то, что ты есть, что ты все это видишь, слышишь и являешься частью всего этого… или отвергаешь себя болотного и рвешься в звезды. У глиальной клетки, рвущейся в нейроны, кладовая – все ее болото, вся ее истинная природа, которую не изменить. Чем объемнее то, «что ты скрывал всю жизнь», – тем больше ты не тот, за кого себя выдаешь.
– Ты считаешь: одно на двоих сознание… – подала голос Анна… – ну, то, что у нас сейчас… из не тех, за кого мы себя выдаем, делает нас теми? Каким образом одно на двоих наше с тобой сознание устранит наши, как ты их называешь, кладовки?
– Мы сами. Сами их устраним. Уже устраняем. Начали. Устранять. Ты разве не чувствуешь? В одном на двоих темнота невозможна: перегородки, кладовки – не предусмотрены. Вот таким именно образом. Вот таким. Естественно-природным. Как я знаю все в твоем теле, скрываемое тобой ото всех, так и…
– Это ужасно.
– Это ужасно непривычное преодоление ужасной привычки. Ужасной человеческой привычки прятать украденное.
– «Отдирание корки от раны»… – украденное? – сбитая с толку его чувствами, сказала Анна то, что прежде никогда б не сказала.
– Украденное – это то, что не существует всего, что я себе навоображал. Тобой украденное. А мной – что тогда меня нет… Чёрт у Бога. Украл. А мы передали. Из рук в руки… Украденное – это разбираться в конъюнктуре, моде, брендах, тачках, дачках, собачках, прикиде (прямиком от слова «прикинуться»), встречать и быть встречаемым по одежке. Престиж, царящий везде и во всем, самоуверенность, значимость, основательность – украденное. Цацки-бряцки, званья без призванья. Сделать себе имя. Создать лицо… Сделанные «имя и лицо» (истинные их не устраивают)… Украденное – это бездарность, то есть занятие не своим делом. Бездарь может издать себя вместо книг рожденных поэтами или учеными, занять предназначенную им квартиру, кабинет, лабораторию, украсть рожденную для другого жену и лишить одаренную личность потомства. И все же есть нечто, чего нельзя отнять. Есть место, бездарности не по зубам. Не дом и не кабинет. Это место – весь мир.
– У тебя отняли дом с кабинетом?..
– И поэтому я придумал над-полярный мир в одном на двоих воображении?.. У меня никто ничего не отнимал. Дом? Ты – мой дом. Кабинет? Это смешно. И главное: я ничего не придумал. Никакого нового мира. Мир один. Мы с тобой сейчас в новом измерении, но того же самого мира. Стол. Окно. Дождь. Эти вот листки на столе. И мы. Не замечающие, что мыслим вслух. Не замечающие… Не заметить… Разницу между собой говорящим и слушающим. Между собой и якобы не-собой. Это всегда так.
– Как?
– Подъезжая к ментовке, не представляешь, что через полчаса мечта станет явью: мечта всей твоей жизни… Прожив на свете пару-тройку лет, не знаешь, что через минуту бесповоротно осознаешь себя в этом мире… А на седьмом-восьмом году жизни понятия не имеешь, что через мгновение бессмертие навсегда уничтожится ужасным сообщением о смертности родителей и тебя самого… И наоборот: ожидание чудесной метаморфозы – от потери невинности, установленного тобой рекорда или свалившегося на тебя с неба богатства – никогда не оправдывается.
– Особенно: от свалившегося богатства.
– Чёрт у Бога. Украл. А мы передали… «Все, что я себе навоображал», – единственная реальность. Единственное реально существующее. Без которого меня… нас с тобой… нет. Полчаса назад еще можно было сомневаться. Но теперь…
– Полагаешь: мы все равно все скажем? Вслух?
– Ты можешь не ду́мать? Ни о чем?
– Я могу думать о чем-то определенном.
– Какое-то время. Какое-то время чёрт еще будет подпрыгивать. Мы – в самолете, он – снаружи, подпрыгивает к иллюминатору. Как в голливудском фильме, не помню, в каком…
Оба одновременно засмотрелись на сиявшее за окном небо.
– А там, внизу, дождь…
– А там, внизу, дождь, – вслед за ним повторила она.
– Что такого… – перевёл он взгляд с сиявшего неба на нее… – в том, чего я не должен узнать? Тщательно скрываемое от меня – что в нем, в скрываемом, позорного… недостойного нас с тобой… чего-то, что никоим образом невозможно озвучить, поделиться…
– Ты правда не понимаешь?
– Ты же сама рассказывала, насколько девочкой была не подготовлена к… пробуждению в тебе природы. Потому что мама обходила стороной эту тему. И это сейчас, сегодня! Что говорить о временах оных!
– Еще о каком… о каком еще пробуждении… я обязана перед тобой отчитаться?.. Знаешь, куда все это ведет?.. К устранению разницы между любовью и этим… – она поморщилась… – «Секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает».
– Знаю, знаю: Вуди Аллен. Читал. Мне другое там приглянулось. Как же это… Ага! «Самые прекрасные в мире слова – это доброкачественная опухоль».
– Тогда как тебя понять? – уставилась она на него. – Если все передается без слов… глазами… о чем мы вообще сейчас говорим?
– Именно об этом. О том, что, в принципе, передается глазами. А надо – не в принципе. А целиком, полностью. Не – намеком, недоговоренностью, не многозначительностью, а – полной осознаваемостью. Мыслью. Словами, обращенными к самому себе, к тому существу в себе, которым и являешься, а не к тому, за кого себя выдаешь (врать себе – согласись, искусство бесконечно изматывающее… «Доброкачественная опухоль», «слова, слова, слова…» – это всё и всегда!.. Но только не в нашем с тобой случае… «Это доброкачественная опухоль» – прямая речь. После двоеточия…
Загустевшая за окном синева навеяла мысли о вечерней прохладе…
– …Осознавая неисповедимость путей Господних вместе с непредсказуемостью человеческих целей и мотивов, – продолжил он, – признавая за человеком право на темный угол, поклоняясь твоей тайне, нашему «чувству неловкости», я считаю в нашем с тобой случае это чувство… эмоцией прячущего украденное. Ты вся со всей своей тайной – это я сам, а у себя невозможно украсть…
– Думаешь, когда мы всё скажем вслух… с нами произойдет… из нас земных выйдет что-то иное, родится что-то новое? Из разговоров ничто не рождается.
– Какой же это разговор? Это обмен сущностями. Мыслями… Откуда приходят мысли?.. Общеизвестно: Вселенная не причиняет тебе болезни и страдания – она лишь реализует твои мысли. А сами-то мысли? Откуда приходят? Наши мысли… Еще не облеченные в форму слов… Что такое это наше воображение?.. Один автор, отвечая на вопрос, будет ли опубликован его новый роман и как скоро, сказал: «Мне все равно. Видите ли, романы – форма существования моего белкового тела. Пока я их проявляю (а я проявляю, и не больше), я существую. И то, что я здесь сейчас отвечаю на ваш вопрос, означает, что в проявке у меня следующий роман». А мне все равно, существу́ю ли я. Какая мне польза в существовании, когда я не знаю, откуда на экран моего сознания проецируется то, что становится моими мыслями. Что за проектор – мое воображение?.. Почему любовь – неловкость?..
– Почему?
– Потому что ее, любви, противоположность – ловкость… Представь: в раю было бревно (деревья не вечны). Сидя на нем, потеряв равновесие, Ева оперлась рукой позади о траву. Потянув, приподнимая, в этом их балансировании Адам нечаянно зацепился… Знаешь, я в детстве не поверил другу, пытавшемуся открыть мне глаза на тайну деторождения. «А как же животные? – мой убийственный контрдовод! – Откуда они знают, что надо именно так?» Зацепился… неожиданно… короче – произошло… Само. Поэтому секс – на бревне (я помню: ты не любишь это слово).
– На бревне?
– А где же? Балансируя, занимаешься своим делом – ловкостью: всё органично, естественно. В отличие от любви, совершенно не твоей, совершенно оттуда же, откуда воображение: допущенный, куда и не мечтал, ежишься от своего вида… Тогда как балансируя – ни о каком своем виде не думаешь – знай себе копируешь ту первую райскую сцену тех, кого можно назвать…
– Отцом-матерью-основателями…
– Ну, да. Прилетели. Первые сюда, на планету. Освобожденные от скафандров, расслабились на солнышке. И генетически помня эту их, с бревном, сцену, мы и воспроизводим ее, и сочиняем, наделив их посадочную поляну райскими подробностями. Не имеет никакого отношения к генам. Сцена. Мы ее обживаем, проникаем в детали – занимаемся самым что ни на есть своим делом. Так нас отвлекают от сути – связи с тем, откуда прилетели они, а значит и мы. Что такое страсть? Это клей. Клей, связующий звенья цепи. Генетической. Только он, клей, и важен для ступающих в связь (ступить в связь), сама же связь, связь звеньев – вне их поля зренья, ценно лишь воплощение первозданной сцены на бревне – балансирование бог весть кого бог весть откуда, разлепленного на два, как бы с разных планет, тела, встретившихся случайно и на минуту и оттого так жадных друг к другу. Тем сильней вожделенный финал – чем дальше эти «бог знает кто» от мысли о продолжении рода: все мысли каждого из них – о планете, населенной их телесными противоположностями… Что такое Толстой? Не кто он? – это известно, а: какова сущность его неудовлетворенности, этой движущей силы всякого сочинителя, наглядней всего проявляемой в плотской ее составляющей? Бордели (городские и в Ясно-Полянских окрестностях)… и брак. В его восприятии: второе – не лучше первого («необходимость для физического здоровья» и «он влюбился потому, что знал, что женится»). В итоге – максимальная неудовлетворенность Толстого, даже и не скрываемая (эти две цитаты – из его «Дьявола»)… Достоевский «совпадение красоты, одинаковость наслаждения» в «сладострастной зверской штуке» и в «каком угодно подвиге» мог почерпнуть из личного опыта… И что такое у них любовь? Что она сделала с Барашковой? Что она сделала с Облонской? Которую судят («корову бы ей, а лучше две») лучше всех знающие, что такое Ромео-Джульетта (читай: дуракаваляние)… И какая такая любовь у Создателя? Плодитесь и размножайтесь? А как насчет греха? Собаки без штанов. «Чего стесняться им, собакам?» Адам с Евой в листьях. Ну, бог с вами: стыдитесь и размножайтесь. Неловкость, стыд: «Бог с вами» – так просто? Нет. Откуда? Откуда они?.. Почему когда любишь – неважно? Подробности неважны. Подробности «пребывания на бревне» и друг друга подробности, подливающие за кадром масла в огонь, – неважны. Масло с огнем – неважны!.. Сериал «Надвое»: раздвоение – долга и страсти… манкость и груз обмана… Это не передается другим способом – только телом, когда, ну… сама понимаешь… и остаешься беспрецедентно один… неслыханно один… и нужно точно знать, с кем остался… (это не я – Спиноза)… И вот, при этом – нас двое. Мы с тобой – он, знающий… Что знающий? Что́ он, один в виде нас двоих, знает? Представь: радиоволны, видеоволны. Их нет, но они есть. Их нет в том смысле, что не видны, не слышны. Но в том отношении, что реальность, достигающая нас и открывающаяся нам в виде радио- и телекартин, существует независимо от того, существуем ли мы, – они есть. Эти картины. В них все дело. И именно об этом – Малдасена с Сасскиндом.
– Мы – телекартины?
– Себя же смотрящие. Самих себя зрители. В одной научной дискуссии после утверждения, что изображение с глазной сетчатки проецируется в зрительную кору мозга как на экран, был задан вопрос: а смотрит кто? Понимаешь? Независимые от того, существуем ли мы, телекартины в виде волн – ответ. Ответ на этот вопрос. Вот с кем остаешься, когда остаешься один.
***
– Марат Петрович?
– Проблемы с показаниями?..
– Нет, там теперь все в порядке… Я здесь затем же, зачем и вы: лучшее пиво в городе, как-никак. Люблю, знаете ли, нефильтрованное.
– Ну, присаживайтесь…
– А вы как же: за рулем… и… – майор кивнул на бокалы Марата Петровича: пустой и полный.
– Я здесь живу. За углом… Как совещание?
– Совещание?
– Ну, да. Я там не спросил. В кабинете. Вчера.
– А почему сейчас спрашиваете?
– Вы вернулись с таким лицом… Что-то серьезное?.. Пейте-пейте, это я так… как говорится, из праздного любопытства…
– В ваших с Анной Валерьевной показаниях… – пригубив из своего бокала и как бы давая высокую оценку напитку, произнес майор… – ни слова правды…
– Как и в ваших словах о причине вчерашнего вызова к вам. И о том, что вы здесь затем же, зачем и я. И о том, что тогда, на мосту, будем только вдвоем, без Анны Валерьевны. «Мы нашли оба трупа», да?.. Со вчерашнего дня я, видите ли, читаю мысли. Если хотите, могу озвучить, любите ли вы действительно нефильтрованное или это издержки вашей профессии: искусство требует жертв. Искусство копания в чужой голове.
– Со вчерашнего дня? – полу-опустошив бокал, уставился на Марата майор.
– Не надо. Не надо так пристально. Она сказала: вы на нашей стороне. Знаете, чем в не столь еще далекие времена это заведение… – огляделся по сторонам Марат Петрович… – отличалось от прочих? Импортом. Жигулевское здесь можно было закусить кубинской рыбой, разрубить которую удавалось только мачетой (мачете, знаете?..), а по великим праздникам в кран поступало чешское «Саки», именуемое публикой соответственно.
– Вас, деликатно выражаясь, ввели в заблуждение. Вероятно, завлекали публику якобы чешским, а на деле эстонским. И называлось оно «Саку» («Саки» – народное прочтение).
– У вас есть мечта? Помимо раскрытия ужасного преступления с запуском шара с моста. Конечно, есть. Мечта – одна. Мы разные без нее. А с ней – одинаковые. Потому вы и на нашей стороне: большинство людей – без мечты, а вы не из большинства.
– Ну, раз мы с вами – избранные… – начал майор…
– …поговорим как избранные, – закончил Марат Петрович.
– Поговорим как избранные. «Много званых, да мало избранных.» Как мне недавно напомнили. Кстати – в одном заведении, которое могло бы вам быть небезынтересным.
– Не забывайте: я уже другой…
– Анна Валерьевна…
– Ну, скрывать это от профессионала вашего уровня – себя не уважать. Вам ведь совершенно до фени летающие Супермены. Вы просто схватили вашим звериным, что называется, чутьем: вот!.. Здесь, в неясностях этой связи, представшей пред ваши ясные очи. И сидите вы сейчас напротив с единственной целью вынюхать.
– Не вынюхать.
– Потому что уже. Вынюхали. Как вам кажется.
– Не вынюхать, а помочь. Все, что я схватил… (каким там? – волчьим?.. чутьем), все мои представления (достаточно приблизительные) о ваших, скажем так, жизненных ценностях наводят меня на мысль о…
– …о том заведении, в которое вам не терпится меня упечь.
– Очень даже терпится. Вполне. Это вам нужно, не мне.
– Где-то я уже это слышал. И тем же голосом.
– Поверьте, нет у меня никакого интереса… ни к шарам, как вы верно заметили… ни к тому, чтобы кого-то куда-то упечь… Дело в том, что я сам недавно побывал в этом заведении… Мечта одна?.. Да?.. И это заведение с ней связано. Одна тема. Одна и та же: мечта… заведение…
– «Заведение»… «заведение»… Я не Ева, а вы не змей-искуситель…
– Это почти согласие. Вы другой, потому что читаете в голове собеседника. А как насчет своей собственной? Почитать себя… Прогуляться. С самим собой. В новой местности. В ином времени года (майор вдруг перешел на стихи):
Все свое передоверив
снегу и зиме,
я гуляю меж деревьев,
но не по земле.
И чем дальше, и чем глуше –
тем они живей:
руки, судьбы, люди, души –
росчерком ветвей:
в небо, в землю, вширь, навытяж-
ку и на весу…
Ты их всех еще увидишь
там, потом, внизу –
добрых, злых – любых… Не выйдет
с этим ничего.
Я уже их всех увидел.
Всех. До одного.
– …А давайте, – прервав молчание, сказал Марат Петрович, – напьемся.
– Пивом?
– Вот сразу видно незавсегдатая. Единственное, чем пиво отличается от водки, – это неверием в то, что наклюкался пивом… По рублю, и в школу не пойдем. То есть, на работу. Как-никак, завтра суббота.
– А по субботам вы как: дома ночу́ете?
– Слушай, давай на «ты»…
***
Автор от бога, зная произведение целиком, открывает в нем лишь то, что считает нужным. Самым проницательным из смотрящих в книгу, на экран или вокруг кажется, что они чувствуют скрытое. Физики-теоретики, например, стараются перевести эти ощущения на язык формул… Важнейшим свойством скрытого является равноценность версий.
Жизнь – сообщение. Но не тебе (велика честь) и не человечеству. Тебе всего лишь дают заглянуть в него. Все что от тебя зависит – прочесть его правильно. Много ли способных на это? На то, чтобы отделить недоданное им в детстве и вылившееся в их потребность в любви – от того, что им могут дать прямо сейчас… уже дают, и получаемое – катастрофа… На то, чтоб посреди пьесы с выхолощенно-бесплодным сюжетом вдруг осознать, что люди, заполонившие театр, вместе с теми, кто на сцене, и всеми причастными к созданию этого действия во главе с режиссером и автором – персонажи игры, перемешавшей галерку с партером и выведшей на сцену и в авторы бог знает кого… Прочесть подобное сообщение, понять, что это значит, к чему ведет, и не потерять голову – это оправдать доверие «письмен египетских» твоей жизни к тебе как к читателю.
Так, и что делать? Что правильно прочитавшему сообщение делать? Кашу есть, немцев бить. «Сейчас глаза мои сомкнутся, / Я крепко обнимусь с землей» (Владимир Семёнович). Вот так просто. Так же просто, как об этом и сказано: «…обнимусь с землей». И всё. Почему? Потому что ты был рожден для этого. Сейчас, за мгновение до этого объятия, ты увидел его изначальную заданность. Понял и принял свою жизнь. Всю. До конца… А тот, кто за хлебом вышел и под машину попал. Тоже прочел сообщение? Понял и принял свою изначальную заданность? Да. Но это же манипуляция!.. Да. Для того, кто так считает. Кто не умеет и не желает читать. Сопоставление этих двух сообщений: объятия с землей в бою и нелепой смерти у своего дома – часть общего, одного на всех… одного обо всех… сообщения. Фрагмент огромной картины. Сообщающей уму своего зрителя (коих всегда и во все времена – единицы) всю его, ума, силу. Открывающей ему эту силу. Что и названо «откровением». Сводящимся именно к этому: жизнь – сообщение.
– …Как я оказался здесь… – возник в дверях кухни Марат… – и где именно?..
– Выспались? – оглядел Панкратов вошедшего. – Мы в моей квартире. Добрались на такси. Вчера, не так чтоб поздно. Судя по виду, все хорошо? Сейчас чай будем пить. Предпочитаете черный, зеленый?
– А как насчет лечить подобное подобным?
– Так то – лечить. А вы, я смотрю, в порядке. Разве что ложку ликера в чай.
– Пойду умоюсь…
Хлопоча над завтраком, Панкратов вспоминал свой вчерашний утренний (ровно сутки назад) звонок и все, что за ним последовало.
– …Слушаю, – после долгой гудковой прелюдии ответили в трубке.
– Добрый день, профессор. Космонавт номер два.
– Хотите предложить космонавта номер три.
– Как вы догадались?
– По этому вашему: «космонавт номер два».
– Я помню нашу с вами, Юрий Григорьевич, договоренность никого больше не посвящать в исследование. Дело в том, что в ходе применения полученной мною от вас…
– Фиговинки.
– …возник непредвиденный момент. Совершенно нетелефонный разговор. Как бы нам встретиться? Много времени не отниму. Найдется у вас пять минут?
Стеклянный лифт.
Стеклянный пол.
Стеклянный стол.
– Хотите привлечь меня за «кока-колы нет»?.. – глава стеклянного кабинета указал на уже известное майору Панкратову кресло… – Другого повода нашей встречи я, честно говоря, не вижу. И чтобы сразу расставить точки над «i» – эта часть разработки под таким грифом, что фиговинке и не снилось.
– Я обратил внимание на загруженность шоссе, – покивал Панкратов. – И заверяю вас, Юрий Григорьевич, что суть ваших открытий не является предметом моего интереса…
– О, – перебил профессор, – вот это можно смело включать в какого-нибудь нового «Фауста»: «Суть ваших открытий не является предметом моего интереса». «Фауст», он же бесконечен. Вот вы, вот я. Как там? – «Мне скучно, бес». Бес, естественно, я… Чай, кофе? Шучу, шучу. Сейчас чай принесут.
– Так не мне.
– Теперь мой черед вас заверять: никаких вивисекционных намерений по отношению к вам у меня нет. Это обычный чай. И через… сколько вы там просили?.. через пять ваших минут вы отсюда уедете. Итак, что и зачем вам нужно? Почему чай – не вам? Время пошло.
– Почему чай – не мне… Как мои дела не связаны с сутью ваших разработок, так, вероятно, и вас не слишком волнуют подробности нашей работы с…
– Фиговинкой.
– Поэтому сразу о главном. А именно: о выявленных различиях в информации – той, что озвучил сам клиент с помощью… фиговинки… и той, что я получил о нем здесь, у вас, в состоянии «глубже обычного и гипнотического сна». Максимально образно говоря, различия эти сравнимы с состоянием тела в гравитации и в невесомости. Если менее образно – на место тела можно подставить сознание. Для практической работы необходимо определить коэффициент, позволяющий из конкретных, самим клиентом озвученных «гравитационных» мыслей выводить «невесомый» образ его мышления. Вычислить этот коэффициент можно только одним способом – войти с клиентом в одно на двоих состояние «глубже обычного и гипнотического сна». Совершить совместное погружение. В подводный мир у Большого Барьерного рифа… Пять минут истекли?..
– Ну… стало быть, так… С одной стороны, вы все равно уже в программе «под таким грифом, что фиговинке и не снилось»… С другой же, «кока-колы нет» – вещь с недостаточно изученным, а потому не вполне предсказуемым действием… Я вижу единственное решение: вашу позавчерашнюю дозу разделить поровну между клиентом и вами… И погружаться в этот ваш мир, разумеется, не здесь. Вы ведь собираетесь использовать его втемную?..
– …Добавили рому в чай? – явился пред очи майора умытый, посвежевший Марат.
– Ты заснешь надолго, Моцарт, – улыбаясь, придвинул к нему чашку дымящегося зелья не собиравшийся делить никакие дозы Панкратов.
Мост
«Все дело – в иллюзорности измерений, этих дождевых стен вероятностей, размывающих реальный источник пары запутанных фотонов. Замыкает же картину взаимодействия реальности и иллюзии – сознание, третий игрок. Каждый из трех – мост между двумя остальными»…
Очнувшись… ничуть не удивившись ни той же комнате, в какой провел ночь… ни (слово в слово) своему же прежнему умозаключению, возвратившему его в день, едва не закончивший на мосту все его мысли… – приняв то и другое за явленное и прозвучавшее в полусне, Марат погрузился в сон настоящий, истинный (краем сознания успев еще ухватить это свое же: «…истинный»)…
…О ком ты думаешь в эти последние дни? – прозвучало в глубине этого сна. – Об Анне? О «так искусно все раскрывшем» майоре? О которых ты теперь узнал практически всё что нужно… Или о том, о ком не знаешь почти ничего? Кто существует не более чем в твоих предчувствиях – в этом тоннеле в реальность…
О нем, да?.. Ты думаешь все эти дни о нем. За двенадцать месяцев до его рождения ты думаешь о нем.
Ну что ж. Фото… Досье…
И то, и другое – как у юбиляров в Фейсбуке – плавно взрослеющее лицо: можно крутить в обе стороны. Тебе ведь нужно не всё? Что-то определенное? Год. Месяц. День.
*
Склонность и склон. Первое без второго…
«За год до рождения» (китайцы прибавляют к дате рождения год)…
Не «за год». Не «за год». За – двенадцать месяцев. Первые три из которых – вечность.
Склонность и склон. Что важнее?.. Все что с вами произойдет на склоне – чего в нем больше: балансировки в не дающем опомниться гравитационном потоке или чувства парения над потоком? Чувства, закладывающегося в эту трехмесячную перед зачатием пустоту. Или не закладывающегося. Что зави́сит от… чего, от кого?.. Не от зачинающих. Поскольку это чувство в самый последний момент может этот самый момент отменить. Не дать выйти на склон не готовой к нему склонности… А может придать склону такой угол, что не опомнишься до самого финального, мордой о снег, сугроба.
Это как у автора от бога. В эти три месяца ты – автор от бога: пишешь все свое будущее как то, что должно было бы быть написано без тебя, как если бы тебя никогда не было. То есть, гениален. В эти три месяца ты гениален. Независим от плоскости, оказывающейся при подлете шаром земной поверхности с уже озабоченной на ней предчувствием тебя парочкой. Которая выбирается из множества вариантов тобой или… Тот же самый вопрос, что и «склон или склонность?».
А ведь нет никакого вопроса. Если осознать, что такое этот текст… то, что вы только что прочли… что сейчас перед глазами. Вашими, разумеется… Осознали?..
*
Нет-нет! Ты застрял надолго, Моцарт… Согласись, пытаться высмотреть минус двенадцатимесячное фото – даже для читателя подобных досье задача неблагодарная. Да, ты в тоннеле. Но ни одного экскурсанта не забудут на входе. Милости просим! Туда, где, отставшего с открытым ртом от самого себя, тебя уже ждут!.. Перелистываем…
*
– Любят не любимую и не свое к ней чувство, а – переживания того, как оно на нее действует. Сумма этих переживаний двоих и есть любовь…
Через приоткрытую дверь родительской спальни хорошо слышно… В прошлое воскресенье там, за дверью, провалялись в постели с утра до ночи (пришлось перехватываться из холодильника), и так же, как сейчас, оттуда было слышно:
– Понимаю теперь Джона Леннона с Йоко… Вероятно, та же проверка возможности оргазма от одних только мыслей… когда, как вот сейчас, просто – рядом… Прости за это слово…
Слоняющаяся растрепанной по квартире тень матери… Всё как у Пушкина… В детстве был таким же увальнем, позже – метаморфоза… Вот только лицей не в Царском, а на дому:
– Чем занимаются учителя в узком и широком смысле этого слова? Распространяют свою дефективность. Свою органическую неспособность не то что понять – узреть очевидное. Биологи, философы учат чему? Тому, что сами способны углядеть. В упор не видя серпантин сходящихся-расходящихся генетических цепочек с естественным отбором удачных версий при полном впечатлении решающей роли не генов, а гениев в прогрессе цивилизации. Тогда как этим самым прогрессом заведует совершенно другая епархия, которая рано или поздно передаст бразды правления самому́ вышедшему на мощные генетические версии серпантину, возложив это самое развитие и отбор версий на нейросеть – но не человека, а человечества, и переведя эти дела в виртуальный формат. Необходимость реального размножения, производства материальных субъектов отпадет. Что лишь ускорит выращивание удачных виртуальных комбинаций. Чувствуете, как прямо сейчас в этой комнате заканчивается история человечества?..
И все это – на диване, с двух сторон обхватив нас с мамой за плечи.
– Почему, папа?
– Квантовая физика где-то там далеко впереди видит человеческий разум не зрителем звездного неба и всего лишь решателем уравнений, как сейчас… а силой, вливающейся составной частью в переплетенную сеть запутанных подсистем, образующих Вселенную. У человека нет другого пути, кроме как стать, в самом прямом смысле этого слова, разумной физической силой, ипостасью всей этой виртуальности, которую мы с вами пока еще делим на свой внутренний и «не свой» (в кавычках) внешний мир. Но если так, то что?..
– Что?
– …Если так, то там, в переплетенной сети запутанных подсистем уже есть разумная физическая сила, формирующая всю Вселенную, включая нас на этом диване.
– Откуда она там, папа?
– Всмотримся в звездное небо: неужели наша заброшенная на край света планета – авангард всего сущего, всей жизни?
– Вселенную и нас на диване создают опередившие нас инопланетяне? Да, папа?
– Лучше представить дело таким образом, что опередивших или отставших нет. А есть само себя сверху донизу формирующее начало, отвечающее за все то, во что пытается проникнуть наша земная квантовая физика… (это сверху) и генетика… (это донизу). А я их сейчас, – отец прижал нас к себе, – связую.
– Ты совсем его задурил.
– Папа, папа, а «другая епархия»? А «заканчивается история человечества»?
– Молодец. Связуешь. Так и надо. Всегда возвращайся к тому, с чего начал, замыкая круг и пронизывая все, что внутри него (принцип формирования Вселенной). Замыкаем. Пронизываем. Видите ли, дорогие мои… несмотря на то, что, нас, сидящих сейчас на диване, создает все сверху донизу формирующее начало… несмотря на то, что каждый из нас троих – не более чем генетическая версия, звено серпантина, выращивающего разумную физическую силу – ту самую, что вливается в формирующее нас начало… чувствуете: круг замкнулся?.. так вот, несмотря на все это, существует возможность того, что…
– Какая возможность, папа?
– Возможность не «заканчивать историю человечества»… а самым натуральным представителем этого самого человечества проникнуть сквозь «другую епархию» сразу в душу всего замкнутого круга. В любой момент. Прямо сейчас. Оставить диван… покинуть свое место во времени и серпантине… и оказаться в лаборатории по производству самих, сверху донизу, себя…
…в этот же самый «любой, прямо сейчас, момент» подступившие с папиной стороны к моей голове чудеса отхлынули… я понял, что в следующую секунду услышу (уже начинаю слышать): «Общая, одна на троих, мыслительная среда»… и меня переклинило… не знаю, от чего больше: от «общей мыслительной среды»… или от самих, только что бывших чудесными, мыслей, спущенных (как я вдруг это узрел…) с цепи, чтобы найти свой источник.
*
Экскурсия – не осмотр достопримечательностей дикарем-туристом. Проблемы с ногами, с желудком, с головой – оставить дома. Тем более, когда речь о пребывании в тоннеле.
Мы все еще в тоннеле?..
Вперед! Перелистываем…
*
– И как ее зовут?
– Я рассказал о том, что Ромео и Джульетта, прыгнувшие в построенную каждым из них черную дыру из запутанных частиц, попадают в общее нутро, где встречаются уже не в пространстве-времени, растягивающем исходный фотон на два запутанных – Ромео и Джульетту.
– А она?
– Слияние двух воображений, сказал я, открывает, каким образом из одного и того же произошли эти разные двое. Становятся видны пути разделения неразделяющегося и то, как через это «разделенное неразделяющееся» исходное целое достигает своей цели. А она: которая нам хорошо известна. Цель.
– И ты сдался.
– Я сказал, что цель – не продолжение рода, а желание перейти в иное «я», стать разумной физической силой, что можно сделать, объединив воображения. А если нет – тогда мы лишь подопытные экземпляры в лаборатории по выращиванию продвинутых генетических версий.
– Сядем… – усадил нас с мамой папа все на тот же диван, оказавшись, как всегда, посередине, между нами… – Понимаешь, этот ваш разговор – он снаружи. Ты говоришь ей о том, что внутри, но при этом и ты, и она – снаружи… Ты никогда не спрашивал, но я чувствую этот твой вопрос: как мы с мамой оказались… там, где оказались?.. Я тебе расскажу… Однажды, еще до твоего рождения, как говорится, когда тебя еще в проекте не было, и даже раньше… мы с мамой, проходя свидетелями по одному делу, письменно излагали обстоятельства происшествия, одни в кабинете следователя. И там… произошло… мы вдруг осознали, что мыслим вслух. Думаем не как все, не как обычно, про себя, а – вслух, и не замечаем этого. Слышим мысли друг друга, а как озвучиваем свои – не чувствуем. Но люди ведь не могут не думать. Не говорить могут. А не думать нет. И вот все, о чем мы с мамой думали, оказалось в общей, одной на двоих, мыслительной среде… Никакого чуда: позже выяснилось, что в столе у следователя работало устройство, незаметно для думающего подключающее к мыслям голосовые связки. Только и всего… Но чудо все-таки произошло: побывав в том кабинете в общем мыслительном поле, мы с мамой не смогли не вернуться в него. Уже добровольно. Без всяких устройств. Вот так мы оказались там, где оказались.
– А у тебя…
– Нет. У меня этого устройства нет. Да и если бы было… Мы с мамой были тогда уже взрослыми сложившимися людьми, каждый с неудачным за спиной браком. Как ты себе представляешь юношу с девушкой… практически в возрасте Ромео и Джульетты… излагающих друг другу ВСЕ свои мысли?
– Ну… В фильме этого… Дзеффирелли… они же излагали, когда…
– Они излагали пригодное для изложения. И «когда» – тоже. Там, утром, они говорят о сгустившихся над их головами тучах: «Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. – Побудь еще. Куда тебе спешить? – Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой»… Говоря о невозможности для них озвучить ВСЕ свои мысли, я не имею в виду не озвученное юношей: «Какие буфера!..» – папа взял маму за руку, и она промолчала… – Я о другом… Представь… что Ромео – это ты. А Джульетта – девушка, так же, как и ты – с детства в одной мыслительной среде со своими отцом и матерью. То есть для тебя и для такой твоей Джульетты существует возможность изложения друг другу ВСЕХ своих мыслей в силу того, что именно так вы и живете в своих семьях.
– Враждующих?
– Это как раз неважно. Ты не слушаешь. Раз задаешь такие вопросы. Такая, как наша, жизнь в одной на троих мыслительной среде – что она? Опыт чего? Вот о чем надо думать. Полученный тобой и Джульеттой опыт такой жизни – это один и тот же опыт или он различен? Если один и тот же, тогда и ты со своей Джульеттой – одно и то же, при всех различиях. При всех. Ваших. Различиях. И чувство в каждом из вас – это чувство неким единым целым – двух своих версий с присутствующе-отсутствующим между ними магнитом, то есть удовольствие вина от пребывания одновременно в двух сосудах…
– Марат…
– Мы аккуратно… – вновь взял отец мамину руку в свою. – И главное здесь – не версия этого чувства в каждом из вас, а ощущение… каждым из вас… ощущение себя тем, кто чувствует себя этими своими версиями. Переход вина из двух сосудов – в вино вообще. «– Как мы здесь оказались?.. – вот начало ВСЕХ ваших мыслей… – И каким образом, прежде чем оказаться здесь, могли мы быть там?» – оглядываясь, оба вы чувствуете нечто обратное изгнанию из рая: то что было у изгнанных позади – именно то, где теперь вы, а впереди у них, тех – одиночество (именно эта, а не какая иная, беда… именно разделение общих мыслей и чувств во всеразделяющей среде). Возвращение в рай – вот что происходит с вами сейчас. В рай, то есть, куда? – в то начинающееся и кончающееся не вами, чему вы принадлежите больше, чем видимому и осязаемому… в чем та нелепость, с какой ваше истинное начало соединено с вашим телом, манерой, жестом, не значит ничего в силу царящего здесь безразличия к плотскому существованию. Эта райская необязательность имеет свою изнанку – местность, что перед глазами «херувима с пламенным мечом обращающимся» («каким образом, прежде чем оказаться здесь, могли мы быть там?..»).
– …Откуда теперь вернулись к «древу жизни» – в изначальность Адама и Евы…
– …В это измерение… – подхватил папа… – потерянное большинством людей, извративших свой путь на земле, привязавших себя к пейзажу, к «ящику» с бесплодной в нем цепочкой событий, как в насмешку именуемой жизнью… Потерянное измерение, в котором двое извлекают друг друга из космоса своей противоположности: ощутить свою глубину можно лишь не своим телом, свое тело собственными чувствами не откроешь. И это новое чувство есть взаимное голографирование светом вашего источника через пластину – в вас: ее, являющуюся твоим источником, – в тебя, тебя как ее источник – в нее: процесс, осуществляемый некой исходной неразделенной парой, исходным фотоном, через выдумывание пространства-времени становящимся парой фотонов запутанных.
– …Но я запутан не с Джульеттой… – услышал я, как в тумане, свой собственный голос… – а с вами: с мамой и с тобой. С двенадцатого по девятый месяц до своего рождения я был непрерывным вашим диалогом. Если бы не это, тогда то, где вы с мамой, по твоим же словам, оказались, представлялось бы мне палатой умалишенных, в которую я по многу раз на протяжении дня захожу и из которой выхожу с чудесным образом неповрежденным рассудком. Я – ваш диалог. И весь вопрос не в том, смогу ли я когда-нибудь встретить девушку, так же, как и я, с детства в одной мыслительной среде со своими отцом и матерью… а в том, могу ли я без вас. Существую ли… И уже воображаемый вами мрак моего ко всему этому отношения – настолько же ниже нас с вами, насколько и мое, слава богу, невозможное представление о нашем уютном семейном гнездышке как о доме скорби, – пересев в середину, я взял родителей за руки. – Поэтому даже не начинайте. Я по-настоящему счастлив.
*
Большая удача иметь в своем распоряжении экскурсанта понятливого, не донимающего вопросами, не отстающего, а едва ли не обгоняющего, заглядывая в рот. Вперед! Перелистываем…
*
Откуда воображение?..
Откуда все остальное – более-менее ясно: световой луч, «срисовывающий» в «воздухе» с образной плоскости голограмму Вселенной… Но ведь это только кажется, что мысль – рефлексия, ответ нарисованного голографического человечка на возникающую вокруг голографическую реальность. Реальность эта изначально включает в себя сознание, и они – сознание вместе с реальностью – в итоге выражаются текстом. Вопрос: кто и зачем его создает?
В моем случае текст этот – диалог, начатый моими родителями за год до моего рождения. Диалог, изначально не замечающий «говорящих», которым казалось и продолжает казаться, что это они, они сами игнорируют голографическую составляющую бытия. Тогда как игнорируют – их… Он сам себя пишет. Этот текст, этот их роман-диалог со мною на острие луча. Я и понятия не имел, куда он вырулит, к чему ведет. Он живой. Их роман. Я – лишь световое перо, которым все это пишут. Два этих вопроса: «откуда воображение?» и «кто и зачем создает реальность, которую можно назвать художественной?» – сливаются в один: «Зачем Мировому художнику это меняющееся (возникающее и исчезающее) расстояние между кончиком кисточки и полотном, это пустое место – я?». Вот и все воображение. Вот и весь во мне нескончаемый диалог этих двоих в лаборатории по созданию самих себя…
– Что ты застыл?.. – негромкий Джульеттин голос здесь, наверху, слышен, как в звукозаписывающей студии (в которой я никогда не был… «как в звукозаписывающей студии» – не мои слова). – Ждешь, когда исчезнешь из пейзажа?..
Спустившись со своего обрывчика, она поднимается на мой, где я встречаю ее этим моим:
– Красота…
Обнимая взглядом обе открывающиеся с высоты моего положения вещи – вид уходящих вдаль возвышенностей и приближающуюся парочку возвышенностей в вырезе блузки, стараюсь понять, о чем я: один пейзаж навсегда теперь связан с другим.
– Ну, будет, будет… – гладя мою голову, пытается она оторвать меня от возвышенного. – Мы оба знаем… Мы же оба знаем… Для кого она в этой неподходящей местности, чья она, не надо стаскивать… и все остальное чье… да, да: «какие буфера», я помню… Пойдем туда: оттуда – что-то невероятное.
Я подхватил ее… она… мы подхватили друг друга вот перед этим самым («откуда – что-то невероятное») пейзажем в сгоревшем назавтра Манеже, в тот же вечер оказавшись в номере сгоревшего через неделю отеля. Три дня назад переваливший через вот эти горы и даже, кажется, в этом самом месте, лайнер (дай бог ему долгих счастливых лет полета) приземлил нас глубоко внизу, но и сюда, к оригиналу манежной копии (понятия не имею, что́ «и сюда»: пишет себя сам – пусть сам и пишет)…
Что-то такое она, видно, почувствовала (все-таки итальянка). Если есть такое как я, почему не быть кому-то, кто это чувствует? Кошки с ночью в глазах, в нее же и исчезающие. Нормальные на свету. С мгновенным отторжением всего не своего…
А Джульетта – настоящее имя. Фамилия, правда, чуть не Монтекки. Мама русская. Разведены.
Спускаясь в шале, на входе в деревню я поймал на себе пару-тройку нечитаемых взглядов.
– Селение, случаем, не Эммаус?
Улыбка осветила ее обращенное не ко мне лицо.
С «черного», прямиком на второй этаж, хода вся половина шале была в нашем распоряжении, за исключением небольшой части (вероятно: кабинет, спальня), готовившейся на выходные принять ее отца (как я узнал, потянув ее именно к той двери и получив мягкий категоричный отпор, завершившийся поворотом в замочной скважине ключа с перемещением его в карман вязаного кардигана, который она накинула в доме, чуть не сказал: «нашем»).
Длительность обычных долгих ее на меня взглядов здесь, в комнате-студии, освещенной сейчас предзакатным солнечным светом, потеряла всякие рамки: что бы она ни делала у барной стойки или перед камином (на правах гостя отстраненный от всего, я должен был внимательно наблюдать за тем, как «все это» делается… внимательно до ощущения ожидающего меня экзамена по «всему этому»…), что бы она ни делала – ее один бесконечный взгляд не отпускал меня ни на секунду… Видишь?.. Вижу… – и зрение замирало на грани реальности и воспоминания. В какие-то мгновения глаза ее теплели от начинавшей удаваться мне роли себя настоящего. С ней настоящей. Тогда тепло от камина и бокала перебивалось теплом ее плеча и… и снова мы были друг от друга на расстоянии.
