Троцкий: Жизнь революционера
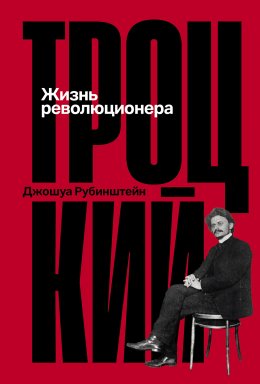
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Максим Коробов
Научный редактор: Александр Резник, канд. ист. наук
Редактор: Пётр Фаворов
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Казакова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Татьяна Мёдингер, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Joshua Rubenstein, 2011
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Ничто великое в истории не совершалось без фанатизма.
ЛЕВ ТРОЦКИЙ
Предисловие
Лев Троцкий не исчезает из нашей исторической памяти. Выдающийся революционный деятель и искусный писатель, Троцкий был движущей силой потрясений, которые в значительной степени определили политические контуры XX в. Еще в юности он погрузился в деятельность антицаристского подполья и с тех пор ни разу не изменял делу революции. Он вел организационную работу, писал и распространял воззвания и статьи, был сослан в Сибирь, бросил свою первую жену и дочерей – и все это ради борьбы с глубоко консервативной монархией. Но, реализовав свою мечту и став, вопреки всем препятствиям и прогнозам, одним из руководителей победившей революции, он усвоил те же самые методы, к которым прибегал преследовавший его режим.
В отличие от некоторых других биографов Троцкого, прежде всего от Исаака Дойчера, я изучал его жизнь не как поклонник или последователь. В то же время я не стремился бичевать его за личные недостатки – реальные или мнимые, – что, как мне кажется, было задачей недавно вышедшей биографии Роберта Сервиса. Осознавая мужество, проявленное Троцким позднее в его противостоянии со Сталиным, и глубокие страдания, выпавшие на долю его самого и его семьи, я не был очарован тем революционным порывом, с которым он боролся с Временным правительством в 1917 г. и бросил Сталину вызов из изгнания, где возобновил усилия по свержению диктатора. Троцкий прекрасно понимал, что Сталин занят созданием режима, при котором социализм служит лишь вывеской, скрывающей его подлинные бесчеловечные намерения. Троцкий осознавал и опасность, порожденную двусмысленной реакцией Сталина на возвышение Гитлера, когда Кремль не стал настаивать на сотрудничестве Коммунистической партии Германии с немецкими социал-демократами в противостоянии нацистам. Он был одним из первых, кто смог предвидеть катастрофические последствия гитлеровского триумфа для таких же, как он, европейских евреев, а также то, что Сталин пойдет на соглашение с Гитлером в случае, если попытки переговоров СССР с западными демократиями закончатся неудачей. Но он так и не признал, что на нем, как и на Ленине, лежит ответственность за то пренебрежение демократическими ценностями, которое вскоре будет использовано Сталиным в его собственных зловещих целях. Троцкий настаивал, что они с Лениным хотели установить диктатуру другого типа.
История полна подобных трагических героев. Они мечтают о справедливости, а затем сеют разрушение и хаос.
ГЛАВА 1
Молодой революционер
Мир навсегда запомнит его как Льва Троцкого, но при рождении его звали Лев Давидович Бронштейн. Он родился 26 октября 1879 г. На юге Украины, неподалеку от города Херсона. У его родителей, Давида и Анны Бронштейн, было восемь детей. Лев был их пятым ребенком и третьим по возрасту из тех, кто выжил; четверо других умерли во младенчестве от дифтерита и скарлатины. Бронштейны не были типичными российскими евреями. В отличие от большей части пятимиллионного еврейского населения, которая под властью царя была вынуждена жить в черте оседлости – на территории, включавшей значительную часть современных Белоруссии и Украины, – родители Льва жили на хуторе, рядом с землей, которую отец Давида начал обрабатывать в 1850-е гг., после того как уехал из Полтавы в одно из поселений еврейских колонистов, созданных указом царя Александра I в первые десятилетия XIX в. Большинство российских евреев обитали в небольших городках, на задворках культурной и социальной жизни империи, а их повседневное существование было стеснено множеством юридических ограничений, низводивших их до статуса граждан второго сорта.
В 1879 г. царь Александр II еще уверенно восседал на престоле, но этот год ознаменовался драматическим поворотом и в судьбе российских евреев, и в борьбе против династии Романовых. В самом начале своего царствования, вслед за поражением России в Крымской войне, Александр II осуществил целый ряд важных реформ, включая отмену крепостного права в 1861 г. В 1850-е и 1860-е гг. были приняты законы, отчасти смягчавшие давние административные ограничения, наложенные на российских евреев. Царь покончил с принудительным призывом малолетних евреев на военную службу, расширил право евреев на проживание ближе к границам Польши и Бессарабии, дал преуспевающим еврейским купцам новые возможности селиться в крупных российских городах и – по крайней мере, юридически – разрешил принимать на государственную службу по всей империи евреев с университетским дипломом.
Всех этих изменений оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить радикалов, а евреи по-прежнему оставались беззащитным и преследуемым меньшинством. 26 августа 1879 г. подпольное оппозиционное движение «Народная воля», ставившее своей целью насильственное свержение монархии, провозгласило намерение убить царя. Уже в ноябре была предпринята попытка взорвать императорский поезд. Месяцем позже, 21 декабря, в отдаленном уголке Кавказа на свет появился Иосиф Виссарионович Джугашвили, который в годы революционной молодости выберет псевдоним Сталин.
Россию, в которой родился Лев, по-прежнему будоражил «еврейский вопрос». За семь месяцев до его рождения российские евреи были потрясены неожиданным обострением. 5 марта 1879 г. в грузинском Кутаиси перед судом предстала группа евреев, обвиняемых в ритуальном убийстве крестьянской девочки. Она пропала в апреле 1878 г., в канун еврейской пасхи, а через два дня была найдена мертвой. По заключению судебного медика, девочка случайно утонула, но полицейские, убежденные в том, что сама дата исчезновения и странные раны на ее теле и руках указывают на преступление, арестовали девятерых евреев из близлежащей деревни. Процесс над ними был первым судом по обвинению в ритуальном убийстве на территории Российской империи за всю ее историю, и, хотя подсудимых в итоге оправдали, это дело привлекло к себе пристальное внимание общества, спровоцировав, помимо прочего, организованную кампанию в крайне правой печати, стремившейся придать правдоподобие версии обвинения.
Даже Федор Достоевский, прославившийся своим состраданием к униженным и оскорбленным, поддался массовой истерии вокруг Кутаисского дела. Он был настолько одержим евреями и «еврейским вопросом», что включил упоминание ритуального убийства в свой последний роман «Братья Карамазовы», который закончил в ноябре 1880 г., за несколько месяцев до смерти. Кроме того, Достоевский выступал с нападками на евреев, живущих как в России, так и в целом в Европе. По его мнению, именно евреи несли ответственность за пороки капитализма и угрозу социализма. Писатель пришел к выводу, что России не следует со снисхождением относиться к ее еврейскому меньшинству.
Давиду Бронштейну не могли помешать ни отдельные вспышки антисемитизма, ни общая подозрительность в отношении евреев. Он проявил замечательную предприимчивость, сначала выкупив хутор под названием Яновка у его предыдущего владельца, а затем постепенно расширяя свои угодья путем приобретения новых участков или аренды их через подставных лиц после того, как в 1881 г. были ужесточены ограничения на право евреев владеть землей. Яновка была отдаленным хутором, располагавшимся почти в 25 километрах от ближайшего почтового отделения и в 35 километрах от железнодорожной станции. В какой-то момент под управлением Бронштейна находилось почти 1200 гектаров. Ему принадлежали стада коров и овец, ветряная мельница и гумно; он выполнял молотьбу и помол зерна для множества местных крестьян. Кроме того, он владел кирпичным заводиком, и изготавливаемые там кирпичи украшало его именное клеймо. Даже в наши дни в Яновке и окрестностях можно найти здания, на стенах которых читается слово «Бронштейн». Троцкий с грустью вспоминал, как тяжело работал его отец, чтобы добиться благосостояния: «Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх». Но сосредоточенность родителей на работе отражалась на эмоциональном состоянии их детей: «Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекатывались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы».
Давид был неграмотен, и Троцкий вспоминал, что его родители говорили «неправильно, на смеси русского и украинского языков», из-за чего Лев поначалу испытывал трудности в школе. По словам Троцкого, они не говорили на «жаргоне» (то есть на идише), хотя 97 % российских евреев в то время считали своим родным языком именно идиш.
Эта часть Украины все равно была гораздо более еврейской, чем могло показаться поверхностному наблюдателю и чем позднее был готов признавать Троцкий. В своих воспоминаниях он пишет, что там имелось «около сорока еврейских земледельческих колоний с населением около 25 000 душ». По словам Троцкого, его отец любил во всеуслышание заявлять о своем атеизме и иногда даже насмехался над религией. Мать Троцкого, хотя и не соблюдавшая традиционных обрядов, предпочитала по субботам воздерживаться от шитья или другой мелкой работы, а также от поездок в город, где ее могли увидеть другие евреи. Троцкий не говорит об этом прямо, но на соседних хуторах и в городе должно было жить довольно много евреев, раз его мать чувствовала подобное стеснение. Пока дети были маленькими, супруги Бронштейн ездили по праздникам в расположенную неподалеку синагогу. Но по мере того, как благосостояние семьи росло, а дети становились старше, их религиозность ослабевала.
Когда Льву исполнилось семь лет, родители отправили его в соседнюю колонию Громоклей, где он поселился у родственников – дяди Абрама и тети Рахили. Там он пошел в свою первую школу – еврейский хедер. Он изучал арифметику и научился читать по-русски; ожидалось, что он будет читать Библию на древнееврейском, а затем переводить отрывки из нее на идиш. «Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, – вспоминал он, – так как не говорил на жаргоне».
Увидев кусочек большого мира, он познакомился с реальностью более суровой, чем та, которая была ему привычна в родном доме. Громоклей был расположен среди других еврейских и немецких поселений. Однажды Лев стал свидетелем того, как толпа с проклятиями прогнала из еврейской колонии молодую женщину, которую подозревали в распущенности. «Эта библейская сцена запомнилась навсегда», – позднее писал он (через несколько лет его дядя Абрам женится на этой самой женщине). Лев заметил, что дома евреев представляют собой разоренные избушки с ободранными крышами и тощими коровами, тогда как соседние немецкие поселения были чисты и благоустроены. Эксперимент с местной школой закончился неудачей: не прошло и трех месяцев, как Лев вернулся домой. Очевидно, двойственное отношение его родителей к иудаизму не позволило Льву проникнуться за время учебы в хедере религиозным чувством.
Тем не менее Лев был смышленым ребенком и стремился к знаниям. Вернувшись домой, он принялся читать все книги, которые попадались ему под руку, выписывая целые абзацы из них в свой блокнот. Еще он помогал отцу вести бухгалтерию, демонстрируя при этом талант к обращению с цифрами, благодаря которому его жизнь могла бы пойти по совсем иной дороге, чем та, что готовила для него судьба. Проводя все время на хуторе и поблизости от него, он знакомился с сельским хозяйством и с крестьянами. Особенно его очаровал один из работников – машинист Иван Гребень. Гребень показывал Льву инструменты и объяснял, как работает техника. Кроме того, Гребень пользовался уважением у родителей Льва, которые приглашали своего машиниста обедать и ужинать за семейным столом. В воспоминаниях Троцкий подчеркивал, что в раннем детстве Иван Гребень был для него важнейшей фигурой. Возможно, Троцкий был искренен, но у нас невольно возникает вопрос, не было ли ему выгодно поместить в центр своего воспитания рабочего человека, притом что в остальном его семья характеризовалась мелкобуржуазными ценностями, а его отец, по мнению самого Троцкого, был способен эксплуатировать как рабочих, так и крестьян.
Жизнь Льва изменила свое течение в 1887 г., когда к ним в гости на лето приехал его старший двоюродный брат (племянник матери) Моисей Шпенцер. Шпенцер жил в Одессе. Хотя из-за какого-то незначительного политического проступка ему не дали поступить в университет, он сводил концы с концами, зарабатывая журналистикой и сбором статистики. Его жена, Фанни, работала начальницей казенного училища для еврейских девочек. Лев и Шпенцер быстро сошлись. Не по годам развитой мальчик, которому только в октябре должно было исполниться девять лет, видимо, произвел на Шпенцера впечатление, и тот предложил, чтобы Лев переехал в Одессу, где он смог бы продолжить свое образование под их с женой присмотром. Весной 1888 г., преодолев на поезде и пароходе более 300 километров, Лев прибыл в Одессу.
Стараниями Шпенцеров неотесанный мальчик превратился в изысканного и хорошо образованного молодого человека. Моня, как называл его Лев, учил его, «как держать стаканы, и как умываться, и как правильно произносить разные слова». Лев стал обращать внимание на свой внешний вид, на всю жизнь усвоив привычку хорошо одеваться. Уже в то время он постепенно обретал тот поразительный образ, который станет известным всему миру: высокий лоб под густой, вьющейся черной шевелюрой и голубые глаза, смотрящие сквозь пенсне. Шпенцеры беспокоились, что молодой Лев слишком много времени уделяет учебе. «Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать», – вспоминал Троцкий тот период своей жизни. Льву нравилось укачивать новорожденную дочку Шпенцеров. Когда она чуть подросла, именно Лев «заметил ее первую улыбку… научил ее ходить и читать» (эта девочка под именем Вера Инбер впоследствии стала знаменитой советской поэтессой)[1]. Нью-йоркский радикальный журналист Макс Истмен, подружившийся с Троцким в 1920-е гг., встречался со Шпенцерами. По его мнению, это были «добрые, спокойные, уравновешенные и интеллигентные люди».
Поначалу жизнь у Шпенцеров была весьма скромной. Четыре года Лев спал в углу столовой, за занавеской. Но все в их доме было пропитано страстью к литературе, а атмосфера космополитичного города питала его любопытство и воображение. Шпенцеры помогли ему с русским языком, познакомили с классической русской и европейской литературой (ему особенно нравилось читать Диккенса) и не боялись держать на полках запрещенные книги, такие как «Власть тьмы» Льва Толстого, которая только что попала под запрет царской цензуры; Лев услышал, как в семье обсуждают толстовскую пьесу, а потом сам ее прочитал.
Что касалось политики, в доме Шпенцеров «режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о конституции через несколько десятков лет». У самого Шпенцера, как вспоминал Троцкий, были умеренно либеральные взгляды, «туманно-социалистические симпатии, народнически и толстовски окрашенные». В присутствии Льва взрослые вели себя осторожно и избегали политических разговоров, опасаясь, «как бы я не сказал чего лишнего товарищам и как бы не накликать беды». По тем же причинам они не позволяли ему читать газеты, надеясь оградить его от радикальных идей.
Именно в Одессе на пути Льва встал официальный антисемитизм. В 1887 г. в рамках более широкого набора ограничений, наложенных на евреев после убийства Александра II, новый правительственный указ установил жесткие процентные нормы для евреев, поступавших в средние учебные заведения. В зависимости от обстоятельств доля евреев могла быть ограничена 10 % от общего числа учеников. Это правило напрямую затронуло Льва. Будучи евреем, для поступления в реальное училище Святого Павла – школу, выбранную для него Шпенцерами, – он должен был пройти строгий экзамен. Но ему помешали возраст (он был на год младше остальных учеников его класса) и отсутствие формального образования. Экзамен Лев провалил, и ему пришлось провести целый год в приготовительном классе.
Возможно, это был первый случай, когда Лев столкнулся с предрассудками из-за своего еврейского происхождения. Но, как и в родительском доме, у него не возникло эмоциональной – не говоря уже о духовной или религиозной – привязанности к еврейству. По замечанию Истмена, «это не было тем, что он впитал с молоком матери», поэтому этот эпизод официальной антиеврейской дискриминации не укрепил в нем остаточную преданность еврейству, основанную на осознании своей принадлежности к одной из самых угнетаемых групп населения империи. Троцкий был искренен, когда писал в «Моей жизни»: «Национальное неравноправие послужило, вероятно, одним из подспудных толчков к недовольству существующим строем, но этот мотив совершенно растворялся в других явлениях общественной несправедливости и не играл не только основной, но и вообще самостоятельной роли»[2]. Другие социалисты-евреи его поколения вспоминали свои детские годы иначе. И Юлий Мартов, и Павел Аксельрод, ставшие близкими соратниками Троцкого во время его первого пребывания в Лондоне, в своих воспоминаниях делали акцент на антиеврейской ненависти и дискриминации, с которыми они постоянно сталкивались. Мартов, в частности, навсегда запомнил ужас, пережитый им в детстве во время одесского погрома в мае 1881 г. Для Льва же неуместные ссылки на его происхождение были «всего лишь еще одним проявлением грубости». Исходя из своего опыта дружбы с Троцким, Истмен подчеркивал, что все инциденты подобного рода «не оставили никаких следов… в его понимании самого себя». С ранних лет Троцкий привык считать факт своего рождения и воспитания в еврейской семье простой случайностью. Порвав связи с родителями, он окончательно отдалился от своих еврейских корней. Он не видел в своей принадлежности к еврейству никакого позитивного содержания.
Хотя реальное училище Святого Павла было основано немцами-лютеранами, оно не было конфессионально однородным и принимало самых разных учащихся. «Прямой национальной травли в училище не было», – вспоминал Троцкий; детям преподавали религию в соответствии с верой их родителей. «Добродушный человек по фамилии Цигельман преподавал евреям-ученикам на русском языке Библию и историю еврейского народа», – писал Троцкий. Но «этих занятий никто не брал всерьез». Отец Льва тем не менее хотел, чтобы тот изучал Библию на древнееврейском – «это был один из пунктов его родительского честолюбия». Лев брал частные уроки у одного ученого старика-еврея, но они, по воспоминаниям Троцкого, за несколько месяцев «нимало не укрепили меня в вере отцов». Несмотря на демонстративный атеизм Давида Бронштейна, эти занятия, скорее всего, были призваны подготовить Льва к бар-мицве в тринадцатилетнем возрасте, хотя в мемуарах Троцкий об этом решил не упоминать, а сама церемония так никогда и не состоялась.
Одесса с ее крупным портом на Черном море была ярко выраженным космополитичным городом. Здесь жили украинцы, русские, евреи, греки, армяне, немцы, итальянцы и французы, а бок о бок с ними существовали более экзотические общины турок, татар, персов и сирийцев. К 1830-м гг. город уже стал настолько знаменитым, что отец Горио – персонаж романа Оноре де Бальзака – на смертном одре заявлял о своей мечте съездить в Одессу. По мнению Достоевского, космополитизм Одессы был за гранью допустимого. Она была не только «центром нашего воюющего социализма», как он сформулировал в 1878 г. в одном из своих писем. По его выражению, это был настоящий «город жидов». Будучи центром экспорта российского зерна, Одесса процветала благодаря коммерческим связям с Европой, Азией и США.
Для евреев проживание в Одессе сулило возможность приобщиться к российскому обществу и культуре. Город был, пожалуй, самым современным местом, где они могли селиться в пределах черты оседлости. Здесь, как и в детские годы в Яновке, Лев вновь оказался в еврейском окружении. Число одесских евреев заметно превышало 100 000, что составляло более трети населения города. Жена Шпенцера руководила училищем для еврейских девочек. В последние десятилетия XIX в. в городе жили крупные литераторы, писавшие и на идише, и на древнееврейском, такие как Хаим Нахман Бялик, Саул Черниховский, Ахад-ха-Ам и Семен Дубнов. Но Льва все это не трогало.
Вместо этого он погрузился в более широкую светскую культуру Одессы. Он открыл для себя оперу и театр, начал писать стихи и рассказы. Моисей Шпенцер основал либеральное издательство, и вскоре в доме стали собираться писатели и журналисты, волнуя Льва и своим присутствием, и своей страстью к литературе. В его глазах «писатели, журналисты, артисты оставались… самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным».
Льва приняли в реальное училище Святого Павла, и совсем скоро он стал лучшим учеником в классе. Моисей Шпенцер с удовольствием вспоминал, что «никому не приходилось следить за его учебой, никому не нужно было беспокоиться о его уроках. Он всегда делал больше, чем от него требовалось». Но случались в учебе и свои неприятности. Лев мог быть несдержанным на язык и в момент искренности вспоминал о себе в детстве: «Мальчик был самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив». Эти черты остались с ним на всю жизнь. Он занимался выпуском школьного журнала, но догадался прекратить это занятие после того, как один симпатизировавший ему учитель указал, что подобные журналы строго запрещены. В другой раз, будучи во втором классе, Лев с одноклассниками участвовал в «концерте», который они устроили нелюбимому учителю французского, проводив его из класса дружным воем. Трусливые одноклассники указали на Льва как на зачинщика, и подвергшийся обструкции учитель, довольный тем, что ему удалось установить личность главного нарушителя, добился того, что Льва исключили из училища на остаток года.
Из этого происшествия Троцкий извлек для себя важный урок. Он понял, что ученики делятся на определенные категории по моральным характеристикам. «Ябедники и завистники на одном полюсе; открытые, отважные мальчики – на другом, и нейтральная, зыбкая, неустойчивая масса посередине – эти три группировки далеко не полностью рассосались и в течение последующих лет», – писал Троцкий в 1929 г. Шпенцеры морально поддержали его, но Лев беспокоился, как на исключение отреагирует отец. Он испытал большое облегчение (и немалое удивление), когда Давид Бронштейн отнесся к произошедшему с пониманием и даже с удовольствием слушал, когда Лев демонстрировал ему дерзкий свист, пример безобразного поведения, которое так сильно расстроило учителя.
На следующий год Лев вновь был принят в училище и быстро восстановил свое первенство в классе. Но его мятежная натура не была полностью укрощена. В пятом классе ленивый и плохо знающий свой предмет учитель литературы по имени Антон Гамов постоянно затягивал с проверкой домашнего задания учеников. Лев и его одноклассники, возмутившись, отказались писать новые сочинения и потребовали от учителя выполнять свои обязанности. За такую дерзость мальчики были наказаны, но в остальном остались на хорошем счету. Гамов не канул в Лету. В 1904 г. в Одессе у него родился сын – Георгий Гамов. Он изучал физику в Санкт-Петербурге, а в 1930-е гг. сбежал из СССР в Западную Европу. Затем он перебрался в США, где стал всемирно признанным физиком-теоретиком, прославившимся своими работами по космологии и квантовой физике, а также научно-популярными книгами, рассчитанными на широкого читателя.
Взросление в утонченной и интеллектуально насыщенной атмосфере Одессы привело Льва к конфликтам с отцом. Приезжая назад в деревню на каникулы, Лев чувствовал отчуждение, как если бы «между мною и тем, с чем было связано мое детство, встало стеной нечто новое». Давид Бронштейн бывал очень жестким. Троцкий рассказывал Максу Истмену, что у соседей он «пользовался уважением, смешанным с изрядной долей страха». Наблюдая за тем, как отец спорит с крестьянами на мельнице о зерне и деньгах, Лев понял, что тот, нисколько не стесняясь, думает только о собственной выгоде.
Временами Лев чувствовал, что происходит какая-то несправедливость, и переживал, что его отец пользуется тяжелым положением тех, кто беднее его. Лев был чуток ко всевозможным мелким обидам: когда отец слишком скупо платил носильщику, который нес их багаж, когда рабочие на хуторе получали причитающиеся им деньги, «но условия договора истолковывались… жестко». Однажды на принадлежавшее отцу пшеничное поле зашла чужая корова. Давид Бронштейн оставил животное у себя и клялся не возвращать его, пока владелец не покроет убытки. Крестьянин протестовал, умолял, сжимая в руке картуз; в его глазах стояли слезы, «он согнулся в поклоне, как старушка, которая молит о милостыне». Лев разрыдался от горя, потрясенный унижением крестьянина и неумолимостью отца. Он успокоился только тогда, когда родители заверили его, что корову вернули, а с владельца не взяли никакого штрафа. Троцкий начал замечать социальную и экономическую напряженность, возникавшую между его состоятельным отцом, с одной стороны, и работниками и крестьянами – с другой, которые зависели от него в добывании средств к существованию. Лев обнаружил, что испытывает к ним сочувствие, и стал ощущать неловкость от образа жизни отца. Ему было важно совсем другое. «Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор – от них я отчалил резким толчком, и отчалил на всю жизнь». То, что Троцкому нравилось вспоминать подобные эпизоды, возможно, говорит больше о его мыслях во взрослом возрасте, чем о детских переживаниях. Как заметил самый известный биограф Троцкого Исаак Дойчер, «многие в детстве сталкивались с подобными и даже еще более страшными сценами, однако, повзрослев, не подались в революционеры»[3].
1 ноября 1894 г., когда Лев учился в шестом классе реального училища, умер царь Александр III. Ученикам, вспоминал Троцкий, «событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране». Александр III прожил всего лишь 49 лет, и его сын, Николай II, не был в достаточной мере готов к восшествию на престол. Троцкому было 15, и он находился в сотнях километров от центра российской политической жизни. Он только начинал чувствовать возмущение самодержавным гнетом, но это чувство через несколько лет свяжет его судьбу с судьбой царя, столь внезапно унаследовавшего верховную власть.
К 1895 г. Лев успел отучиться в реальном училище Святого Павла семь лет, включая подготовительный класс перед поступлением. В училище было только шесть классов, поэтому Льву нужно было искать другое учебное заведение, где закончить семилетний курс среднего образования. Чтобы быть поближе к родителям, Лев уехал из Одессы в Николаев – не такой крупный, более провинциальный город, расположенный на берегу Черного моря.
Оглядываясь на годы своей юности, Троцкий утверждал, что покинул Одессу политически несознательным – по его выражению, «настроения мои в школе были смутно оппозиционные, и только». Ему было незнакомо имя Фридриха Энгельса, который умер в 1895 г., и он «вряд ли мог сказать что-либо определенное о Марксе». Все это изменилось в 1896 г., в последнем классе училища, когда Лев начал задаваться вопросом о своем «месте в человеческом обществе». Живя в семье, где все дети были старше него, Лев стал мишенью страстных доводов людей, упорно стремившихся обратить его в свою новую социалистическую веру. Он реагировал на их агитацию «тоном иронического превосходства». Хозяйка, у которой он жил, с благодарностью отмечала его упорство и даже ставила его в пример своим увлеченным детям как образец зрелого мышления.
Но вскоре, совершенно внезапно, как если бы само его прежнее сопротивление в чем-то проистекало из внутренней увлеченности радикальными идеями, Лев объявил о своем обращении в новую веру и с этого момента «забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кой-кого из моих новых друзей». Его образ жизни коренным образом изменился. Он забросил школьные занятия, стал пропускать уроки и начал собирать коллекцию «нелегальных брошюр». Он «набрасывался на книги» и «стал читать газеты… под политическим углом зрения». Это были первые шаги в его политическом пробуждении.
Кроме того, Лев познакомился с бывшими ссыльными, состоявшими под надзором полиции. Он сблизился с работавшим у его хозяйки садовником, чехом по имени Франц Швиговский, чей интерес к политике превратил его скромную «избушку» в место сбора молодежи и политических активистов. Швиговский первым открыл перед Львом мир серьезной политической литературы, напряженных политических дискуссий и нередко загадочных, но от этого еще более захватывающих споров между сторонниками конкурирующих взглядов из движения народников и недавно возникшей марксистской партии социал-демократов. Член этого кружка Григорий Зив в своих мемуарах, которые являются одним из немногих независимых источников информации о жизни Троцкого в тот период, когда он только выбирал путь революционера, позднее вспоминал, что эти собрания носили «самый невинный характер». Стараниями Швиговского все чувствовали себя у него как дома. В непринужденной, неформальной атмосфере его сада они открыто высказывали свои мысли, уверенные, что полиция ничего не узнает. Поэтому они слетались туда «как мотыльки на огонь». Но среди жителей Николаева сад Швиговского, по словам Зива, пользовался «страшной репутацией; его считали центром всяких ужаснейших политических заговоров». Жандармское управление засылало туда шпионов, но те могли сообщить только то, что Швиговский – гостеприимный хозяин, которому нравится угощать своих гостей яблоками и чаем, вовлекая их в разговоры на всякие причудливые темы.
Лев не смог утаить от родителей эти перемены в своей жизни. Давид Бронштейн иногда приезжал в Николаев по делам. Узнав, что у Льва появились новые друзья и пропал интерес к учебе, он попытался давить силой отцовского авторитета, но безуспешно. Состоялось «несколько бурных объяснений», во время которых Лев защищал свое право на выбор жизненного пути. Он отказался от материальной поддержки отца, не желая принимать деньги в обмен на послушание, покинул квартиру, где жил раньше, и вместе со Швиговским поселился в более просторной избе, куда тот переехал. Лев был одним из шести членов этой «коммуны».
Политическая позиция Льва рывками двигалась от юношеского любопытства к радикальному действию. Вначале он дрейфовал от одной конкурирующей политической теории к другой. Он изучал английских философов, таких как теоретик утилитаризма Джереми Бентам и либерал Джон Стюарт Милль, чьи труды были изъяты из университетских библиотек и курсов. Он читал знаменитую книгу Николая Чернышевского «Что делать?», написанную в 1862 г. в петербургской тюрьме. В истории России Чернышевский был поразительной личностью. Начав как лидер молодых идеалистов-радикалов, он от открытой критики русской культуры перешел к прямой поддержке революции. Царский режим заточил его в тюрьму, а затем отправил на многие годы в ссылку в Сибирь и в города, расположенные далеко от Москвы и Петербурга. Чернышевский умер в 1889 г., всего за несколько лет до того, как у Льва начала развиваться и крепнуть страсть к политике. Вероятно, что Льву, как и многим российским радикалам, Чернышевский казался святым.
Но постепенно Лев начал понимать, что западные мыслители, такие как Милль и Бентам, и даже русские писатели вроде Чернышевского, при всем романтическом ореоле вокруг его имени, все больше теряли свою актуальность в условиях полемики, разразившейся в 1890-е гг., сразу после смерти Александра III и восшествия на престол Николая II. Критика самодержавия становилась в особенности популярной среди студентов университетов. Когда дело дошло до принесения присяги новому царю, большинство студентов в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве ответили отказом.
Николай II сталкивался и с более опасными примерами подрывной деятельности. У молодых российских радикалов имелось два соперничающих видения революции. Народники рассматривали крестьянство, которое составляло подавляющее большинство населения империи, как самую благодатную почву для сопротивления. Они усвоили романтический взгляд на крестьян, ставший особенно популярным после того, как в 1861 г. царь Александр II отменил крепостное право. Но крестьянство не поднялось на свержение монархии, как мечтали народники, и в тщетной попытке уничтожить самодержавие те обратились к террористической деятельности.
Мыслители-марксисты, такие как Георгий Плеханов, призывали сторонников революции против царизма перестать надеяться на крестьян, отказаться от актов индивидуального террора и сосредоточиться на организации рабочего движения с требованиями социализма и демократии. Именно после призывов Плеханова Владимир Ульянов – в будущем Ленин – вместе с другими радикальными марксистами создал Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Очень скоро, в декабре 1895 г., эта инициатива привела к аресту Ленина.
Все эти события не могли не повлиять на Льва и его друзей, даже несмотря на то что они жили далеко от главных российских городов, где пытались создавать свои организации революционеры вроде Ленина. Большинство членов кружка Швиговского считали себя народниками. Они симпатизировали российским революционерам-романтикам, верившим, что лишь акты насилия в отношении царя и его министров могут сокрушить самодержавие. В 1881 г. им удалось убить Александра II. Шесть лет спустя еще одна группа революционеров, в которую входил и старший брат Ленина Александр Ульянов, планировала покушение на Александра III, но их заговор был раскрыт. Александра Ульянова арестовали, а затем, 8 мая 1887 г., повесили.
Лев стал участником споров у Швиговского в удачное время. Группа была разделена на две неравные части. Почти все ее участники отстаивали позицию народников, и лишь одна молодая женщина, которую звали Александра Соколовская, защищала теории Карла Маркса. Под влиянием секундного порыва Лев объявил себя народником и возглавил нападки на Соколовскую. Зив вспоминал, какое поразительное воздействие Лев производил на окружающих. «Своими выдающимися способностями и талантливостью» Лев уже тогда обращал «на себя внимание всех посещавших Франца». Он был «смелым и решительным спорщиком», получавшим наслаждение от хорошей дискуссии и всегда готовым облить «безжалостным сарказмом» марксистские идеи и любые аргументы, которыми осмеливалась защищаться Соколовская.
Лев не останавливался и перед оскорблениями в ее адрес. По словам Зива, на вечеринку по случаю наступления 1897 г. Лев явился с поразительной новостью: аргументы Соколовской возобладали и теперь он убежденный марксист. Такой «неожиданный переворот» привел ее в восторг. Но у Льва был в запасе еще один сюрприз. Подняв свой бокал, он развернулся к Соколовской и ошеломил присутствовавших высокомерной тирадой. Зив описывал ее так: «Это была не речь, а самая грубая, площадная ругань против марксизма, с трескучими проклятиями и прочими атрибутами дешевого, но забористого ораторского искусства». Соколовская, разъяренная и оскорбленная, немедленно покинула собрание, уверенная в том, что никогда больше не станет разговаривать со Львом. Позднее она и вовсе уехала из Николаева. Грубая прямолинейность Троцкого оставила глубокое впечатление. «Из него выйдет или великий герой, или великий негодяй, – заметил один из его товарищей, – в ту или другую сторону, но непременно великий».
Несмотря на свои саркастические замечания в адрес Соколовской, Лев на самом деле смещался в сторону социал-демократии. Среди молодежи постепенно распространялось недовольство самодержавием, и она все сильнее вдохновлялась марксистскими идеями. Что касается Льва, то он, вероятно, поддался обаянию марксизма потому, что конкретная программа действий сочеталась там с напряженной интеллектуальной дискуссией. Это был именно тот диалог между силовыми решениями и идеологией, которым будет отмечена его жизнь в течение последующих десятилетий.
В 1897 г. Лев с отличием окончил реальное училище и ненадолго переехал в Одессу, где жил у дяди, раздумывая об изучении математики в университете. Но его неудержимо тянуло в политику. В Одессе он «заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища». Вскоре он вернулся пароходом в Николаев и вновь поселился в саду Швиговского.
В своих воспоминаниях Троцкий пишет об одном случившемся в начале 1897 г. ужасном происшествии, которое всполошило молодежь по всей России. Совершила самосожжение молодая курсистка, находившаяся под политическим арестом в Санкт-Петербурге, в печально известной Петропавловской крепости. Студенты вышли на улицы с протестами, и в результате многие были арестованы и сосланы в Сибирь. Теперь Лев был полон решимости выйти за рамки горячих споров о политической доктрине. Переполняемый гневом и энтузиазмом, он был готов сделать первые конкретные шаги в противостоянии царскому режиму: организовать рабочих Николаева. В то время в городе было около 10 000 рабочих и квалифицированных ремесленников. Он взял свой первый псевдоним – Львов – и стал сближаться с рабочими, приглашая их небольшими группами на тайные собрания, где обсуждалась подпольная политическая литература, которую Лев с единомышленниками доставали или производили сами. Примерно две сотни рабочих ему удалось убедить вступить в новую организацию, которую он назвал «Южно-русским рабочим союзом». В ее составе были слесари, столяры, электротехники, портнихи и студенты. Спустя годы Троцкий вспоминал свой первый успех с характерным для себя воодушевлением. «Рабочие шли к нам самотеком, точно на заводах нас давно ждали, – писал он в своих мемуарах. – Не мы искали рабочих, а они нас». В деятельность организации оказалась вовлечена и Александра Соколовская, которая, судя по всему, согласилась забыть о прежних обидах и работать плечом к плечу со своим младшим товарищем, несмотря на его несносный характер.
Лев с головой окунулся в работу. Союзу был нужен свой печатный орган, что-то типа афиши или листовки; это подчеркнуло бы самостоятельность организации и помогло привлечь рабочих на ее сторону. Лев взялся за это предприятие, назвав свою газету «Наше дело». В отсутствие пишущей машинки он аккуратно «писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами». На изготовление каждой страницы могло уходить до двух часов. «Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках», – позднее вспоминал он. Используя примитивный гектограф, пожертвованный одним состоятельным сторонником, он мог производить от 200 до 300 экземпляров каждого номера.
Постепенно жизнь Льва обретала узнаваемые черты. Его революционная активность и профессиональная деятельность в качестве журналиста и издателя покоились на его твердой убежденности в силе слова. Становясь старше и проходя через мучительные жизненные потрясения, он неизменно будет возвращаться к одной основополагающей идее: необходимости учредить газету – подпольную или легальную – или хотя бы писать для нее статьи в расчете на внимание и влияние, которое, как он надеялся, это ему принесет. В Николаеве он с удовлетворением отмечал заметный эффект, который его газета производила среди рабочих города. По революционным меркам Лев с товарищами старались поставить перед рабочим довольно скромные цели повышения зарплат и сокращения рабочего дня. Кроме того, в его прокламациях рассказывалось об условиях труда на городских верфях и фабриках, о злоупотреблениях работодателей и государственных чиновников.
Григорий Зив тоже участвовал в этом начинании. Годы спустя он вспоминал, что Лев был движущей силой Союза. «Наша группа была первой социал-демократической организацией в Николаеве, – писал он. – Успех нас взвинчивал так, что мы находились в состоянии… хронического энтузиазма. И львиной долей этих успехов, мы, несомненно, были обязаны Бронштейну, неистощимая энергия, всесторонняя изобретательность и неутомимость которого не знали пределов». В то время Льву было всего 18 лет. Он еще не до конца самоопределился как марксист, но уже проявлял те страстную увлеченность и преданность делу, которыми будет отмечена его взрослая жизнь. Он понимал необходимость и изучать динамику революции, и одновременно вести революционную агитацию среди самих рабочих. Как сам Троцкий объяснял в 1932 г. молодым испанским коммунистам, «изучение марксизма вне связи с революционной борьбой может воспитать книжного червя, но не революционера. Участие в революционной борьбе без изучения марксизма будет по необходимости случайным, ненадежным, полуслепым».
Успех Льва в качестве организатора привлекал внимание не только рабочих. К нему стала присматриваться и полиция, хотя ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что за всеми нежелательными волнениями в городе стоит небольшая группа молодых активистов, руководимая подростком. В январе 1898 г. начались аресты. Большинство членов группы было задержано в Николаеве, но Лев, предчувствуя арест, попытался найти убежище за городом, в имении, где работал Швиговский. 28 января полиция забрала их обоих. Жандармы перевели Льва в николаевскую тюрьму – в первую из двух десятков его тюрем, как он любил говорить, – а затем в другую тюрьму, в Херсоне, где он находился в течение нескольких месяцев.
Условия содержания заключенных в царских тюрьмах были убогими. Строгий режим лишь усугублял их. Следователи вскоре поняли, что Лев был вожаком группы, и решили во что бы то ни стало сломать его волю, подвергнув его необычно жесткому давлению. Его держали в изоляции в маленькой, холодной, полной паразитов камере. На ночь выдавали соломенный матрас, но на заре его опять забирали, так что в течение дня Лев не мог комфортно сидеть. Ему не разрешали выходить в тюремный двор для физических упражнений, запрещали получать книги и газеты, не выдавали мыло и чистое белье. Его не допрашивали и не сообщали о вменяемых ему преступлениях. У других арестованных членов Союза дела шли еще хуже. Кто-то, не вынеся пыток, совершил самоубийство, кто-то сошел с ума или согласился донести на своих товарищей в обмен на улучшение условий содержания. Но Лев, несмотря на суровое одиночество, держался. «Изоляция была абсолютная, какой я прежде не знал нигде и никогда», – вспоминал он о том времени. Чтобы как-то облегчить свое положение, он ежедневно ходил по камере, делая «по диагонали тысячу сто одиннадцать шагов». В какой-то момент тюремщики отступили, позволив его матери (несомненно, за взятку) передать ему мыло, свежее белье и фрукты.
Летом 1898 г. Льва перевели в тюрьму в Одессе. Здесь его вновь ждало одиночное заключение, но, по крайней мере, его в первый раз вызвали на допрос. Благодаря тюремной молве он узнал о состоявшемся в Минске учредительном съезде Российской социал-демократической партии. Несмотря на величественное название, «съезд» представлял собой собрание с участием всего девяти делегатов. Почти всех из них арестовали в течение следующих нескольких недель – не самое благоприятное начало для той самой политической партии, одна из фракций которой всего через 19 лет захватит власть в стране ради построения коммунизма.
