Моя блестящая карьера
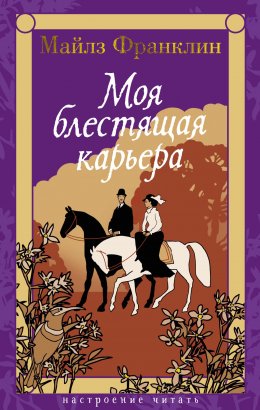
Miles Franklin
MY BRILLIANT CAREER
© Е. С. Петрова, перевод, 2025
© З. А. Смоленская, примечания, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
Предисловие
Поссумов Лог, близ Гоулберна,
Новый Южный Уэльс, Австралия,
1 марта 1899
Дорогие мои соотечественники-австралийцы,
лишь несколько строк, чтобы сказать вам: эта история – целиком и полностью обо мне; именно по этой, а не по какой-либо другой причине я ее пишу.
Не стану извиняться за свою эгоцентричность. В этом отношении моя книга может дать фору любой другой автобиографии, которые часто утомляют читателя извинениями за свой эгоцентризм. Какое вам дело до моей эгоцентричности? Какое это вообще имеет значение?
Перед вами не романтическая повесть – слишком часто я слушала музыку жизни под аккомпанемент лишений, чтобы тратить время на сопли и вопли по поводу фантазий и снов; но это и не роман, а просто история – реальная история. По-настоящему реальная, реальнее некуда, если, конечно, сама жизнь – это нечто большее, чем бессердечная маленькая химера; моя история столь же реальна в своей усталости и горькой сердечной боли, как высокие эвкалиптовые деревья, среди которых я впервые увидела белый свет, реальны в своем величии и надежности.
Мое жизненное пространство мне не по душе. Ох, как я ненавижу эту живую смерть, которая съела мое отрочество, с жадностью поглощает мою молодость, готовится выжать все соки из расцвета зрелости, а напоследок сотрет в прах мою старость, если мне выпадет несчастье до нее добраться. По мере того как моя жизнь, убийственно однообразная, ограниченная и совершенно мне чужая, нескончаемо ползет сквозь долгие, заполненные тяжелым трудом дни, дух мой что есть сил противится, стремясь разрушить нерушимые оковы, – но все напрасно!
Особое предуведомление
Вы можете, условно говоря, с головой погрузиться в эту историю. Не беспокойтесь: здесь вас не ждет такая дребедень, как описания дивных рассветов и шепота ветров. Мы (девятьсот девяносто девять человек из тысячи) не видим в рассветах ничего, кроме примет и знаков, сулящих близкие дожди или наоборот, а потому давайте оставим эти тщетные и глупые фантазии на откуп художникам и поэтам – бедным глупцам! Порадуемся, что мы сами сделаны из другого теста!
Лучше родиться рабом, нежели поэтом; лучше родиться чернокожим, нежели увечным! Ведь поэту на роду написано уединение… одиночество, устрашающее одиночество среди любимых им собратьев. Он одинок, потому что душа его взмывает очень высоко над простыми смертными, подобно тому как простые смертные поднимаются выше приматов.
Сюжет в этом повествовании отсутствует, поскольку его нет в моей жизни, да и ни в одной другой, доступной моему наблюдению. Я принадлежу к особой касте – к тем личностям, у которых нет времени на сюжеты, но зато есть все для того, чтобы, не отвлекаясь на такую роскошь, заниматься своим делом.
Майлз Франклин Австралия
Глава первая. Помню, помню
– Кыш, кыш! Ай, ай, ой-ой-ой! Умираю. Жгёт, жгёт! Кыш, кыш!
– Ну что ты, тихо, тихо. Папиной дочурке-помощнице реветь не к лицу, правда? Сейчас смажу жиром из нашего сухого пайка да носовым платком перевяжу. Не плачь, не надо. Ш-ш-ш, нюни распускать нельзя! А будешь так шуметь – наша старушка Стрела брыкаться начнет.
Это мое самое ранее воспоминание. Было мне три года. Помню, нас окружали величественные эвкалипты, на их прямых стволах играло солнце и падало в журчащий средь папоротников ручей, который исчезал под крутым заросшим косогором по левую руку. Долгий и ясный летний день перевалил за середину. Мы уехали далеко по ручью – туда, где мой отец приноровился добывать соль. Из дому он вышел ранним росистым утром, неся меня перед собой на маленьком коричневом матрасике, который специально для разъездов сшила мама. Куски каменной соли мы загодя сложили в корыта на другом берегу ручья. С того места, где мы устраивали привал, нам была видна эвкалиптовая крыша соляного сарая, которая защищала корыта от дождя, живописно выглядывая из густых зарослей мускуса и перечного кукурузника. С литровым котелком, в котором мы заваривали чай, я повторно сбегала к ручью, отец залил наш костер, а затем полоской сырой шкуры приторочил котелок к луке седла. Переметные торбы для доставки соли, сработанные из той же сырой шкуры, висели на крюках вьючного седла, обременявшего гнедую лошадь. Отцовское седло и заветный коричневый матрасик были доверены Стреле, крупной чалой лошади, на которую обычно сажали меня, и мы засобирались домой. Перед обратной дорогой отец, скормив собакам то, что осталось от нашего обеда, принялся надевать им намордники. Собаки яростно противились такому насилию, совершенно необходимому по вполне понятной причине. В тот день отец захватил с собой флягу со стрихнином и, надеясь истребить хотя бы нескольких динго, обильно посыпал ядом валявшиеся на дороге тушки разного зверья.
Пока собаки боролись с намордниками, я начала собирать букет из папоротников и цветов. Это потревожило большую черную змею, которая, свернувшись кольцом, лежала в тени страусника.
– Кусит! Ой, кусит! – Я заходилась воплем, и отец ринулся ко мне, чтобы отогнать ползучую гадину хлыстом.
При этом он уронил свою трубку в папоротники. Я ее подняла, и тлеющие крошки табака обожгли мои грязные пухлые кулачки. Отсюда – та паника, с которой начинается этот рассказ.
По всей вероятности, именно ожог пальцев произвел столь неизгладимое впечатление на мой детский разум. Отец постоянно брал меня с собой, но моя память сохранила лишь одну вылазку, и это все, чем она мне запомнилась. Мы были в двенадцати милях от дома, но как возвращались – нипочем не припомню.
В ту пору мой отец прочно стоял на ногах: ему принадлежали Бруггабронг, Бин-Бин-Ист и Бин-Бин-Уэст, а площадь этих трех угодий составляла около двухсот тысяч акров. В высшее общество он был принят исключительно в силу своего имущественного положения. В его генеалогическом древе значился только дед. Зато моя мать была чистокровной аристократкой. Она принадлежала к каддагатской ветви семейства Боссье, в чьей родословной присутствовал один из самых необузданных старых пиратов, который совершал набеги на Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем.
Дик Мелвин славился не только гостеприимством, но и веселым нравом, и в нашем причудливом доме со всеми удобствами и широкими верандами, сложенном из каменных плит в отрогах Тимлинбилли, всегда было полно гостей. За нашим изобильным столом сиживали врачи, адвокаты и скваттеры[1], коммивояжеры и банкиры, журналисты и туристы – люди из разных краев и разных слоев; но вот женское лицо мелькало там крайне редко (мамино – не в счет): уж очень глухое это место – Бруггабронг.
Я была и грозой, и отрадой этой скотоводческой станции[2]. По сей день обо мне с интересом справляются престарелые конные полицейские и гуртовщики.
Род занятий каждого гостя был мне известен и мог в самый неподходящий момент прилюдно слететь у меня с языка.
Не останавливаясь ни перед разухабистыми выражениями, слышанными от батраков, ни перед мудреными длинными словами, перенятыми у наших гостей, я выносила на всеобщее обсуждение немыслимые вопросы, от которых бросало в краску даже самых заядлых выпивох.
Ничто не могло заставить меня выказывать больше уважения ценителю местных ручьев, нежели объездчику, или отдавать священнику предпочтение перед пастухом. Какой я была, такой и осталась. Мой орган почтения, надо думать, тоньше блинчика, поскольку благоговеть перед человеком только по причине его ранга у меня никогда не получалось и уже не получится. По мне, принц Уэльский ничем не лучше простого стригаля[3]; впрочем, если во время нашей встречи он предъявит помимо своего титула какие-нибудь небывалые личные качества, это изменит дело, а иначе пусть умоется.
Подлинных записей, датированных тем днем, когда у меня впервые появилась собственная лошадь, не сохранилось, но определенно было это в пору моего детства, потому как в восемь лет я уже могла разъезжать по округе как заблагорассудится. Что дамское седло, что мужское, и без седла, и враскорячку – мне было все едино. Гоняла наравне с объездчиками не хуже любого здоровенного загорелого бушмена[4].
Мать меня упрекала, сетовала, что я вырасту неженственной – этаким сорванцом. Отец отмахивался.
– Оставь ее в покое, Люси, – говорил он, – не приставай. Скоро настигнут ее критические дни, будь они неладны, – проклятье женского пола. А пока оставь ее в покое!
И мать, с улыбкой приговаривая: «Надо было ей мальчиком родиться», оставляла меня в покое; я скакала верхом, и при своем малом росте хлыст у меня руках свистел оглушительно, почище, чем у многих. Всякие житейские неурядицы были мне нипочем: я выходила из них целой и невредимой.
Страха я не ведала. Если какой-нибудь пьяный бродяга начинал бузить, я всегда первой бросалась ему наперерез и с высоты своего карликового роста в два фута и шесть дюймов по-королевски требовала ответа: на что, собственно, он нарывается?
Рядом с нами устроили прииск смуглые сыны Италии. Маму они нервировали: она твердила, что доверять старателям нельзя, но я к ним тянулась и относилась с доверием. Они катали меня на своих широких плечах, закармливали леденцами и вообще баловали, как могли. Не моргнув глазом я забиралась в большую клеть и с помощью грубо сработанной лебедки опускалась в самые глубокие скважины, откуда поднимали старателей и пустую породу.
Мои братья и сестры переболели свинкой, корью, скарлатиной, коклюшем. Я прыгала к ним в кровати – и хоть бы хны. Возилась с собаками, лазала по деревьям, чтобы обшарить птичьи гнезда, управляла (под присмотром нашего погонщика Бена) запряженными в подводу молодыми бычками и всегда увязывалась за отцом, когда он ходил купаться на одинокую, скрытую кустарником, чистейшую горную речку, которая бежала по глубокому руслу среди опасных промоин, покрытых толстым ковром венериного волоса и бесчисленных видов папоротника.
Мама только качала головой и дрожала за мое будущее, а отец, похоже, воспринимал все мои выходки как должное. Пока мне не стукнуло десять лет, он был моим героем, задушевным другом, ходячим словарем и даже культом. С той поры никаких культов я не исповедую.
Ричард Мелвин, какой же ты был в ту пору душа-человек! Добрый и снисходительный отец, рыцарственный муж, бесподобный хозяин дома, поборник честолюбия и джентльменского благородства.
В такой обстановке, среди утонченности и удовольствий Каддагата, что лежит по меньшей мере в сотне миль по направлению к Риверине, и прошли мои детские годы.
Глава вторая. Знакомьтесь – Поссумов Лог
Когда я прожила почти девять раз по три летних месяца, мой отец проникся мыслью, что он попусту растрачивает свои таланты в таком захолустье, как Бруггабронг и два Бин-Бина. И решил переселиться туда, где можно размахнуться во всю ширь.
Излагая моей маме свои доводы в пользу переезда, суть дела он представил ей так: за последние годы цены на крупный рогатый скот и лошадей настолько упали, что разведением этой скотины уже невозможно заработать на жизнь. Единственным ходким товаром остаются овцы, но пасти их в Бруггабронге и в Бин-Бинах нечего и думать. Их поголовье живо проредят динго, а что останется, растащит ворье – глазом моргнуть не успеешь. В полицию заявлять – себе дороже. Копы воров к ногтю не прижмут, а попытаются, так только разозлят, и те обрушат свою злобу на жалобщика. В результате – не сомневайтесь – все заборы вокруг ранчо будут сожжены, а лишиться более чем сотни миль тяжелых бревенчатых ограждений в такой неспокойной местности, как Бруггабронг, – это, если вдуматься, сущий кошмар.
Вот такими правдоподобными красками отец расписывал свое стремление к переезду. А если серьезно, на него наложила свою клешню злющая старая карга – неудовлетворенность. Гости ему до хрипоты талдычили, что он себя губит и хоронит в буераках Тимлинбилли. Человек такого ума, да еще с таким несравненным опытом животновода, твердили они, способен сделать себе имя и состояние в мире аукционной торговли – было бы желание попробовать. Вскоре Ричард Мелвин тоже проникся этой мыслью и решил попробовать.
Забросив Бруггабронг, Бин-Бин-Ист и Бин-Бин-Уэст, отец прикупил Поссумов Лог, небольшое ранчо площадью в тысячу акров, и перевез нас всех на новое место жительства близ Гоулберна. Туда мы прибыли осенним вечером. Отец с матерью и детьми – в двуколке, а я и кухарка, сопровождавшая нас в дороге, – верхом. На новом месте нас поджидал единственный мужчина, которого отец оставил у себя на службе. Тот приехал заранее, на подводе с мебелью и пожитками – это все, что сохранил отец из семейного имущества. Только на первое время: сперва обосноваться надо, а уж после к покупкам приступать, говорил он. Десять лет минуло, а у нас другой мебели как не было, так и нет – еле-еле обходимся тем, что нажито.
Моим первым впечатлением от Поссумова Лога было горькое разочарование; даже время не смогло его развеять или хотя бы смягчить.
Каким же плоским, обыденным и скучным выглядел тот край после отрогов Тимлинбилли!
Наш новый дом представлял собой десятикомнатную деревянную постройку на бесплодном косогоре. За отдельно стоящей кухней теснились на буграх кривые, чахлые камедные деревца и каучуконосы, пробивался подлесок из черемухи, хмеля и гибридной мимозы. Вдали от фасада дома виднелись ровные участки, вроде бы обработанные, но никаких водоемов не было и в помине. Через некоторое время мы обнаружили на равнине несколько круглых, глубоких, заросших сорняками лужиц, которые в дождливый сезон объединялись в поток, сносивший все на своем пути. Поссумов Лог, одно из немногих прилично орошаемых мест в округе, способен выдержать даже самую жестокую засуху. Опыт и знания открыли нам глаза на истинную ценность здешней прозрачной и удивительно мягкой воды. Впрочем, приехав сюда с гор, где каждую ложбину пересекала кристально-чистая речушка, мы на первых порах брезговали пить местную воду.
На новых угодьях было не разгуляться. В самом широком месте они достигали всего трех миль. Неужто мне было на роду написано всегда, всегда, всегда обретаться в этих краях и никогда, никогда, никогда не возвращаться в Бруггабронг? Когда я в день приезда, захлебываясь слезами, легла спать на новом месте, тоска давила на меня тяжким грузом.
Мама сомневалась, что усилиями ее мужа наша семья сможет прокормиться с одной тысячи акров, ведь на половине этой территории стали бы пастись разве что мелкие кенгуру, но у отца были грандиозные планы и весьма оптимистичные виды на будущее. В отличие от местных бахвалов, он не собирался сидеть на месте, как кура на насесте. В его намерения входила торговля скотом, а Поссумов Лог вплоть до его продажи должен был служить всего лишь местом совершения сделок.
Боже милостивый! Страшно подумать: большую часть своей жизни он пустил на ветер в отрогах гор, куда почту доставляют раз в неделю, а до ближайшего городишки с населением в шестьсот пятьдесят душ тащиться сорок шесть миль. Причем по бездорожью. А здесь-то город всего в семнадцати милях, да не какой-нибудь, а Гоулберн, шоссе прекрасные, доставка почты через день, до железнодорожной платформы рукой подать – восемь миль, вот же он, счастливый жребий! Такие чувства рождались в его сердце, полном надежд.
Перед тем как в Бруггабронге организовали прииск, наш ближайший сосед (объездчики не в счет) жил в семнадцати милях от нас. Поссумов Лог был густонаселенной местностью, и до окрестных домов было от полумили до двух-трех миль. Для нас это было внове; достоинства и недостатки такого расположения мы осознали не сразу. Если нам требовалась какая-нибудь утварь, она всегда была под рукой, а у наших соседей дело обстояло совершенно иначе: они вечно брали у нас что-нибудь взаймы и в большинстве случаев не возвращали.
Глава третья. Безжизненная жизнь
Поссумов Лог загнивал – загнивал исподволь, как бывает со старыми поселениями.
Люди там обитали преимущественно семейные, с детьми до шестнадцати лет. Мальчики по мере взросления осваивали необжитые районы, становясь стригалями, гуртовщиками или земледельцами. Жизнь в родных краях казалась им чересчур тягучей, а кроме всего прочего, по достижении зрелости им становилось тесно в родительском доме.
Там никогда ничего не происходило. Время не играло роли; дни, отличаясь один от другого только названиями, незаметно соскальзывали в реку лет. Рождение и смерть вырастали до масштабов значительных событий, а самым значительным из всех становился приезд нового поселенца.
Когда такое случалось, отцы семейств по традиции собирались вместе для ознакомительного визита, чтобы решить, достойны ли вновь прибывшие быть принятыми в лоно местного общества. Если вердикт оказывался положительным, то церемония посвящения завершалась дружеским визитом жен.
По прибытии в Поссумов Лог мой отец с головой ушел в дела и часто бывал в разъездах, так что все муки приема визитеров, как мужского, так и женского пола, легли на мамины плечи.
Мужчины держались открыто, добродушно, уважительно, как и подобало простым фермерам-бушменам. Дружелюбие не позволяло им свернуть визит: они пришли – и сидели час за часом, отпуская какие-то фразы ни о чем. Моя бедная мать утомилась донельзя. Ее попытки вовлечь их в беседы о современной литературе и текущих событиях ни к чему не приводили. В такие моменты она словно бы переходила на французский язык.
Час за часом продолжались разговоры о надоях молока, перемежаемые бессмысленными, ни к селу ни к городу россказнями о человеке, который прежде занимал этом дом. Я совсем заскучала.
После животрепещущих историй из жизни на больших станциях в глубинке, после устрашающих рассказов о змеях, слышанных от наших кухарок в Бруггабронге, после случаев из африканской охоты, путешествий и светской жизни, которыми зачастую обменивались наши гости, меня угнетало бесконечное пережевывание цен на фермерскую продукцию и видов на урожай.
Эти мужчины, как и все местные жители, говорили только о рыночных делах. Нет, я этого не осуждаю, но просто хочу уточнить: в ту пору это нас совершенно не занимало, поскольку рынок был от нас очень далек.
Судя по всему, миссис Мелвин снискала благосклонность этих венцов творения, населявших Поссумов Лог: все тамошние матери семейств, поспешив наведаться к ней в гости, наперебой выказывали дружеское расположение и любезность. Явились они не с пустыми руками: принесли домашнюю птицу, варенье, масло и всякую всячину. Пришли к двум часам и засиделись до темноты. Произвели ревизию мебели, надавали маме кучу рецептов, подробно описали непревзойденные таланты каждого из своих отпрысков и многословно обсудили лучший способ посадить индюшку на яйца. Уходя, они сердечно приглашали нас посетить их с ответным визитом и просили маму, чтобы та отпустила к ним на день своих ребятишек – пусть поиграют все вместе.
Не прошло и месяца, как мои родители получили уведомление от учителя государственной школы, что в двух милях от нас: он сообщал, что по закону они должны определить своих детей на учебу. Мама невероятно расстроилась. Что ей было делать?
– Что делать, что делать! Не тяни, собирай ребятню в школу, вот что, – сказал отец.
Мама заспорила. Она предложила нанять гувернантку, а со временем подыскать хорошую школу-интернат. До нее доходили жуткие истории об этих государственных школах! Мыслимое ли дело – отдать своих любимых малюток в такое заведение; да их там загубят через неделю!
– Наших не загубят, – сказал отец. – Пусть походят неделю-другую, в крайнем случае – с месяц. За такой срок ничего с ними не случится. А после наймем гувернантку. Тебе здоровье не позволяет сейчас заниматься поисками, а мне и вовсе не до того. У меня намечается несколько сделок, и каждая требует моего внимания. Пока суд да дело, пускай бегают в школу.
И нас отдали в школу, где мы с сестрой благодаря фартукам с оборочками и легким туфелькам сразу стали важными птицами, на голову выше прочих. Наши одноклассники в основном происходили из семей беднейших фермеров, которые вкалывали на дорожном строительстве, на перевозке пиломатериалов – в общем, не гнушались никаким приработком. Все мальчишки ходили босиком, и половина девочек тоже. Школа стояла на неухоженном, заросшем косогоре; учитель проживал и столовался у кого-то из местных жителей, в миле от места работы. Он крепко выпивал, и родители учеников со дня на день ожидали его увольнения.
Минуло без малого десять лет с тех пор, как близнецы (поступившие вслед за мной) и я начали посещать государственную школу в Тигровом Болоте. Мое образование там же и завершилось, образование близнецов – они были младше меня на одиннадцать месяцев – тоже. Сейчас мои братья и сестры друг за дружкой получают аттестаты, но это единственная школа, где нам довелось учиться, – других школ мы не знали и не видели. Было время – даже отец заговорил о том, чтобы мы написали заявления о свободном посещении уроков. Однако мама (женская гордость – кремень) этого не допустила.
С соседями нам повезло, но один, звали его Джеймс Блэкшоу, тяготел к нам более других и выказывал желание подружиться. Был он, так сказать, самопровозглашенным шейхом нашей общины. У него было правило: брать под крыло всех новоселов и всячески стараться сделать так, чтобы каждый чувствовал себя как дома. К нам он заходил ежедневно: на заднем дворе привязывал свою лошадь к штакетнику забора в тени раскидистой ивы и, когда знал, что наша мама его не видит, мог битый час трепаться с кухаркой Джейн Хейзлип.
Как и я, Джейн терпеть не могла Поссумов Лог. Но свое чувство она облекала в более определенную форму, а потому забавно было послушать неприкрытые суждения, которыми она делилась с мистером Блэкшоу; про него самого, между прочим, она говорила: «Не парень, а курица на яйцах».
– Сдается мне, Джейн, здесь, близ Гоулберна, тебе живется веселей, чем в том захолустье, откуда ты приехала, – изрек он как-то утром, раскинувшись на просиженном диване у нас в кухне.
– Надо ж такое сказануть! «Захолустье»! Да у нас в Бруггабронге жизнь ключом била – за один день поболее событий случалось, чем тут у вас, канительщиков, за всю вашу жизнь, – горячилась она, яростно замешивая опару для хлеба. – В Бругге, считай, каждую неделю праздник был. В субботу вечером вся округа к нам в дом стекалась – насчет почты справиться. До вечера воскресенья гостьба не кончалась. И мясники, и объездчики, и шкуродеры – кого только к нам не заносило. Один на гармонике наяривает, другие пляшут. Веселились до упаду. Девушки хошь по кругу летали, хошь одного-двух кавалеров себе присматривали, а тут что? – Она презрительно фыркала. – Ни одного стоящего парня, с кем замутить не стыдно. Я тутошней жизнью сыта по горло. Жаль, обещалась хозяйке помочь на первых порах, а иначе прям завтра б отсюда сдернула. Хуже дыры, чем эта, в жизни не видала.
– Со временем пообвыкнешься, – увещевал Блэкшоу.
– Как же, пообвыкнешься тут! Чай, не курой высижены, чтоб в такой дыре прозябать.
– Уж тебя-то определенно не кура высидела, ну, разве что брама-гигант[5], – отвечал он, оценивая пышность девичьей фигуры, пока Джейн снимала с огня пару тяжелых горшков. Свою помощь он не предлагал. Такой этикет был выше его понимания. – Ты ведь из дому ни ногой, вот и маешься от скуки, – заключил Блэкшоу, когда она опустила горшки на пол.
– Из дому ни ногой! Подсказали бы: куда мне ходить-то?
– Будет время – наведайся еще разок к моей супруге. Для тебя двери всегда открыты.
– Спасибочки, только супружницей вашей я с прошлого раза по горло сыта.
– То есть как?
– С полчаса посидели, а она вдруг: пора, мол, белье с веревки сымать да на дойку идти. И мужики местные не по мне. У вас тут женщины вкалывают как проклятые. Таких усталых, измотанных теток еще поди найди. Помнится, у меня времечка полно было, когда черные парни аборигенкам все подсобную работу поручали. Да у нас в Бруггабронге женщины только в доме хозяйничали, а ежели переламывались, то лишь когда все мужики на выезде были: ежели где пожар или тревога какая. А тут все работы на женские плечи взваливают. То на дойку ступай, то поросятам отходы неси, то за телятами смотри. Прям тошно делается. Уж не знаю, почему так повелось: то ли мужики еле шевелятся, то ли все силы на молочное хозяйство брошены. А оно не по мне: горбатишься, надрываешься, моешь-скоблишь с утра до ночи, покуда зенки не вылезут, – и кто это ценит? А теперь не откажите в любезности, мистер Блэкшоу, извините-подвиньтесь куда-нибудь на пару минут. Мне под диваном подместь надо.
Задерживаться после этого он не стал. Распрощался – и с глаз долой, так и не определив, позабавили его или оскорбили.
Глава четвертая. Крах карьеры
Если нам с мамой и Джейн Хейзлип дни казались долгими, а жизнь медленной, то отец был всем доволен.
Он рьяно взялся за дело – азартное ремесло, известное как скотная торговля.
Его заносило в Риверину – прицениться к отаре овец, потом в Хомбуш, на распродажу откормленной скотины, оттуда срочно в Бурк или в прибрежный Шолхейвен – прикупить тёлок молочной породы.
Каждую среду он, как завсегдатай, появлялся в Гоулберне на торгах, причем всегда отправлялся в город накануне и возвращался только через сутки, а то и через двое.
От гуртовщиков и аукционистов у него отбоя не было; без его фамилии не обходился ни один вестник скотной торговли в округе. Чтобы не прогореть на этом поприще, требуется изворотливость и здравый ум. Я еще не слышала о торговце скотом, который ни разу не потерпел бы временный, а то и бесповоротный крах.
Отъявленным мошенником быть не обязательно, но кто нацелен на прибыль, тому не стоит обременять себя особой щепетильностью в вопросах чести. Вот тут-то и погорел Ричард Мелвин. Его оболванили многочисленные утопические представления о порядочности, а по характеру он был слишком мягок, чтобы в сделке подняться выше второго места. С таким же успехом он мог бы попытаться сколотить состояние, бродя со скрипочкой по Оберн-стрит, что в Гоулберне. Его торговая карьера была недолгой и веселой. Тщеславное стремление прослыть социалистом, который готов пропустить стаканчик и с бродягой, и с богачом, не скупясь на оглушительные здравицы, оставляло изрядные прорехи в его карманах. Неся потери после каждой сделки, закупая уйму почтовых марок для отправки бесконечных писем аукционистам, часто задерживаясь на три дня кряду в городе и становясь легкой добычей всяких прилипал, он вскоре оказался на грани банкротства. Кое-кто из его ровесников твердил, что виной тому был грог.
Сохрани мой отец незамутненный рассудок, вышел бы из него хваткий малый с видами на успех, но непереносимость алкоголя его сгубила, причем стремительно. Не прошло и года, как все свободные средства, оставшиеся у него в загашниках от продажи Бруггабронга и двух Бин-Бинов, были пущены на ветер. Из-за крайней степени обнищания он, чтобы расплатиться с подгонщиками скота в последней авантюре, был вынужден продать оставленных на прокорм семьи телят от немногочисленных дойных коров.
В ту пору отцу стало известно, что у одного из наших епископов есть деньги, хранящиеся в доверительном управлении для церковных нужд. Тот под солидный процент давал их в рост вопреки установлениям Священного Писания, откуда черпал тексты унылых проповедей, которыми в храме по воскресеньям доводил до изнеможения свою фасонистую паству.
Отец воспользовался непоследовательностью этого преподобного и заложил Поссумов Лог. На вырученные деньги он начал с нуля, не дал семье умереть с голоду и выплатил проценты по епископскому займу. По прошествии лет четырех-пяти он вновь попал в переделку. Цены на домашний скот рухнули, и торговля потеряла всякий смысл.
Тогда Ричард Мелвин решил жить, как все: основать семейную молочную ферму, а родным поручить разведение домашней птицы на продажу.
Для начала он завел с полсотни дойных коров, у которых уже были телята-отъемыши, и прикупил ручной сепаратор для сливок.
Когда мы приступили к производству молочки, мне шел шестнадцатый год. Близнецы, Хорас и Герти, были, как вы уже знаете, на одиннадцать месяцев младше. Хорас, если бы хоть кто-нибудь занялся его воспитанием, мог бы реализовать свои незаурядные способности, а так, предоставленный самому себе, рос неотесанным грубияном, и черты его характера внушали тревогу.
Утром и вечером Герти доила тринадцать коров, я – восемнадцать. Остальные семнадцать оставались на долю матери с Хорасом. Собратья-фермеры начинают приучать своих отпрысков к доению с раннего детства, как только становится ясно, что малыш способен держать подойник. Благодаря этому детские руки привыкают к необходимым движениям и впоследствии выполняют их автоматически. В нашем случае все было иначе. Нас безжалостно приставили к делу, считай, уже взрослыми, и это не прошло бесследно. Руки у нас распухли до локтей, и ночью мы нередко просыпались от боли.
Мама сбивала масло. Вставать ей приходилось в два, а потом еще и в три часа ночи, чтобы продукт успел остыть и затвердеть перед фасовкой для продажи на рынке.
Джейн Хейзлип взяла расчет годом раньше, и мы не смогли позволить себе нанять кого-нибудь ей на замену. Тяжкий труд сказался на моей нежной, рафинированной матери. Исхудавшая, изможденная, она часто злилась. В обязанности отца входило следить за искусственным осеменением строптивых коров, сепарировать молоко и отвозить масло в город – в ту бакалейную лавку, где мы сами затоваривались продуктами.
Дика Мелвина из Бруггабронга было не узнать в нынешнем Дике Мелвине, молочнике и мелком торгаше из Поссумова Лога. Первый был мужчиной, достойным своего имени. Второй стал рабом алкоголя, появлялся на людях неряшливым, зачастую даже неумытым и замызганным. Не считаясь с правилами приличия, он в своем плебействе и непотребстве опустился ниже самых жалких представителей рода людского из тех, что его окружали. Оплот семьи – и вместе с тем никакой не оплот. Глава семьи, не способный выполнять никакие действия, к которым обязывает это звание. Он, похоже, растерял и любовь, и простой интерес к родным, озлился и замкнулся в себе, лишился гордости и внутреннего стержня. Прежде добрый и ласковый с домашней скотиной, он сделался своей противоположностью.
Никогда не забуду, как жесток и груб он бывал с нетелями[6]. А если я позволяла себе хлесткие и нелицеприятные отзывы о его поведении, на меня обрушивались угрозы немедленной расправы.
Во всей цепочке молочного производства его привлекало лишь одно звено: доставка сливочного масла в город. Порой он зависал там на двое-трое суток и чаще всего в пьяном угаре спускал все вырученные деньги. Вернувшись домой, он проклинал свое невезение: якобы его товар не пользовался таким спросом, как соседский.
Когда мою мать настигло проклятие Евы[7], она не смогла больше сопровождать мужа. Обращаться к соседям ей мешала гордость, поэтому обязанность ходить за отцом по пятам от одной пивнушки к другой, а затем направлять в сторону дома возлагалась на меня.
Если бы я поддавалась материнскому воспитанию, то наперекор всему выказывала бы уважение к своему родителю мужского пола, но такова уж моя натура – делать все не так, причем в самое неподходящее время.
Когда я приводила домой (нередко за полночь) пьяного отца, который плел какие-то слезливо-кичливые бредни, у меня в голове зрели крамольные мысли насчет пятой заповеди[8]. Вообще те поездки на рессорной телеге сквозь мягкий, слабый звездный свет склоняли к раздумьям. Мой отец, как и многие мужчины под воздействием алкоголя, никому не доверял вожжи и лошадью всегда правил сам, но, будучи практически недееспособным, гонял ее по кругу на одном месте. Мы чудом ни разу не перевернулись. Готовая ко всему, я хранила спокойствие, и наша верная старая лошаденка, знавшая свое дело, исправно вывозила нас на знакомую дорогу, обрамленную эвкалиптами.
Как того требует Библия, мама учила меня почитанию родителей, заслуживают они того или нет.
Отцовство Дика Мелвина не могло заслонить от меня ту истину, что это был презренный, эгоистичный, безвольный тип, и презирала я его со всей пятнадцатилетней беспощадностью, которая не делает скидок на человеческую слабость и уязвимость. Когда я размышляла над сложившимся положением дел, мною овладевало не почитание, а отвращение.
К матери отношение было иное. Женщина – это всего лишь беспомощный инструмент в руках мужчины, игрушка судьбы.
Видя рядом с собой папашу и думая о младенце и матери, у которой в это время от беспокойства разрывалось сердце, я не могла отделаться от подобных рассуждений. Плутая среди невыразимых мыслей, я терялась, мучилась головокружением и в смятении отшатывалась назад: во мне зрел какой-то дух. Мрачный, одинокий, который я пыталась упрятать в свою грудную клетку, еще недостаточно большую и недостаточно крепкую для его комфортного обитания. Он напоминал стебель вьюна без колышка: ощупью стелился по земле, ушибался и голодал в поисках какой-нибудь прочной опоры, за которую мог бы уцепиться. Лишенный хозяйской руки, которая и направит, и поправит, он подгнивал и закисал.
Глава пятая. Разрозненные заметки и сетования
На меня возложили обязанность «ходить за отъемышами». Это совершенно несусветное занятие, но такая уж выпала мне участь. Во время их кормежки меня посещало множество дум – ведь я, как-никак, обременена мыслительной способностью, а это тяжкое проклятие. Чем меньше в странствиях по жизни мыслишь и докапываешься до причин, истоков и справедливости всего сущего, тем лучше для тебя, если ты мужчина, и вдвое, а то и втрое лучше, если ты женщина.
Несчастные телята! Рабы человеческой алчности! Отлученные от матерей, кои дарованы им самой природой, они были вынуждены пробавляться молоком из сепаратора, то густым, то кислым, то холодным как лед.
Кроме дойки, перед уходом в школу, куда еще нужно было собраться и собрать младших, а потом тащиться две мили пешком, я должна была накормить три десятка телят и вымыть посуду после завтрака. Во второй половине дня, вернувшись домой, зачастую в полном изнеможении от ходьбы под палящим солнцем, я выполняла те же обязанности повторно, а еще очищала от грязи башмаки и делала уроки. На занятия фортепьянной музыкой уже не хватало времени.
Ох уж эти краткие-краткие ночи отдыха и долгие-долгие дни трудов! Мне видится, что молочное хозяйство – это добровольное рабство для бедняков, которым не по карману нанимать помощников. О молочном фермерстве вопросов нет: это занятие благородное, даже артистическое, воспетое передовицами сельскохозяйственных газет и преподаваемое в сельскохозяйственных колледжах. Но я веду речь о том, что представляет собой молочное хозяйство на практике – оно пропущено мною через себя и видено со стороны, – пропускаемое через себя десятками знакомых семей.
Изготовить даже один фунт годного для продажи сливочного масла – это адова работа. В описываемые мною годы рыночные цены на масло оставались в пределах трех-четырех австралийских долларов за фунт – трудов много, денег чуть. Нам приходилось ишачить и надрываться с утра до ночи, без выходных – что в праздничные, что в воскресные дни.
Тяжкий труд – великий уравнитель. От домашней рутины, заготовки дров, дойки, садовых работ очень быстро грубеют руки, а внешний лоск меркнет. Когда тело изнурено непосильным трудом, всякая охота развивать свой ум постепенно уходит, а вместе с ней уходят и всякие признаки былого развития. Именно такая судьба постигла моих родителей. Из фешенебельного слоя общества они переместились в крестьянский. Живя среди крестьян, им и уподоблялись. Теперь ни один из прежних знакомых не входил более в их круг, потому что на австралийское общество опустилась железная, безбожная десница классовых различий, сделав австралийскую демократию достоянием прошлого.
Я не порицаю низший уровень жизненного уклада. Крестьянство – это оплот любой нации. В хорошую пору и при благосклонности времен года жизнь крестьянина – истинного крестьянина с крестьянской душой – это замечательная жизнь. Порядочная, чистая, здоровая. Но для меня она – му́ка мученическая. Окружавшие меня люди вкалывали с утра до ночи, а потом забывались честно заработанным сном. У них было только две формы существования – труд и сон.
Но во мне теплилась еще и третья часть бытия, которая требовала насыщения. Я мечтала о жизни в искусстве. Моей страстью была музыка. Украдкой, за счет ночного отдыха я перечитала все книжки, какие только могла найти в нашей округе. Это не проходило бесследно и подрывало мои физические силы; дети немногим младше меня оказывались более выносливыми. Та третья часть была самой сильной. В ней я проживала выдуманную жизнь писателей, художников и музыкантов. Надежда – сладостная, жестокая, обманчивая Надежда – шептала мне на ухо, что жизнь состоит из множества «когда-нибудь» и в одном из них моя мечта непременно сбудется. Это далекое сверкающее озеро манило меня пройти под парусом по его серебристым водам, а Неопытность – самоуверенная, слепая Неопытность – не сумела указать непреодолимую пропасть, отделявшую меня от этого озера.
Но вернусь к молочке.
Мы все, от мала до велика, зарабатывали на жизнь в поте лица. И при этом свой кусок хлеба добывали честно. Нам не стыдно было смотреть в лицо наступающему дню; мы прокладывали себе дорогу с упрямой настойчивостью наших британских предков. Но когда год тысяча восемьсот девяносто четвертый выдался без капли дождя, а за ним последовал девяносто пятый – жаркий, засушливый, беспощадный девяносто пятый, вот тогда заработать на жизнь оказалось невозможно.
Обжигающие, словно вылетевшие из топки ветры уничтожили каждую травинку; в воздухе носились клубы пыли и жалобные вопли голодной скотины; об овощах пришлось забыть. Вверенные моим заботам телята умирали один за другим; та же судьба постигала коров.
Школу я бросила; мы вместе с отцом и матерью днями напролет выхаживали коров. Когда мы не справлялись своими силами, приходилось обращаться за помощью к соседям, а потом отец оказывал им ответные услуги. Лишь немногим удалось перегнать свои стада подальше от наших мест или найти для них сносное пристанище поблизости. Но большинство крестьян оказалось в таком же плачевном положении, как и мы. Держать коров стало занятием неблагодарным: оно занимало весь день напролет и оставляло место лишь для обсуждения грядущих тягот, связанных с засухой.
В те годы лица отчаявшихся бушменов избороздили горестные морщины. Засуха не только лишила их заработка, но и подвергла мучительному испытанию: смотреть на падеж несчастного скота, в особенности дойных коров – знакомых до мелочей, ценимых и любимых, – которые жалобно и бессмысленно просили корма, когда у хозяев его не было.
Мы отказывали себе в самом необходимом, но все равно семья из десяти человек требовала ощутимых расходов, и сводить концы с концами становилось все труднее. Нас придавила тяжелая рука нищеты, причем нищеты самой острой, которая не опускает головы и сохраняет внешние приличия. Это куда больнее, чем нищета, которая не стыдится себя и переходит из поколения в поколение, не зная ни уязвленной гордости, ни унижений.
Иногда приходится слышать, что нищета не исключает счастливой жизни. Пусть те, кто разделяет это мнение, прочувствуют на себе, каково лишиться хотя бы одного компанейского приятеля; что значит вынужденно погрузиться в чуждую среду; что творится у тебя на душе, когда нет возможности купить почтовую марку, чтобы отправить письмо подруге; пусть они так же пылко, как я, помечтают о музыке и чтении, недосягаемых при такой нищете, пусть нищета вынудит их, как меня, заниматься тем ремеслом, которое отторгается всем их существом, – а там видно будет, сложится ли у них счастливая жизнь.
Мои школьные годы прошли уныло и однообразно. Единственный случай, который выбивался из общего ряда, произошел в тот день, когда учитель по прозвищу Старый Харрис срезал инспектора. Тот был педантичным женоподобным коротышкой. Создавалось впечатление, будто все его мысли на темы, которые он сам считал достойными внимания, аккуратно разложены по полочкам у него в голове и снабжены четкими этикетками для мгновенного извлечения. Держался он по-джентльменски респектабельно, воздавая должное себе и своему положению, но если ум какого-нибудь филантропа можно сравнить с полноводной рекой Маррамбиджи, то ум инспектора больше походил на ведерко воды. Так вот, в тот день – умеренно жаркий – инспектор проэкзаменовал нас почти по всем предметам и теперь листал наши прописи. Он то и дело поднимал голову, кряхтел и одергивал свой жилет.
– Мистер Харрис!
– Да, сэр.
– Сравнения бывают нелицеприятны, но прошу меня простить: одно напрашивается само собой.
– Да, сэр.
– В чистописании ваши подопечные заметно отстают от городского контингента. Почерк весьма неуверенный, неровный. Замечу также, что дети производят впечатление неразвитых и заторможенных. Мне неприятно излагать это в столь прямолинейных выражениях, но по сути… э-э-э… на них, очевидно, лежит отпечаток пресловутой тупости сельских жителей. Чем вы можете это объяснить?
Бедный Старый Харрис! При всей своей слабости к спиртному и неспособности к должному исполнению своих обязанностей он отличался добрым сердцем и человеческим отношением к детям. Понимая и любя своих учеников, он никогда не допускал оскорбительных выпадов. Но случилось так, что перед инспекторской проверкой, дабы собраться с духом, он опрокинул не одну рюмочку, а две, если не три: они-то и лишили его обычной рассудительности, которая подсказывала ему, когда следует придержать язык.
– Сэррр, могу объяснить и охотно это сделаю. Вы гляньте на каждого из этих деток. Каждый из них, вплоть до этой вот крохотулечки, – он указал пальцем на пятилетнюю девчушку, – вынужден доить коров и трудиться по хозяйству до и после уроков, а кроме того, отмахивать в среднем по две мили пешком до школы и обратно в эту адскую жару. Большинство ребятишек постарше доят в среднем по четырнадцать коров в день, утром и вечером. Попробуйте-ка, господин хороший, выдержать хотя бы недельку-другую в таких условиях, а потом проверьте: не дрожит ли, не болит ли у вас рука и легко ли вам пишется. Проверьте, не сонный ли будет у вас видок. Какая, к дьяволу, тупость сельских жителей?! Попробуйте сами корячиться с утра до ночи на жаре и в пыли, причем за сущие гроши, – вряд ли вам достанет сил полировать ногти, читать научные обозрения и шикарно выглядеть. – С этими словами он скинул сюртук и принял бойцовскую стойку перед проверяющим.
Инспектор с содроганием отшатнулся.
– Мистер Харрис, вы забываетесь!
Тут они оба вылетели из класса. Что происходило в коридоре, мы так и не узнали. Эта история не получила продолжения, если не считать путаных рассказов, которые ученики принесли домой после уроков.
Идиллия засухи
– Сибилла, чем ты занимаешься? Мать где?
– Я белье глажу. Мама в курятнике – цыплят обихаживает. А тебе зачем?
Ко мне обращался отец. Время – два часа пополудни. Термометр в тени веранды показывал 105 градусов по Фаренгейту[9].
– Вижу, как по равнине Блэкшоу едет. Зови мать. Тащи путы, у меня «собачья нога» приготовлена. Шевелись, попробуем еще раз коров поднять. Вот бедолаги: можно ведь просто тюкнуть каждую по голове, но вдруг завтра дождь будет? Не вечно же такая засуха продлится.
Я позвала маму, сбегала за путами и взялась за дело, надвинув пониже на лоб панаму, чтобы защитить глаза от пыли, которая слепящими облаками летела с запада. «Собачья нога», которую упомянул отец, представляла собой три соединенных в стойку шеста длиной в восемь-десять футов. Это отцовское изобретение помогало нам поднимать залежавшихся коров. Четвертый шест, более длинный, служил подъемником: на одном конце закрепляли пару пут, предварительно обмотав ремнями коровью грудину и тазовые кости. На другой конец мы налегали всей своей тяжестью, пока один мужчина поднимал корову за хвост, а другой – за рога. Молодые коровы упрямились, с ними приходилось повозиться, а бывалые сами старались встать – с ними было куда проще. Единственное, что требовало сноровки, – это быстро отдернуть подъемник, покамест корова не начала двигаться, а иначе из-за пут она падала снова.
Во второй половине дня нам предстояло поднять шестерых коров. Мужественно расстаравшись, мы поставили на ноги пятерых, а после перешли туда, где под палящим солнцем лежала последняя, привалившись спиной к каменистой плашке на косогоре. Мужчины подвинули ее за хвост, а мы с мамой установили «собачью ногу» и закрепили путы. Корову мы подняли, но бедняжка так ослабела, что тут же рухнула. Перед следующей попыткой мы решили дать ей немного отдышаться. Присесть рядом мы не смогли: в пределах видимости не было ни травинки – только пыль. Обменявшись парой обрывочных фраз – на большее нас не хватило, – мы ждали на солнцепеке и жмурились от пыльного ветра.
Усталость! Усталость!
Ветер гнал по белому небу слабую вереницу легких облаков, изнуренных беспощадным зноем послеполуденного солнца. Усталость читалась и на тонком, изможденном заботами мамином лице, и в насупленных, запыленных отцовских чертах. Блэкшоу обессилел и сам это признал, утирая со щек смесь пота и пыли. Я тоже обессилела: от жары и напряжения у меня отказывали руки-ноги. Обессилело и несчастное животное, распластавшееся перед нами. Обессилела сама природа и будто бы даже завела погребальную песнь устами огненного ветра, который метался среди деревьев позади нас и бился об иссушенную, измученную жаждой землю. Обессилело все вокруг, кроме солнца. Оно, как можно было подумать, упивалось своей властью и, неутомимо-безжалостное, дерзко раскачивалось в небе, победно ухмыляясь при виде своих беспомощных жертв.
Усталость! Усталость!
Такова была жизнь – моя жизнь – моя карьера, моя блистательная карьера. Мне исполнилось пятнадцать лет… пятнадцать! Несколько быстротечных часов – и я стану такой же старой, как те, кто меня окружал. Стоя рядом, я смотрела, как они в изнеможении спускаются под гору жизни. Несомненно, в юные годы они задумывались и грезили о лучшей участи, даже познали ее вкус. Но не тут-то было. Вот она, их жизнь; вот она, их карьера. И моя, судя по всему, обещала быть такой же. Моя жизнь… моя карьера… моя блистательная карьера!
Усталость! Усталость!
А лето плясало. Лето – зверство, а жизнь – изуверство, твердила моя душа. Что за огромный, унылый, тяжелый утес – этот мир! Он изредка выдвигает вперед бесплодные узкие выступы, на которых дозволит нам зависнуть на год-другой, покуда не вытянет через ногти все наши силы, а потом сбросит во тьму и забвение, где, скорее всего, нам уготованы муки пострашнее этих.
Бедняжка-корова застонала. Подъем отнял у нее не только последние силы, но и несколько клочьев кожи размером с тарелку: на язвы страшно было смотреть.
Вытянуть из терпеливой коровы стон можно лишь ценой ее великих страданий. Я отвернулась и с нетерпеливой горячностью, присущей пятнадцатилетним, обратилась с вопросом к Богу: что Он хочет этим сказать? Мало того что страдания обрушиваются на людей, испытывая их готовность к переходу в лучший мир, так ведь страдают еще и несчастные безвинные животные: за что им такие муки?
– Давайте-ка еще разок попробуем, – сказал мой отец.
И мы сделали второй заход; сколько же, оказывается, веса в одной разнесчастной коровенке. С неимоверными усилиями мы вторично поставили ее на ноги и старательно придерживали, пока не убедились в ее устойчивости. Тогда мои родители взяли ее за хвост, а мы с Блэкшоу – за рога, препроводили к дому и накормили мешанкой из отрубей. Потом мы с мамой занялись домашними делами, а мужчины, расположившись на веранде, в течение часа курили, сплевывали и толковали о засухе, после чего пошли к соседям, которым тоже требовалось помочь со скотиной. Я развела в очаге огонь, и мы продолжили глажку, прерванную на несколько часов. В такую погоду браться за горячий утюг совсем не хотелось. Из-за ветра с пылью пришлось затворить все окна и двери. Мы вспотели, измучились и едва держались на подкашивающихся ногах.
Усталость! Усталость!
Лето – зверство, а жизнь – изуверство, твердила моя душа.
Засуха тянулась день за днем. Несколько раз налетал все тот же неистовый ветер, который приносил с пастбищ сухую траву и швырял под забор, туманил воздух пылью и вроде бы сулил дожди, но тут же улетал восвояси, забирая с собой немногочисленные, им же пригнанные тучки; так проходила неделя за неделей, и от горизонта до горизонта в жестоком, слепящем сверкании металлического неба не рождалось и капли дождя.
Усталость! Усталость!
Я здесь твердила одно и то же, но… мм… как бы поточней выразиться… это все от усталости – она и требовала повторений, ведь многократное повторение знакомых слов может, вероятно, чуть-чуть развеять их горечь!
Глава шестая. Мятеж
Как мы ни бились, поднимая наших залежавшихся коров, все они, за исключением пяти, протянули недолго; да и те пятеро вкупе с парой лошадей еле-еле выживали, хотя в их распоряжении была целая тысяча акров. Трава, считай, полностью выгорела: скотина пробавлялась только теплом да водой. Стоит ли говорить, что мы едва сводили концы с концами. Тем не менее при некоторой поддержке наших более удачливых родственников и за счет средств от продажи коровьих шкур и маминой домашней птицы мы умудрились расплатиться с епископом и не протянуть ноги.
К несчастью для нас, тогдашний подручный епископа оказался негодяем и сбежал. У моего отца сохранились квитанции, подтверждавшие своевременную выплату процентов по займу; однако мы, не имея финансовой возможности тягаться в суде с его преосвященством епископом, который, воспользовавшись некой лазейкой в законе, отказался признавать, что бывший церковный староста действовал как его агент, получили судебное предписание. В свете всех прочих злоключений нас это просто сломило: мы умоляли об отсрочке, но в ответ епископ направил к нам судебного пристава, и все наше имущество было описано для продажи. Пять коров, две лошади, молочный сепаратор, плуг, тележка, подвода, двуколка, даже кухонная утварь, книги, картины, мебель, отцовские наручные часы… Да что там говорить, даже кровати, подушки и одеяла. Нам оставили только одежду, в которой мы стояли во время этого грабежа, – так и канули все наши средства, подтвержденные квитанциями.
Это кончилось бы совсем плачевно, если б не щедрость родственников. Мы получили денежный перевод на обзаведение всем необходимым; не остались в стороне и соседи, которые с готовностью и сердечным, искренним сочувствием оказывали нам посильную помощь. Судебный пристав показал свою порядочность: видя, как обстоят дела, он, где только мог, шел нам навстречу.
Распродажа нашего имущества была организована прямо на месте, и соседи устроили шутовские торги, на которые пристав смотрел сквозь пальцы. Необходимые средства нам обеспечили хорошие знакомые; соседи для виду делали ставки, не мешая друг другу, и наш скарб уходил за сущие гроши. Как говорится, не всякая туча могуча: даже у черной тучи нищеты бывает ярчайшая серебристая оторочка.
В нищете можно достучаться до чужих сердец – богачам этого не дано. Люди приходят тебе на помощь, не ожидая ничего взамен: просто по дружбе и доброте душевной. Пару раз в жизни не вредно окунуться в бедность, чтобы примерить к себе благодать и настоящую маленькую вселенную любви и дружбы. Не стоит думать, будто достаток мешает находить истинных друзей, но богатых, сдается мне, всегда точит червячок сомнения, который намекает, что любовь и дружба, которые сыплются на них с разных сторон, – это не более чем своекорыстие и притворство, инструменты ремесла подхалимов-угодников, слетающихся к богатству.
В связи с именем епископа распродажа нашего добра была должным образом разрекламирована в местных газетах, и мой отец получил несколько сочувственных писем от священнослужителей, которые порицали действия церковника. Отец не был знаком с авторами этих писем, а те, в свою очередь, не ведали, что Ричарда Мелвина пускают по миру за уже выплаченный долг.
Благодаря великодушию родни и доброте милейших соседей наша мебель вернулась в дом, но на что нам было жить? Посевы сгубила засуха, коров было всего пять… Прогнозы оставались не слишком радужными. Как-то вечером, когда я укладывалась спать, ко мне в комнату зашла мама и серьезно сказала:
– Сибилла, мне надо с тобой поговорить.
– Надо – говори, – угрюмо ответила я, предвидя длинную нотацию о моей никчемности, – тема эта у меня в зубах навязла.
– Сибилла, я за последнее время тщательно обдумала этот вопрос. Выхода нет: нам не по карману тебя содержать. Придется тебе пойти на заработки.
Не получив от меня ответа, мать продолжала:
– К сожалению, мы вынуждены полностью изменить домашний уклад. Выбора нет – отец не способен прокормить семью. Угораздило же меня с ним связаться. С тех пор как он пристрастился к выпивке, проку он него не больше, чем от кота. Наших малышей я вынуждена отправить к родственникам, средние пойдут работать по найму, мы с отцом тоже. Другого будущего я не вижу. Бедняжка Герти слишком мала, чтобы идти в услужение. – (Нас с ней разделяло менее года). – Она, я считаю, должна переехать к вашей бабушке.
Я не проронила ни слова, и мама осведомилась:
– Итак, Сибилла, что ты думаешь по этому поводу?
– По-твоему, обязательно разрушать семью? – спросила я.
– Ну, если ты такая умная, предложи что-нибудь получше, – раздраженно бросила мама. – Вечная история: любое мое предложение тут же отвергается, но при этом никто, кроме меня, еще не высказал ни одной дельной мысли. А ты бы как поступила? Сдается мне, ты возомнила, будто сумеешь, не двигаясь с места, самостоятельно прокормить семью.
– Почему мы не можем остаться в своем доме? И у Блэкшоу, и у Дженсена жилища не просторней нашего, да и семьи такие же, однако они как-то справляются. Малышей разлучать нельзя: они станут друг другу чужими.
– Да-да, тебе легко говорить, но как твой отец начнет с нуля, не имея в этом мире ничего, кроме пяти голов скота? Ты вечно несешь какую-то бессмыслицу. Со временем ты признаешь, что мои планы – всегда самые лучшие.
– Разве не проще будет, – не унималась я, – если все родственники по мере сил помогут нам начать заново? К чему им такая обуза – поднимать чужого ребенка? Я уверена: они и сами предпочтут первый вариант.
– Да, возможно, так будет лучше, но, я считаю, ты должна сама себя обеспечивать. Что скажут родственники, увидев такую взрослую девушку?
– Значит, я отправлюсь на заработки, а ты, вышвырнув меня из семьи, обретешь рай земной. И поскольку никто не будет подавать дурных примеров, дети вырастут святыми, – с горечью сказала я.
– Не говори глупостей, Сибилла, сама знаешь – нынешняя работа тебе не по нутру. Если бы ты согласилась шить и помогать мне в разведении птицы… А кстати, почему бы тебе не освоить кулинарию?
– Освоить кулинарию! – презрительным эхом отозвалась я. – Чад, который валит из этой старой печки, может лошадь убить, а отскабливать и отдраивать грязь – никаких нервов не хватит. И потом, как только я собираюсь приготовить что-нибудь этакое, каждый раз оказывается, что нам не по карману то масло, то изюм, а яйца и вовсе наперечет! Лети, кухарка, пулей, подыхай с бабулей!
– Сибилла! Сибилла, что за вульгарность!
– Да, когда-то я по глупости пробовала говорить манерно, только зачем? Для моей компании такие штучки как раз подходят. А если даже это вульгарность, какая разница? У себя дома я могу кормить телят, доить коров и пахать как лошадь, хоть вульгарно, хоть шикарно, – свирепо бросила я.
– Сама видишь: ты вечно недовольна своим домом. Тут уж ничего не попишешь, лучше всего тебе идти на вольные хлеба.
– Вот и пойду.
– И чем думаешь заниматься? Может быть, тебя допустят к преподаванию в начальных классах? Для девушки это очень подходящая стезя.
– А какие у меня шансы составить конкуренцию девчонкам из Гоулберна? У них прекрасные учителя и уйма времени для занятий. А у меня – Старый Харрис, тупое животное, каких еще поискать; но главное – меня тошнит от одной мысли об учительстве. Бродяжничать и то лучше.
– До прислуги или кухарки ты еще не доросла, для горничной у тебя нет опыта, шить не любишь, а в больницу санитаркой тебя не возьмут. Признай – ты ни на что не годишься. Если честно, для своего возраста ты совершенно бесполезна.
– Я много чего умею.
– Например?
Ответа у меня не было. Профессии, в которых я, по собственным ощущениям, могла бы преуспеть, но еще не успела себя проявить, лежали далеко за пределами возможностей нашей семьи, а надумай я поделиться своими чувствами и устремлениями с приземленной, практичной матерью, на меня обрушились бы издевки почище тех, которые я и без того терпела изо дня в день.
– Назови хотя бы пару занятий, на которые ты способна.
Я вполне могла бы назвать воздухоплавание, о котором и в самом деле задумывалась. Но упомянула музыку – занятие из числа наиболее безобидных.
– Музыка! Прежде чем ты сможешь хоть как-то зарабатывать этой профессией, на обучение уйдут многие годы и бешеные деньги! Даже речи быть не может! Единственное, что тебе подходит, – это взяться за ум, воспитать в себе трудолюбие и помогать семье сводить концы с концами; ну или устроиться сиделкой, а там пробиваться выше. Если у тебя есть хоть какие-то задатки, они непременно проявятся. Если же ты думаешь, что способна в чем-нибудь преуспеть, а работа по дому ниже твоего достоинства, то ступай в открытый мир и покажи всем, какое ты чудо из чудес.
– Мама, ты жестокая и несправедливая! – взорвалась я. – Ты меня совсем не понимаешь. Я никогда не считала, что могу преуспеть. Но что мне делать, если я так устроена: грязный ручной труд мне ненавистен, и с каждым днем все сильнее, а ты можешь до посинения гнуть свое, чтобы мне было еще противней. Если мне суждено всю жизнь, причем долгую, заниматься только этим, то под старость это занятие не станет мне милее, чем сейчас. Я же не по своей воле родилась со склонностью к лучшей участи. Появись я на свет заново, причем с возможностью творить свою натуру, я бы создала себя самой низкой, самой грубой тварью из всех возможных, чтобы проще было заводить знакомства, а еще лучше – просто слабоумной.
– Сибилла! – тоном оскорбленной добродетели воскликнула моя мать. – Чудо, что Господь не убил тебя на месте; в жизни не слышала, чтобы…
– Я в Господа не верю, – яростно вырвалось у меня, – но если Он и существует, то ничем не похож на милосердное божество, каким Его изображают, а иначе Он не мучил бы меня для собственной забавы.
– Сибилла, Сибилла! Как я могла взрастить такое дитя! Известно ли тебе, что…
– Мне известно только одно: я ненавижу эту жизнь. Ненавижу ее, ненавижу, ненавижу! – в запальчивости твердила я.
– И мы еще говорим о том, чтобы ты отправилась на заработки! Такую, как ты, ни одна хозяйка и дня не вытерпит у себя в доме. Ты сущая дьяволица. О боже! – Мать разрыдалась. – За что мне это проклятье – такой ребенок? Да ни одной женщине в округе не выпало нести такое бремя. Чем я провинилась? У меня одна надежда, что Господь услышит мои молитвы и смягчит твое злое сердце.
– Если твои молитвы будут услышаны, то не раньше моих, – огрызнулась я.
– Твои молитвы! – презрительно бросила мать. – Вот ужас-то, ребенку еще шестнадцати нет – и такая ожесточенность. Не знаю, что и думать: ты ни разу в жизни не заплакала и не повинилась. То ли дело малышка Герти. Да, она нередко шалит, но стоит сделать ей замечание – и она сердится, переживает, то есть показывает себя как дитя человеческое, а не как нелюдь.
С этими словами мать вышла из комнаты.
– А я сколько ни винюсь – меня же еще и бранят! – выкрикнула я ей вслед.
– Не иначе как ты рехнулась. Это единственное разумное объяснение твоим замашкам, – съязвила мать напоследок.
– Какого лешего вам неймется? Сцепились тут среди ночи, как две кошки, мужчине отдохнуть не даете, – раздался из-под одеяла отцовский голос.
Моя мать – женщина добропорядочная… даже очень… но и я, наверное, не какая-нибудь преступница, а все же мы с ней не ладим. Я – механизм, который мама по неведению заводит в обратную сторону, – все шестеренки скрежещут и не стыкуются.
Она удивлялась, почему я не плачу и не прошу прощения, то есть не проявляю признаков человечности. А я была слишком истерзана, чтобы лить слезы. Эх, кабы слезы могли облегчить мое отягощенное сверх меры сердце! Взяв с тумбочки кустарную сальную свечу в жестяном подсвечнике, я посветила в миловидное личико своей спящей сестренки Герти (мы с ней делили одну кровать). Мама была права. Если Герти бранили за какой-нибудь проступок, она тут же ударялась в слезы, просила прощения и немедля его получала, чтобы разом выбросить из головы очередной конфликт. Ее характер укладывался в рамки материнского понимания, мой – никогда; моя сестра, по мнению нашей мамы, была наделена чувствами, а я – нет. Сумей мама до меня достучаться, она бы знала, что я в один день способна испытать и всю глубину страданий, и необыкновенные всплески радости, какие Герти не дано было познать за всю ее жизнь.
Неужели я действительно рехнулась, как выразилась моя мать? Меня посещало такое опасение. Конечно, я не знала и даже не видала ни одной девочки, похожей на меня. Что за горячий, необузданный дух метался во мне? Вот бы мне научиться плакать! Опустившись на кровать, я застонала. Почему я не похожа на других девчонок? Почему я не похожа на Герти? Почему моя голова не забита новыми платьями, повседневными трудами, редкими пикниками? От моих метаний Герти проснулась.
– Что случилось, Сибилла, родненькая? Ложись спать. Знаю, мама тебя ругает. Да она вечно кого-нибудь ругает. Подумаешь! Ты скажи: «Я больше не буду», – она и отстанет. Бери пример с меня. Давай ложись. А то утром без сил проснешься.
– Мне все равно. Я хочу умереть. Зачем мне жить, если я такое ничтожество? Никому не нужна, никому не близка.
– Я тебя люблю, Сибилла, больше, чем всех остальных, вместе взятых. Без тебя мне жизни нет. – Она прильнула ко мне своим милым личиком и поцеловала меня в щеку.
Какой же бальзам на мятежную душу – капелька любви, пусть быстротечной и переменчивой! Я вдруг поняла, что могу плакать неудержимыми, горячими слезами, и, не раздеваясь, заснула в объятиях сестры.
Глава седьмая. Когда бывали розы без шипов?
Наутро, когда я выбралась из постели, мою голову отличали три признака: распухшие глаза, мигрень и твердое решение написать книгу. Именно книгу, ни больше ни меньше. После нескольких часов моей работы на утреннем холоде поздней осени припухлость глаз и головную боль как рукой сняло, но мысль о том, чтобы облегчить душу посредством писательства, только прочнее засела у меня в мозгу. Со мной такое уже бывало. Двумя годами ранее я запаслась писчей бумагой и в час, а то и в два часа ночи выскальзывала из постели, чтобы строчить внушительный роман, длинный и подробный, в котором тщательно выписанные герой и героиня неуклонно выполняли традиционные обязанности героя и героини. Зная о наших стесненных обстоятельствах, моя бабушка, когда отправляла мне письма, непременно вкладывала в конверт почтовую марку, чтобы я могла сразу ответить. Марки эти я сберегла и благодаря этому сумела отправить свою рукопись в крупнейшее сиднейское издательство. Где-то через месяц я получила вежливую отписку, в которой говорилось, что сюжетная линия свидетельствует о незаурядных способностях, однако в глаза бросается авторская неопытность, которая не позволяет опубликовать данное произведение в настоящем виде. Автору рекомендовалось изучать лучшие образцы художественной прозы, чтобы в будущем непременно влиться в ряды австралийских романистов.
Это было весьма обнадеживающее суждение о работе тринадцатилетнего подростка, куда более обнадеживающее, чем те отзывы, которые получали маститые писатели в начале своей литературной карьеры; но даже мой незрелый умишко заподозрил, что этот шаблонный текст направляется издательством в ответ на рукопись любого безвестного писателя, а знакомство с представленным произведением ограничивается в лучшем случае заглавием. После этого я написала несколько рассказов и очерков; но теперь все тот же дух подталкивал меня к созданию другой книги, причем без всякой надежды на успех, поскольку изучение литературы, рекомендованное издательством, лежало за пределами моих возможностей. Книги я видела крайне редко, а когда такое случалось, читать могла лишь урывками, в свободное от хозяйственных дел время.
И все же те несколько шиллингов, что изредка перепадали мне в качестве заработка, тратились на покупку бумаги, а столь необходимый мне отдых я втайне урезала на несколько часов в неделю, чтобы писать дальше. Из-за этого днем, к вящей досаде моей матери, я ползала как сонная муха. У меня постоянно вылетали из головы те дела, которые забывать никак нельзя, а все потому, что мои мысли занимало только оттачивание сюжета. Недосып не проходил бесследно. Я вечно жаловалась на усталость, и работа становилась для меня обузой.
Мама терялась в догадках. Вначале она подозревала, что я просто распустилась и обленилась, а потому придумывала для меня всевозможные наказания; но я, полностью захваченная своей книгой, даже не злилась, не дерзила и не закатывала истерик. Тогда она решила, что я больна, и отвела меня к врачу, который диагностировал ускоренное физиологическое развитие и заверил, что с наступлением теплой погоды мое самочувствие улучшится. Он вручил мне пузырек с общеукрепляющим средством, который был выброшен в окно. Меня больше не гнали работать сиделкой: отец скооперировался с соседом, получившим подряд на дорожное строительство, и благодаря этому стал зарабатывать нам на пропитание, хотя и не слишком обильное.
Жизнь шла своим чередом и, по моему разумению, без сбоев брала одно препятствие за другим, но в июле тысяча восемьсот девяносто шестого мама получила письмо от своей матери, которое внесло приятные перемены в мою судьбу. Впрочем, во всякой бочке меда есть ложка дегтя. В письме говорилось:
Дорогая моя дочь Люси!
На сей раз – короткое письмецо. Времени у меня в обрез: к нам только что заглянули четверо или пятеро приезжих и попросились на ночлег, а поскольку одна из служанок сейчас в отъезде, мне самой приходится готовить им постели. Обращаюсь к тебе по поводу Сибиллы. Я глубоко опечалена, что она доставляет тебе столько волнений и тревог. Девочка определенно нездорова, иначе не стала бы вести себя так, как сказано в твоем письме. Она еще совсем юная и, возможно, со временем угомонится. Мы можем лишь уповать на милосердие Господа, который всегда рядом. При первой же возможности отправь ее ко мне. Все расходы беру на себя. Перемена обстановки пойдет ей на пользу, и, если ее поведение улучшится, пусть живет у меня столько, сколько ты позволишь. Замуж ей пока рановато, но через год она достигнет того возраста, в котором я пошла под венец; скорее всего, ей на роду написан ранний брак. Но в любом случае для нее предпочтительней уехать подальше от Поссумова Лога, поскольку она быстро взрослеет и, весьма вероятно, рискует сделать невыгодную партию. Здесь она скорее найдет подходящий вариант. Ни в коем случае не желая возлагать на себя роль свахи, отмечу, что Герти наступает ей на пятки, а Сибилла при своей невзрачности может надолго засидеться в девушках.
Твоя любящая мать,
Л. Боссье
Мама дала мне прочесть это письмо от начала до конца, а потом спросила, согласна ли я на переезд. Я холодно отвечала:
– Согласна. Беднякам да голякам выбирать не приходится, а бабушка может содержать меня хоть в Каддагате, хоть в Поссумовом Логе. – (И в самом деле, бабушка оказывала неоценимую помощь нашей семье).
В смысле природных условий Поссумов Лог мог похвалиться только одной достопримечательностью – своими австралийскими акациями. Подступающие к дому холмы и овраги были украшены вечнозелеными шатрами старых кустарников и плотными щеточками молодых, а на равнинах разрастались целые рощи из нескольких видов. Этот день пришелся на воскресенье, и у меня выдалась пара свободных часов; получив из письма информацию к размышлению, я вышла на воздух и по низкому склону за домом спустилась в овраг, где у подножия стены из акаций бросилась на свою любимую кочку: мне требовалось многое обдумать.
Мама, стало быть, жаловалась на мои недостатки бабушке – моей бабушке, которую я нежно любила. Маме стоило бы проявить хоть каплю чести и материнского заступничества – пусть бы оставила при себе повесть о моих грехах. Ее обвинения меня злили, но не удивляли: я уже привыкла, что мать сообщает всем соседям, какое я для нее наказание – вечно всем недовольна и совершенно безразлична к работе. Но меня убила завершающая часть письма. Силы небесные! Разумеется, если бы мама понимала эти невыносимые муки, эти дни и часы неприкрытых и непрерывных страданий по поводу моей внешности, она бы нипочем не показала мне это письмо.
Значит, для меня, уродины, время еще не настало – пока что не получился из меня ходкий товар на ярмарке невест; вот радость-то! Моя бабушка, особа старой закалки, считала, что для девушки единственная подходящая стезя – это замужество; зная бабушкины настроения, ее планы выдать меня замуж, я не испытала ни удивления, ни досады. Но я – дурнушка. Нет, ну надо же! Ох! Ах! Не выразить словами то чувство, которое всколыхнул во мне этот ярлык. Он, как беспощадный, зазубренный нож, вонзился мне в самое сердце, но не потому, что мог помешать моему замужеству, ибо сама мысль о замужестве внушала мне антипатию. Замужество, как мне виделось, жутко связывает женщину по рукам и ногам, обрекая ее на бесправие. Ладно еще, если в браке присутствует любовь, но меня смешила сама идея любви, и я преисполнилась решимости никогда, никогда, никогда не вступать в брак.
Другая тема бабушкиного письма – та, что меня порадовала, – касалась возможного переезда в Каддагат.
Каддагат – я же там появилась на свет! Каддагат был овеян бабушкиной любовью и лаской, согревавшей милые, недолгие дни моего детства. Каддагат – место, которое хранилось у меня в сердце как родной дом. Каддагат, самой природой облеченный в мечту о красоте. Каддагат, Каддагат! Каддагат – ничего другого мне не нужно, Каддагат навсегда!
Погруженная в свои мысли, я даже не чувствовала унылой зимней стужи и сидела без движения, прислонясь к стволу акации, пока не пришла Герти, чтобы позвать меня пить чай.
– Я знаю, Сибилла, что сегодня твоя очередь накрывать стол к чаю, но я сделала все сама, чтобы не допустить скандала. Мама тебя обыскалась, а потом предположила, что у тебя, скорее всего, очередная истерика.
Миловидная крошка-примирительница! Она нередко меня выгораживала.
– Понятно, Герти, спасибо тебе. Я твоя должница, буду накрывать чайный стол два вечера подряд… если, конечно, тут задержусь.
– Если тут задержишься? В каком смысле?
– Скоро меня здесь не будет, – сказала я, внимательно вглядываясь в ее личико, чтобы понять, не безразлична ли ей эта весть: уж очень я изголодалась по любви.
– Ты задумала сбежать, потому что мама тебя вечно ругает?
– Да нет же, глупышка! Я переезжаю в Каддагат, к бабушке.
– Насовсем?
– Да.
– Правда?
– Да.
– Честное слово?
– Да, честней не бывает.
– И больше никогда не вернешься?
– Ну, насчет «никогда» сказать не могу, но уезжаю насовсем, если человек может планировать свое будущее. Ты расстроилась?
Да, она расстроилась. Детские губы дрожали, миловидное голубоглазое личико вытянулось, по щекам тут же потекли слезы. Все эти подробности я отмечала с жестоким удовлетворением. Ее сожаление было незаслуженным, ведь я, при всей любви к сестренке, всегда была слишком погружена в себя, чтобы быть с ней по-настоящему доброй и заслужить ее обожание.
– А кто же мне будет рассказывать сказки?
У меня вошло в привычку рассказывать ей истории, рожденные моим богатым воображением. В благодарность она меня покрывала, утаивая, что я ночами сижу за столом и пишу, вместо того чтобы лежать в кровати. Должна же я была как-то заручиться ее молчанием: ведь она, моя Герти, которая беззаветно в меня верила, пару раз проснулась в несусветные часы и застукала меня за ночными бдениями, отчего так испугалась за мой рассудок, что уже готова была позвать отца с матерью, – мне с трудом удалось ее остановить. Но я взяла с нее слово хранить тайну и после того случая получала изощренное удовольствие, когда своими россказнями вызывала у нее – по собственной прихоти – смех, неподдельное изумление или слезы.
– Ты с легкостью найдешь другую рассказчицу.
– Нет, ты лучше всех. А кто будет меня защищать от Хораса?
Я прижала ее к груди.
– Герти, Герти, обещай, что будешь меня любить – хоть немножко, но вечно – и никогда-никогда-никогда меня не забудешь. Обещай.
И Герти, опустив голову мне на плечо, подставив слабому сиянию зимнего солнца свои золотистые волосы, дала мне слово – нетвердое слово ребенка-мотылька.
Самоанализ
NB. Эта часть занудлива и эгоистична. Ее лучше пропустить. Мой вам совет.
С. П. М.
В раннем детстве меня переполняли мечты о великих делах, которые я совершу, когда вырасту. Амбиции мои были беспредельны, как буш, где проходит моя жизнь. С возрастом до меня дошло: я же девочка – будущая женщина! Всего лишь девочка – и ничего более. Для меня стало настоящим потрясением то, что брать этот мир за жабры и побеждать судьбу дано только мужчинам, а женщины обречены, фигурально говоря, сидеть со связанными руками и терпеливо страдать, пока волны злого рока беспощадно швыряют их туда-сюда, награждая синяками и шишками. Осознание вылилось в привычку к этому ярму; я перестала горевать, что родилась девочкой, и смирилась с этой гранью своей участи. Более того, я убедилась, что быть девчонкой не так уж плохо, но тут на меня свалилась ужасающая истина: я – страшила! Эта истина отравила все мое существование. Я терзаюсь днем и ночью. Такой болезненный струп не заживет никогда: он подобен чудищу-хобгоблину, от которого не отделаться никакими силами. В связи с этим адским клеймом за мной закрепилась репутация шибко умной. Час от часу не легче! Девочки, девочки! Если у вас есть сердце, а значит, и желание со временем обрести счастье, собственный дом и мужа, то ярлык шибко умных вам не грозит. А в противном случае он вытолкнет вас, как прокаженных, из предсвадебной гонки. Поэтому, едва заподозрив у себя такой недуг, как интеллект выше среднего, да еще вкупе с незавидной внешностью, спрячьте свои мозги, скомкайте ум, притворяйтесь глупышками – для вас это единственный шанс. Если женщина хороша собою, ей прощаются все недостатки. Пусть она порочна, скучна, лжива, легкомысленна, бессердечна и даже умна – была бы только приятна глазу, и от поклонников у нее не будет отбоя, потому что в этом мире мужчины по-собачьи ловят самый лакомый кусок, чтобы утвердить свое верховенство и внушить подобострастие остальным. А неказистой женщине никогда ничего не прощают. Участь ее такова, что родители неказистых новорожденных дочурок того и гляди станут умерщвлять их в колыбели.
Следующее неприятное открытие, сделанною мною в отношении себя, сводилось к тому, что я всегда оказывалась пятым колесом в телеге. В школе меня окружали ровесницы, и я вечно сравнивала себя с ними. Воспитывались мы бок о бок. У них были такие же преимущества, как у меня, а у некоторых даже больше. Нас окружал тесный, унылый мирок, но другим в нем не грозило одиночество: они с ним срослись, а я нет. Их повседневные дела и маленькие радости подливали вдоволь масла в светильник их жизни, а мой светильник требовал большего, чем мог дать Поссумов Лог. Мои одноклассницы были совершенно невежественны во всем, что касалось внешнего мира. Такие имена, как Патти, Мельба, Ирвинг, Терри, Киплинг, Кейн, Корелли, даже Гладстон[10], оставались для них пустым звуком. Что за ними скрывалось – то ли острова, то ли беговые лошади, – девчонки не знали и знать не хотели. Со мной было иначе. Сама не понимаю, откуда я черпала сведения, – как видно, с ними родилась. Наша семья регулярно выписывала единственную местную газету, мне на глаза попадались какие-то книги, раз в год доводилось побеседовать с образованным человеком из более высоких слоев общества, а вот поди ж ты: я знала всех выдающихся деятелей литературы, изобразительного искусства, музыки, театра и в своем воображении жила среди них. Родители старались избавить меня от подобного рода глупостей. Когда-то и они увлекались литературой и возвышенными искусствами, но теперь за ненадобностью утратили к ним всякий интерес.
Я росла неукротимой и непоседливой; мне всегда хотелось быть на гребне волны. «Действовать! Действовать! Не мешайте мне действовать!» – таков был мой клич. Мама воспитывала меня по своему разумению. Энергично наставляла. Вытаскивала на свет замшелые изречения и проповеди, но безуспешно. Можно было подумать, я пытаюсь домашними средствами исцелить тяжкий недуг, подвластный только медицинскому светилу. Но меня без конца лечили старой песней, исполняемой на одной струне: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай»[11]. Мне ежедневно лилось в уши, что житейские мелочи – это основа благородства и что все великие люди, мои кумиры, говорят то же самое. Я обычно отвечала, что сама знаю о благородстве, которое живет в мелочах, и могу написать об этом притчу не хуже любого мудреца. Великим людям легко рассуждать о величии мелкой, пустой, скучной жизни. Почему же они сами ею не ограничились?
«Как уцелеть под бороной – известно жабе лишь одной; однако бабочка с высот советы жабе подает»[12].
Я не собиралась разделять занудливое, робкое жабье благородство; меня влекли триумфы бабочки, хотя они и порицаются наравне с пустыми мыльными пузырями. Свою жизнь я стремилась проживать в юности, а лозунг свой цитировала так:
- На заре поднимаюсь с кувшином к ручью.
- Путь не близок, росистые тропы в горах высоки.
- Там кувшин, может статься, и службу окончит свою —
- Глиной к глине вернутся его черепки.
- Мне соседи: «На полке кувшин свой храни!
- Наш в чулане стоит – до скончанья веков будет цел.
- Пусть уж сам он рассыплется в прах, – поучают они. —
- Что ж поделать? Всей утвари есть свой предел».
- Эх, соседи, о том ли ведете вы речь?
- Неужели в чулан я свой старый кувшин отнесу,
- Неужели его мне отныне, как злато, беречь,
- Чтоб не видел он впредь ни зарю, ни росу?..
- Много ль толку мне будет в науке такой?
- Хоть проста моя истина, вашей она – не чета:
- Век пылиться в чулане – тоскливый, унылый покой,
- А в прозрачный ручей погружаться – мечта[13].
Мне достало здравого смысла понять, сколь бесполезно пытаться себя переломить. В ту пору беспощадной конкуренции у меня шансов не было: все решала не одаренность, а счастливая случайность. Судьба сочла, что не обязана давать мне ни преимуществ, ни счастливых случайностей, поэтому я оказалась беспомощной. Оставалось учиться по одежке протягивать ножки. Я мужественно пыталась войти в «то состояние жизни, к коему благоволил призвать меня Господь»[14]. Я падала, набивала синяки и шишки, но как только поворачивалась одним боком, все то же самое обрушивалось на другой и принуждало меня втискиваться в узкое ложе Поссумова Лога.
- Биенья души и метанья
- Надежды пустые несут;
- Усталые сны и желанья
- От горькой тоски не спасут:
- В зыбучих песках грезит каждый
- Что видит чистейший поток,
- Но путник, измученный жаждой,
- Не сможет тут сделать глоток[15].
Напрасно стараясь утолить эту злую жажду, моя душа ощупью блуждала по чуждым темным пределам. Она шла на поиски какого-нибудь божества и, не находя его, изнывала.
Тем же неведомым путем, каким снизошел на меня дух более возвышенной жизни, пришло ко мне и понимание греха, и осознание мирской скорби – плача миллионов угнетенных, униженных, забытых Богом! Шестерни общественного механизма нуждались в подгонке – они работали скверно. Как же мне было найти способ состыковать их зубцы и обучить ему свои ближних?! Я ломала голову над этим вопросом, который казался мне не по силам. Мужчина с такими мыслями – сам себе враг, а о женщине и говорить нечего! Она даже не порождение своей среды, но порождение, лишенное всякой среды, – одинокое существо!
Придя к такому заключению, я взбунтовалась и обрушилась на Бога, который взвалил на мои плечи непосильную ношу… Обрушилась на Него с горечью, а изнутри слышала голос: и на кого ты обрушилась? Бога нет. Я росла неверующей. И ведь не сказать, чтобы я тянулась или стремилась к атеизму. Я жаждала стать христианкой и сражалась с неверием. Обращалась за помощью к окружавшим меня христианам. Наивная дурочка! С таким же успехом я могла бы объявить себя блудницей. Моя благовоспитанность рассеивалась в мгновение ока. Некоторые говорили, что утратить веру в существование Бога невозможно, а я, мол, веду себя таким образом лишь для того, чтобы выделиться, и умывали руки.
Не верит в Бога! Вот сумасшедшая!
Но если Бог есть, почему же никто не удосужился мне объяснить, как его найти?
Молись! Молись!
Я молилась – часто, истово, но вечно слышала все тот же леденящий шепоток: молиться-то некому…
Ох уж этот гнетущий, безнадежный сердечный голод безбожия, понятный только атеисту! Живешь без цели в жизни, без надежды на загробный мир. Эти размышления повергали меня в глубокую тоску.
Сомнений нет: если бы мой отец занимал более завидное положение в обществе, тогда у меня, его дочери, жизнь была бы полна приятных занятий и удовольствий, которые исключают то состояние духа, что терзает меня по сей день. Или пусть бы рядом со мной был друг, который сам страдал и все понимал, в котором можно раствориться и найти опору, – тогда из меня бы получилась более положительная личность. Но во всем огромном мире не нашлось ни единой души, которая протянула бы мне руку помощи, и я говорила: «В этом мире нет добра». А в более мягком расположении духа: «Ах, как все запутанно! Тот, у кого есть сердце и кто готов помочь, не имеет власти, а тот, у кого есть власть, не имеет сердца».
Зло, подобно слишком сильному противнику в шахматной партии, всегда держится на расстоянии вытянутой руки от добра, чтобы поставить ему мат, как слабо защищенному королю.
Как ни печально, но я всегда была не уверена в себе. В возрасте шестнадцати лет мне требовался какой-нибудь проводник через тернии жизни, и, не находя его, я росла циничной безбожницей, какую не сыщешь и за трое суток пути.
Глава восьмая. Прощай, Поссумов Лог. Ура! Ура!
Если у жителя Сиднея есть знакомые в Гоулберне, он скажет: они «из глубинки». Если у жителя Гоулберна есть знакомые в Яссе, он скажет: они «из глубинки». Если у жителя Ясса есть знакомые в Янге, он скажет: они «из глубинки» – и так далее. Каддагат находится «в глубинке».
Перед отъездом туда во вторую среду августа тысяча восемьсот девяносто шестого года я купила билет на железнодорожном вокзале Гоулберна и около часу ночи села в вагон второго класса почтового поезда, следующего до Мельбурна. В этом поезде мне предстояло трястись часа три-четыре, чтобы потом сделать пересадку и ехать по другой ветке еще два часа. В Гоулберне я села в вагон одна; все остальные пассажиры вошли на предыдущих остановках и уже спали. С трудом разлепив глаза, один или два человека хмуро посмотрели, кого к ним принесло, и опять заснули. Движение поезда доставляло мне удовольствие; сна не было ни в одном глазу. Я встала и, прижимаясь лбом к холодному оконному стеклу, тщетно пыталась сквозь чернильный мрак различить пролетавшие мимо силуэты.
Меня слишком поглощали приятные мысли о ближайшем будущем, чтобы раздумывать о недавнем прошлом. Я не жалела об отъезде из Поссумова Лога. Совсем наоборот, мне хотелось всплеснуть руками и закричать от радости: я отделалась от него! От родительского крова! Боже упаси, чтобы пережитое в Поссумовом Логе оказалось единственной пищей для воспоминаний о доме. По сути, я там выросла, но мое сердце наотрез отказывалось считать это место родным домом. Прежде я его ненавидела; ненавижу и сейчас это скученное, затхлое однообразие. Теперь от него сохранилось (а тогда не нашлось даже такой малости) одно-единственное теплое воспоминание, да и то с унылыми эпизодами, подрезавшими мне крылья и разрушавшими ум. Нет-нет, я не оставляла дом в прошлом: я летела по направлению к нему. Домой, домой – в Каддагат, домой, к папоротниковым оврагам, к сладостно-печальным струям множества горных ручьев, к величию суровых Богонгов; домой – к милой старенькой бабушке, к дяде и тете; туда, где книги, музыка, утонченность, гости, удовольствия и любимая старая усадьба.
Точно по расписанию мы прибыли в конечный пункт моего железнодорожного путешествия, где меня взял под опеку рыжебородый здоровяк, который сообщил, что он кучер дилижанса и предъявитель письма от миссис Боссье с поручением обо мне позаботиться. Далее он заверил, что рад исполнить, говоря его словами, «все наказы» и что с ним я буду как у Христа за пазухой.
Поездка длиной в двадцать шесть миль не принесла мне ни особого удовольствия, ни особых событий. Как единственная пассажирка, я могла сама выбирать себе место. Из-за холода и сырости я предпочла находиться в крытой части экипажа и свернулась калачиком на сиденье, где вздрагивала через каждые две-три мили, когда добродушный кучер вопрошал: «Все ладненько?»
На почтовом стане, где произошла смена пятерки лошадей, я перекусила и обогрелась, а также настроилась на продолжение пути. В воздухе холодало, и около половины третьего пополудни я только порадовалась, завидев железные крыши городского поселения Гул-Гул. Вначале мы свернули к почте, чтобы выгрузить мешки с почтовыми отправлениями, а затем проехали обратно и натянули поводья перед придорожной гостиницей «Вулпэк». Когда дилижанс затормозил, с веранды спустился рослый молодой джентльмен в макинтоше; сняв фуражку, он сунул голову внутрь экипажа и осведомился:
– Которая тут мисс Мелвин?
Сообразив, что я единственная пассажирка, он залился приятнейшим смехом и при этом сверкнул двумя широкими рядами идеальных зубов, а потом повернулся к вознице и уточнил:
– Других пассажиров нет? Выходит, это и есть мисс Мелвин?
– При ее рождении я не присутствовал, так что поклясться не могу, но думаю, она самая – это ж ясно как божий день.
После того как моя личность была таким образом удостоверена, молодой джентльмен с самой изысканной вежливостью помог мне сойти, приказал конюху поскорее заложить тарантас до Каддагата и перенести в него мой багаж. Затем он провел меня в отдельный кабинет, где ожидала приветливая молоденькая официантка с подносом закусок, и я, решив не приступать к еде, пока не согреются ноги, прочла врученное мне швейцаром письмо в конверте, надписанном бабушкиным почерком. Бабушка извещала, что они с моей тетей еще не оправились после жестокой простуды и в такое ненастье сочли неразумным ехать в город, чтобы меня встретить, но обо всем позаботится джекеру[16] Фрэнк Хоуден – он оплатит счет в гостинице и даст на чай кучеру. От Гул-Гула до Каддагата было двадцать четыре мили по гористой местности. Шел уже четвертый час; в такую непогоду смеркалось быстро, поэтому я мигом проглотила пирожное с чаем, чтобы не задерживать мистера Хоудена, который, пока запрягали лошадей, ждал меня, чтобы подсадить в тарантас. Со мною тут же завязал разговор конюх.
– Вижу на саквояжах вашу фамилию, знаю, что вы в родстве с семейством Боссье, а посему интересуюсь: не дочка ли вы Дика Мелвина из Бруггабронга, что в отрогах Тимлинбилли?
– Да, так и есть.
– Тогда, мисс, кланяйтесь от меня вашему отцу; добрый хозяин был наш Дик Мелвин. Надеюсь, дела у него идут на славу. Я Билли Хейзлип, брат Мэри и Джейн. Вы Джейн-то небось помните, мисс?
Мне хватило времени лишь на то, чтобы пообещать ему передать привет отцу: мистер Хоуден, предупредив, что ехать придется впотьмах, пустил лошадей в галоп и менее чем за две минуты преодолел горку, которая заслонила от нас Гул-Гул. Накрапывал дождь; я держала над нами большой зонт, который прислала бабушка, и разговор у нас шел о погоде: мол, дождь сейчас ох как нужен, это прямо подарок, пусть бы он подольше не кончался. Дожди тут прошли скудные, но почва в этих местах настолько жирная и глинистая, что ее буквально от нескольких капель развозит в грязь, которая облепляет колеса; а ближайшая к нам лошадь имела гнусную привычку выбрасывать задние ноги, да так, что при каждом ее шаге нам на колени плюхались мягкие красные комья грязи. Но несмотря на эти мелкие неприятности, можно было только порадоваться, что нас без усилий тянула пара упитанных лошадей в прекрасной сбруе. Они составляли разительный контраст с тощей старой клячей, которую мы держали в своем хозяйстве: та еле ползала в истрепанной донельзя упряжи, грубо залатанной с помощью веревки и обрезков кожи.
Мистер Хоуден оказался записным болтуном. Исчерпав тему погоды, мы на некоторое время притихли, но вскоре он, нарушив молчание, спросил:
– Вы, стало быть, внучка миссис Боссье, так?
– Рождения своего не помню, так что поклясться не могу, но думаю, она самая, это ж ясно как божий день, – ответила я.
Он хохотнул.
– Славно вы передразнили кучера. Но внучка миссис Боссье! Тут невольно улыбнешься!
– Отчего же?
– Оттого, что вы – внучка миссис Боссье.
– Боюсь, мистер Хоуден, в вашей реплике кроется подвох.
– Невольно улыбнешься! Хотите узнать мое мнение о вас?
– Ничто не доставит мне большего удовольствия. Ваше мнение для меня в высшей степени ценно, и я уверена… у меня есть ощущение… что вы составили обо мне правильное мнение.
В другое время моему сопровождающему не сошла бы с рук его заносчивость, но сегодня я была в отличном расположении духа и, следовательно, открыта для общения, а потому решила позабавиться – вызвать его на откровенность.
– Дело в том, что вы совершенно не похожи ни на миссис Боссье, ни на миссис Белл: обе они такие интересные дамы, – продолжал он.
– Так-так!
– Я прямо расстроился, когда увидел, что вы не претендуете на миловидность, поскольку в этих краях нет ни единой девушки, достойной мужских симпатий, а на вас я возлагал большие надежды. Как истинный ценитель красоты, – не унимался он.
– Очень вам сочувствую, мистер Хоуден. Уверена, нужно быть образцом совершенства, чтобы удостоиться вашего расположения, – ответила я, изобразив сострадание.
– Не берите в голову. Вам беспокоиться не о чем. Вы девушка славная; думаю, какой-нибудь парень с большой радостью сведет с вами знакомство.
– Ваше мнение, мистер Хоуден, определенно делает мне слишком большую честь. Мне радостно думать, что я хоть в чем-то снискала вашу похвалу, – почтительно высказалась я. – Вы настолько благородны и тактичны, что вначале я побаивалась, как бы на мою долю не выпало лишь безусловное презрение.
– Это зря, побаиваться меня не надо – я ж не какой-нибудь подлец, – ответил он с пылом.
По его акценту и безыскусной манере держаться я определила, что он не австралиец, и поинтересовалась историей его жизни. Родился он в Англии, но знавал Америку, Испанию, Новую Зеландию, Тасманию и не только; расписывал себя как человека заметного, которому сам черт не брат.
При моем попустительстве тараторил он битый час, не сознавая, что я его оцениваю и про себя широко ухмыляюсь. Затем я сменила тему, спросив, давно ли поставили проволочную ограду, что по правую руку от нас. С виду она была новой и заменила собою грубую изгородь из бревен и веток, памятную мне с детства.
– Шикарное заграждение, верно? Восемь жил проволоки, верхняя обвязка, надежные столбы. Не далее как в нынешнем году поставлено наемными работниками по контракту с Гарри Бичемом. Длина – двенадцать миль. Это ему дорого обошлось: приобрести материалы на дешевых торгах не было возможности, да еще почва страшно затвердела от засухи. А вот там, за деревьями, – это уже Полтинные Дюны, близ пастбища. Но вы, надо думать, лучше меня эти места знаете.
Мы находились в часе езды от конечного пункта. Как знакомы были мне бесчисленные вехи этой местности, хотя в последний раз я их видела восьмилетним ребенком!
Справа от нас бежала река; время от времени мерцание ее шумных вод просвечивало сквозь кустарник, вольготно разросшийся по берегам. Белые клочья тумана, принесенные дождем, лениво спускались по склону и оседали в расщелинах гор по левую руку от нас. Вскоре показалось клиновидное ущелье, именуемое Фазаньей Дырой. Мистер Хоуден отметил, что название очень подходящее: это место облюбовано лирохвостами. Сгущались сумерки. Из глубоких оврагов поднимался крик сотни кроншнепов (как я люблю этот слитный вопль!), и перед воротами Каддагата мы остановились уже в полной темноте.
В нашу сторону с лаем устремилось десятка два собак, парадные ворота распахнулись, зажглись огни, послышались голоса.
Когда я вышла из тарантаса, у меня сдали нервы. Нищая, с дурным характером. Как примет меня бабушка? Дорогая, милая старушка – мне не стоило тревожиться. Она сердечно заключила меня в объятия, приговаривая:
– Боже, дитя мое, у тебя холодное личико. Я рада твоему приезду. День выдался ненастным, но дождь очень кстати. Вижу, ты озябла. Скорее к огню, дитя мое, как можно скорее. Надеюсь, ты простишь мне, что не приехала тебя встречать.
А рядом стояла единственная сестра моей матери, высокая, изящная тетушка, которая расцеловала меня, горячо сжимая мне руки, и сказала:
– Добро пожаловать, Сибилла. Мы рады, что наш старый дом вновь озарится юностью. Извини, я расхворалась и не смогла тебя встретить. Ты, наверное, окоченела – проходи к камину.
Тетушка всегда говорила очень мало и очень тихо, но чем-то ее благородная манера речи трогала за душу.
Мне трудно было поверить, что эти слова обращены ко мне. Наверняка произошла какая-то путаница. Такой прием определенно планировался для именитой родственницы, удостоившей их своим визитом, а не для бесполезной, скверной дурнушки, маленькой нищенки, которая позарилась на их богатство.
Их радушный прием сделал больше, чем все слышанные мною церковные проповеди, вместе взятые, чтобы хоть отчасти растопить беспощадный цинизм, заполонивший мою душу.
– Элен, сейчас же веди эту крошку в дом, – распорядилась бабушка, – а я прослежу, чтобы этот молодчик распряг лошадей. На такого взбалмошного парня полагаться нельзя. Я наказала ему привязать собак, так они теперь тявкают как оглашенные.
Я оставила свой мокрый зонтик на веранде, и тетя Элен провела меня в столовую, где принаряженная служанка накрывала на стол, приятно позвякивая приборами и посудой. Особняк Каддагат был выстроен по старому плану: все передние комнаты сообщались прямо с верандой, даже без вестибюля, а в приготовленную для меня спальню в торце дома путь лежал через столовую. Тетушка на минуту замешкалась, чтобы дать некоторые распоряжения служанке, и я выхватила взглядом тяжелые серебряные салфеточные кольца, памятные мне с детства, и старомодные глубокие тарелки, и большой очаг, хрипящий в широком белом камине; но самое главное – прекрасные картины на стенах и столик в углу, который ломился от газет, журналов и каких-то новых с виду книг. На корешке одной значилось «Корелли», а на другой – о радость! – «Трильби»[17]. Из соседней комнаты, которая служила гостиной, доносились приятные, полновесные звуки хорошо настроенного рояля. Здесь были три вожделенные вещи. Меня тут же охватило желание ими насладиться. Мне захотелось полностью расчистить стол, чтобы приступить к чтению обеих книг разом, подлететь к роялю, чтобы сразу начать играть, и разглядывать картины, то есть предаться трем занятиям одновременно. Однако, к счастью для репутации моего разума, тетя Элен к этому времени уже провела меня в чудо-спаленку и, повторив, что это моя комната, помогла мне снять пелерину и шляпку.
Согревая пальцы у огня, я остановила взгляд на прекрасном фотопортрете, что висел над камином. На нем была изображена прелестная девушка в расцвете молодости и красоты, облаченная по торжественному случаю в свободные белые покровы.
– Ой, тетя Элен! Как она великолепна! Да ведь это ты, разве нет?
– Нет. Неужели ты не узнаешь свою маму? Эта фотография была сделана как раз перед ее венчанием. Ну, я пойду, а ты приведи себя в порядок: бабушка жаждет тебя видеть.
Когда тетя Элен оставила меня в одиночестве, я только пригладила волосы, даже не посмотревшись в зеркало. Одежда меня вообще не заботила: бродить по дому я могла в чем угодно. Это был один из признаков, который навел маму на мысли о моем возможном безумии, ведь для большинства юных девушек платье – это источник восторга. Пару раз и я пыталась принарядиться, но, по собственному убеждению, выглядела, как всегда, ужасно и забросила эти тщетные потуги.
Все отведенное мне время ушло на созерцание маминого портрета. Передо мной застыло одно из прекраснейших лиц, какие только можно себе представить. Пусть черты его были не идеальны, но выражение казалось просто ангельским – легким и приятным, обаятельным, мягким, счастливым. Затем я перевела взгляд на другую фотографию – отцовскую, в серебряной рамке на туалетном столике с зеркалом. Папина внешность тоже была отмечена утонченностью, незаурядными чертами и тонкой выразительностью. Это был тот самый принц, что увез Люси Боссье из родного дома. Я осмотрела свою чудесную спальню – ее занимала мама в пору своего девичества. Мамина юность прошла между привилегированным городским пансионом и милой обстановкой этого дома.
У меня в мыслях возникла картина супружеской пары из Поссумова Лога. Мужчину отличали мутный взгляд, отнюдь не респектабельная внешность и полная неспособность выполнять свои обязанности отца и гражданина. Женщина, огрубевшая от трудов, пала духом в бесконечных заботах и бессмысленной борьбе с нищетой. Передо мной как будто была какая-то незнакомая пара.
А ведь именно такую жизнь вели мои родители! Имела ли я право ожидать для себя чего-нибудь лучшего? Закрыв глаза, я вздрогнула от мыслей о своем возможном и вероятном будущем. Ради подобной участи моя мать отдала свою молодость, свободу, силу; ради нее пожертвовала самым ценным, чем обладает женщина.
Опомнившись, я заторопилась в столовую, где меня вновь обняла бабушка.
– Присядь со мной у огня, дитя мое, но сначала дай на тебя наглядеться. – И она отстранила меня на расстояние вытянутой руки. – Господи, о господи, какая же ты крошка – совсем не похожа на свою родню! Как приятно, что у тебя такая красивая, чистая кожа, – у всех моих детей был прекрасный цвет лица. Боже, никогда не видела таких волос! Коса толще моей руки, почти до колен! Такая же красивая, ярко-каштановая, как у твоей тети. У твоей мамы волосы были льняные. Когда соберешься ложиться спать, я зайду посмотреть на твою распущенную косу. Ничто меня так не восхищает, как прекрасная волна женских волос.
Горничная доложила, что к ужину все готово; бабушка энергично позвонила в колокольчик; в гостиную вошли тетя Элен и какие-то незнакомцы – леди и джентльмен, а из торцевой части дома появился мистер Хоуден. Леди и джентльмен оказались тут проездом: он, ковбой-скваттер, вез к себе в семью новую гувернантку. В тот день бабушка, увидев из окна, что они попали под дождь, вышла на крыльцо и уговорила заночевать в Каддагате.
Мистер Хоуден теперь не обращался ко мне напрямую, но пускал другим пыль в глаза, чтобы тем самым произвести впечатление на меня. После ужина мы перешли в гостиную, где музицировали и пели. Я была на седьмом небе, но бабушка решила, что мне надо выспаться после дальней дороги. Не чувствуя ни измождения, ни сонливости, я понимала, что протестовать бесполезно; мне оставалось только пожелать всем доброй ночи и удалиться. Мистер Хоуден ответил очень сухо и чопорно, а тетя Элен шепнула, что скоро ко мне зайдет, если я еще не усну.
Бабушка сопроводила меня в спальню, где полюбовалась моими волосами. Я распустила косу и получила безоговорочное одобрение. Разве что на картинах, сказала бабушка, увидишь такие волны, шелковистый блеск и красоту.
Где-то в доме раздался шум. Бабушка вышла узнать, в чем дело, и ко мне больше не возвращалась, а я затушила свою лампу и сидела в раздумьях при свете очага.
В первый раз я мысленно вернулась к отъезду. Отец поцеловал меня без особой теплоты, как будто я уезжала на денек, а мамин поцелуй был попросту холодным; на прощание она коротко сказала:
– Надо думать, Сибилла, к бабушке ты будешь относиться лучше, чем ко мне.
Единственной, кого хоть как-то печалило предстоящее расставание, была Герти, но я знала, что в силу своего характера она тоже забудет меня через день-другой. Домашние никогда по мне не скучали: в их привязанностях для меня не нашлось места. Да я его и не заслужила, поскольку росла скверным ребенком. У меня не было качеств, которые внушали бы родным любовь или гордость, но мое сердце рвалось из груди от любви к ним.
Тосковала ли по мне Герти в тот вечер, как тосковала бы я, поменяйся мы с ней местами? Уж кто-кто, но только не она. Пустовало ли мое место за шумным столом? Вряд ли.
От мыслей о бедной маме, которая осталась дома, чтобы трудиться в поте лица, мне стало тяжело на сердце; отцовских обид я припомнить не могла, но подумала о его долготерпении по отношению ко мне – и меня снова захлестнула неизбывная дочерняя любовь. Почему, ну почему же они так и не смогли хоть чуть-чуть полюбить меня в ответ? Конечно, я никогда не стремилась показать, что достойна любви. Но смотрите, сколько любви достается тем, кто палец о палец не ударил, чтобы ее заслужить! Почему я уродилась страхолюдиной, вредной, несчастной, бесполезной… Почему не нашлось для меня места на этой земле?
Глава девятая. Рецепт тетушки Элен
– Боже, Сибилла, до сих пор не ложилась, и слезы текут, да какие крупные! Поведай мне, в чем причина.
Это был голос тети Элен; войдя, она зажгла светильник.
Было в тетушке Элен что-то удивительно искреннее и настоящее. Она не суетилась вокруг домашних и не изображала сострадание, чтобы только показать, какая она хорошая. Да, она была настоящая, и чувствовалось, что на нее можно положиться, что никакой доверенный ей секрет, самый дикий или жуткий, не пойдет дальше и не будет осмеян; а главное – она никогда не читала нотаций.
Когда она присела рядом, я порывисто бросилась ей на шею и разом выплакала все наболевшее. Что в мире нет добра, что меня не ждет ничего путного, что ни одна живая душа меня не любила и никогда не полюбит – такую уродину.
Тетя Элен не перебивала, но под конец тихо произнесла:
– Когда будешь готова послушать, я тебе кое-что скажу.
Мигом взяв себя в руки, я застыла в ожидании. Что она собирается сказать? Уж не навязшую ли в зубах белиберду: дескать, этот мир – только предварительное испытание, нам дается время, чтобы подготовиться к лучшей жизни. На эту старую песню еще могут купиться старики, стоящие одной ногой в могиле, но юным, у которых здоровья хоть отбавляй, романтика бьет ключом и в жилах течет молодая кровь, выслушивать это невыносимо. Неужели она станет мне втолковывать, что сокрушаться по поводу моей внешности – значит гневить Провидение, ибо такая внешность – это величайший дар, способный избавить меня от множества искушений, которым с рождения подвержены смазливые девчонки? Это была еще одна утешительная стариковская бредня, от которой мне уже становилось тошно: по моему убеждению, в мире не сыщется ни одной дурнушки, которая поверит, будто ее внешность – это благо. Но я напрасно опасалась, что тетушку Элен поведет в эту сторону. Она всегда умела ободрить словом, отчего мне делалось совестно за себя и свое кичливое себялюбие.
– Понимаю тебя, Сибилла, – начала она с расстановкой, – но сдаваться нельзя. В мире найдется много любви и добра, надо только поискать. Одно из испытаний, которые неизбежно выпадают на долю каждого из нас, – это непонимание. Я считаю, даже самый простодушный человек носит в себе потаенные мысли и чувства, которые никто не способен с ним разделить, и чем выше наша душевная организация, тем сильнее мы страдаем от такого положения дел. Среди моих знакомых есть великое множество юных девушек, включая добрых и искренних, но твой характер даст сто очков вперед любым трем, вместе взятым. Если правильно распорядиться таким преимуществом, то можно снискать едва ли не всеобщую любовь ближних. Но ты неукротима и своевольна, тебе нужно усмирить и обуздать свой нрав, научиться им управлять, а иначе будешь хуже любой пустышки. Вот увидишь: неприметная внешность не помешает тебе завоевать дружескую любовь – единственную настоящую. Что же касается обжигающей, мимолетной мужской страсти к женскому полу, ошибочно именуемой любовью, я не буду советовать тебе выбросить ее из головы: надо понимать, что в определенном возрасте этого требует человеческое естество, но утешайся тем, что счастье порою обходит стороной как милашек с точеными чертами, так и тех, кто не блещет красотой.
Она отвернулась и, забыв о моем присутствии, погрузилась в молчание. Я поняла: она думает о себе.
Любовь обошла ее стороной – не дружеская любовь, ибо все те, кто ее знал, не могли не дарить ей ответную любовь и уважение, но та, другая любовь совсем иного сорта.
За двенадцать лет до моего отъезда в Каддагат, когда о восемнадцатилетней Элен Боссье по всей Австралии шла слава одной из красивейших и самых желанных девушек, в Каддагат прибыл в длительный отпуск для укрепления здоровья бравый полковник по фамилии Белл. Он взял в жены тетю Элен и увез в Америку – туда, где стоял его полк. Я своими ушами слышала, что она боготворила полковника Белла, но ему – не прошло и года – наскучила прелестная молодая жена и глянулась совсем другая женщина, да так, что он вознамерился получить развод. В разводе ему было отказано по причине безупречной репутации жены; тогда он просто-напросто бросил ее и стал в открытую сожительствовать с любовницей. Эти события вынудили тетю Элен вернуться в Каддагат, и тогда уже родная мать заставила ее добиваться судебного разлучения. Приказ о раздельном проживании супругов был вынесен тут же.
В случае раздельного проживания супругов молва неизменно возлагает всю вину на женщину. Благодаря своей чистоте и молодости миссис Белл не слишком пострадала от этого предрассудка. Но, по большому счету, жизнь ее была сломана. Тетушку Элен самым жестоким образом унизил и довел до крайности тот мужчина, которому она отдавала любовь и доверие. Он бросил ее – не жену, не вдову, не старую деву – на произвол судьбы, и сейчас она сидела рядом со мной – одна из самых привлекательных и благородных женщин, какие мне встречались.
– Вот что, Сибилла, – встрепенулась она, – у меня созрел план… Хочу верить, ты его примешь. Подойди к зеркалу, чтобы хорошенько себя разглядеть, а потом я отверну его к стене и возьму с тебя обещание не смотреть на свое отражение недели три, а то и четыре. Уж я постараюсь убрать с глаз долой все зеркала, мимо которых ты ходишь, а от других, как хочешь, отворачивайся сама. На означенный срок я возьму тебя в оборот, а ты должна молча следовать моим указаниям. Возражений нет? Ты сама удивишься, какую миловидную крошку я из тебя сделаю.
Естественно, возражений у меня не было. Впиваясь в себя критическим взглядом, я надолго застыла перед зеркалом. В нем отражались руки, красные и загрубелые от тяжелой работы, круглая, опухшая, залитая слезами физиономия и приземистая, полноватая фигура, окутанная волнами густых волос, которые доставали почти до колен. Безобразное зрелище, думала я. Потом тетя Элен, как обещала, перевернула зеркало, а я в отчаянии заметила:
– Если у тебя получится хоть немного уменьшить мое уродство, то считай себя волшебницей.
– Мой рецепт, среди прочего, требует, чтобы ты вообще не задумывалась о себе. Я примусь за тебя завтра с утра. Надеюсь, тебе понравилась твоя комната – я ее обставила так, чтобы тебе было в ней уютно. А сейчас доброй ночи, сладких снов!
Наутро я проснулась в самом лучшем расположении духа и тотчас же выскользнула из постели, любуясь, а вернее сказать, наслаждаясь убранством своей комнаты. В моей убогой комнатенке в Поссумовом Логе не было даже самого необходимого. Мы не могли себе позволить ни таз для умывания, ни кувшин. Герти с мальчишками и я совершали утренний туалет над прохудившимся жестяным подносом, водруженным на табуретку прямо во дворе, за кухонной дверью. В морозную погоду это превращалось в довольно жалкое представление. А в этой комнате имелось все, что мило девичьему сердцу. Прелестная кровать, очаровательные тапочки, празднично-белые китайские циновки, разнообразные мягкие шкуры, брошенные на пол, а в углу – само изящество – шкафчик для парфюмерных принадлежностей и умывальник с необыкновенным выбором мыла; некоторые кусочки источали такой аромат, что их хотелось попробовать на вкус. Развешанные повсюду красивые картины смотрели на изрядных размеров трюмо с одним большим зеркалом и уймой маленьких, ручных; правда, сейчас все зеркала были развернуты к стене. Мой взгляд радовали заколки для волос, причудливой формы гребни, многочисленные ленточки и банты, а также изысканная корзина для рукоделия, но с особой радостью я склонилась над неописуемо прекрасным, компактным письменным столом. Чего там только не было: бумага отменного качества – узорчатая, цветная, разных форматов и контуров, простая и с водяными знаками, ручки, чернила и солидный запас почтовых марок. Мне тут же захотелось написать с десяток писем, и я уже готовилась приступить к делу, когда мое внимание привлекло самое драгоценное для меня сокровище. Это был чудесный книжный шкаф, где красовались сборники всех наших австралийских поэтов, а также штук двадцать–тридцать романов и повестей, которые давно жили у меня в мечтах. Проглотив первые главы четырех произведений прозы, я погрузилась в Гордона: прямо в ночной сорочке, невзирая на холод, уселась на туалетный столик и пришла в чувство лишь со звонком колокольчика к завтраку. В панике я кое-как оделась и примчалась к столу, когда все остальные уже заняли свои места и разворачивали салфетки.
Назначенное тетушкой Элен лечение от невзрачности предписывало мне перед выходом из дому надевать перчатки и широкополую шляпу; кроме того, мне настоятельно рекомендовалось уделять должное время утреннему туалету и не отвлекаться на содержимое книжного шкафа.
– Стряхни хотя бы частично свой угрюмый пессимизм и прививай себе чуть больше здорового девичьего тщеславия – это будет успех, – твердила она.
Истовое соблюдение этих заповедей длилось три дня. Потом я где-то подхватила грипп, хотя и в легкой форме, и, когда слонялась по кухне, занимаясь чем-то неподобающим в неподобающее время, кухарка опрокинула кастрюлю кипящего бульона и зверски обварила мне правую ступню. Тетя Элен с бабушкой уложили меня в постель; от боли я часами орала, как безумный индеец, хотя меня пичкали всяческими обезболивающими средствами. Общими усилиями ожог вместе с гриппом довели меня до легкого помешательства, а посему в доме был издан указ о моем постельном режиме вплоть до полного исцеления от обеих напастей. Таким образом я избавилась от необходимости пробегать мимо зеркал.
Не так уж сильно я занемогла, чтобы чувствовать себя несчастной, а поскольку все носились со мной как с писаной торбой, настроение у меня улучшалось. Тетя Элен оказалась прекрасной медсестрой. Каждое утро она сноровисто делала мне перевязку и не раз заходила в течение дня, чтобы поудобней уложить мою ногу. Бабушка закармливала меня всеми лакомствами, какие имелись в доме, и только успевала отправлять гонцов в Гул-Гул за добавкой. Для какой-нибудь заядлой обжоры это был бы просто рай. До меня снизошел даже мистер Хоуден: он выразил свое сочувствие в связи с досадным происшествием и ежедневно наносил мне визиты; как-то раз, в воскресенье, галантность его распространилась так далеко, что он спустился в овраг, собрал там букет папоротника «венерин волос» – первый в сезоне – и поставил его в цветочную вазу подле моей кровати. Мой дядюшка Джулиус, еще один, последний из домочадцев, не считая прислуги, уехал по каким-то делам «в глубинку» и обещал вернуться только через месяц, если не позже.
В среде «скваттократии» Боссье и Бичемы были предводителями светского общества и надежными, близкими друзьями. Бичемы жили в Полтинных Дюнах, что в двенадцати милях от Каддагата; их семейство состояло из двух незамужних дам и племянника Гарольда. Одна из тех дам была задушевной подругой тети Элен, а другая в былые годы поддерживала столь же тесные отношения с моей матерью, но в последнее время моя обнищавшая мать с ней не общалась из-за собственной гордыни. Что же до Гарольда Бичема, в Каддагате тот чувствовал себя почти так же свободно, как и в Полтинных Дюнах. Он приезжал и уезжал с той милой непринужденностью, которая принята между родственными душами из числа богатых скваттеров. Боссье и Бичемы были родственными душами во всех отношениях: принадлежали к одному кругу, придерживались одинаковых взглядов, с той лишь разницей (причем незаметной), что Боссье, хотя и не бедствовали, отнюдь не считались богатеями, тогда как Гарольд Бичем был человеком весьма и весьма состоятельным. Когда я утвердилась в роли лежачей больной, одна из двух мисс Бичем была в Мельбурне, а другая прихворнула и не смогла меня проведать, зато Гарольд наезжал регулярно, чтобы справиться о моем здоровье. Он всегда оставлял для меня гостинец – несколько румяных яблок. Такая любезность объяснялась тем, что в прошлом сезоне бабушка не сумела сохранить урожай: каддагатский сад подвергся нашествию яблоневой плодожорки.
Тетя Элен лукаво поддразнивала меня в связи с такими знаками внимания.
– К нам направляется Гарри Бичем с очередной порцией яблок, – говорила она. – Сомнений нет, он куда более расчетлив и хитер, чем мне думалось. Берет быка за рога: как только тебя увидел, сразу взялся ухаживать, чтобы не упустить. В наших краях молоденькая девушка – редкость: не успела приехать – глядишь, ее уже заарканили.
– Ты, тетушка, должна его предупредить, что я страшила: пусть и впредь возит яблоки за двенадцать миль, но только под свою ответственность, а иначе он меня увидит и огорчится, что все труды были впустую. Хотя нет, лучше меня не описывать, а то яблоки закончатся раньше времени, – отвечала я.
Тетя Элен, искусная рукодельница, полностью обшивала бабушку и себя. Теперь она и для меня шила какие-то наряды, но я не должна была их видеть до особого случая. Тетя Элен готовила приятный сюрприз и перед каждой примеркой не ленилась тщательно завязывать мне глаза. Пока бабушка с тетей были заняты по хозяйству, я, прикованная к постели, взахлеб зачитывалась содержимым своего книжного шкафчика.
То удовольствие, почти до боли утонченное, которое я извлекала из книг, и прежде всего из австралийской поэзии, не поддается описанию. В ограниченном крестьянском мирке Поссумова Лога я была лишена общения с людьми взыскательными и образованными, готовыми говорить о том, что мне дорого, но теперь нашла единомышленников, нашла себе компанию.
Причудливая магия необъятных просторов буша, дыхание широких, залитых солнцем равнин, звон бивачных колоколов, позвякивание цепочек между ремешками конской сбруи – все это, прилетая на крыльях сумеречного бриза, вошло в плоть и кровь здешних жителей и запечатлело свою повесть в сердце каждого, равно как и в моем. Им понятны красоты звездных небес, мощное чудо океана, ворожба громовых раскатов, а недвижная насыщенность закатного часа нашептывала им не только характер завтрашней погоды, но и нечто большее. Ветры и дожди говорили на одном языке с Кендаллом[18], а ведь он тоже испытал муки одиночества. Гордон, со своим печальным-печальным гуманизмом и горьким разочарованием, протянул мне руку и увлек за собой. Оставалось сожалеть лишь о том, что мне не суждено их увидеть – Байрона, Теккерея, Диккенса, Лонгфелло, Гордона, Кендалла, ибо те, кого я любила, уже мертвы, но – сладостная мысль! – Кейн, Патерсон и Лоусон[19] еще живут среди людей, дышат одним с ними воздухом… и ведь двое из них – мои соотечественники, австралийцы!
С новым рвением я постигала строгий реализм и проникновенность Лоусона, наслаждалась ароматами жизнерадостной стороны благоразумной жизни Патерсона под солнечным небом, которое он живописал величественными, властными мазками. Я заучивала их стихи наизусть, всем сердцем, и в это славное голубое вместилище, где хранятся многие приятные мечты юности, бережно опускала надежду на то, что в один прекрасный день смогу пожать руку каждому из них и прочувствовать, познать невыразимый покой и сердечное отдохновение в компании единомышленников.
Глава десятая. Эверард Грей
Перед возвращением в Каддагат дядя Джулиус ненадолго завернул в Сидней, пообещав быть дома на первой неделе сентября в компании Эверарда Грея. Этот молодой джентльмен всегда приезжал в Каддагат на Рождество, однако на сей раз, едва оправившись после болезни, он решил для разнообразия нагрянуть пораньше. Я была о нем наслышана и с любопытством ожидала встречи. Приемный сын моей бабушки, он осиротел со смертью родителей, аристократов-англичан, которые оставили его на попечение дальних родственников. Те оказались преступно неразборчивы в средствах. Откопав какую-то нестыковку в документах, понятную только стряпчим, они лишили его всей собственности и бросили на произвол судьбы – барахтаться или тонуть. Бабушка его отыскала, вырастила и отправила учиться. Из всех возможных профессий он выбрал юриспруденцию и теперь слыл наиболее перспективным молодым барристером Сиднея. Приемная мать гордилась им необычайно и любила его, как родного.
В оговоренный срок дядя Джулиус прислал телеграмму с инструкциями по найму двухместной коляски для встречи в Гул-Гуле.
К этому времени я уже оправилась и от гриппа, и от ожога, а поскольку приезд ожидался ближе к вечеру, меня сообразно такому случаю нарядили в торжественное вечернее платье и к тому же осчастливили созерцанием отражения в зеркале – впервые со дня моего появления в этом доме.
После обеда бабушка отправила меня за несколько миль с каким-то поручением; на полпути мне повстречался мистер Хоуден, который вызвался меня сопровождать. Куда бы я ни собралась после той встречи, он всякий раз увязывался следом, чем вызывал у меня досаду, потому как бабушка многократно и сурово наказывала мне не опускаться до преступного потакания мужским помыслам.
Между тем Фрэнк Хоуден сменил свою песню и теперь утверждал, будто моя внешность для него не играет роли, поскольку, красавица или нет, я самая шикарная девушка из всех ему известных. Это мнение подкреплялось тем фактом, что со мной можно поговорить о театре; помимо этого, во всей округе я оказалась единственной девушкой, а он достиг того ненасытного возраста, когда молодой мужчина должен выбрать для себя особу женского пола: хоть красавицу, хоть дурнушку, толстуху или худышку, перезрелую или молоденькую. Оттого что я стала объектом подростковых вожделений такого взрослого человека, меня охватывало гадливое отвращение.
