Кола Брюньон
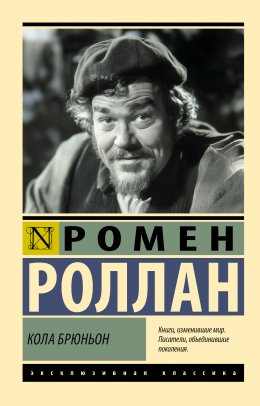
© Перевод. Т. Чугунова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Святому Мартину Галльскому,
покровителю Кламси1[1]
Вино отборное святым Мартином пьется,
А после из него на мельницу водица льется.
Поговорка XVI века
Послевоенное предисловие
Эта книга была полностью отпечатана и готова увидеть свет уже до войны, и я ничего в ней не изменил. Кровавая эпопея, участниками которой – героями и жертвами – стали в недавнем времени потомки Кола Брюньона2, озаботилась доказать миру, что «жив, жив еще Курилка»3.
А европейские народы, познавшие славу и изнуренные в битвах, потирая бока, найдут, мне кажется, некоторый здравый смысл в рассуждениях одного «ягненка из наших мест, чей век проходит меж волком и пастухом».
Р. Р.
Ноябрь 1918
Предуведомление
Читатели «Жан-Кристофа» вряд ли готовы ко встрече с этой моей новой книгой. Она удивит их не больше, чем удивляет меня самого.
Я был занят сочинением других произведений – драмы и романа из современной жизни, действие которых происходит в несколько трагичной атмосфере «Жан-Кристофа». Как вдруг мне пришлось отложить в сторону все свои подготовительные заметки, все уже написанные сцены и заняться сочинением этой бесхитростной книги, о которой я еще день назад и не помышлял…
Она является реакцией на принужденную десятилетнюю закованность в доспехи «Жан-Кристофа», которые изначально были по моей мерке, но в конце концов стали мне тесны. Я ощутил неодолимую потребность в глотке вольной галльской веселости, доходящей до дерзости, да, именно так. В то же время возвращение в родные места, в которых мне не привелось бывать с юношеских лет, позволило мне вновь припасть к моей родной Бургундии, к графству Невер, и пробудило во мне прошлое, которое, казалось, навсегда уснуло, а заодно и всех Кола Брюньонов, которых я ношу в себе. У меня возникла потребность говорить за них. Ведь эти окаянные болтуны не наговорились на своем веку! Они воспользовались тем, что один из их потомков обладает завидной привилегией – умением писать (как же часто их брали завидки!) и привлекли меня в качестве писца. Как я ни отбивался:
– Прадед, у вас была возможность выговориться! Дайте и мне сказать. Каждому свой черед!
Они отвечали:
– Сынок, будешь говорить, когда я закончу. Для начала, что интересного ты можешь рассказать? Садись-ка да слушай, и не пропускай ни словечка… Ну, давай, птенчик, сделай это для своего прадеда! Потом поймешь, когда окажешься там, где мы сейчас… Знаешь, самое ужасное в смерти – это вынужденное молчание…
Что было делать? Пришлось уступить, я стал писать под их диктовку.
И вот работа подошла к концу, и я вновь свободен (по крайней мере, полагаю, что это так). Вернусь к изложению собственных мыслей, если, конечно, один из моих словоохотливых старичков не вздумает выйти из могилы, чтобы надиктовать мне свои послания будущим поколениям.
Я не смею поверить, что компания моего Кола Брюньона так же потешит читателей, как и автора. Так пусть эта книга воспринимается ими такой, какова она есть, – откровенной, без затей, без претензий преобразовать мир, как и объяснить его, лишенной политики, метафизики, созданной «на добрый французский лад», подтрунивающей над жизнью, поскольку та представляется ей сто́ящей, а автор книги – пребывающим в полном здравии. Словом, как говорит Девственница (а как обойтись без нее в начале галльского рассказа): дружище, «примите ее благосклонно»…
Ромен Роллан
Май 1914
I
Сретенский жаворонок
2 февраля
Будь благословен святой Мартин! В делах заминка. Нечего и пупок себе надрывать. Довольно я потрудился на своем веку. Передохнем чуток и насладимся жизнью. Я сижу за своим столом, по правую руку – кружка вина, по левую – чернильница; красивая новенькая тетрадка лежит передо мной, открыв мне свои объятья. За твое здоровье, сынок, поговорим! Внизу рвет и мечет моя женушка. За окном шумит северный ветер, дело близится к войне. Да пусть их! Какое счастье побыть вдвоем наедине с тобой, мой милый пузан!.. (Это тебе я говорю, я, у которого ряшка кровь с молоком, каких мало, смеющаяся, с длиннющим бургундским носом, посаженным набекрень, словно шляпа, съехавшая на ухо…) Но скажи мне, прошу тебя, что за странное удовольствие я испытываю, оставаясь наедине с тобой, склоняясь к твоему уже немолодому лицу, весело пробегая по всем его морщинкам и, будто из глубины колодца, – тьфу ты! не колодца, а погреба – черпая в сердце чарку старых дорогих воспоминаний? Ладно бы помечтать о том о сем, но описывать то, о чем мечтаешь!.. Да что я говорю – мечтать! Глаза мои широко открыты, при этом чуть прищурены у висков, благодушны и насмешливы; пустые мечты – удел других! Я рассказываю о том, что видел сам, о том, что говорил и делал сам… Безрассудство, не правда ли? Для кого я пишу? Конечно, не для славы: я не животное и знаю, чего стою, слава богу!.. Для своих внуков? Из всех моих бумаг что останется через десять лет? Старуха ревнует меня к моей писанине, и все, что попадается ей под руку, сжигает… Для кого же тогда? Да для самого себя! Для собственного нашего удовольствия. Коли не буду писать, так сдохну. Не зря же я внук того, кто на сон грядущий не мог не записать количество чарок, которые опорожнил сам и которые преподнес другим. Мне страсть как приспичило почесать язык, а в родном Кламси состязаниями в болтовне не насытишься. Мне требуется излить, что накопилось, подобно брадобрею царя Мидаса5. Мой язык несколько длинноват; если меня услышат, то я рискую попасть на костер… Ей-богу! Но не будешь рисковать, задохнешься от скуки. Я, грешным делом, люблю, подобно нашим большим белым волам, пережевывать вечером дневной корм. И как же здорово пощупать, потрогать, погладить все то, о чем подумалось, что подсмотрелось, попалось на глаза днем, посмаковать, попробовать на вкус, еще и еще раз, подержать на языке, чтобы растаяло, потом медленно заглотнуть, рассказывая себе о том, чего не успел спокойно отведать, пытаясь поймать на лету! Как же хорошо пройтись по своему маленькому мирку и сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и господин. Ни холод, ни мороз ему не страшны. Ни король, ни папа, ни войны. Ни моя ворчливая старуха…»
А ну-ка, подобьем бабки всему, что имеется в моем мирке!
Перво-наперво, у меня есть, – что может быть лучше, – я сам: добрый малый, видный из себя бургундец, Кола Брюньон, толстобрюх, которого не берет угомон, и наружностью, и манерами внушающий доверие, не первой молодости, пардон, за полвека перевалило, но крепкий, как першерон, со здоровыми зубами, с глазами, как у ястреба вдогон, и густой шевелюрой, пусть и седой… мой вам поклон. Не скажу, что по мне лучше бы он был светловолосым и что, предложи вы ему вернуться на двадцать или тридцать лет назад, я бы стал привередничать. Но, как ни крути, пять десятков лет – прекрасный возраст! Смейтесь, юнцы! Не всяк доживет до таких лет. Думаете, так просто свековать в наше время, на протяжении пятидесяти лет скитаясь по всем дорогам Франции… Господи! Сколько выпало всего, друг сердечный, и ясного солнышка, и беспогодицы! Чего только не досталось на нашу долю: и поджарило нас, и прополоскало, и высушило! В эту суму из дубленой кожи каких только удовольствий и бед не набилось не набралось: и хитростей, и балагурства, и штукарства, и безрассудства, и сена, и соломы, и фиг, и винограда, и зрелых плодов, и дичков, и роз, и шипов, сколько всего виданного-перевиданного, читанного-перечитанного, испытанного и неожиданного! Все вперемешку поместилось в этой суме! И так забавно рыться в ней!.. Однако погоди, мой Кола! Отложим до завтра. Если я начну сегодня, то не закончу до ночи… А сейчас займемся вот чем: составим опись всего, чем я владею.
У меня есть дом, жена, четыре сына, дочка, замужняя (слава Тебе, Господи!), зять (куда ж без него!), восемнадцать внуков, осел серой масти, пес, шесть кур и свинья. До чего ж я богат! Наденем-ка очки, чтобы получше рассмотреть наши сокровища. По правде говоря, о последних из помянутых приходится лишь вспоминать. По нашим местам прокатились войны, прошлись солдаты, враги, да и друзья – бывало, как нагрянут… Свинка пошла на сало, да и того осталось мало, от осла чуть поболе – рожки да ножки в поле, в погребе, гляди не гляди, хоть шаром покати, в птичнике тож – ни птенца, ни яйца.
А вот женушка, с нею – черт бы ее побрал совсем! – ничего не делается! Вы только послушайте, как она глотку надрывает. Как тут забудешь, какое счастье тебе привалило: она моя, я обладатель прекрасной птицы! Я, и никто другой! Ох уж этот плут Брюньон! Кто ему только не завидует… Господа, вы только скажите… Ежели кто желает взять ее себе!.. Я возражать не стану. Бережливая, деятельная, строгая, честная хозяйка, словом, сама добродетель (да только что проку? Признаюсь, старый греховодник, что семи худосочным добродетелям предпочту один дородный грешок… Да что уж там, остережемся греха ражего, такова воля Господа нашего). Ой, как же она бьется-колотится, наша Мария Прекрасная, палкообразная и громогласная, повсюду сует свой нос, допытывается, ворчит, брюзжит, ругается налево-направо, снует туда-сюда, с чердака в погреб, из погреба на чердак, разгоняя пыль и спокойствие! Вот уже три десятка лет как мы женаты. Одному черту известно, почему и зачем! Я-то любил другую, но та надо мной смеялась; а эта добивалась меня, хоть и не нужна была мне. В то время она была невысокой брюнеткой с бледным лицом, взгляд ее жгучих зрачков мог испепелить – ну просто две капли кислоты, что прожигает сталь. Она в меня до чертиков влюбилась. И поскольку преследовала меня (до чего же глупы мужики!), я то ли из жалости, то ли из тщеславия, а больше от усталости, чтобы избавиться от наваждения (неплохой способ!), стал (как тот болван, что в дождик лезет в чан) ее мужем. Но с тех пор это милое создание мстит мне. За что? За то, что полюбила меня. Она приводит меня в ярость, вернее, ей хотелось бы этого, но у нее ничего не выходит: я слишком люблю свой покой и не такой дурак, чтобы из-за каких-то там слов хоть на минуту впадать в уныние. Дождик небом заряжен – я не лезу на рожон. С неба грома рев и стон – вторь ему, мой баритон. А когда она вопит – смех во мне так и бурлит. Да и почему ж ей не кричать? Неужто у меня рука поднимется помешать ей, этой женщине? Нет, я не желаю ее смерти. Там, где баба завелась, тишина прочь унеслась. Пусть себе заводит свою песенку, а я свою. Поскольку у нее и в мыслях нет заткнуть мне мой клюв (слишком хорошо знает, чем ей это грозит, потому и остерегается), пусть чирикает: у каждого своя песенка.
Вообще же, совпадают наши песенки или нет, мы все же настрогали довольно красивых ребятишек: девочку и четырех мальчуганов. Все крепкие, ладные: уж я не поскупился на материал, сработал со знанием дела. Да вот только из всего выводка единственная, в ком я совершенно узнаю свое семя, – это моя дочка, Мартина-плутовка, кошечка-чертовка! Ох и трудненько было без ущерба и потерь довести до брака дщерь! Уф! Теперь уж она успокоилась! Хотя, как знать… но это уже меня не касается. Довольно я бдел да потел. Теперь пусть мой зятек покрутится как волчок. Зовут его Флоримон, он пирожник, кому как не ему и приглядывать за печкой!.. Всякий раз как мы с дочуркой сойдемся, так спорим, но ни с кем другим я так не лажу. Дочка у меня удалась на славу, осмотрительная даже в своем сумасбродстве, ценит честность, лишь бы та была без занудства: для нее худший из пороков тот, от которого со скуки сводит челюсти. Забот не боится: заботы – это борьба, а борьба – удовольствие. И любит жизнь, знает, что хорошо, ну просто вылитый я, моя кровь. Когда ее зачинали, я так подналег, столько сил вложил…
Мальчики – те удались хуже. Тут уж мать постаралась, расщедрилась, и замес получился не тот: из четырех двое такие же пустосвяты, как она, к тому же принадлежат к разным ветвям ханжества. Один все трется среди черных ряс, кюре, лицемеров, а другой – гугенот. Ума не приложу, как я высидел этих утят. Третий – солдат, воюет, бродяжничает бог его знает где. А что до четвертого, тот так, ни с чем пирог: мелкий лавочник, неприметный какой-то, овцеподобный; зевать тянет, стоит только подумать о нем. Моя порода в них проявляется разве что когда мы беремся за вилки, сидя за столом. Тут никому не до сна, и слаженность видна; любо-дорого посмотреть, как мы шестеро работаем челюстями, как у нас трещит за ушами, как мы хлеб ломаем руками, а здоровенные бутыли поднимаем рывками.
Поговорили о содержимом, теперь обратимся к самому дому. Он тоже мое детище. Я долго его строил, а потом раза три-четыре перестраивал, стоит он на берегу Бёврона, лениво катящего свои лоснящиеся зеленые воды среди покрытых густой травой, жирной землей и щедро унавоженных берегов, там, где начинается пригород, на той стороне моста, напоминающего присевшую таксу, живот которой захлестывает водой. Прямо напротив легко и гордо вознеслась в небо башня Святого Мартина, напоминающая женщину в юбочке, отороченной вышивкой, с украшенным цветами порталом, к которому ведут, словно в рай, почерневшие и крутые ступени Старого Рима. Моя скорлупка, моя хибарка находится за пределами городских стен, и потому всякий раз, как часовой с башни завидит врага, город запирает ворота и неприятель заявляется ко мне. Хоть я и не прочь почесать язык, но все же без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставив ключ на пороге. Но когда возвращаюсь, бывает, не нахожу ни ключа, ни двери, только четыре стены. Тогда я отстраиваюсь заново. Мне говорят:
– Дуралей же ты, ей-ей! Брось работать на гостей. И халупу тоже брось, пока горя не стряслось. Под защитой стен Кламси скажешь Господу мерси.
– Гоп-ла-ла! Хорошо мне там, где я. Где высокая стена, безопасность там прочна. Но, сидя за стеной, на что я буду смотреть? На стену? Да я высохну от скуки. Я люблю, когда у меня руки развязаны, когда я могу вытянуться на бережку моего Бёврона, когда из своего сада, покончив с прополкой, могу любоваться игрой лучей на речной глади, кругами на поверхности, расходящимися от плещущихся рыб, колыханьем донных трав, могу рыбачить, полоскать свое тряпье и вылить в речку содержимое своего горшка. И потом, как же так! Худо-бедно, но я всегда здесь жил, теперь уж поздно что-либо менять. Самое худшее уже случилось. Говорите, что дом снова будет разрушен? Возможно. Но, люди добрые, я же не претендую на возведение вечного. Но уж оттуда, куда я врос, меня нелегко будет выковырнуть, черт побери! Я уже отстраивался заново два раза, отстроюсь еще раз десять. Не то, что бы меня это развлекало, но поменять местожительство мне в десять раз тяжелее. Я бы превратился в тулово без кожи. Вы предлагаете мне другую кожу – новей, светлей, краше? Да она и не пристала бы ко мне или лопнула бы. О нет, мне мила моя…
Так, повторим: жена, дети, дом – ничего не упустил?.. Остается самое лучшее, приберегаю его на закуску, это моя профессия. Я член братства Святой Анны, столяр. Во время погребальных шествий и процессий я несу древко, украшенное циркулем на фоне лиры с изображением бабушки Христа, обучающей чтению малютку Марию, полную грации, в которой от горшка два вершка. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руке, я царствую у своего верстака и над дубом корявым и над орешником кудрявым. Что выйдет из-под моих рук? Это уж как мне пожелается… ну и в зависимости от того, кто сколько заплатит. Сколько же всего таится и дремлет в простом стволе дерева! Чтобы разбудить Спящую красавицу, нужно лишь, как делает влюбленный в нее принц, войти в нутро ствола. Но красота, которая выходит из-под моего рубанка, лишена какой-либо манерности. Больше поджарой как спереди, так и сзади Дианы любого из этих итальянских мастеров, мне по нраву бургундская мебель с бронзовым отливом, сработанная на совесть, добротная, с накладками в виде гроздьев, или какой-нибудь пузатый, с выпуклою крышкой сундук, или украшенный скульптурным орнаментом шкаф в духе приземленной фантазии мэтра Юго Самбена6. Я одеваю дома, обшиваю их, украшаю. Разворачиваю кольца винтовых лестниц; для меня мебель, которую я создаю для того или иного места, все равно что плоды, которые снимает садовник со шпалерных яблонь, она также привита к данным стенам, так же сращена с ними, она вместительна и основательна. Но главное лакомство для меня – это когда я могу набросать на листочке то, что рождается в моей голове и со смехом просится на бумагу – какое-то движение, жест, изгиб позвоночника, грудь, набирающая в себя воздуху, цветы на завитках, гирлянду, гротеск, или когда я ловлю на ходу и пригвождаю к доске физиономию неизвестного прохожего. Ведь это я изваял на скамьях монреальской церкви (и это мой шедевр), ради своего удовольствия и на радость кюре, тех двух горожан, которые смеются и чокаются, сидя за столом рядом со жбаном вина, как и двух львов, которые рычат и рвут друг у друга кость.
Взяться за работу, пропустив стаканчик-другой, пропустить стаканчик-другой после работы – что может быть лучше!.. Вокруг меня немало неумех, которые только и делают, что ворчат. Они мне говорят: ну и умеешь же ты выбрать момент, чтобы запеть, мол, времена не подходящие… Да времена всегда те самые, есть только люди неподходящие. Я не из их числа, слава тебе господи. Грабят друг друга? Бьют друг друга? Так было и так будет всегда. Руку даю на отсечение, что и через четыреста лет наши потомки будут также яростно драть друг с друга по три шкуры и рубиться друг с другом насмерть. Притом я не говорю, что они не изобретут сорок новых способов делать это лучше нашего. Но ручаюсь, что им не изобрести нового способа напиваться, и бьюсь об заклад, лучше меня у них не получится… Почем мне знать, что там у них будут за дела, у этих неведомых людишек через четыреста лет?.. Может быть, благодаря траве медонского кюре7, неподражаемому пантагрюэлиону8 они смогут побывать на Луне, в лаборатории громов и молний и водозапорных щитов, выпускающих дождевые потоки, погостить на небесах, чокнуться с богами… Что ж, и я не прочь отправиться вместе с ними. Разве они не плоть от плоти моей, не моего семени? Роитесь, мои милые! Но надежней быть там, где нахожусь я. Кто мне гарантирует, что через четыре века вино будет не хуже?
Моя благоверная упрекает меня за то, что я слишком люблю попойки. Я ничем не брезгую. Люблю все хорошее: вкусную пищу, доброе вино, бесподобные плотские удовольствия, а еще те места, покрытые более нежной кожей и пушком, которые тебе потом снятся, люблю божественное ничегонеделание, во время которого столько всего делается! (чувствуешь себя хозяином мира, молодым, красивым, тем, кому все покорно, преобразователем земли, кому внятен рост травы, который беседует с деревьями, зверями и богами), и тебя, мой старинный товарищ, мой друг, который не предаст, мой Ахат9 – мой труд!.. До чего же приятно с инструментами в руках стоять у верстака: пилить, строгать, подрезывать, вытесывать, скреплять болтами, сверлить, вытачивать, раскалывать восхитительную твердь нежного и вязкого орешника, которая сперва сопротивляется, а потом поддается, трепещет под рукой словно бедро феи, обрабатывать розовые и белые, темные и золотые тела нимф наших лесов, лишенных своего покрова, павших под ударами топора! Радость точного движения руки, умных грубых пальцев, из которых выходит хрупкое произведение искусства! Радость ума, управляющего силами земли, предписывающего дереву, железу или камню упорядоченную прихоть своей возвышенной фантазии! Я чувствую себя повелителем царства химер. Мое поле дает мне свою плоть, а мой виноградник – свою кровь. Духи соков выращивают, удлиняют, наполняют силой, вытягивают и шлифуют на своем токарном станке необходимые мне для моего искусства прекрасные члены деревьев, предназначенные для моих ласк. Мои руки – кроткие трудяги, управляемые моим сотоварищем – стариной мозгом, который, будучи подчинен мне, отлаживает игру, угодную моему воображению. Кому когда-либо служили лучше, чем мне? О! да я ни дать ни взять просто какой-то царек! Я вправе поднять чарку за свое здоровье. И не забудем о здоровье моих славных подданных (я не из породы неблагодарных). Будь благословен день, когда я явился в мир! Сколько всего восхитительного на этом круглом шарике, и при взгляде на все это хочется смеяться, оно так и притягивает к себе! Великий Боже! До чего хороша жизнь! Сколько я ни набиваю себе ею брюхо, мне всегда мало; видать, я чем-то болен, раз в любое время дня у меня текут слюнки при виде накрытого стола с приготовленными для меня яствами в виде солнца и земли…
Однако, кум, я расхвастался: солнечные деньки пошли на спад, холода стоят у врат. Повеса зимний денек воцарился в моем доме. Перо не слушается замерзших пальцев. Прости меня, Господи! В стакане завелась льдинка, побелел нос, до чего же гадкий этот бледный цвет, кладбищенский привет! У меня от него мурашки по телу. Оп-ля! Встряхнемся, Кола! Колокола Святого Мартина трезвонят во весь голос. Нынче Сретение Господне… На Сретение зима либо издыхает, либо силу набирает… Нечестивая, она набирает силу. Ну что ж, поступим, как она! Выйдем на большак и лицом к лицу встретимся с нею…
Вот так морозец! Будто сотни иголочек покалывают щеки. Дождавшись меня за поворотом, северный ветер хватает за бороду. Так и обжигает. Благословен будь Господь! Румянец заиграл на лице… Приятно слышать, как звенит под ногами затвердевшая земля. Чувствую, как приливают силы. И что это с ними со всеми? Отчего у них такой жалкий, несчастный, неприкаянный вид?..
– Эй, соседка, выше нос! Что это вы с лица спали? На кого зло держите? На этот шалунишка-ветер, который задирает вам подол? Так и надо, он молод… Эх, жаль, не я! Кусает прямо в самое вкусное место, такой озорник, такой сластена! Терпение, кума, каждому жить хочется… Да куда ж вы так бежите, словно за вами черти гонятся? На обедню? Laus Deo! [2] Господь всегда одержит верх над Лукавым. Грусть-тоска рассеется, озябший согреется… Ну вот, вы уже и смеетесь? Значит, все в порядке… Куда держу путь я? Как и вы, на обедню. Но не на ту, что отслужит господин кюре. А на ту, что приготовили мне поля.
Сперва заворачиваю к дочке, чтобы взять с собой на прогулку внучку Глоди. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подружка, моя козочка, моя лягушонка-непослушонка. Ей уже пошел шестой годик, она хоть куда, востра, как крысонька, хитра, как лисонька. Стоит ей меня завидеть, она уж у моих ног трется. Знает, что у меня целый короб историй, не меньше моего любит послушать небылицы. Я беру ее за руку.
– Пойдем, моя маленькая, встречать жаворонка.
– Жаворонка?
– Это Сретение. Ты не знала, что он возвращается к нам нынче с небес?
– А что он там делал?
– За огнем для нас летал.
– Огнем?
– Ну да, огнем, что греет нас, когда восходит солнце, огнем, на котором кипит земной чугунок.
– Значит, он улетал?
– Так и есть, он улетел на праздник Всех святых. Каждый год, в ноябре, он отправляется на небо греть звезды.
– А как он возвращается?
– Три маленьких птички летают за ним.
– Расскажи…
Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую вязаную фуфайку с синим капюшоном, она напоминает синичку. Холод ей нипочем, но ее круглые щечки красны, как маков цвет, а из носа течет, как из фонтанчика…
– Эх ты, сморчок-на-носу-лихорадка, сморкайся, да свечку, что ради Сретенья зажгла, задувай! На небе уж горит лампадка.
– Старый папочка, расскажи о трех птичках…
(Люблю, чтобы меня уговаривали.)
– Три птички, отважные друзья отправились в путь-дорогу: Королек, Зарянка и Жаворонок. Королек, неуемный, как Мальчик-с-пальчик, непредсказуемый, как вулкан, и гордый, как Артабан10, заметил несущийся по воздуху огненный шарик, похожий на просяное семечко. С криком «Мое! Поймал!» бросился он за ним. Другие последовали его примеру: «Нет, мое! Мое!». Но Королек уже поймал своим клювом шарик и стремглав ринулся с ним вниз… «Караул! Он жжется!» – завопил он вдруг, перекатывая шарик по клюву, словно обжигающую кашу, но сил терпеть у него не стало, он клюв-то и раскрыл, язык у него весь облупился, выплюнул он шарик и спрятал его под своими крылышками… И снова завопил: «Ай! Ай! Горячо! Не могу!» Крылышки у него обгорели… (Ты замечала, какие у королька подпалины и какие у него перышки? словно завитые…) Зарянка бросилась ему на помощь. Схватила клювом шарик да бережно спрятала его в своем мягком оперенье. Оттого-то оно и стало красным, как заря. «С меня довольно! Подгорели мои перышки». Тут Жаворонок, верный их товарищ, подхватил на лету огонек, пытавшийся удрать на небо, и, скорый, стремительный, точный как пущенная меткой рукой стрела, камнем пал на землю; клювом своим зарыл он солнечное семечко в наши ледяные борозды, отчего те стали теплеть, млея от удовольствия…
Я закончил рассказ. Настала очередь Глоди пощебетать. На выходе из города перед подъемом в гору я посадил ее себе на спину. Небо хмурое, под ногами хрустит снег. Жалкие деревца и кустики с их обнаженными веточками-косточками подбиты белым снежком. Голубой дым из печных труб неспешно поднимается столбом в небо. Вокруг полная тишина, только моя лягушонка трещит и трещит без умолку. Вот мы уже на вершине холма. У моих ног раскинулся мой город, повязанный двумя лентами – двумя речками: ленивицей Йонной и бездельником Бёвроном. Весь разубранный снежным покровом, пронизанный холодом, иззябший мой город всякий раз, как я гляжу на него, согревает мне душу…
Ты так красиво освещен, очертания окружающих тебя холмов так мягки… Переплетясь, как соломинки птичьих гнезд, вьются вкруг тебя мягкие валы возделанных склонов. Длинные гряды пяти или шести рядов покрытых лесом гор плавно колышутся, синея вдалеке: ни дать ни взять морские волны. С той лишь разницей, что это море лишено коварности, которая поджидала итакийца Улисса11 и его флотилию. Его не сотрясают бури. В нем нет места козням. Тут царит покой. Разве что то там, то сям легким порывом ветра надувается грудь холма. С одной вершины горных валов на другую ведут тропинки – прямые, неторопкие, за которыми тянутся борозды, похожие на те, что оставляют на морской глади корабли. На гребне волн, вдали, вознес свои мачты собор в Везле на месте могилы Марии-Магдалины12. А совсем рядом, там, где делает поворот петляющая Йонна, из чащоб торчат кабаньи клыки бассервильских скал. В изложине, окруженный холмами, небрежный и нарядный, над водами своих рек раскинулся город, со всеми своими садами, лачугами, лохмотьями, радостями, грязью улиц, ладностью своего вытянутого тулова и головой, убранной ажурной башней…
Я, улитка, любуюсь своей скорлупой. Звонкий голос колоколов моей приходской церкви поднимается над долиной, распространяясь подобно хрустальной струе в морозном чистом воздухе. Я расправляю плечи, вбирая в себя их музыку, как вдруг полоса солнечного света пробивает серую завесу, скрывавшую до того небеса. И тут моя Глоди хлопает в ладошки и кричит:
– Старый папочка, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!..
При звуке ее свежего голосочка я переполняюсь счастьем и обнимаю ее.
– Слышу так же, как и ты. Жаворонок то весны…
II
Осада, или пастух, волк и ягненок
Из Шаму́ возьми ягнят —
Втроем волка усмирят.
Середина февраля
Мой винный подвал скоро опустеет. Солдаты, которых господин де Невер, наш герцог, прислал к нам, чтобы нас защищать, почали последнюю из моих бочек. Так что не будем терять ни минуты, присоединимся к ним! Разориться я не прочь, но так чтоб было весело. Да мне и не впервой! И ежели так будет угодно воле Всевышнего, не в последний.
Славные ребята эти солдаты! Расстроились больше моего, когда я им сказал, что скоро нечем будет промочить глотку… Среди моих соседей есть такие, что относятся к этому трагически. Я же не могу им уподобляться, потому как пресытился: слишком часто приходилось в жизни присутствовать на представлениях, так что шутов я больше всерьез не воспринимаю. Уж скольких пришлось перевидать на своем веку: и швейцарцев, и германцев, и гасконцев, и лотарингцев, всех этих псов войны в латах, с оружием в руках, ненасытных утроб, живоглотов, не устающих поедать человечину! Кто когда мог понять, за что они воюют? Намедни они воевали за Короля, нынче за Лигу. То они святоши, то гугеноты. Все партии сто́ят одна другой, а лучшая из них не сто́ит веревки, на которой следовало бы повесить всех ее приверженцев. Нам-то что от того, который из ворюг – этот или другой мошенничает при дворе? А что до их желания втянуть Господа в свои делишки… люди добрые, оставили бы вы Бога в покое, клянусь своим животом, рыбья холера! Человек он пожилой. Если у вас чешется в одном месте, деритесь себе на здоровье. Господу нет до вас никакого дела. Насколько мне известно, у него руки на месте. Заявляю смело: он и без вас почешет где надо…
Хуже всего то, что они хотят и меня заставить хитрить с Ним!.. Господи, я Тебя почитаю и считаю, без всякого хвастовства, что мы не раз и не два на дню встречаемся, если верить старой галльской поговорке: «Бога видит тот, кто доброе вино пьет». Но мне никогда не пришло бы в голову утверждать, подобно этим ханжам, что я Тебя хорошо знаю, что мы с Тобой запанибрата, что Ты поведал мне свои потаенные желания. Ты мне отдашь должное за то, что я не тревожу Тебя, и прошу всего лишь о том, чтобы и Ты относился ко мне так же. У нас с Тобой и без того полно забот по наведению порядка, Тебе – в Твоей огромной вселенной, мне – в моей, малой. Господи, Ты создал меня свободным. Я плачу́ Тебе тем же. А эти болваны требуют, чтобы я заведовал Твоими делами, говорил от Твоего имени, чтобы я рассказывал о том, как именно Ты желаешь быть потребляемым, и о том, что если кто потребляет Тебя иначе, тот будет объявлен Твоим врагом и моим!.. Моим? О нет! У меня нет врагов. Все люди – мои друзья. Если они воюют друг с другом, это их дело. Я вне игры… Да, но… Эти плуты не желают с этим мириться. Если я не принимаю сторону одного из них против другого, оба ополчаются на меня. Ну раз уж, находясь меж двух огней, я должен быть побиваем с двух сторон, придется драться и мне! Я не против. Чем быть перемолотым, сами станем молотом.
Но кто мне объяснит, для чего на земле все эти звери – все эти господа, политики, сеньоры, нашей Франции мародеры, хвалу ей воспевающие, под шумок карманы себе набивающие, недовольные тем, что имеют нас задарма, точащие зубы еще и на чужестранные закрома, грозящие германцам, завидующие итальянцам, сующие нос в турецкий вопрос, а заодно и в гаремы, желающие полмира под себя подмять, а сами неспособные и капусту там сажать!.. Ну полно, дружок, не порть себе кровь! Все неплохо… подождем, пока сами не сделаем лучше (постараемся, чтобы это было как можно быстрее). Нет такой дряни, чтобы не сгодилась на что-нибудь. Вот я слышал рассказ о том, будто Боженька (однако, Господи, ты у меня с языка не сходишь!) прогуливался с Петром по предместью Бейан[3] и увидел сидящую на пороге своего дома женщину. И до того она выглядела скучающей, что Отец наш, в доброте своей, вынул из кармана сотню вшей, бросил ей и сказал: «Бери, дочь моя, забавляйся!» И тогда женщина, очнувшись от скуки, принялась охотиться за вшами, и всякий раз, как ей удавалось поймать козявку, она смеялась от удовольствия. Это и есть милость Неба, наградившего нас ради отвлечения от скуки двуногими живыми существами, что вгрызаются в нас. Смотри веселей! Говорят, гниды – признак здоровья. (Гниды – те же наши хозяева.) Возрадуемся, братья, ибо никто в таком случае не сравнится с нами в здоровье… И потом скажу вам на ушко: «Терпение! Мы искусно начали дело. Холод, мороз, вся эта каналья, стоящая у нас постоем, и та, что при дворе, – все это на время. А вот земля навсегда, и мы, ее обременяющие, тоже. Одного помета достаточно, чтобы она восстановилась… А пока да вольется в нас жидкость благая! Нужно освободить место для будущего урожая».
Моя дочка Мартина говорит мне:
– Ну ты и трепло. Ты только и делаешь, что языком да глоткой работаешь: ротозейничаешь, пустозвонишь, будто язык колокола, разеваешь рот то от жажды, то от безделья, что ты живешь только для того, чтобы застольничать, что ты готов бесперебойно бражничать, что для тебя мир – это пир, а на самом деле ты и дня не можешь провести без работы. Тебе бы понравилось, если бы тебя считали без царя в голове, ветреником, мотом, распутником, который ведать не ведает, что творится в его кошельке, что в него поступает, что из него выпадает? Да ты бы захворал, если бы весь твой день не был расписан по часам, как звон колоколов; ты до последнего гроша помнишь, что поиздержал, начиная с Пасхи прошлого года; и не родился еще на свет такой человек, который бы тебя надул… Поглядите на этого простачка, баламута, на этого ягненка!.. Из Шаму возьми ягнят – втроем волка усмирят…
В ответ я лишь посмеиваюсь. Госпожа хорошо подвешенный язык права!.. Однако зря она так говорит. Да ведь женщина молчит только о том, чего не знает. А она меня знает, ведь она – моих рук дело… Так что, Кола Брюньон, никуда тебе не деться: сколько бы ты ни куролесил, законченным сумасбродом тебе все одно не быть. Ей-богу! Как у каждого, у тебя в рукавах прячется не одна блажь, и ты вынимаешь их оттуда по желанию, но, когда тебе нужны твои свободные руки и твоя светлая голова, чтобы трудиться, ты без сожаления вытрясаешь все эти блажи и засучиваешь рукава. Как у всех французов, в твоем котелке так прочно укоренены чувство порядка и рассудительность, что ты можешь забавы ради изображать из себя чудака, но только дураки могут поверить этому, глядя на тебя с открытым ртом и желая тебе подражать. Высокие разглагольствования, гремучие речитативы, зубодробительные затеи – понятное дело, – возбуждают нас, мы загораемся. Но сжигаем-то мы разве что связочку хвороста, а весь запас дров остается лежать в штабелях в дровяном сарае. Воображение мое разыгрывается и устраивает представление для моего разума, который, удобно устроившись, следит за ним. И все это ради развлечения. Весь мир служит мне театральными подмостками, и я, неподвижно сидя в кресле, наблюдаю за комедией; аплодирую Матамору или Франка-Триппе13, наслаждаюсь турнирами и пышностью королевских выездов, кричу бис! всем этим людям, что, не жалея сил, скоморошничают для меня. Они занимаются этим за-ради нашего удовольствия! А чтобы удвоить его, я делаю вид, что участвую в фарсе и верю в происходящее на подмостках. Но верю во все это ровно настолько, сколько нужно, чтобы повеселиться, уж поверьте мне. Так же я слушаю сказки про фей… И не только про фей! Там, наверху, в эмпиреях, есть один важный господин… Мы его почитаем сверх всего прочего; когда он вышагивает по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, со своими Oremus[4] 14, мы завешиваем белыми простынями стены наших домов. Но между нами… Трепло, прикуси язык! Это попахивает костром… Господи, да я ничего такого не сказал… Снимаю перед Тобой шляпу…
Конец февраля
Осел, выщипав всю траву на моем лугу, заявил, что нет смысла его стеречь дальше, и отправился щипать (ну то есть стеречь) траву на соседском лугу. Сегодня утром гарнизон господина де Невера снялся с постоя. Любо-дорого было посмотреть на солдатушек, разжиревших что свиньи. Ох и горд я был нашей кухней. Мы расстались, положа руку на сердце и преподнеся друг другу сердце на ладони. Уж как они желали нашим хлебам родиться тучными, а виноградникам не перемерзнуть!
– Трудись не жалея сил, дядюшка, – сказал мне на прощанье Фиакр Болакр, сержант. (Так уж он меня величает, да и то сказать, я заслужил это прозванье: Кто о моем животе заботится, тот мне дядюшкой и доводится.) Не ленись и хорошенько обрезай лозу. На святого Мартина снова заявимся.
Добрые ребятушки, всегда готовые вспомоществовать честному человеку, когда ему одному не под силу одолеть ни яств, ни питья!
С тех пор как они ушли, всем как-то полегчало. Соседи с оглядкой, но все же открывают свои тайники. Те, что последнее время ходили с постными минами и жаловались на голод, словно в них сидел ненасытный зверь, теперь из-под сеновалов на чердаках, из-под земли в погребах достают, чем прокормить этого зверя. И нет такого христорадника, который не нашел бы способа, вслух охая и ахая, мол, осталось только пойти побирахою, припасти лучшего своего вина для себя любимого. Да я и сам (сделалось это как-то само собой), стоило моему постояльцу Фиакру Болакру выступить в путь (я проводил его до Иудейского предместья), тотчас стукнул себя по лбу: ах ты, черт, совсем запамятовал, да ведь бочонок шабли остался по недосмотру лежать в куче навоза, в тепле. Уж как я сокрушался, и не передать словами, но коль скоро зло свершилось, ничего не попишешь, душа с тем примирилась. И я примирился со случившимся. Племянничек Болакр, какой нектар, какой букет, доложу я тебе! Вы много потеряли… Мы за здоровье ваше выпили вам вслед и долгих лет вам пожелали.
Соседи принялись навещать друг друга. Стали хвастать своими находками в подвалах, и, как авгуры, подмигивать и поздравлять друг друга. А также жаловаться на утраты и убытки (в том числе по женской части). Убытки соседей воспринимаются весело и отвлекают внимание от собственных. Спрашивают, как здоровье супруги Венсана Плювьо. После каждого постоя войск в городе, по странному стечению обстоятельств у этой бесстрашной уроженки Галльской стороны платье становится тесным в поясе. Будущего отца поздравляют, восторгаются его плодливостью в минуты общественных испытаний; без всякой задней мысли, беззлобно, смеха ради я хлопаю по пузу счастливого плута и говорю, что его дом – единственный из всех, у которого брюхо как следует набито, в то время как другие опустошены. Все смеются, как и положено, но не в открытую, и как бы простодушно передают друг другу новость на ушко. Но Плювьо не по нраву наши комплименты, он заявил, что лучше бы мне присматривать за своей половиной. На это я ответил, что счастливый обладатель моей женушки может спать мертвецким сном, не боясь, что кто-то позарится на его добро. Все со мной согласились, тут двух мнений и быть не могло.
Но вот наступили скоромные дни. Какие бы ни были трудные времена, а делать нечего, нужно отдать им должное. Тут на кону репутация города и наша честь. Что будут думать о Кламси, славном своими колбасками с потрохами, ежели на заговенье мы окажемся без горчицы? Слышно, как шипят раскаленные сковороды, приятный запах жареного свиного жира наполняет городские улицы. Уж ты прыгай, блин, да повыше, сковородка так и пышет!.. Прыгай блин, да пошустрей для Глоди моей.
Трата-та барабана, лю-лю-лю флейты. Смех, крики… Это господа из Иудеи, которые явились в Рим[5] на своей колеснице.
Возглавляют шествие музыканты и алебардщики, своими носами вспарывающие толпу. Носы в виде хоботов, носы в виде пик, носы в виде охотничьих рожков, носы в виде сарбаканов15, носы в колючках, таких же, как у каштанов, носы с примостившимися на них птичками. Они расталкивают зевак, шарят под юбками визжащих девиц. Но все расступаются и разбегаются, стоит появиться королю носов, он, что таран, рассекает зрителей и катит свой нос, как бомбарду16, на лафете.
Следом движется колесница Поста, а на ней император рыбоедов в окружении бледных, зеленых, костлявых фигур в клобуках, с хмурыми лицами, они дрожат под своими капюшонами или под рыбьими головами. Сколько рыб! Вон у того в каждом кулаке зажато по окуню и карпику, а другой потрясает вилкой с насаженной на ней связкой пискарей, третий демонстрирует толпе голову большой щуки, изо рта которой торчит плотва, при этом он рассекает себе пилой живот, полный мелкой рыбешки. У меня от такого зрелища случается несварение желудка… Другие засунули пальцы в открытую глотку, стремясь ее расширить, и давятся, безуспешно проталкивая туда яйца (Дайте чем-нибудь смочить глотку!). Слева, справа, с высоты колесницы совиные хари в монашеских рясах удочкой подцепляют мальчишек, которые скачут, как козлята, стараясь поймать ртом облитые сахаром орешки или драже. Налетай, не ленись, а разгрыз, веселись. Замыкает шествие Дьявол, танцующей походкой продвигающийся вперед, он одет поваром, размахивает кастрюлей и поварешкой и угощает каким-то омерзительным месивом шестерых попавших в ад голодранцев, в ночных колпаках следующих друг за другом гуськом и несущих на своих шеях лестницу, между перекладин которой торчат их корчащиеся в гримасах рожи.
А вот и герои дня, триумфаторы! На троне из окороков, под шатром из копченых языков едет Колбасная королева, в короне из сервелатов, с четками из нанизанных на веревку сосисок на шее, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами; ее сопровождает эскорт, состоящий из гонцов и нарочных – белых и черных кровяных колбас, кламсийских колбасок с потрохами, ведомых к победе грозным полковником Гранколбасом, маркизом Дурасом. Вооруженные вертелами и шпиговальными иглами, они все как на подбор упитанные, лоснящиеся и глядят молодцами. Люблю я смотреть и на вельможных особ, живот которых что чугунок, а тело что пирог с мясом, – волхвы, да и только: у одного в руках голова кабана, у другого – фляжка вина из черного винограда, у третьего дижонская горчица. Под звуки медных духовых инструментов, под цимбалы, под стук шумовок и противней, под шутки и смех зрителей на своем осле выезжает король обманутых мужей дружище Плювьо. Ну да, он самый, Венсан, избран королем! Сидя задом наперед на осле, в высоком тюрбане на голове, с кубком в руке, он слушает, как его свита, состоящая из сплавщиков, наряженных рогатыми чертями, с баграми или жердями на плече, без умолку, без утайки и без обиняков, на хорошем французском языке громкими голосами воспевает историю его славы. Он благоразумно не выказывает нескромной гордости, просто безразлично потягивает вино из кубка, но стоит ему поравняться с каким-нибудь домом, прославившимся на том же поприще, как он оживает и, подняв кубок, кричит: «Гип-гип-ура, пью за здравие собрата, господа!»
А замыкает процессию свежая, розовощекая и улыбающаяся девушка, олицетворяющая собой наступающее время года. Гладкий лоб в короне из желто-белых примул, светлый шелк кудрей, а вокруг маленьких грудей, на перевязи – зеленые сережки, снятые с орешника ветвей. На поясе у нее позвякивает туго набитая мошна, а в руках корзина; приподняв свои светлые бровки, широко открыв глазки лазурного цвета и округлив в виде буквы «О» ротик с острыми как ножи зубками, она поет дрожащим голоском о ласточке, что скоро вернется. Рядом с нею, на повозке, которую тянут четыре белых вола, сидят веселые дородные красавицы с приятными формами в расцвете лет и совсем юные девчушки, похожие на деревца, выросшие как бог на душу положит. Каждой чего-то да не хватает, но волки и таких глотают… Хорошенькие дурнушки! У них в руках клетки с перелетными птичками, они достают из корзины королевы-веснянки и раздают зевакам пироги, лакомства, конфеты, гребешки, шапочки, юбочки и колпаки, миндаль в сахаре, записочки с предсказанием и любовные стишки, а то вдруг и рога достанут и вручат.
В конце базарной площади, возле башни девы спрыгивают с повозки и пускаются в пляс с посыльными и конторщиками. При том что идет Последний день Масленицы, Пост и Король рогоносцев продолжают свое триумфальное шествие, каждые двадцать шагов останавливаясь, чтобы поведать ротозеям о чем-то важном или заглянуть внутрь бутылки…
- Чтоб с друзьями да не пить!
- А зачем бургундцам жить?
- О нет, и нет, и нет!
- Не сошли еще с ума,
- Чтоб остаться без вина?!
Но когда перепьешь, язык заплетается, и задор иссякает. Оставляю друга Венсана на пороге кабака – дальше пусть идет вперед с остановками без меня. Денек выдался на славу, чтобы ограничивать себя тесными рамками. Выйду-ка я на простор!
Мой старый приятель священник Шамай, который прибыл к нам на своей повозке, запряженной ослицей, чтобы попировать с господином настоятелем церкви Святого Мартина, приглашает меня проделать вдвоем часть обратного пути. Я беру с собой свою Глоди. Мы садимся в его колымагу. Ну, пошла, кляча!.. Ослица так мала, что я в шутку предлагаю поместить ее в повозку между мною и Глоди… Белая дорога уходит вдаль. Солнце по-стариковски дремлет, скорее само греясь у камелька, чем грея нас. Ослица тоже засыпает и останавливается, задумавшись о чем-то своем. Кюре возмущенно призывает ее к порядку своим басом, напоминающим звон большого колокола:
– Мадлон!
Ослица вздрагивает, перебирает своими тоненькими ножками, петляет между колеями и снова встает как вкопанная, впадая в задумчивость и не отвечая на наши строгие воззвания к ее совести:
– Ах ты, проклятущее животное, не будь у тебя креста на спине, уж я бы сломал дубинку о твой хребет! – гремит Шамай, превратив свою палку в шпиговальную иглу.
У первого же постоялого двора, на повороте дороги, спускающейся дальше к безукоризненно опрятной деревеньке Арм, омывающей свои крылечки в водах речки, мы останавливаемся передохнуть. Посреди соседнего поля, вокруг большого орешника, который важничает, воздев в мучнистое небо свои черные руки и свой оголенный каркас, девушки водят хоровод. Пойдем плясать!.. Сорока-кума, отведай масленичного блина!
– Смотри, Глоди, сорока Марго в своем белом жилетике выглядывает из гнезда. Вон там, высоко-высоко, перегнулась через край, чтобы видеть! Ох и любопытная! Чтоб ничто не ускользнуло от ее цепких глазок и бойкого язычка, она устроила свой домик без окон и дверей на самом верху. Он открыт всем ветрам, его и мочит, и морозит, а ей все нипочем. Зато ей оттуда все видно. Смотри-ка, она не в духе, как будто говорит нам: «И что мне делать с вашими дарами? Деревенщины, забирайте все! Вы что думаете, захоти я вашего блина отведать, я бы его не забрала у вас сама? Какое удовольствие есть дареное? Мне по нраву только ворованное».
– Почему же тогда, старенький батюшка, ей подносят блин, да еще перевязанный такими красивыми бантами? Зачем поздравлять разбойницу, которая только и знает, что воровать?
– А затем, что в жизни, видишь ли, со злодеем лучше не воевать, а в ладу пребывать.
– Эй, Кола Брюньон, чему ты ее учишь?! – ворчит кюре Шамай.
– Я не говорю ей, что это хорошо, я говорю, что так поступают все, и ты, кюре, в первую очередь. Можешь закатывать глаза сколько хочешь. Когда ты имеешь дело с одной из твоих прихожанок-богомолок, которая все видит, все знает, повсюду сует свой нос, у которой рот что зловонная яма, попробуй скажи, что ты не заткнешь ей его чем угодно, да хоть блинами!
– Бог мой, да если б это помогло! – восклицает кюре.
– Оболгал я Марго, она лучше женщины! Ее язык по крайней мере хоть иногда на что-то пригоден.
– На что же, старенький папа?
– Когда волк приходит, она поднимает крик…
И вот именно в эту минуту сорока принимается кричать. Она заклинает, проклинает кого-то, бьет крыльями, взлетает, кого-то в чем-то обвиняет, и этот кто-то или что-то здесь, неподалеку, в долине Арм. Ей так же раздраженно и недовольно вторят с опушки леса другие пернатые – товарка сойка Шарло и товарищ ворон Кола. Люди смеются и кричат: «Волк! Волк!» Но никто этому не верит. И тем не менее проверить не мешает (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)… И что же мы видим? Батюшки-светы! Отряд вооруженных людей рысью поднимается по холму. Мы узнаем их. Это шельмы везлейцы, черт бы их побрал – зная, что наш город остался без охраны, они вообразили, что, зайдя сбоку, накроют сороку (да не эту) в ее гнезде!..
Сами понимаете, разглядывать их нам некогда! Раздается клич: спасайся кто может! Начинается толкотня, давка. Все со всех ног бросаются врассыпную и улепетывают кто как может: кто по дороге, кто прямо по полю, кто во весь дух бросается вперед, кто пятится назад. Мы втроем прыгаем в повозку. Мадлон, словно понимая, в чем дело, стрелой трогается с места, подстегиваемая что есть сил кюре Шамаем, который от волнения утратил всякое уважение по отношению к спине скотины, помеченной крестом. Мы катим по дороге среди потока орущих, словно их режут, людей, и, покрытые пылью и славой, первыми на всех порах влетаем в Кламси; прочие беглецы следуют за нами по пятам. Не сбавляя галопа, на подпрыгивающей по булыжной мостовой повозке, в которую впряжена не чующая под собой ног Мадлон, мы пересекаем предместье Бейан с криком:
– Враг у ворот!
Сперва люди смеялись, видя, как мы несемся. Но очень быстро поняли, в чем дело. Вскоре город превратился в муравейник, в который сунули палку. Все засуетились, забегали туда-сюда. Мужчины стали вооружаться, женщины вязать узлы, наполнять вещами плетенки, тачки; жители пригорода, побросав свои домашние очаги, хлынули в город, под прикрытие городских стен; сплавщики, не снимая своих карнавальных костюмов, как были, с рогами, когтями, огромными животами, вооруженные баграми и кольями – кто изображая Гаргантюа, кто Вельзевула, – бросились к бастионам. Так что, когда авангард господ из Везле подошел к стенам города, мосты были уже подняты, и по другую сторону рвов оставалось лишь несколько несчастных, которым нечего было терять и которые по этой причине не слишком торопились спасти то, чего у них не было, а король рогачей, наш дружище Плювьо, набравшись, как сапожник, и пьяный, как Ной, брошенный на произвол судьбы своей свитой, храпел, сидя на осле и ухватившись за его хвост.
Вот здесь-то и видно преимущество иметь врагом своего брата француза. Все прочие дурни – германцы, швейцарцы, англичане, у кого мозги набекрень, которые только на Святки догоняют, что им скажешь на Пасху, подумали бы, что над ними смеются, и я бы гроша ломаного не дал за шкуру бедного Плювьо. Но мы, французы, понимаем друг друга с полуслова, откуда бы мы ни были: из Бурбонне или Дофине, из Шампани или Бретани, кем бы мы ни были, – гусями из Артуа, ослами из Фуа, зайцами из Везле, свиньями из Лионне – мы можем поколотить друг друга, прибить, но все мы понимаем добрую шутку… Завидя нашего Силена17, везлейцы зашлись в хохоте, хохот сотрясал их носы и подбородки, животы и глотки. Клянусь святым Ригобертом, глядя на то, как смеются они, мы тоже надрывали животики, укрывшись за своими крепостными стенами. После чего обменялись поверх рвов изысканными ругательствами, по примеру Аякса и Гектора Троянца18. Но наши ругательства были смазаны более нежным жирком. Рад бы их записать, да времени нет; и все же когда-нибудь (вооружитесь терпением!) внесу их в некий свод, который составляю уже лет двенадцать, занося туда лучшие шуточные рассказы, непристойные истории, отборные похабные выражения, которые я где-то услышал, прочел или придумал сам (право, жаль было бы утратить их) за все время моих скитаний по этой юдоли плача. Стоит только подумать об этом, как у меня от смеха начинается трясучка, я даже посадил кляксу.
Когда мы вдоволь наорались, пришлось действовать (отдыхаешь, взявшись за дело, коль трепаться надоело). Ни нам, ни им того вовсе не хотелось. Их попытка застать нас врасплох ни к чему не привела, мы не ввязались в бой, отсидевшись в укрытии, а лазать по стенам у них не было ни малейшего желания, да и то верно, кому охота ломать себе кости. Однако же, хочешь не хочешь, а нужно было показать, что воюешь. Ну, пошумели, постреляли, поизрасходовали пороха, а как же? И что? Да, ничего, никто не пострадал, разве пара-тройка воробьев. Прислонившись спиной к стене, сидели мы себе, ожидая, когда перестанут лететь пули с той стороны, а затем выпустили свои, но не пристреливаясь, так, наобум, да и то сказать, к чему подставляться. Выглянуть отваживались, только когда слышались вопли пленников, тех набралось с дюжину, – женщин и мужчин Бейана – все они были выстроены, но не лицом, а задом к нам и подвергались ударам пониже спины. Вопили они благим матом, хоть больно им было не особо. А чтобы отомстить, мы предприняли вот что: хорошенько прячась, стали дефилировать вдоль наших куртин, потрясая над стенами, так чтоб было видно с той стороны, нанизанными на пики окороками, сервелатами и кровяными колбасами. Ответом нам было рычание, в котором слышались ярость и недюжинный аппетит осаждающих. Мы же возликовали, как от доброго вина, а чтобы не потерять ни капли (уж коль затеял шутку, так косточку-то обглодай!), с наступлением вечера удобно расположились под ясным небом на склонах под защитою стен, разложили на столах снедь, расставили бутыли и с шумом и треском стали пировать, распевая песни и чокаясь за здоровье Масленицы. По ту сторону стен все враги от такой наглости чуть не передохли. Так мило, без особого ущерба для себя провели мы этот денек. Если не считать случая, приключившегося с одним из наших – толстяком Гёно де Пуссо: вздумалось ему побесить неприятеля, и он, в дымину пьяный, стал назло врагу расхаживать по стене с чаркой в руке, а тот, завидя сей демарш, его чарку-то вместе с его мозгами и превратил в фарш. Мы в ответ тоже одного или двоих изувечили. Но это никак не повлияло на наше настроение. Как известно, лес рубят, щепки летят.
Шамай дожидался ночи, чтобы выбраться из города и отправиться восвояси. Как ни уговаривали мы его:
– Дружище, ты слишком рискуешь. Дождись, когда все закончится. Господь сам займется твоими прихожанами.
Он отвечал:
– Место мое среди овец моей паствы. Я – рука Господа, и, ежели я поступлю неправедно, Господь останется одноруким. Клянусь, я не допущу этого.
– Верю, верю, – отвечал я, – ты уж это доказал, когда гугеноты осадили твою колокольню и ты здоровенным камнем уложил на месте их капитана Папифага.
– Как же он удивился, этот нехристь! Не менее моего. Я добрый человек, мне не по себе делается от вида крови. Это премерзко. Одному дьяволу ведомо, что творится в мозгу, когда ты находишься среди безумцев! С волками жить, по-волчьи выть.
– И то верно, в толпе теряешь всякий разум. От ста мудрецов родится тетеря, а сто баранов породят зверя… Но скажи-ка ты мне, кюре, как, по-твоему, можно согласить две морали: мораль человека, живущего наедине со своей совестью, которому нужен мир для себя и других, и мораль военных, мораль государств, превращающих войну и преступления в добродетель? Которая из них от Бога?
– Хороший вопрос, черт возьми!.. Да обе. Все от Бога.
– Ну, в таком случае Он сам не знает чего хочет. А все же, сдается мне, что хоть Он знает, да не может. С отдельным человеком Ему не надо тужиться – легко заставить себя слушаться. А коли перед Ним целое сборище людей – поди с ними со всеми управься. Что может сделать один против многих? Так что человек пригвожден к земле-матушке с ее плотоядным инстинктом… Помнишь местное поверье о людях, которые в какие-то дни бывали волками, а потом возвращались в свое человеческое обличье? В наших местных преданиях больше толку, чем в твоем служебнике, дорогой кюре. В государстве всякий облачается в волчью шкуру. Как ни рядятся государства, короли, их министры в пасторские одежды, как ни заявляют разные плуты, что они родня великого Пастыря – того самого, от имени которого говоришь ты, все они – рыси, быки, пасти и животы ненасытные. А зачем? Чтобы накормить ненаедное брюхо земли.
– Эк тебя занесло, язычник! – отвечал Шамай. – Волки от Бога, как и все остальное. Все, что Им сотворено, сотворено для нашего блага. Разве ты не знаешь, говорят, что именно Иисус породил волка, чтобы тот защищал капусту, росшую в огороде Пресвятой Девы Марии, Его матери, от коз и козлят? И правильно сделал. Склоним пред Ним свои головы. Мы то и дело жалуемся на сильных мира сего. Однако, друг мой, если б неимущие стали королями, было бы еще хуже. Отсюда вывод: все хорошо, все на пользу – и волки, и овцы; овцы нуждаются в волках, чтоб те их стерегли, а волки в овцах, чтобы есть могли… А засим, друг Кола, отправлюсь-ка я стеречь свою капусту.
И сутану засучив, свою палку подхватив, он отправился в ночи, мне Мадлонку поручив. Ночь была безлунной.
На следующий и в последующие дни все было не так весело, как началось. По глупости своей, из бахвальства мы в первый вечер набили себе животы и обожрались так, что дышать не могли. Так как запасы пищи наши сильно поубавились, пришлось затянуть потуже пояса и ремни, что мы и сделали. Но мы все еще демонстрировали, что как сыр в масле катаемся. Когда кровянка закончилась, мы изготовили другую, начинив кишки отрубями, веревкой, вымоченной в дегте, и, подняв ее на палки над стенами, носили туда-сюда у неприятеля под носом. Но бестия-противник раскрыл секрет. Пуля, пущенная с той стороны, попала в одну из колбас, да не как-нибудь по касательной, а прямо в середку. И кому из нас стало смешно? Как вы думаете? Уж точно, не нам. А чтобы совсем прикончить наш дух, эти разбойники, увидев, что мы прямо с крепостной стены ловим в речке рыбу на удочку, придумали поставить у шлюзов, выше и ниже по течению, большие сети, чтобы перехватывать то, что должно было пойти у нас на жарку. Напрасно настоятель нашей церкви заклинал этих дурных христиан позволить нам поститься. Ну словом, за отсутствием постной пищи пришлось питаться запасами собственного сала.
Разумеется, мы могли воззвать к помощи господина де Невера. Но правду сказать, мы не торопились снова брать на себя содержание его войска. Неприятель, на вас навалившийся, обходится дешевле, чем друг, в доме поселившийся. Потому, покуда можно было справиться с невзгодой без солдат сюзерена, мы помалкивали, так-то было лучше. Да и враг, со своей стороны, вел себя довольно тактично и тоже не стал звать его. И мы, и они предпочли договориться без третьего лишнего. И не спеша приступили к прелиминариям19. А тем временем в обоих станах велась благоразумная жизнь: ложились рано, вставали поздно, и весь день играли в шары, в «пробку», зевая скорее со скуки, чем от голода; не выходя из состояния вялого, мы и постясь набирали весу немалого. Старались поменьше двигаться. Не то дети, их не удержишь. Ребятня на то и ребятня, чтобы бегать как угорелая, визжать, смеяться, сновать туда-сюда, не переставая подставлять себя под пули врага, лазать по стенам, показывая неприятелю язык; целая артиллерия была изготовлена ею для того, чтобы досаждать противнику, бомбардируя его камнями, трубочками из бузины, маленькими пращами, распиленными вдоль палочками… получай! а вот этого не хочешь? а как тебе понравится это?.. и все-то им было смешно до колик, нашим обезьянкам! А побиваемые клялись их изничтожить. Нам крикнули, что первый из шалунов, который покажет свой нос из-за стен, будет убит. Мы пообещали не спускать с них глаз, но как мы ни таскали их за уши, как ни выговаривали им, они проскальзывали у нас сквозь пальцы. А самым ужасным (я до сих пор еще дрожу) было то, что одним прекрасным вечером я услышал крик: Глоди! (Не может быть! Кто бы мог подумать!) Этот тихий омут, эта недотрога, шалунья! золотце мое!.. спрыгнула с откоса в ров… Боженька, высечь бы ее!.. Один прыжок, и я был на стене. Мы все смотрели вниз… Захоти враг уложить нас всех на месте, лучшего момента не придумаешь; но, как и мы, он не сводил глаз с моей драгоценной крохотки, которая (будь благословенна святая Дева!), словно котенок, скатилась вниз, ничуть не испугавшись, уселась на травке посреди цветов, и, задрав голову к тем, кто с двух сторон взирал на нее, она улыбалась им и как ни в чем не бывало собирала букет. Все улыбались ей в ответ. Монсеньор де Раньи, командующий неприятельской армией, запретил причинять ребенку хоть малейшее зло и даже, заботясь о своей душе, бросил ей коробочку драже.
Но пока все взоры были прикованы к Глоди, Мартина (ох уж эти мне женщины!), чтобы спасти свою овечку, принялась спускаться по склону, то бегом, то ползком, то кувырком, с задранной до ушей юбкой, гордо выставив напоказ осаждающим и свой восток, и свой запад, и оба полушария, и все четыре стороны небосклона, и обратную сторону своего гербария. Успех был оглушительный. Она же, нисколько не смутившись, схватила Глоди, расцеловала ее и отшлепала.
Ослепнув от ее прелестных начал, отмахнувшись от своего капитана, один солдат-ухарь спрыгнул в ров и бегом кинулся к ней. Она дождалась его. Мы бросили ей метлу. Она бесстрашно пошла на врага и так его отдубасила – хлысть-хрясть, вот тебе, бац-бац, – что он почел – ой, мама! – за лучшее ретироваться, наша взяла, братцы, гремите, трубы и горны, победа наша бесспорна! Посреди всеобщего гогота в обоих станах победительницу с ребенком на руках подцепили, и я, гордый, как павлин, стал тянуть веревку, на конце которой болталась моя бесстрашная воительница с задранной юбкой, являвшая неприятелю свой экватор.
Еще неделю длилась говорильня. (Был бы повод, болтун что овод.) Ложный слух о приближении войска господина де Невера, наконец, привел нас к обоюдному согласию, было принято решение, в общем-то, не слишком обременительное для нас: мы обещались отдать везлейцам десятую часть от будущего сбора винограда. Обещать-то обещай, да из виду не теряй – бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Откуда нам знать, каким будет урожай, еще столько утечет воды, а вина и подавно в наши животы.
Была достигнута полная сатисфакция друг другом с обеих сторон, а собою и того паче. Но пришла беда – отворяй ворота. Именно в ту ночь, что последовала за заключением перемирия, на небе появилось знамение. Часам к десяти из-за Самбера, где оно затаилось, оно выкатилось на лужайку небосклона и протянулось в виде змеи в сторону Сен-Пьер-дю-Мона. Оно было похоже на меч, острие которого представляло собой факел, выпускающий дымящиеся языки. Меч этот держала чья-то рука, пять пальцев которой оканчивались вопящими головами. На безымянном пальце можно было разглядеть женскую головку с развевающимися по ветру волосами. Ширина меча была: у рукояти – с пядень, у острия – от семи до восьми линий дюйма[6], у середины меча – два дюйма и три линии[7].
А цвета оно было фиолетово-кровавого и каким-то распухшим, как рана в боку. Все, задрав головы и раскрыв рты, смотрели в небо; слышалось, как от страха клацают зубы. В обоих станах задавались вопросом, кому предназначено сие знамение. И мы, и они не сомневались, что оно предназначено противоположной стороне. Но мурашки бегали по телу у всех. У всех, кроме меня. Мне ничуть не было страшно. Надобно признаться, я ничего не видел, потому как ровно в девять завалился спать. Я ведь следую указаниям месяцеслова, а в нем на эту дату указано: в такое-то время принять лекарство, где бы ты ни находился; ну я его принял и лег; уж если в месяцеслове написано что-то, то уж будьте покойны, где бы я ни был, я беспрекословно подчинюсь, ведь это заповедано Евангелием. О знамении мне рассказали, а это все равно что видеть его своими глазами. Я все записал.
Покончивши с подписанием мира, друзья и недруги вместе взялись за подготовку пира. А тут как раз подошло преполовение поста20, ну мы и приостановили голодовку. Из окрестных деревень к нам стали стекаться, дабы отпраздновать наше освобождение, как едоки, так и съестные припасы. Денек выдался на славу. Столы тянулись во всю длину вала. Приготовлено было: три вепренка, зажаренных целиком и начиненных рубленным мясом с добавлением кабаньих потрохов и печени цапли; душистые окорока, прокопченные в очаге на можжевеловых веточках; заячьи и свиные паштеты, благоухающие чесноком и лаврушкой; сосиски из потрохов и просто потроха; щуки и улитки; рубцы; черные рагу из заячьего мяса, которые пьянили вас еще до того, как вы их отведали; телячьи головы, тающие на языке; огненные купы проперченных раков, – от них в горле загорался пожар, притушить который были призваны салаты из политого уксусом лука-шалота и целый арсенал вин из местечек Шапот, Мандр, Вофийу; а на десерт – прохладная простокваша со сгустками, разминаемыми челюстями между языком и небом, и печенья, которые единым махом, как губка, впитывали в себя содержимое чарок.
Ни один из нас не сдался, пока оставалось еще хоть что-то, чем можно было набить утробу. Будь благословен Господь, который дал нам возможность в столь небольшой по объему желудок вмещать столько яств и пития. Было на что посмотреть, когда затеяли соревнование – у кого больше вместит брюхо: отшельник из Сен-Мартен-де-Везле по прозвищу Короткое ухо, сопровождавший везлейцев (сей великий исследователь первым подметил, что осел может реветь только с задранным хвостом) и наш (не осел, конечно) Дом Анкен, заявлявший, что раньше был карпом или щукой, до такой степени он не переносил воду, наверняка в прежней жизни изрядно перепил. Словом, когда мы, везлейцы и кламсийцы, встали из-за стола, в нас прибавилось уважения друг к другу по сравнению с тем часом, когда мы брались за потаж: только за столом и познается, чего стоит человек. Кто любит вкусно закусить, того люблю и я: натура в нем бургундская тотчас видна.
Наконец, чтоб уж окончательно нас сдружить, когда мы переваривали обед вместе, показалось войско господина де Невера, посланное нам на подмогу. Ох и посмеялись мы, и оба наши стана очень вежливо попросили их повернуть назад. Они не посмели настаивать и ушли, пристыженно повесив головы, словно побитые собаки, которых овцы послали куда подальше. Обнимаясь, мы приговаривали: «Что мы дураки, чтобы драться ради наших сторожей! Не будь у нас врагов, они бы их выдумали, ей-же-ей! Чтобы спасти нас! Благодарим покорно! Мы сами себя спасем, нам то не зазорно. Боже, спаси нас от наших спасителей! Бедные овцы! Если бы нам нужно было защищаться только от волка, еще куда ни шло. Но от самого-то пастуха спасет нас кто?»
III
Бревский кюре
Первое апреля
Как только дороги очистились от незваных гостей, я решил безотлагательно пойти навестить своего друга Шамая. Не то чтобы я очень уж беспокоился о его судьбе. Он хват и умеет за себя постоять! Но все же… покойней делается, коли своими глазами убедишься, что дальний друг жив-здоров… И потом нужно было размять ноги.
Никого не поставив в известность о своем намерении, я шел себе, насвистывая, по берегу реки, текущей у подножья покрытых лесом холмов. По молоденьким листочкам барабанили капельки дождя, – будь благословенны эти слезки весны, – который то затихал, то вновь припускал. В высоких стволах нежно цокала влюбленная белка. В лугах тараторили гуси. Дрозды звонко и пронзительно свистели, а синичка выводила свое: титипьют, титипьют…
Уже в пути мне пришло в голову зайти в Дорнеси еще за одним моим другом – нотариусом, мэтром Пайаром: мы как Грации, только втроем составляем полный комплект. Я нашел его в конторе, он что-то там царапал, занося на бумагу, какая сегодня погода, что он видел во сне и что думает о происходящем. Подле него рядом с томом «De Legibus»[8] лежала открытая книга «Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса»21. Когда ты всю жизнь носу не кажешь из своего жилища, мысли-то все одно на месте не удержишь, они, как скакуны, отыгрываются и уносятся в долы мечтаний и рощи воспоминаний; голова за неимением возможности круглой машиной управлять, что случится в будущем с миром, пытается прозревать. Говорят, все предначертано, верю, но признаюсь, мне удавалось признать правоту предсказаний «Центурий» о будущем, только когда они сбывались.
Увидев меня, добряк Пайар весь засветился, и дом сверху донизу зазвенел от раскатов нашего хохота. Уж как я был рад тому, что вижу его: невысокий, склонный к полноте, с рябой физиономией, широкоскулый, с красным носом, прищуренными глазками, живыми и хитрыми, с хмурящимся видом, вечно брюзжащий на погоду, на людей, но в душе добряк, весельчак и еще больший забавник и балагур, чем я. Хлебом его не корми, только дай с суровым видом выдать тебе какую-нибудь несусветную околесицу. Одно удовольствие смотреть, как он важно восседает за столом с бутылкой в руках, призывая Кома и Мома22 и громко распевая свою песенку. Радуясь тому, что видит меня, он держал мои руки в своих – толстых и неуклюжих, но во всем напоминающих его самого: таких же бедовых, чертовски ловких, умеющих и играть на разных инструментах, и пилить, и точить, и переплетать, и столярничать. Он все сделал в своем доме своими руками, и пусть все это некрасиво, но это его рук дело и, красиво или нет, но то его портрет.
Чтобы не утратить привычки жаловаться и на то и на сё, он поупражнялся, кляня все подряд, я же, ему переча, стал напропалую хвалить и се и то. Его можно назвать Доктором Все-к-худшему, меня – Доктором Все-к-лучшему: это у нас такая игра. Он разворчался на своих клиентов, и то сказать, платить они не спешат – некоторым из долговых обязательств уже лет тридцать пять, – и, хотя это в его интересах, он не торопит своих должников. Есть и такие, что расплачиваются, но как бог на душу положит и когда им вздумается, часто натурой: корзиной яиц или парой кур. Так здесь принято, и, если б он стал требовать положенные ему деньги, это было бы воспринято как оскорбление. Ворчать-то он ворчал, но на все махнул рукой; сдается мне, на месте своих клиентов, он поступал бы в точности, как они.
К счастью для него, того, чем он владел, ему было достаточно. Кругленькое состояние давало навар, как курочка яйца. Сам он мало в чем нуждался. Застарелый холостяк он не был волокитой, а что касается того, чтоб поесть в свое удовольствие, природа в наших краях о том позаботилась сполна – чем не скатерть-самобранка наши поля? Виноградники, сады, рыбные садки, крольчатники – все это ломящиеся кладовые с запасами еды. Больше всего средств у него уходило на книги, которые он показывал, но издалека (одалживать их кому-то – этого у него, у стервеца, и в заводе не было), да еще на подзорную трубу, мода на которую пришла недавно из Голландии. Он оборудовал себе на крыше среди печных труб шаткий помост, с которого с многозначительным видом вглядывался в небесный кругооборот, пытаясь расшифровать, ничего в том особо не смысля, азы наших судеб. Вообще-то, он в это не верит, но ему нравится делать вид, что верит. В конце концов мне это понятно: приятно, право, из своего окна глядеть, как зажигаются и гаснут огоньки в небесной вышине, это все равно что наблюдать за барышнями, что проходят мимо – можно вообразить, какие в их жизни происходят перипетии, интриги, какие заводятся романчики; правда это или нет, забавно ведь смотреть кому-нибудь вослед.
Мы долго обсуждали недавнее диво – огненный кровавый меч, прорезавший ночное небо в минувшую среду. И каждый давал свое объяснение, вцепившись в него mordicus[9]. Но в итоге выяснилось, что ни он, ни я ничего не видели. Поскольку в тот вечер мой дорогой астролог заснул у своей подзорной трубы. Когда среди ты дурачин, то Господу хвала: ты не один. С этим нетрудно примириться. Что мы и сделали с большим удовольствием и весело.
Вышли мы из дома, решив ни о чем таком кюре не рассказывать. И двинулись прямо через поля, поглядывая на молодую поросль, розовые побеги кустов, птиц, строящих гнезда, стервятника, описывающего над долиной круги. Смеясь вспоминали добрую шутку, которую сыграли некогда с Шамаем. Месяцы и потоки пота и крови ушли у нас с Пайаром на то, чтобы научить большого дрозда, посаженного в клетку, гугенотскому песнопению. После чего мы его выпустили в сад нашего друга – кюре. Сад пришелся дрозду по душе, и он сделался наставником других деревенских дроздов. Шамай, которому во время чтения служебника мешал их хорал, себя крестом осенял и, ругаясь на чем свет стоит и думая, что в его саду поселился бес, изгонял его, а потом, вконец остервенев, спрятался за створкой окна и стрелял в нечистую силу из ружья. Хотя сказать, что он был совсем уж одурачен, все-таки нельзя: когда бес был повержен, почему бы его было не съесть…
Так за разговорами мы дошли до Брева.
Деревня, казалось, была погружена в сон. Дома вдоль дороги стояли днем погожим раскрытыми настежь навстречу весеннему солнцу и любопытным прохожим. Вокруг ни одного человеческого лица, только у ямы с водой ребячий зад, который, судя по всему, дышал воздухом. Но по мере того как мы с Пайаром, держа друг друга под руку, продвигались по направлению к центру деревни по дороге, устланной соломой и коровьими лепешками, все громче становился гомон человеческих голосов, напоминающий жужжание потревоженных пчел. Выйдя на площадь перед церковью, мы оказались в толпе о чем-то судачащих, жестикулирующих и орущих людей. Посередине, на пороге приоткрытых врат церковного сада, стоял красный от негодования и рычащий Шамай, показывавший своим прихожанам кулаки. Нам было интересно понять, в чем дело, но мы слышали лишь шум голосов: «Саранча, черви, жуки и гусеницы…23 Cum spiritu tuo…[10]»
– Нет! Нет! Не пойду! – кричал в ответ Шамай.
– Черт побери! Ты наш кюре? Отвечай: да или нет? Если это так (а это так), ты обязан служить нам, – неслось в ответ.
– Болваны, я служу Господу, а не вам…
Заварушка была знатная. Шамай, чтобы поставить в ней точку, захлопнул ворота перед самым носом окормляемой им паствы; через решетку можно было еще видеть, как одна его рука по привычке умильно окропляла своих прихожан, посылая на их головы дождь благословения, а другая призывала на землю гром проклятия. В последний раз в окне мелькнул его круглый животик и топорное лицо; в силу невозможности донести до вопиющих свою точку зрения, он приставил к своему носу большой палец одной руки и, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой руки, показал им нос. Вслед за чем ставни закрылись, и дом обрел непроницаемый вид. Крикуны утомились, площадь стала пустеть, и мы, просочившись сквозь поредевшую толпу зевак, смогли взяться за дверную скобу.
Однако нам пришлось долго барабанить в дверь. Упрямый осел не желал отворять.
– Господин кюре! Откройте! – как мы ни изощрялись, на разные лады меняя голоса из желания поразвлечься, он не отвечал.
– Мэтр Шамай, вы дома?
– Пошли к черту! Меня нет, – огрызнулся он, но, поскольку мы не отступались, добавил: – Пошли вон! Если не оставите в покое мою дверь, я вам покажу, где раки зимуют, так окрещу, что костей не соберете!
Он чуть было не вылил на нас горшок воды.
– Шамай, обливай, мы не против, но лучше вином!
При этих словах буря чудесным образом улеглась. Красная, что солнце, и обрадованная физиономия Шамая выглянула из окна.
– Ах вы черти! Брюньон, Пайар, это вы? Ну и натворил бы я дел! Треклятые шутники! Почему не назвались?
И вот он уже, перепрыгивая через ступеньку, скатывается к нам.
– Милости прошу! Да благословит вас Господь! Дайте-ка я вас расцелую! Дорогие мои, как же я рад видеть людские лица после всех этих обезьяньих образин! Вы видели их пляски? Пусть пляшут, сколько им влезет, на здоровье, я не сдвинусь с места. Поднимайтесь, сейчас выпьем. Вам, надо думать, жарко. Ишь, захотели, чтобы я вынес им Святые Дары! Скоро пойдет дождь, и мы с Боженькой вымокнем до костей. Мы что у них в услужении? Я что им батрак какой-нибудь? Обращаться со священнослужителем, как с каким-нибудь деревенщиной! Нехристи! Моя обязанность заботиться об их душах, а не об их грушах.
– Вот как! О чем это ты? На кого это ты так напустился? – спросили мы.
– Поднимайтесь, – отвечал он. – Наверху нам будет удобнее. Но сперва следует выпить. У меня в глотке пересохло, я задыхаюсь!.. Как вам это вино? Явно не из худших. Поверите ли, друзья мои, эти твари хотели заставить меня устраивать каждый день молебен – то как на Неделю о слепом, то как на Пасху… Почему бы тогда не сплошной молебен с Рождества до Пасхи. И все это ради каких-то жуков!
– Жуков! – поразились мы. – У тебя они в голове, наверное, завелись. Ты несешь что-то несусветное, Шамай.
– Вовсе нет! – возмущенно вскричал он. – Ну уж нет, это слишком! Я подвергаюсь нападкам этих сумасшедших, и я же еще ненормальный!
– Тогда объясни нам вразумительно, что произошло.
– Вы выводите меня из себя! – произнес он, вытирая пот, выступивший на лбу от ярости, – мне нужно оставаться спокойным, а нас с Господом, меня и Его, донимают весь день напролет, заставляют потрафлять всякой дребедени!.. Так вот, знайте (ох, я сейчас задохнусь от возмущения), эти язычники, которым трын-трава вся эта загробная вечная жизнь, которые не заботятся о чистоте душ своих также, как не заботятся о чистоте своих ног, требуют от кюре своего прихода то дождя, то вёдра. Я, видите ли, должен управлять солнцем и луной: то сделай им потеплее, да повлажнее, да небо поголубее, так, в самый раз, больше не надо на этот час, то подай им подернутый дымкой, умеренный, не жаркий день, чтоб кружевной и легкой была тень, но только без заморозков и засухи, упаси бог, так, прохладцы чуток. Господи, ороси мой виноградник, лей – не жалей, до самого донца! А теперь прожарь его на солнце…
Послушать этих плутов, так покажется, что Господу больше делать нечего, как уподобиться привязанному к жерновам мельницы ослу, который под ударами хлыста качает воду из реки. К тому же (и это самое невообразимое!) они ни в чем друг с другом не согласны: одному подавай дождь, другому – солнце. Они еще и святых призывают себе на подмогу! Святых, которые там, наверху помогают разверзать хляби небесные, тридцать семь. Во главе их с копьем в руках – святой Медард, великий писальщик. Противостоят ему всего лишь двое: святой Раймонд и святой Деодат – эти тучи устранят. А подсобляют им святой Блэз – ветрогонец, святой Христофор-градоборец, святой Валериан – грозглотатель, святой Аврелиан-громопрерыватель, святой Клэр-светомер. Распря творится на небесах. Все эти важные персоны награждают друг друга тумаками. А тут еще святые Сюсанна, Елена и Схоластика вцепились в волосы друг дружке. Не знает сам Господь Бог, кому бы Он помог. А коли сам Господь ничего не знает, что его кюре в том понимает? Бедный кюре!.. В общем, не мое это дело. Я тут только для того, чтобы передавать наверх просьбы умело. А каков будет ответ знает только Мировед. Я бы ничего не имел против (хотя это идолопоклонство кого хочешь разохотит… Всеблагой Христос, неужто ты умер зря?), если бы эти бездельники не вмешивали в распри небесные своего поводыря… Но взбесившись, они твердо намерены использовать меня, да и Христа в качестве оберега против всех гадов и червей, которые являются грозой их садов и полей. То у них крысы поедают зерно в сараях: им подавай крестный ход, изгнание бесов, молитву святому Никасию, а на дворе морозный декабрьский денек, снега навалило по пояс, в результате у меня прострел в пояснице… Затем гусеницы: вынь да положь им молитвы святой Гертруде, крестный ход, – это уже в марте, дождь со снегом, ледяная морось, – я простужаюсь и с тех пор кашляю… А нынче вот нашествие майских хрущей. Еще один крестный ход! Требуют, чтобы я обошел их сады и огороды (солнце нещадно печет, назревает гроза, над землей нависли тяжелые иссиня-черные тучи, похожие на огромных навозных мух, – согласись я, и вернулся бы вконец больным), распевая: «Ibi ceciderunt творящие беззаконие atque expulsi sunt и не смогут star[11]… Но изгнан-то буду я!.. Ibi cecidit[12] Шамай Батист, кюре по прозвищу Кроткий…» Нет, нет и нет, благодарю покорно! Я не тороплюсь. И для добрых шуток нужен промежуток. Неужели же мне надлежит очищать их поля от гусениц? Если майские хрущи им мешают, пусть сами маются со своими хрущами, эти лежебоки хреновы! Береженого Бог бережет. Было бы слишком просто скрестить руки на груди и повелеть кюре: «Сделай это! Сделай то!». Я буду делать то, что угодно Богу и мне самому: пить. Буду пить. И вы со мной… Что до них, пусть себе мой дом осаждают, если желают! Не стану я идти у них на поводу, друзья, и клянусь: они скорее уйдут восвояси несолоно хлебавши и задом мне салютовавши, чем я подниму свой зад из этого кресла. Так поднимем же чарки!
Утомившись от собственного красноглагольствия, он приложился к бутылке в поисках отдохновения и удовольствия. Мы также опрокинули чарки, высоко их задрав и разглядывая сквозь стекло небо и нашу судьбу, которые предстали нам в розовом цвете. На несколько минут воцарилась тишина. Слышалось только, как Пайар щелкает языком да как булькает вино, проходя по мощной вые Шамая. Он пил не отрываясь, Пайар делал небольшие глоточки. При этом Шамай издавал на выдохе звук «Ха!», закатывая глаза, когда винный поток достигал дна. Пайар разглядывал свой стакан, и так и эдак поворачивая его в руках, подставляя его солнечным лучам, перемещая в тень, принюхиваясь, втягивая в себя аромат, пил всем, чем можно, – носом, глазами, ртом. Я же упивался этой минутой, рассматривая и тех, кто пил, и то, что пили; моя радость увеличивалась как от их радости, так и от наблюдения за ними: бражничать самому и видеть, как это делают другие, скажу вам по секрету, это поистине королевское удовольствие, лучше которого нету. Я не отставал, только успевал подливать себе. Да и никто не желал плестись в хвосте, так мы и шли нога в ногу, подливая понемногу!.. А вышло так: первым достиг барьера поверенный, что принимал на грудь весьма размеренно.
После того как роса из бутылок, хранившихся в подвале, нежным бальзамом умягчила наши глотки и вернула гибкость нашим первозданным силам, души наши расправились во всю свою ширь, а лица разгладились. Облокотившись о подоконник открытого окна, мы умильно и с восторгом созерцали приход новой весны – веселое солнце, золотящее только что появившийся тополиный пух, невидимо петляющую по долине, то туда, то сюда, словно молодой игривый пес, Йонну, от которой до нас доносился стук – это колотили бельем по валькам прачки; слышалось кряканье крачки. Повеселевший Шамай, пощипывая нас за руки, говорил:
– До чего же хорошо жить в этом краю! Будь благословен Господь, который сделал так, что мы все трое появились здесь на свет! Что может быть изумительнее, упоительнее, восхитительнее, исключительнее, поразительнее, а также вкуснее, сочнее, слаще! Просто слезы на глаза навертываются, как пред алтарём. Так бы и съел его, этот край, живьём!
Мы кивали в подтверждение его слов.
– Но на кой черт Вышнему понадобилось именно в этих краях позволить расплодиться этим зверюгам? Разумеется, Он прав. Он знает, что делает, нужно думать… однако, признаюсь, я бы предпочел, чтобы Он был не прав и чтобы мои прихожане отправились к лешему или куда-нибудь еще: к инкам или Сулейман-паше, неважно, подальше от наших краев! – неожиданно изрек он.
На что мы ему отвечали:
– Шамай, да ведь повсюду люди одни и те же. Что эти, что те! Зачем менять шило на мыло?
– Вот в чем штука, – вновь завел он речь, – не для того, чтобы быть спасенными мною были созданы Господом эти лопухи, а для моего собственного спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья, нет на свете более поганого занятия, чем быть деревенским кюре, которому приходится святые истины в толоконные лбы этих мерзких дурней вбивать, соком Евангелия их самих питать и млеко вероучения в их чада вливать? У них в одно ухо влетает, из другого вылетает, их зобу и ртищу подавай более грубую пищу. Сколько бы они ни жевали ave24, не гоняли, гнусавя, из одного угла рта в другой лита́нию25, напоминающую в их исполнении богомерзкое алкание, не тянули повечерие, текст калеча, ничто, замечу, из священных слов не поступает в их глотки, жадные до вина, а не до веры основ. Ничто не усваивается этими горлопанами. До того и после остаются они язычниками рьяными. Испокон веков искореняем мы из лесов и полей их злых гениев и фей, надрываем наши легкие, стараясь загасить огни, раздутые силой нелегкой, дабы в самой темной ночи мироздания воссиял свет богопочитания, нам все равно никак не удается покончить с этими духами земли, с этими предрассудками, возникшими в безверии, с самой этой душой материи.
Старые дубовые пни, черные поворотные камни по-прежнему хранят в себе сатанинское исчадие. Сколькие из них мы уже раскололи, обтесали, распилили, выкорчевали, сожгли! Надобно перевернуть всю землю нашей матушки Галлии, каждый ее клочок, каждый камень, чтобы окончательно вырвать бесов из ее тулова. Да куда там! Все одно не получится. Окаянная природа проскальзывает у нас между пальцами: вы ей отрезаете ноги, у нее вырастают крылья. На месте каждого убитого божка, глядь, десять новых встояка. Все-то у них божок, все-то у них анчутка у этих тупоумных. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы и в черную курицу, в огромного человечьего змея, в гнома Фульто26 и в утку-ворожею… Скажите мне на милость, как будет выглядеть среди всех этих то безголовых, то о трех головах чудищ, которые попали на Ноев ковчег, кроткий сын Марии и набожного плотника, Богочеловек!
На что Монс Пайар ответствовал:
– Кум, в чужом глазу соломину увидать, в своем – бревна не замечать. Прихожане твои сумасбродны, что верно, то верно. А ты сам намного ли умнее? Уж лучше бы ты молчал, ведь ты во всем им подобен. Стоят ли больше твои святые в сравнении с их домовыми и феями?.. Мало того что у тебя один Бог в трех ипостасях, то есть Святая Троица, да еще непорочная мать, так еще пришлось наполнить твой Пантеон кучей малых божков в штанах и юбках, этих фетишей, призванных заменить уничтоженных и заполнить пустые ниши. Но ведь эти боги – ей-богу! – не сто́ят прежних. Неизвестно, откуда они взялись; повылазили отовсюду, как слизняки, и все такие убогие, нескладные, покалеченные, грязные, в язвах и шишках, изъеденные вшами и червями: один выставил напоказ кровоточащую култышку и демонстрирует истекающую ядом язву на бедре, другой носит кокетливо воткнутый в голову топор, третий разгуливает с собственной отсеченной головой под мышкой, еще один победно размахивает собственной кожей, словно рубашкой. Да вот хотя бы, незачем далеко ходить, что ты скажешь, кюре, о святом, что царит посреди твоей церкви – Симеоне Столпнике, том, что сорок лет проторчал на одной ноге на верху столпа, словно цапля?
Тут Шамая словно кто ножом пырнул, так он подскочил.
– Замолчи! – закричал он. – Ну ладно другие святые! Я не подписывался их защищать. Но этот, он мой, язычник ты этакий, я нахожусь в его доме. Дружище, будь повежливей!
– Ладно, я твой гость, бог с ней, с твоей болотной птицей, но скажи-ка ты мне, что ты думаешь об аббате из Корбиньи, который заявляет, будто у него в бутылке молоко Пресвятой Богородицы, или о господине де Сермизеле, который как-то раз, когда у него случился понос, приготовил клистир из святой воды и праха мощей?
– Что я об этом думаю? – отвечал Шамай. – А вот что: ты, высмеивающий Сермизеля, и сам, может быть, последовал бы его примеру, если бы захворал таким же недугом. Что до аббата из Корбиньи, вот мое мнение: все эти монахи, будь на то их воля, с целью отбить у нас покупателей, открыли бы лавки и торговали молоком архангелов, притирками ангелов и маслом серафимов. Не говори о них! Кюре с монахом как кошка с собакой.
– Что ж это получается, кюре, ты не веришь в реликвии?
– В их реликвии не верю, зато верю в свои. У меня хранится плечевой отросток лопатки святой Уринии: осветляет мочу и кожу лица у страждущих лишаём. А еще квадратное темя святого Конопатия – хорошо выгоняет бесов из желудков баранов… Прошу тебя, перестань смеяться! Все зубоскалишь, нечестивец? Верно я понимаю, ни во что-то ты не веришь? У меня имеются грамоты (сомневающиеся в том, – глупцы!) на пергаментах, с подписями. Пойду схожу за ними. Ты своими глазами убедишься в их подлинности.
– Да сиди уж, оставь бумаги. Ты и сам в них не веришь, вон нос у тебя шевелится… Кость, чьей бы она ни была, откуда бы ни поступила к нам, всегда будет только костью и ничем иным, а почитающий ее – идолопоклонником. Всему свое место: место мертвецов на кладбище! Я верю в живых, верю в то, что сейчас разгар дня, что я пью и рассуждаю, притом неплохо, что два и два четыре, что земля – неподвижное светило, затерянное во вращающемся пространстве. Верю в Ги Кокиля27 и могу тебе наизусть прочесть, если хочешь, с начала до конца сборник «Обычаев нашего края». Верю я и в книги, в которые капля по капле проникают научные изыскания человека и его опыт. А более всего прочего верю в свой здравый смысл и разум. Ну и, само собой, верю в Священное Писание. Да и кто из считающих себя осмотрительным и благоразумным станет подвергать его сомнению. Ну что, кюре, доволен?
– Нет, я не считаю себя довольным, – вскричал мой добрый Шамай, не на шутку рассердившись. – Так ты, значит, кальвинист, еретик, гугенот, бормочущий себе под нос Библию, злой на свою мать-церковь и думающий (гадючье отродье!), что может обойтись без духовного наставника?
Тут уж всерьез разобиделся Пайар, он принялся возражать: мол, он не позволит, чтобы его называли протестантом, потому как он настоящий француз, правоверный католик, но в то же время человек здравомыслящий, у которого мозги на месте и руки растут откуда надо; человек, которому не нужны очки, чтобы при свете дня видеть, что к чему; человек, называющий глупца глупцом, а Шамая трижды глупцом, или глупцом в трех лицах (как тому заблагорассудится); человек, который понимает: Бога прославлять – Его разум величать, разум подобен алмазу в короне великого светоча.
Они замолчали и снова стали пить, ворча и дуясь, повернувшись друг к другу спинами, притом что сидели за одним столом. Я же покатывался со смеху. Тут только до них дошло, что все то время, пока они спорили, я молчал; я и сам только теперь это заметил. До этой минуты я был занят тем, что смотрел на них, слушал, посмеивался над их доводами, передразнивал их лицом, тихо повторяя за ними слова, двигая губами и напоминая тем кролика, жующего капусту. Оба остервенелых спорщика потребовали от меня признания: с кем из них я. И вот что я им на то ответил:
– С обоими и еще кое с кем. Мало ли охотников поспорить? Чем больше мы колобродим, тем смешнее, а чем смешнее, тем разумнее… Кумовья, когда вы желаете знать, чем владеете, вы заносите на бумагу все цифры, затем складываете. Почему бы вам не сложить обе ваши причуды? Как знать, может, вместе они и составят истину. Истина показывает вам кукиш, когда вам хочется прибрать ее к рукам. Мир не однозначен, детки: каждое объяснение односторонне. Я на стороне всех ваших богов, как языческих, так и христианских, а сверх того за бога, именуемого разумом.
При этих словах оба они в сердцах объединились против меня, назвав меня пирроником28 и атеистом.
– Атеист! А чего ж вам еще от меня нужно? Ваш Бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы хотят навестить меня? Милости прошу! Я их приму. Я всех принимаю, я человек гостеприимный. Боженька мне очень нравится, а его святые еще больше. Я их люблю, почитаю, я им приветливо улыбаюсь; поскольку они люди добрые, то не отказывают мне в удовольствии поболтать с ними. Но скажу вам честно, одного Бога мне недостаточно. Что поделаешь? Я люблю поесть… а меня сажают на диету! У меня есть свои святые мужи и девы, свои феи и духи воздуха, земли, деревьев и воды, те, которых я предпочитаю другим; еще я верю в разум; а еще в безумцев, прозревающих истину, да и в колдунов тоже. Мне по нраву думать, что подвешенная в небе земля качается в облаках, я хотел бы завести искусно сработанный механизм мировых часов, разобрать его, покопаться в нем, а потом снова собрать. Но это не значит, что мне не доставляет удовольствия слушать, как стрекочут небесные сверчки, смотреть, как мигают своими круглыми глазами звезды в вышине, затаив дыхание поджидать появления старичка с вязанкой за спиной на луне… Вы пожимаете плечами? Вы стоите на страже порядка. Что ж, порядок чего-то да стоит! Но даром он не дается, за него приходится платить. Порядок означает не делать того, что хочется делать, и делать то, чего не хочется. Это все равно как лишить себя одного глаза, чтобы лучше видеть другим. Или вырубать леса, чтобы проложить большие прямые дороги. Это удобно… так, да не так, и, господи, до чего же это убого! Я старый галл и знаю: начальников над нами, что ворон, законы жмут со всех сторон, мы братья все, но каждый по себе. Верь или не верь, как хочешь, но позволь и мне верить или не верить. Уважай разум. А главное, дружище, не касайся богов! Они кишмя кишат, проливаются на нас дождем сверху, ими захлестывает нас снизу, они повсюду, под нашими ногами, перед нашими носами, мир ими переполнен, как супоросная свинья. Я их всех почитаю. И разрешаю вам и других ко мне подтаскивать. Но запрещаю вам лишать меня хоть одного из них, заставлять меня отправлять хоть одного из них на покой, если только сам ловкач не слишком злоупотребит моей доверчивостью.
Сжалившись надо мной, Пайар с кюре поинтересовались, как мне удалось найти свой путь во всей этой сумятице.
– Легко, – отвечал я, – мне знакомы все тропки-дорожки, без всяких затруднений гуляю я по ним. Когда я один иду по лесу из Шаму в Везле, думаете, мне нужна широкая проезжая дорога? Я следую с закрытыми глазами браконьерскими тропами и, если и прихожу последним, то не с пустыми руками. Все в моем ягташе разложено по своим местам, на все наклеены бирки: Боженька в церкви, святые в своих часовнях, феи в лугах, разум в мозгах. И все друг с другом живут в ладу: у каждого своя дружка-подружка, своя заботушка и своя хибарка. Они не подчинены деспоту-королю, но, подобно господам из Берна и их конфедератам, вступают в союзы с другими кантонами. Иные посильнее, иные послабее. А все же обманываться не стоит! Порой нуждаешься в слабых в битве против сильных. Что и говорить, Бог сильнее фей. А все-таки и Ему не мешает обращаться с ними поаккуратнее. И Господь, когда Он один, не сильнее всех вместе взятых. На сильного всегда найдется кто-то посильнее, который его сгрызет. Сила силу ломит. Так-то вот. Никто не разубедит меня, знаете ли, в том, что того самого-самого Бога никто пока еще не видал. Он от нас далеко-далеко, отсюда не видать, где-то там, в глубине небес. Точь-в-точь как его величество наш король. Нам знакомы (и даже слишком) его люди: интенданты, лейтенанты. Но сам он, как сидел, так и сидит в своем Лувре. Сегодняшний боженька, тот, которого все о чем-то молят, это навроде господина де Кончини…29 Шамай, не набрасывайся на меня! Чтобы ты не обижался, скажу так: наш боженька – не он, а добрейший герцог господин де Невер. Да благословит его небо! Я его почитаю и люблю. Но перед сиром из Лувра он ведет себя тихохонько и правильно делает. Да будет так!
– Да будет так! – подхватил Пайар, – однако все не так. Увы! Далеко не так! Тогда узнаешь челядина, когда дом без господина. С тех пор как скончался наш Генрих и королевство перешло под женское управление30, принцы поигрывают с прялочкой-государством и с самой пряхой. Господские забавы лишь им одним по нраву. Только пусти козла в огород, вот и эти разбойники – опустошили казну и лишили нас будущих побед, зависевших от содержимого арсенала, охраняемого господином де Сюлли31. Да приидет мститель, да заставит их изрыгнуть собственные головы со всем тем златом, которое они заглотнули!
Тут всех как прорвало и высказано было больше, чем следовало из соображений безопасности, но что делать: пели мы хором, и эта песня выходила у нас, как никакая другая, на диво ладно. Прозвучало и несколько вариаций на тему напомаженных принцев, живущих в свое удовольствие святош, жирных прелатов и бездельников монахов. Должен заметить, в исполнении Шамая этот сюжет получил блестящее воплощение. Наше трио продолжило петь в унисон и тогда, когда мы сменили тему, и после всех тех, у которых на языке медок, а на сердце ледок, после свят-свят-святов перешли на фанатиков всех мастей – гугенотов, изворотов-искариотов, доброхотов-идиотов, которые заявляют, что любовь к Богу нужно прививать непременно с помощью мечей или дубин! Но ведь Господь не погоняла какой-нибудь, чтобы стегать нас вдоль спин! Кто желает обречь себя на муки загробные, это его дело! Но неужто и при жизни еще нужно, чтобы нагорело? Благодарим покорно, оставьте нас в покое! Пусть в нашей Франции каждый живет как может и дает жить другим! Самый нечестивый – и тот христианин, поскольку Христос принял смерть за всех людей. И потом, худший и лучший, в конечном счете, – оба ничтожные твари: жестоки́ вы иль добры́ – вы как две капли воды.
Утомившись от говорения, мы принялись на три голоса исполнять песнопения в честь Бахуса, единственного из богов, по поводу которого у нас не было разногласий. Шамай довольно громко заявлял, что предпочитает Бахуса всем другим богам, о которых на проповедях ведут речь подлые монахи Лютера и Кальвина и другие проповедники-ничтожества. А Бахус – это бог, которого вполне можно признать, он хорошего происхождения (из французов… ой, что это я? из христиан) и достоин всяческого уважения, да разве Христос не представлен на некоторых старых полотнах в виде Бахуса, попирающего ногами гроздья винограда? Так выпьем же, други, за нашего Искупителя, нашего христианского Бахуса, нашего веселого Иисуса, чья благородная алая кровь течет по нашим холмам и наполняет благоуханием наши виноградники, наши языки и наши души и изливает свой милостивый, человечный, щедрый и незлобиво-насмешливый дух на нашу светлую Францию… за здравый смысл, за добрую кровь!
В разгар нашего разговора, когда мы чокались, поднимая чарки в честь здравого французского смысла, который подсмеивается над любыми крайностями (Мудрец непременно сядет меж двух стульев… и нередко угодит прямо на землю), раздались грохот захлопываемых спешно дверей и топот тяжелых шагов по лестнице, послышались призывы к Христу, Иосифу и «Аве!» вкупе с задавленными вздохами, что возвестило нам о неминуемом появлении Элоизы Кюре, как здесь называли домоправительницу хозяина дома, или просто Кюрейши. Она вытирала свое широкое лицо концом фартука.
– Уф! Ох! На помощь, господин кюре! – запыхавшись, воскликнула она.
– А, это ты, толстуха! Что еще? – откликнулся он нетерпеливо.
– Они уже тут! Это они!
– Кто они? Гусеницы, совершающие процессию исхода с полей? Я тебе уже сказал: больше ни слова об этих язычниках, моих прихожанах!
– Они вам угрожают!
– Мне уже смешно. Чем же это? Разбирательством в присутствии духовного судьи? Пусть их! Я готов.
– Ох, сударь вы мой, если бы только разбирательством!
– А чем же еще? Говори!
– Они там, внизу, собрались у Верзилы Пика, чертят всякие кабалистические знаки, занимаются каким-то экзоршизмусом и распевают: «Эй, житники и майские хрущи, алле, алле, алле, из поля прямо в сад и погребок кюре!»
– Окаянные! В мой сад своих хрущей! В мои погреба своих полевок… Убили! Зарезали!! Не знают, что и придумать! О Господи, о святой Симон, придите на помощь своему наместнику на земле!
Ох и посмеялись же мы, пытаясь успокоить его!
– Смейтесь! Смейтесь! – бросил он нам. – Будь вы на моем месте, мои распрекрасные умники, вы бы так не веселились. Эх! Черт побери! Я бы тоже на вашем месте смеялся: куда как хорошо! Хотел бы я посмотреть, как бы вы восприняли такую новость и стали готовить и стол, и дом со всеми его чуланами, амбарами, закомарами для подобных постояльцев! Их хрущи у меня в доме! Б-р-р!.. Их житники! Фу! Мерзость! Да тут с ума спрыгнешь!
– Что ж ты так убиваешься? Нешто ты не кюре? Чего испугался? Примени к ним этот твой экзорцизм! Да ты раз в двадцать ученее их, разве не так?
– Хе-хе! Не уверен. Верзила Пик очень хитер. Ах, друзья мои! Ох, мои дорогие! Ну и новость! Ну и бандиты!.. А я-то почивал себе на лаврах, был так доверчив! Ни на что нельзя положиться! Только на величие Господа. Что я могу? Я в осаде. Они меня поймали и удерживают… Элоиза, милая моя, беги, скажи им, чтоб остановились! Я уже иду, ничего не поделаешь! Ах, разбойники! Ну что ж, настанет и мой черед, когда призовут меня к их смертному одру, уж тогда-то я отыграюсь… Fiat voluntas[13]. А пока мне приходится подчиниться их воли!.. Приходится испить сию чашу до дна. Я сделаю это. Уж сколько я их испил!.. – Он встал.
– Куда ты? – спросили мы.
– В крестовый поход против хрущей и мышей-полевок.
IV
Празднолюбец, или один день весны
Апрель
Девочка по имени Апрель, изящная дочка весны, худенькая, с обворожительными глазами, я вижу, как наливаются твои грудки на ветке абрикосового дерева: белая ветка с розоватыми острыми почками в саду под моим окном обласкана солнцем свежего утра. Что за утро! Какое счастье думать, что увидишь, что уже видишь этот день! Я встаю, потягиваюсь и чувствую, как ноют мои немолодые руки, разбитые многочасовым трудом. Две последние недели, желая нагнать упущенное из-за вынужденного простоя время, я и подмастерья моей артели на славу построгали, так что только стружки летели, слава богу, рубанок не отвык, знай выводил себе арию: вжик-вжик. Вот только наш голод по работе превосходит аппетит клиентов. Продажи замерли, и уж тем более никто не торопится оплатить заказанное; кошельки истощены, обескровлены, зато кровь струится по нашим жилам, заставляя наши руки работать, и наши поля полны живительной влаги: земля, из которой я сотворен и на которой я живу (она одна и та же), чудо как хороша. «Ara, ora et labora[14] 32. Станешь королем». Все кламсийцы – уже короли или будут королями, да, черт побери! С самого утра до моего слуха доносится: тук, дзинь, бам, бум, это и мельничный шум, и скрип раздуваемых кузнечных мехов, и пляшущий перестук молотков, и грохот крошащих кости резаков, и у водопоя лошадиное фырканье, и песня сапожника и забиваемых им гвоздей цвирканье, и бичей вжиканье, и сабо по дороге шмыганье, и тележных колес гаканье, и чье-то балаканье, и гомон голосов, и звон колоколов, словом, дыхание города-трудяги, который пыхтит, кряхтит, надсаживается, да при том и обихаживается. «Pater noster[15], замешиваем ежедневно мы panem nostrum[16] 33, – звучит молитвенно-напевно, – в ожидании, когда ты нам его дашь: подстраховываемся на всякий случай, уж ты нас уважь…». Над моей головой – безоблачное небо укутанной в голубую дымку весны, горячее солнце, свежий воздух и белые облака-бегуны, которые гонит прочь пролетный ветерок-шалун. Да неужто новый канун?! Молодость возвращается! Так и есть, из прошлого летит она ко мне во всю прыть, заново отстраивая свой ласточкин приют под кровелькой моего старого сердца, где ее ждут. Прекрасная бегляночка как же ты дорога, когда возвращаешься! Еще дороже, чем в те далекие года…
Тут одновременно заскрипели флюгарка на крыше и моя старуха: что-то там она выкрикивает кому-то, может, и мне, своим резким голосом, напоминающим звук, с которым гвоздь достается из стены с помощью клещей. (Да только я пропустил мимо ушей.) И спугнула молодость. Только ту и видели. К черту флюгарку!.. Совсем спятила (я имею в виду свою старуху), стала брать с боем мои барабанные перепонки, вбивая в них:
– И чем же ты занят, празднолюбец окаянный, стоишь, раскрыв рот, не рот, а люк чанный, спустив рукава, ворон решил досчитать до конца? Так всех галок распугаешь. Чего ты ждешь? Что жареная камышовка свалится в него или запеченная мухоловка? А я-то все на работе убиваюсь, не разгибаюсь, еле дышу, как старая лошадь пашу, чтобы этого скота ублажить да чего-нибудь нажить! Таков твой жребий, слабая женщина!.. Так вот нет и нет, Всевышний ничего такого не говорил, что вся тягость на нас падет, а Адам гулять пойдет, руки за спину заложив и все заботы на жену возложив. Я хочу, чтобы он тоже страдал и тосковал. Если б по-иному было, если б прохвост Адам только и делал, что улыбался во всю харю, было бы отчего разувериться в Боге! К счастью, я тут и помогу Его замыслу осуществиться. Ну что, хвост тебе я прищемила? За работу, если хочешь, чтоб в котелке кипело и бурлило. Да он, поди, и не слушает меня? Давай шевелись, уже середина дня!
На что я отвечаю с милой улыбкой:
– Да, краля моя. Дома сидеть было бы грехом, когда такая красота кругом.
Захожу в мастерскую и кричу подмастерьям:
– Друзья мои, мне нужна доска из упругого, податливого и плотного дерева. Пойду схожу к Риу, узнаю, не найдется ли у него хорошей трехдюймовки. Эй, Канья, Робине! Пошли со мной, поможете выбрать.
Мы выходим со двора, моя старуха никак не угомонится.
– Пой, ласточка, пой! – бросаю я ей.
Но последнее лишнее. Какая музыка вокруг! Я насвистываю, чтобы еще ярче все зазвучало.
– Хозяйка, можно подумать, мы отправляемся в далекий путь. Да через четверть часа мы уже будем дома, – отзывается на ее крик добряк Канья.
– С этой канальей ничего нельзя знать наперед! – доносится в ответ.
Пробило как раз девять. Мы отправились в Бейан, путь туда недалек. Но на мосту над Бёвроном подзадержались (кто бы мы были, если бы о здоровье встречных не справлялись), чтобы перемолвиться словечком с Фетю, Гаденом и Тринке по прозвищу Жан-красавчик, которые начали свой день с того, что с моста глядели, как течет вода. Поговорили о том о сём и отправились дальше не спеша. Люди мы совестливые, больше по пути ни с кем не говорили (правду сказать, нам никто и не встретился) и пошли напрямки. Разве что, неравнодушные к красотам природы, с любовью смотрели на небо, весенние ростки, яблони во рвах вдоль заборов, уже усыпанные цветами щедро, следили за полетом ласточки, да остановившись ненадолго, обсуждали направление ветра…
На полпути я спохватился, что сегодня еще не прижал к сердцу свою Глоди и решил заглянуть к своим.
– Вы идите, а я сделаю крюк, нагоню вас у Риу.
Когда я нагрянул к дочке своей, Мартине, она, не скупясь на воду, мыла лавку, причем рот у нее при этом не закрывался ни на минуту: она без умолку трещала разом со всеми – с мужем, мальчиками, подручным, Глоди, а в придачу еще и с двумя-тремя соседскими кумушками, смеясь с ними до упаду; слова так и сыпались из нее. А когда она закончила, но только не трещать, а мыть пол, то вышла и с порога со всего размаха вылила воду на улицу. А я как раз остановился в нескольких шагах от лавки, чтобы полюбоваться ею (она – услада моих глаз и сердца, ну что за лакомый кусочек!), ну, и получил грязной водой по ногам. Она еще пуще залилась смехом, но меня-то не пересмеешь. Э-э-эх! До чего хороша смеющаяся мне прямо в лицо дочка с ее черными волосами, скрадывающими лоб, густыми бровями, горящими глазами и еще более горящими, пламенеющими, как уголья, и налитыми, как сливы, губами! Да это не иначе как сама галльская красавица! Плечи и руки обнажены, подол дерзко подоткнут.
– На счастье! Надеюсь, тебе все досталось? – спросила она.
– Почти, но я не расстраиваюсь, это же вода, лишь бы не заставляли ее пить.
– Входи, Ной-Потопа-герой, Ной-винодел, – приглашает она меня войти.
Вхожу. Глоди в короткой юбочке сидит под стойкой.
– Здравствуй, маленький хлебопек.
– Голову отдаю на отсечение, что знаю, отчего ты так рано вышел из дома, – сказала Мартина.
– Ты ничем не рискуешь, думая о том или другом, ты вобрала это с материнским молоком.
– Мать?
– А что же еще?
– Какие же мужчины трусы!
Как раз в эту минуту в лавку вошел Флоримон, принял ее слова на свой счет и обиженно поджал губы.
– Не обижайся, дружище! Это относится ко мне, – пояснил я ему.
– Тут на двоих хватит, – отозвалась Мартина, – не жадничай.
