Машина хаоса. Как социальные сети перепрограммировали наше сознание и наш мир. Макс Фишер. Саммари
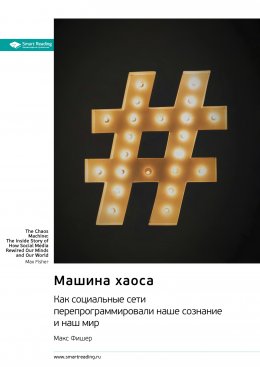
Оригинальное название:
The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World
Автор:
Max Fisher
Социальные сети и психика
Тот факт, что социальные сети способствуют повышению популярности сенсационных материалов и, как следствие, росту общественного негодования, уже давно не новость. Но по итогам своего журналистского расследования Макс Фишер утверждает, что мы значительно преуменьшаем масштаб и силу этого воздействия.
Постоянно растущий массив доказательств, собранных учеными, репортерами, описанных инсайдерскими информаторами, показывает, что влияние социальных сетей на нас гораздо глубже, чем мы думаем. Эти технологии оказывают мощнейшее воздействие на человеческую психику и идентичность. Они настолько глубоко проникают в нашу жизнь, что полностью меняют наш образ мышления, поведение и отношение друг к другу. Этот эффект, умноженный на миллиарды пользователей, уже изменил общество в масштабах планеты. Так какие же психические механизмы здесь задействованы?
Это гормон, который наш мозг выделяет при каждом действии, удовлетворяющем базовую потребность. Дофамин создает положительную ассоциацию с любым поведением, которое вызвало его выброс. Он учит нас повторять такие действия. Но когда система вознаграждения взломана, она может заставить нас повторять разрушительное поведение: сделать еще одну ставку, выпить еще бокал алкоголя или проводить часы в приложениях, даже если они делают нас несчастными.
Социальные сети – своего рода игровые автоматы, устроенные так, чтобы отвечать на каждое наше действие визуальной, слуховой и тактильной стимуляцией. Звоночек, когда мы вставляем монету. Приятный звук, когда мы тянем рычаг, и цветная вспышка, когда отпускаем. Так же разработаны интерфейсы социальных сетей – чтобы стимулировать выброс дофамина, как в игре.
Эта концепция принадлежит психологу Берресу Фредерику Скиннеру и лежит в основе «психологии» игровых автоматов. Вознаграждение или положительное подкрепление дается время от времени непредсказуемым образом, а не последовательно. Это заставляет нас все активнее повторять поведение.
Социальные сети делают то же самое. Публикация в социальной сети Twitter (сейчас – Х), например, может принести большую социальную отдачу в виде лайков, ретвитов и ответов. Или не принести ничего. Мы не знаем результат заранее, и это заставляет нас продолжать «дергать рычаг».
Прерывистое подкрепление – определяющая черта не только азартных игр и зависимостей, но и абьюзивных отношений. Абьюзер непредсказуемо для жертвы колеблется между добротой и жестокостью, наказывая за поведение, которое ранее вознаграждал. Это может привести к так называемой травматической зависимости. Пострадавший партнер обнаруживает, что навязчиво ищет позитивный ответ, как игрок, кормящий игровой автомат, или человек, зависимый от Facebook[1], неспособный надолго выйти из приложения.
Эта концепция возникла из вопроса, заданного психологом Марком Лири: в чем смысл самооценки? Вроде бы мучения, которые мы испытываем из-за низкой самооценки, полностью порождены нами самими. Лири предположил, что мы не развили бы такую необычную и болезненную уязвимость, если бы она не приносила какую-то пользу. Его теория, которая сейчас широко распространена, заключается в том, что самооценка – «психологический показатель степени, в которой, по мнению человека, он ценен в отношениях и социально принят другими людьми».
Люди эволюционировали, чтобы жить в более крупных, чем у наших собратьев-приматов, коллективах: примерно до 150 членов. Наше благополучие зависело от того, насколько хорошо мы управляли отношениями в нашем окружении. Если группа ценила нас, мы могли рассчитывать на поддержку, ресурсы и, возможно, на партнера. Если нет, мы могли не получить ничего и подвергнуть свою жизнь опасности. Умение «отращивать» собственную ценность для общества, быть чувствительным к мнению коллектива и оптимизировать свое положение в нем – вопрос выживания, физического и генетического.
Антрополог Брайан Хэйр назвал это «выживанием дружелюбных». Результатом стало развитие так называемого социометра: способности бессознательно отслеживать, как нас воспринимают другие в нашем сообществе. Мы обрабатываем эту информацию и принимаем ее в виде самооценки и таких связанных с ней эмоций, как гордость, стыд или неуверенность. Эти эмоции заставляют нас делать больше того, за что наше сообщество ценит нас, и меньше того, за что не ценит. При этом создается ощущение, что эта мотивация исходит изнутри.
Кнопка «лайк» – эквивалент аккумулятора, подключенного к социометру. Она дает огромную власть над нашим поведением. Дело не только в том, что лайк обеспечивает подтверждение нашей социальной значимости, на которую мы тратим так много энергии. Дело в том, что это подтверждение происходит быстро и в масштабе, ранее не встречавшемся в человеческом опыте. Как часто в реальной жизни вам аплодируют 60 человек? Может быть, раз в несколько лет, если вообще когда-либо? В социальных сетях это обычное утро.
Это то, как мы связываем себя с группой, а группа – себя с нами.
Вот почему многим американцам приятно повесить флаг перед своим домом, надеть футболку своего университета, прилепить наклейку «USA» на бампер своей машины. Это говорит группе, что мы ценим свою принадлежность как продолжение себя и, следовательно, нам можно доверять, мы послужим общему благу.
Наше стремление развивать общую идентичность настолько сильно, что мы иногда создаем ее из ничего.
