Редкие статьи о жизни и профессии
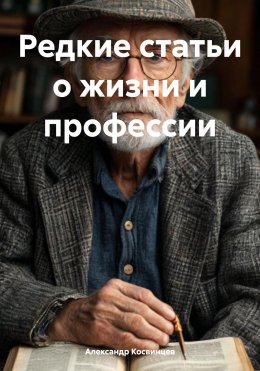
Сбылась детская мечта
В детстве я хотел стать врачом.
Волновало меня в связи с этим лишь одно: смогу ли выдержать, когда придется резать трупы? Как-то незаметно для самого себя, возвращаясь из школы домой, я перестал обходить по тротуару находившуюся на моем пути Центральную райбольницу, а пересекал ее по диагонали, петляя между отделениями по коряво асфальтированному двору.
Больничный городок у нас, в райцентре под Военной горой, занимал целый квартал. Он состоял из множества кирпично-деревянных построек. В каждой из них размещалось какое-либо профильное отделение или хозяйственная служба. В самом дальнем от ворот углу больничной территории располагались родильный дом и морг. Роддом я старательно обходил, а к моргу меня тянуло, точно пчелку на мед. Однажды по весне у одного из окон этого скорбного заведения я нос к носу столкнулся с доктором Ножкиным.
Шестидесятипятилетний Геннадий Петрович Ножкин был старейшим хирургом района. Невысокий, плотный и весьма подвижный, мужчина зимой и летом ходил в узбекской тюбетейке, которую лишь на время операций заменял белой шапочкой. Мясистый нос мужчины иногда бывал розовым; поговаривали, что он полюбливал чистый медицинский спирт, но пьяным его никто ни разу не видел. В любом случае назвать хирурга пьяницей ни у кого бы язык не повернулся: нередко он вытаскивал с того света практически обреченных людей. Большие глаза доктора Ножкина почти всегда светились каким-то радостным и ободряющим светом.
– Ну, вот ты мне и попался, – обрадованным голосом произнес доктор Ножкин, прихватив меня за локоть у окна покойницкой. – Кого ищем, мил человек? Что потерял? Гляжу, который уже день приходишь.
Я попытался вырваться, но у хирурга была крепкая рука.
– Ну, рассказывай, чего мы тут забыли? Ты хоть знаешь, что за этими окнами?
– Зна-аю… Морг тут. Кто этого не знает-то?
– Значит, знаешь. Ну-ну. А чего тогда тебе здесь надо?
Я насупленно молчал. Доктор, кажется, не знал, что делать дальше. В конце концов, заглядывать в окна морга никто не запрещал.
– Молчишь, значит. Ну-ну. Тогда пошли, чай пить будем.
Доктор дружески подтолкнул меня к крылечку. Я, почувствовав, что рука его ослабила захват, инстинктивно сделал резкое движение в сторону; но уходить мне не хотелось. Любопытство часто перевешивает страх.
Помещение, куда мы вошли, представляло собой что-то вроде кабинета. Из мебели в помещении имелись два шафрановых письменных стола, светло-коричневый фанерчатый шкаф для одежды, черный кожаный диван и тумбочка цвета детской неожиданности. На тумбочке стояла электроплитка. Зеленый эмалированный чайник на плитке уже вовсю кипел.
– Ух ты! А я про него и забыл, бегаючи за тобой. Ты садись, садись. Вот сюда садись.
Доктор пододвинул к столу у окна еще один стул.
На столе начали появляться блюдечки, чашки, баночки с сахаром и печеньем. Завершила сборы тарелка с ломтиками хлеба и колбасного сыра.
– Вот тебе чаек. С лесным шиповником! Попробуй. Полезная штука, я тебе скажу! Лет пять жизни прибавляет. Ходишь летом в лес за шиповником?
– Хожу-у. Когда мама велит.
Мало-помалу мы разговорились.
Жил доктор бобылем, жена его скончалась много лет назад от травмы, полученной в ДТП, завести детей они не успели. Хирург мало бывал дома, только чтобы покормить собаку. Больница стала его вторым, а возможно, даже первым пристанищем. В стационаре всегда имелся и завтрак, и обед, и ужин – санитарки о хирурге заботились. А спать Геннадий Петрович привык на диване в ординаторской или в кабинете при морге, где находился почти все свободное от операций и обходов время – занимался научными исследованиями. Жизнь доктора была заполнена до предела. Но, видимо, душа старого человека требовала чего-то еще. В общем, мы как-то сразу потянулись друг к другу.
Доктор пригласил меня захаживать "на чаек", и я охотно откликнулся на приглашение. Мы подружились, если можно, конечно, назвать дружбой общение пожилого мужчины с учеником шестого класса. Узнав, что я мечтаю о поступлении в мединститут, Геннадий Петрович по-настоящему обрадовался. Однажды он пригласил меня к себе домой, на воскресенье.
Крытый шифером дом старого доктора находился на тихой улочке, примыкавшей к сельскому кладбищу. Вдоль кладбищенской ограды, деревянной, но аккуратной и крепкой, стояли могучие сосны. Деревья росли очень близко друг от друга, так что вечно зеленые их кроны закрывали все небо. В проулке всегда царил полумрак, и по нему мало кто любил ходить. Лохматый пес на цепи бурно отреагировал на появление гостя.
– На место! – с ласковой строгостью прогудел Геннадий Петрович, и громадный кавказец, охотно подчинившись, важно удалился в приоткрытую дверь сарая.
Я бочком-бочком проскользнул за хозяином в полутемные сени.
Доктор строил свой дом во времена, когда существовали строгие ограничения на размеры частных строений – стоявшие у власти коммунисты боялись, что в просторных жилищах граждане будут больше предрасположены к мыслям об отнятой у них свободе. В кухне-прихожей почти негде было повернуться. Хозяин быстро переобулся, подождал, пока я тоже влезу в предложенные им тапочки, и увлек меня в гостиную. То, что я там увидел, запечатлелось в памяти у меня на долгие годы.
Мы стояли в комнате площадью порядка двадцати пяти "квадратов". На одну из стен, ту самую, где была входная дверь, выходила ровной стороной большая печь, топка которой находилась в прихожей. В ближнем от печи углу гостиной находилась дверь, ведшая куда-то вглубь дома; дальний угол занимала большая резная этажерка с книгами. Вдоль стен вытянулись рядки стульев. Посреди зала в гордом одиночестве возвышался традиционный для советской поры круглый стол светло-желтой полировки. Другая мебель в комнате отсутствовала. Зато все стены почти сплошь были увешаны портретами в рамках. С литографий на меня смотрели люди, возраст и одежда которых говорили о их принадлежности не только к нашей стране и не только к нашему времени.
Количество портретных изображений меня сильно удивило, мне казалось, что я попал в картинную галерею или музей. Геннадий Петрович, видя мое изумление, с довольным видом стоял рядом и ожидал вопросов.
– Это кто? Это все ваша родня? – был первый мой вопрос.
Доктор Ложкин даже всплеснул руками от неожиданности. Его матово-пунцовое лицо покрылось складками удивленной улыбки. Но он тут же совладал с собой, вытащил из кармана карандаш и, точно указкой, повел им с уже совершенно другой – добродушной и приглашающей – улыбкой в сторону одного из портретов.
– Родня, конечно! Особенно вот этот.
С портрета на меня смотрел худощавый господин лет сорока пяти или чуть больше. У него были густые усы и начавшая седеть аккуратная бородка клинышком; открытый высокий лоб позволял сделать предположение о врожденном уме мужчины, а немного топорщившиеся уши – о приобретенном озорстве и умении слушать; на переносице человека немного кривовато сидело пенсне, из-под которого выглядывали чуть прищуренные задумчивые глаза. В уголках губ мужчины угадывалась тихая усмешка, но не злая и не оскорбительная, а добрая и поощряющая. Спутать в кем-либо этого человека в наглухо застегнутом сером пальто не смог бы ни один мало-мальски образованный человек.
– Так это же Чехов! – удивленно и в то же время обрадованно воскликнул я. – А вы чего его дома повесили-то? И этих всех? Дядя Гена, вы портреты, что ли, собираете?
Геннадий Петрович понимающе кивал.
– Ну, можно сказать, и так. Только это не простая коллекция портретов, друг мой. Она мне жизнь спасла. Давно это было, правда.
Ложкин словно ждал этого момента. С печальным и в то же время умиротворенным видом он стал рассказывать, как однажды, много лет назад, когда он был начинающим врачом, ему пришлось делать операцию в одной из деревень, куда его умолила прибыть восьмилетняя девочка.
Доктор Ложкин жил тогда в другом месте, в маленьком селе на Волге-реке. Место было глухое – ни надежной связи с райцентром, ни нормальных дорог. В то дальнее село он, молодой выпускник медицинской академии, приехал работать по собственной воле, движимый стремлением служить людям и в совершенстве овладеть врачебным делом. В тот злополучный субботний вечер он явно перебрал спирта, пытаясь расслабиться после напряженной рабочей недели. Он уже свалился, чтобы проспать до утра, а тут заявилась она, лупоглазая крошка в заношенном пальто с чужого плеча и больших резиновых сапогах. Напрочь промокшая, с ног до головы вымазанная в грязи. На пухлых щечках виднелись засохшие дорожки от слез: "Мамка умирает… Помогите, дяденька доктор!"
А доктор – разбудили его не без труда – стоял и мотался из стороны в сторону от хмеля.
Но делать было нечего, запрягли лошадь, поехали. По дороге он немного протрезвел, но, видно, не совсем. Мать девочки скрутил острый аппендицит; время было упущено, без срочной операции женщина не имела шансов выжить. И он стал оперировать. Но руки подвели…
– Потом я много раз умирал вместе с той женщиной. Никогда не забуду глаз девочки… Жил, как во сне. Просыпался ночью… Лихорадило днем… Был бы у меня пистолет, не знаю, стоял бы я сейчас здесь или нет… Я проклинал тот день и час, когда решил стать врачом; был похож на слепого, который, споткнувшись о камень, всегда ругает камень, хотя виною его слепота. Я потерял точку опоры. Мне хотелось понять, в чем была моя ошибка. Искал ответ в учебниках по хирургии, перечитал массу литературы. А однажды проснулся ночью и понял, что ищу не там.
Геннадий Петрович говорил тоном человека, рассказывавшего о своей тяжелой болезни, которая осталась далеко позади. Я слушал и начинал по-другому вглядываться в лица людей на портретах. Это были яркие и самобытные лица лучших медиков всех времен и народов, весь цвет врачебного дела за всю историю человечества. С литографий на меня смотрели величайшие эскулапы, внесшие яркий и неоценимый вклад в развитие медицины. И самое главное, что они оставили потомкам, заключалось не в описании анатомического строения человека, не в подробностях операций и способов лечения, не в химическом составе снадобий и противоядий, – самым важным их наследием являлись мысли о предназначении врача, сути и непреходящем смысле этой профессии, ее непреложных предпосылках и принципах.
Ухватившись за это непреходящее наследие, как утопающий за соломинку, доктор Ножкин постепенно стал понимать, что не имеет права умирать – отныне его жизнь не принадлежала ему, она принадлежала людям.
Доктор Ножкин переходил от одного портрета к другому. Приводил факты из биографий, иногда сопровождая их смешными или, наоборот, серьезными комментариями. Цитировал; мог сначала сказать по латыни, а затем перевести.
– Вот это Федор Петрович Гааз, он прославился как врач в первой половине девятнадцатого века, – говорил Геннадий Петрович, указывая на крупного мужчину в смокинге, на котором красовался наградной крест. – В последний путь его пришли провожать десятки тысяч москвичей, и многие плакали. Величайший был хирург; очень много сделал для обездоленных людей и беспризорных детей. Он считал, что медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно необходимо для всего великого и прекрасного на земле.
Переведя свою импровизированную указку к соседнему портрету, на котором был изображен древний грек в тунике, доктор Ножкин с шутливой иронией спросил:
– Ну, а Гиппократа ты, надеюсь, знаешь. Как? Слыхал про Гиппократа?
– Кто Гиппократа не знает-то…
– Это правильно. Молодец! Гиппократа нельзя не знать, потому что вся современная медицина стоит на его учении, как любое здание на фундаменте. Убери фундамент, и здание может рухнуть. Да! Гиппократ был величайшим, скажу тебе, врачом и мыслителем. Он говорил, что все, что имеется в мудрости, все это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами… Еще Гиппократ считал, что врач должен сохранять руки чистыми, а совесть – незапятнанной.
